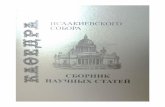«Золотая жила» янтарного края: образы Восточной...
Transcript of «Золотая жила» янтарного края: образы Восточной...
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА»
БАЛТИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Советизация Калининградской области
Сборник научных трудов
Выпуск 7
Издательство
Балтийского федерального университета им. И. Канта
2013
УДК 947:948(08)
ББК 63.3(45)я43
Б207
Ответственный редактор
И.О. Дементьев
Рецензент
Ю.В. Костяшов, д-р ист. наук, проф. (БФУ им. И. Канта)
На фотографии, использованной в оформлении обложки, изображены
ученики Цветковской школы Приморского района
Калининградской области (1950 г.; из фонда
Калининградского областного историко-художественного музея)
Б207 Балтийские исследования : сб. науч. тр. / АНО
НОЦ «Балтийская Европа». — Калининград : Изд-во
БФУ им. И. Канта, 2013. — Вып. 7. Советизация Ка-
лининградской области. — 174 с.
ISBN 978-5-9971-0234-0
Включает научные статьи и разнообразные информацион-
ные материалы, характеризующие историю Юго-Восточной
Прибалтики с древнейших времён до ХХ в. Большая часть ма-
териалов посвящена основной теме выпуска – различным ас-
пектам советизации Калининградской области во второй по-
ловине 1940-х – начале 1950-х гг.
Предназначен для всех интересующихся историей Кали-
нинградской области и стран Балтии.
УДК 947:948(08)
ББК 63.3(45)я43
ISBN 978-5-9971-0234-0
© АНО НОЦ «Балтийская Европа», 2013
© Л. В. Миловидова, дизайн обложки, 2013
СОДЕРЖАНИЕ
От редактора ................................................................................... 5
Проблемы советизации Калининградской области
Маркин Д.Г. Проблема выезда немецкого населения из Кали-
нинградской области накануне переселения 1947–1948 годов … 7
Манкевич Д.В. Демографическое «эхо» войны: региональный
аспект ………………………………………………………………. 21
Долотова А.Ю. Периодическая печать Калининградской обла-
сти на этапе становления (1946–1950 годы) …………………….. 36
Мисиянцева Е.Н. Некоторые аспекты истории восстановления
городов советской Прибалтики и Калининградской области в
первые послевоенные годы ……………………………………….. 49
Дементьев И.О. «Золотая жила» янтарного края: образы Во-
сточной Пруссии и Калининградской области в период господ-
ства социалистического реализма ……………………………….. 63
Советизация Калининградской области
в общественном сознании
Карпенко А.М. Советизация Калининградской области в запад-
ной академической литературе ………………………………….. 94
Кикас О.Ю., Типикина О.В. «Уроки мудрости»: из опыта изуче-
ния первого послевоенного десятилетия в рамках курса «Исто-
рия западной России. Калининградская область» ………………. 101
Манько О.Х. Отражение советизации Калининградской области
в исследовательских проектах школьников по курсу «История
западной России» .............................................................................. 108
Проблемы археологии Юго-Восточной Прибалтики
Зальцман Э.Б. Исследования памятников культуры шнуровой
керамики в прибрежной полосе Вислинского залива ………….. 114
Проблемы истории Балтийского региона
в межвоенный период
Воронов О.В. «Здесь необходимо создать родину»: восстанов-
ление Восточной Пруссии между 1914 и 1925 годами …………. 131
Манкевич М.А. Вильнюсский вопрос и дипломатические отно-
шения Литвы с Ватиканом (1918–1927 годы) …………………… 151
Научная жизнь.
Общественные инициативы по регионалистике
Полякова И.А. Научные исследования янтаря: реконструкция
культурного контекста ……………………………………………. 161
Дипломные работы по истории Балтийского региона в БФУ
им. И. Канта (2010–2012 годы) (Д.В. Манкевич) ………………. 165
«Золотая жила» янтарного края 63
И. О. Дементьев
«Золотая жила» янтарного края:
образы Восточной Пруссии
и Калининградской области
в период господства социалистического реализма
…Мне вдруг вспомнилась картина в
музее: их, тогдашний, двадцатых веков
проспект, оглушительно пёстрая, пута-
ная толчея людей, колёс, животных,
афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь,
говорят, это на самом деле было – это
могло быть. Мне показалось это так не-
правдоподобно, так нелепо, что я не вы-
держал и расхохотался вдруг.
Евгений Замятин. Мы (1920 г.)
Процесс формирования образов Восточной Пруссии и Калининградской области в первые послевоенные годы хоро-шо прослеживается по многочисленным источникам: доку-ментам различных советских и партийных органов, воспоми-наниям первых советских переселенцев, работам историков
1.
Как правило, произведения художественной литературы поль-зуются меньшим признанием со стороны исследователей. Од-нако для понимания реалий общественного развития источни-
1 См.: Костяшов Ю.В. Секретная история Калининградской области.
Очерки 1945–1956 гг. Калининград, 2009 ; Восточная Пруссия гла-
зами советских переселенцев: Первые годы Калининградской обла-
сти в воспоминаниях и документах / рук. авт. коллект. Ю.В. Костя-
шов. СПб., 2002 ; Hoppe B. Auf den Trümmern von Königsberg. Kali-
ningrad 1946–1970. München, 2000 ; Brodersen P. Die Stadt im Westen.
Wie Königsberg Kaliningrad wurde. Göttingen, 2008.
64 И. О. Дементьев
ки такого рода значимы не меньше архивных материалов. Внимательное чтение литературы сталинской эпохи – эпохи господства эстетической концепции социалистического реа-лизма – помогает лучше уловить характер умонастроений со-ветских людей того времени, реконструировать официальную точку зрения на прошлое, настоящее и будущее нового совет-ского края.
Конечно, для создания полноценной картины умона-строений необходимо было бы обратиться не только к офици-альной литературе, но и к альтернативной, известной в позд-несоветские годы под собирательным названием «самиздат». Для конца 1940-х – начала 1950-х гг. в нашем распоряжении практически нет альтернативных официальному дискурсу текстов, хотя в их существовании не приходится сомневаться. Об этом свидетельствуют приговоры Калининградского об-ластного суда. В 1947 г. группа немцев, проживавших в Слав-ском районе, была осуждена за сочинение песен и листовок антисоветского содержания
1. В 1951 г. осуждению подверг-
лась Х. Холяк, в 1945–1947 гг. занимавшаяся в Правдинске «изготовлением антисоветских прокламаций в форме стихов, которые впоследствии распространялись среди антисоветско-го населения»
2; в приговоре приведены названия стихов –
«Базар», «Рождество 1946 года», «Луч света» (творчество наказано десятью годами исправительно-трудовых лагерей). В том же году в Полесске был осуждён Л.М. Шатковский за то, что «сочинял стихи антисоветского содержания, в которых возводил клеветнические измышления на социалистический строй»
3. Есть и другие примеры: художественная литература
(особенно поэзия) являлась для советского человека одной из форм сопротивления господствовавшему дискурсу, а для оставшихся после войны немцев – ещё и средством сохране-ния групповой идентичности.
1 Книга памяти жертв политических репрессий. Калининградская об-
ласть. Калининград, 2007. С. 364–366. 2 Там же. С. 371.
3 Там же. С. 370.
«Золотая жила» янтарного края 65
С учётом особого значения литературы в советском об-
ществе нужно рассматривать и официальную литературу, ко-
торая порождала множество текстов, призванных обосновать в
художественной форме советскую политику, а в случае Кали-
нинградской области, образованной на месте бывшей Восточ-
ной Пруссии, – цели и средства «советизации» нового края.
Интересный пример такого текста представляет собой
опубликованный в 1951 г. роман «Золотая жила» Ф.И. Ведина1.
Писатель-фронтовик Фёдор Иванович Ведин (1918–1956) про-
жил в Калининграде всего несколько лет (1946–1951 гг.), но
эти годы были отмечены в его судьбе интенсивным литератур-
ным творчеством, венцом которого стал названный роман. Пе-
реехав в Ригу, писатель доработал произведение, и оно увидело
свет в 1953 г. в Латгосиздате под другим названием, восходя-
щим к поэтическим строкам Владимира Маяковского, избран-
ным в качестве эпиграфа ещё к первой версии романа: «Город
– будет!»2 Новый вариант был существенно расширен, слегка
изменена сюжетная линия3.
Роман посвящён событиям в бывшей Восточной Прус-
сии. Один из главных героев произведения – Алексей Хазов,
демобилизованный фронтовик, участвовавший в боях за При-
балтийск4 и теперь приехавший возрождать к жизни город.
1 Ведин Ф. Золотая жила // Калининград : литературно-художест-
венный и общественно-политический сборник. Калининград, 1951.
С. 15–144. Несмотря на то что сборник хорошо известен исследова-
телям (Б. Хоппе и П. Бродерзен цитируют передовую статью из не-
го), опубликованные в нём художественные произведения особого
интереса у учёных не вызывали. 2 Ведин Ф. Город – будет! Рига, 1953. Книжная версия насчитывает
328 страниц. 3 При цитировании номера страниц ранней версии указываются в
тексте статьи в круглых скобках, поздней – там же в квадратных
скобках. В цитатах сохранена орфография и пунктуация оригинала. 4 Прибалтийск напоминает «Гринлэнд», художественный мир произ-
ведений советского писателя Александра Грина. Название романа
«Золотая жила», возможно, отсылает к «Золотой цепи» (1925) Грина;
66 И. О. Дементьев
Становление Алексея образует основную сюжетную линию
романа. Повествование начинается с того, как он, гвардии
сержант, подъезжает в теплушке из Берлина к Прибалтийску:
Вдоль железнодорожного пути, утопая в садах, мелькали
хутора, резко выделяясь среди зелени красными черепичными
крышами. Совсем рядом бежала серая лента асфальтирован-
ного шоссе, по обоим1 сторонам которого стояли могучие ду-
бы и развесистые липы. <…> Всё было очень красиво. Но
красота эта казалась какой-то мёртвой, не вызывала радости, а
лишь наводила на грустные размышления.
– Кладбище, – вздохнув, сказал самому себе Хазов и стал
закуривать (с. 15), [с. 5].
Хазов, как и другие герои романа, далёк от образа ро-мантического героя, вдохновляющегося живописными руина-ми. Проснувшийся спутник Хазова из числа демобилизован-ных удивляется: «Думал утром проснуться на русской земле, а оно – всё ещё германская… Где же мы едем?» – «По русской земле и едем… – рассмеялся Хазов, – славяне здесь жили в давние времена. По всем законам эти земли принадлежат нам» (с. 16)
2.
Мотив «древней славянской земли» стал одним из ве-дущих в калининградской литературе рубежа 1940–1950-х. Характерно, что Хазов обращает внимание на кладбища и подкрепляет тезис об исконно славянской земле таким своеоб-разным аргументом: «На кладбище посмотри. Вон кресты ви-дишь? Может, лет восемьсот назад тут какой-нибудь твой пропрадед (так! – И. Д.) был схоронен…» (с. 16)
3. Нереали-
герои последнего живут в вымышленных городах, описания которых
напоминают о Крыме. Конечно, в разгар борьбы с космополитизмом,
когда Ф. Ведин писал роман, апелляции к практически запрещённо-
му Грину были небезопасны. 1 В книжной версии опечатка исправлена. См.: Ведин Ф. Город – бу-
дет! С. 5. 2 Изменения текста в поздней версии: «а оно всё ещё Германия»,
«жили в древние времена» [с. 6]. 3 Разговор о крестах в поздней версии романа опущен.
«Золотая жила» янтарного края 67
стичность сценария очевидна – восемь столетий назад (в сере-дине ХII в.) христианских захоронений на этой земле быть не могло; собеседник Хазова, уловивший несуразность этой идеи, ворчит в ответ: «Что ему – в своей Рязани места мало было?»
Источником знания о «славянской земле» выступала официальная историческая наука, данные которой транслиро-вались массам советских граждан через систему народного просвещения и партийной пропаганды. Во время войны Алек-сей слышал рассказ парторга Василия Сергеева, бывшего школьного учителя истории, об истории края. Штурм крепо-сти приобретал в нарративе парторга пафос исторического возмездия: «Наша задача – штурмом взять крепость, вернуть славянам их исконные земли», отобранные за восемь веков до этого тевтонцами у славян (с. 18)
1. Тема славянских прав на
землю получает развитие в других формах пропаганды: уже в послевоенное время работник горкома готовит лекцию для ЦБК по теме «Бывшая Восточная Пруссия – исконно славян-ская земля», и секретарь горкома приходит к выводу, что «не только для бумажников, а для всех жителей города надо по-чаще читать такие лекции» (с. 68)
2. В лекции на общегород-
ском совещании стахановцев звучит такой текст: «Как извест-но, после освобождения Прибалтийск представлял собой сплошные развалины» (с. 139). И тема возвращения прав на город оказывается закреплена терминологически: в 1945 г. со-стоялось «освобождение» Прибалтийска
3.
1 Характерно, что автор на столетие «удревняет» время борьбы ры-
царей и местного населения. В поздней версии романа рассказ
парторга отсутствует, зато Хазов повествует животноводу Никифору
Васильевичу о том, что немецкие захватчики «отняли разбоем» зем-
лю у славян. На сомнения пожилого животновода относительно то-
го, что славяне прежде жили на этой земле, Алексей отвечает изло-
жением всего, «что знал из книг и из рассказов покойного Василия
Петровича Сергеева об истории Восточной Пруссии» [с. 33–34]. 2 Многочисленные лекции такого рода сохранились в памяти первых
переселенцев. См.: Восточная Пруссия глазами… С. 160. 3 Эта терминологическая двусмысленность сохраняет свою силу до
сих пор. Авторы недавней монографии, посвящённой образу истори-
68 И. О. Дементьев
Действие романа происходит на различных площадках,
демонстрирующих развитие промышленности и сельского хо-
зяйства. Секретарь горкома партии Николай Петрович Воро-
нин посещает с проверками различные предприятия: морской
порт, вагоностроительный завод, целлюлозно-бумажный ком-
бинат, мясокомбинат1. Эти предприятия создают фон для об-
суждения преобразований, осуществляемых советской вла-
стью. Возникает несколько оппозиций, ставших основой фор-
мирующейся системы ценностей нового общественного строя
на этой земле. Первая опирается на противопоставление
немецкого советскому. Воронин разговаривает после собрания
на целлюлозно-бумажном комбинате с пожилым мастером-
бумажником Голенковым:
– Собрание хорошо прошло. Все рабочие в один голос го-
ворили, что, мол, при такой заботе товарища Сталина можно
Прибалтийск за пять лет сделать неузнаваемым.
Голенков улыбнулся и продолжал:
– Постановления правительства на собрании хвалили, а
нас, руководителей, ругали. Зачем, мол, всё по немецкой мер-
ке восстанавливали, куда раньше смотрели.
– За дело ругали, – заметил Воронин. – Вот вы, например,
разве не видели, что немецкая, капиталистическая, мерка для
наших советских дел совсем не подходит?
ческой науки в годы позднего сталинизма, иллюстрируют возросший
в 1945 г. интерес «к национально-освободительным движениям во-
шедших в состав СССР территорий: Прибалтике (так! – И. Д.) и Во-
сточной Пруссии» такими примерами, как работы П. Пакарклиса
«Борьба литовцев с меченосцами» (Каунас, 1945), К. Осипова «Рус-
ские войска в Восточной Пруссии в Семилетней войне» (М., 1945) и
им подобными, как будто Семилетняя война связана с национально-
освободительным движением в Восточной Пруссии! См.: Трансфор-
мация образа советской исторической науки в первое послевоенное
десятилетие: вторая половина 1940-х – середина 1950-х гг. / под ред.
В.П. Корзун. М., 2011. С. 309. 1 Образ Воронина отчасти соотносится с образом Сталина – всеве-
дущего («Но Воронин знал всё» (с. 72)) и вездесущего руководителя.
«Золотая жила» янтарного края 69
Опустив голову, Голенков некоторое время молчал, а по-
том, подняв глаза на секретаря горкома, ответил:
– Видел, товарищ Воронин, что предприятие это не по
нашему, не по-советски построено. <…> Всё видел, а вывод-
то сделал неправильный. Так рассудил: страна страшную вой-
ну выдержала, сколько разрушено всего. Тут не до фантазий.
Заново перестраивать – сложное дело, пока надо на старом
поскорее дырки залатать, да продукцию начинать давать.
Видя, что старый мастер глубоко понимает свою ошибку,
Воронин сказал:
– Дело поправимое. Надо… во что бы то ни стало пустить
комбинат весной. А насчёт вашего неправильного вывода вот
что скажу. Никогда не надо забывать, что мы на эту землю
пришли не как завоеватели, а как хозяева. Мы не у кого-то от-
няли, воспользовавшись силой, кусок территории, а лишь
вернули своё, принадлежащее нам по праву. Ну, а раз мы хо-
зяева, то должны устраиваться прочно, по-хозяйски, смелее и
дальше смотреть вперёд. Нет больше Восточной Пруссии, а
есть молодая область Советского Союза и в её жизни должен
быть такой же широкий размах, как и у всей страны (с. 41).
Конфликт, представленный в этом эпизоде, всецело от-
вечает принципу социалистического реализма «борьба хоро-
шего с лучшим». Старый мастер выражает идею восстановле-
ния старого хозяйства в интересах государства, линия партии
состоит в том, чтобы строить новое хозяйство. Аргументация
Воронина скрывает также другую оппозицию: захват – воз-
вращение. Партия устами секретаря горкома даёт установку на
верную интерпретацию того, что произошло на прежде немец-
кой земле.
Следующий уровень непонимания политики партии
возникает на мясокомбинате. Восстановление комбината
предполагало увеличение мощности лишь в полтора раза. Од-
нако инженер Стряхелев написал жалобу в горком, процити-
ровав слова директора комбината Яшихина: «Во-первых, ком-
бинату и не нужна мощность выше той, которая была при
немцах. Во-вторых, я хорошо знаю наших рабочих. Если по-
требуется, они без всякой перестройки будут давать не по пол-
70 И. О. Дементьев
торы, а по две нормы. Немцы же не рассчитывали на стаха-
новское движение» (с. 69). Борьба хорошего с лучшим пред-
ставлена здесь в форме сопоставления недальновидного, хотя
и верящего в возможности советских людей, Яшихина и Стря-
хелева, проектирующего увеличение мощности в три раза. Во-
ронин прибывает на комбинат с проверкой и заинтересованно
выслушивает предложения Стряхелева. Проект полной пере-
стройки чреват затратами, зато предполагаемое увеличение
мощности позволит адекватно ответить на рост животновод-
ства в ближайшую пятилетку. «Вы же сами в газете писали, –
говорит Стряхелев секретарю горкома, – что к концу пятилет-
ки заселение нашей области будет закончено» (с. 70). Разуме-
ется, партработник занимает сторону инженера, а не его руко-
водителя.
Судьба Яшихина приобретает мрачную перспективу
в контексте «историософских» размышлений Воронина.
Многим из приехавших в Прибалтийск казалось, что пред-
стоит восстанавливать чужой, немецкий, город, в то время как
сотни родных, советских городов лежат в развалинах. Горком
должен был сразу же организовать среди переселенцев широ-
кую разъяснительную работу о прошлом Восточной Пруссии,
разъяснить исторические права нашего народа на эту землю.
Сейчас это делается на всех предприятиях, в совхозах и кол-
хозах выступают лекторы и беседчики.
Но причина ошибок Яшихина не в этом. Он-то хорошо по-
нимал, что в Прибалтийск мы пришли не как завоеватели, а
как законные хозяева. Яшихин прекрасно знал историю этих
земель, сам читал лекции на эту тему. Но, разбираясь в далё-
ком прошлом бывшей Восточной Пруссии, Яшихин не сумел
разобраться в ближайшем будущем молодого советского го-
рода Прибалтийска, молодой советской области.
Не понял он, что область в том виде, в каком застали её за-
конные хозяева – советские люди, отстала в своём развитии от
других областей Советского Союза на тридцать лет. И без ко-
ренной перестройки невозможно слить область, где вчера ещё
были капиталистические порядки, со страной, уже построив-
шей социализм и успешно идущей к коммунизму (с. 76–77).
«Золотая жила» янтарного края 71
Воронин продумывает стратегические последствия пе-
рестройки хозяйственной инфраструктуры: в сельском хозяй-
стве построить социализм будет легче (благоустроенные сёла
придут на смену «небольшим хуторкам», которые казались
«смешными и неудобными» (с. 77)), в промышленности пре-
одолеть негативные последствия капитализма (устаревшее
оборудование1, антисанитария, дефициты безопасности труда)
сложнее. Этого, по мнению Воронина, и не понимал незадач-
ливый директор мясокомбината. Так проявилась третья оппо-
зиция: прошлое – будущее. Социалистическое будущее в лю-
бом случае должно быть лучше, совершеннее капиталистиче-
ского прошлого, для чего востребованы усилия многих людей,
для чего необходима «коренная перестройка»2.
Наряду с восстановлением промышленности происходит
строительство новой советской деревни. Основное действие
разворачивается в колхозе «Советская крепость», именно там
Воронин произносит важные слова: «Принимает наша область
русский облик» (с. 136). Помимо промышленности и сельско-
1 Отсталая от других регионов область всё же выглядела неплохо на
фоне Восточной Пруссии. На вагоностроительном заводе, например,
противопоставление нового старому опиралось на солидный базис:
новые советские станки по сравнению с немецкими «менее громозд-
ки по объёму, хотя значительно превосходят их в мощности (с. 43),
[с. 49]. Это противопоставление противоречит воспоминаниям пер-
вых переселенцев, которые рассказывали о широком использовании
немецкого оборудования, см.: Восточная Пруссия глазами… С. 116–
119. 2 В поздней версии романа истории конфликтов на ЦБЗ и на мясо-
комбинате опущены; ошибки руководства целлюлозно-бумажного
комбината, которое хотело не «перестраивать всё на наш социали-
стический лад», а «восстанавливать оставшееся от старых хозяев»,
были отмечены не Ворониным, а, наоборот, ему указаны секретаря-
ми ЦК во время командировки секретаря горкома в Москву. Из бе-
сед с этими секретарями Воронин «понял, что товарищ Сталин при-
стально следит за жизнью нашей молодой области и придаёт её раз-
витию очень большое значение» [с. 245–246].
72 И. О. Дементьев
го хозяйства секретаря горкома волновали и вопросы город-
ского планирования, тем более что главным архитектором
Прибалтийска трудилась его жена Вера Андреевна. В диалоге
с сотрудником отдела архитектуры Финиковым вырисовыва-
ется более глубокая оппозиция «двух Кёнигсбергов». Фиников
показывает немецкий план города:
– Вот – город. На первый взгляд, кажется, один город, а в
самом деле их два. Обратите внимание на зелёный полукруг1,
окаймляющий центральную часть. Это сады и парки. Они де-
лают воздух чистым, заглушают шум заводов, находящихся за
зелёной чертой, на окраинах. Если бы вы побывали в цен-
тральной части города до войны, то с полным основанием
могли бы сказать: красиво, уютно и богато живут люди. Квар-
тиры светлые и просторные. В них все удобства – вода, газ,
электричество, канализация. Около каждого дома – фрукто-
вый сад. Асфальтированные улицы обсажены каштанами и
липами. <…>
За полукругом мы видим заводы и примыкающие к ним
так называемые рабочие окраины. Тут уже на улицах не ас-
фальт, а булыжник2. Стоят не красивые и светлые особняки, а
лачуги и многоквартирные бараки, похожие на тюрьмы. В
квартирах не найти не только газовых печей, но даже и намё-
ков на канализацию. Грязь, теснота, дым заводских труб и
кругом – ни одного деревца. Тут жили рабочие, а внутри зелё-
ного полукруга все те, на кого они трудились (с. 44), [с. 50–
51]3.
1 В поздней версии романа слово «полукруг» заменено словом
«круг» во всех трёх случаях в данной цитате. 2 Это подчёркивание превосходства асфальта над «булыжником» в
высшей степени любопытно: даже сегодня нетрудно убедиться, что в
центральной части Кёнигсберга хватало улиц, вымощенных брус-
чаткой, а не асфальтом; однако, с другой стороны, недооценка ка-
честв «булыжника» сохраняет свою типичность в современном ка-
лининградском публичном дискурсе. 3 В поздней версии романа весь этот монолог приписан Вере Андре-
евне, которая ещё не была женой Воронина (они вступают в брак
ближе к концу романа).
«Золотая жила» янтарного края 73
После одобрения секретарём горкома тезиса о том, что
«у немцев был плохой город» Фиников предлагает свой план –
ликвидировать рабочие окраины и сделать город одинаково
удобным, «придать ему всему социалистический облик»
(с. 44) [с. 51]. Диалог партработника и архитектора завершает-
ся своеобразной реминисценцией из стихотворения Владими-
ра Маяковского о Кузнецкстрое, строки которого стали эпи-
графом ко всему роману («Я знаю – город будет, я знаю – саду
цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!»):
– Так, говорите, будет Прибалтийск цветущим городом?
<…>
– Конечно, будет, – звонко ответил молодой архитектор. –
А как же иначе? (с. 45).
Роман отличает воображаемая топография: Прибалтийск
по большей части признаков совпадает с Кёнигсбергом-
Калининградом, однако некоторые топографические детали
являются явно вымышленными1. Ведин сочетает подлинные
черты Калининграда и вымысел. Некоторые признаки одно-
значно свидетельствуют о прототипичности Калининграда:
скажем, главная городская улица – Сталинградский проспект2.
В центре города Прибалтийска находится площадь, которая
носила раньше имя Фридриха Великого, а теперь – Трёх мар-
шалов (в действительности описана современная площадь По-
беды в Калининграде, которая в немецкое время называлась
Ганзаплац и Адольф-Гитлер-плац, а после войны неофициаль-
1 Этот приём был широко распространён в позднейшей калинин-
градской литературе, ср. повесть Петра Воробьёва «Околоморье
моё» (1971) о «древнем славянском Околоморье, превращённом
ныне в цветущий край» (цитата из рецензии: Колпаков А. «Околомо-
рье моё» // Калининградский комсомолец. 1971. 6 окт.). Возможно,
это особая черта калининградского соцреализма: в его рамках сказка
делается былью, а утопия (фантастические города – признак утопии)
отнесена не к воображаемому будущему, а к творимому здесь и сей-
час настоящему. 2 Современное название – проспект Мира.
74 И. О. Дементьев
но именовалась «Площадью Трёх маршалов»). На этой пло-
щади сходятся Сталинградский проспект (современный про-
спект Мира), Московская улица и проспект Победы (что не
отвечает действительности). В городе есть Железнодорожный
район (с. 140), хотя в послевоенном Калининграде такого не
было. Явно вымышленный географический объект, который
несколько раз становится местом действия, – Сквер Ивана
Русского рядом с крепостью, на кирпичной стене которой
осталась надпись, сделанная солдатом: «Что, фриц, узнал рус-
ского Ивана?» (с. 24), [с. 43]. Такой сквер трудно локализовать
в современном Калининграде, и хотя автор указывает, что в
нём стоят памятники Бисмарку и Вильгельму I (с. 109), [с. 7],
что совпадает с Кайзер-Вильгельм-плац перед Королевским
замком, в то же время другие характеристики затрудняют эту
идентификацию: сквер примыкает к трамвайному парку
(с. 76); к скверу ведёт узкая уличка, на которую нужно свер-
нуть со Сталинградского проспекта; наконец, в сквере распо-
ложен вход в Прибалтийский парк культуры и отдыха (с. 109).
Архитекторы представляют Воронину план будущего
Прибалтийска:
Широкая и прямая улица начиналась с площади Трёх мар-
шалов и тянулась через весь город до четырёх больших озёр,
окружённых лесом.
– Это главная магистраль города Сталинградский про-
спект… прямо вдоль Сталинградского проспекта тянется лес-
ной массив. Это городской парк культуры и отдыха1. А вот
другой лесной массив, расположенный тоже в центре города.
Это зоологический сад. На плане мы видим и ещё несколько
садов и парков поменьше. Таким образом, жители города зе-
ленью не будут обижены.
Указка остановилась на пустом квадрате по левую сторону
Сталинградского проспекта.
1 В поздней версии романа это предложение несёт больше краевед-
ческих сведений: «В прошлом – это парк королевы Луизы, а в насто-
ящем – городской парк культуры и отдыха» [с. 92].
«Золотая жила» янтарного края 75
– На этом поле фашисты проводили свои парады. До сих
пор сохранилась мраморная трибуна, выстроенная в честь
приезда в город Геринга. С этой трибуны он приветствовал
фашистский сброд. Трибуну мы снесём. В ближайшее время
вместо неё построим несколько больших трибун по краям по-
ля. Здесь будет центральный стадион города (с. 78), [с. 91–
92]1.
Проектирование будущего опирается на «естественное»
представление о красоте («Красивый будет город, когда в нём
ни одной развалины не останется», – говорит один из строите-
лей (с. 79). Пока советские люди были окружены следами
прошлого, важная задача состояла в том, чтобы найти пра-
вильный способ искоренения «немецкого духа». В романе се-
миотическая война происходит на двух фронтах – на уровне
дискурса и внутри сюжета. Во-первых, немецкие топонимы
практически не упоминаются в произведении, неизвестным
остаётся даже немецкое название Прибалтийска (при этом есть
Берлин и прямо называется Восточная Пруссия). Во-вторых,
постулирован народный характер борьбы с «немецким ду-
хом». Его отражает эпизод на «узенькой уличке», по которой
секретарь горкома едет на вагонзавод2.
Эта улица ещё не имела русского названия, – на ней никто
не жил. <…> К стене небольшого особняка была приставлена
лестница. На ней стоял парнишка лет 12 и топором отдирал с
фасада золочёные немецкие буквы торговой рекламы:
– Зачем ты это делаешь? – строго спросил Воронин.
– Не хочу под немецкой вывеской жить, – ответил пар-
нишка не оборачиваясь. <…> Я бы все вывески немецкие
посшибал, да мать ругается, – упадёшь, говорит. А что я – ма-
ленький?!
1 В поздней версии монолог приписан председателю горсовета Луке
Филипповичу Белову. 2 В поздней версии Воронин оказывается на этой улице во время
прогулки с будущей женой Верой Андреевной и своим водителем
Васей.
76 И. О. Дементьев
– Ну, ладно, сшибай, – одобрительно кивнул головой Во-
ронин и пошёл к машине (с. 68–69), [с. 79–80]1.
Напускная строгость секретаря горкома, который
столкнулся с несанкционированными действиями разруши-
тельного характера, сменяется одобрением, когда он получает
удовлетворительное объяснение со стороны подростка. В бо-
лее широком контексте здесь можно увидеть «воспитание
чувств» – с риском для своей жизни парнишка ведёт борьбу
против немецкой письменности, настаивая при этом на том,
что он – не «маленький» (автор едва ли предполагал обыграть
здесь кантовское требование иметь мужество пользоваться
собственным умом).
В романе представлен путь героев от войны к миру, от
«грустных размышлений» на развалинах к осознанному слу-
жению социалистической родине. Название произведения свя-
зано с формированием коммунистического мировоззрения у
ещё одного героя – молодого человека Саши Вырова. Его, ка-
жется, не привлекают задачи восстановления новой советской
области, он обуреваем идеей поехать в Сибирь и найти золо-
тую жилу, после чего получить орден от правительства. Об
этой мечте говорит Воронин на митинге: «Своя золотая жила
есть везде, во всяком деле, если его любить и хорошо делать.
Но главный пласт золота нашей страны пролегает в замеча-
тельных советских людях. Этот пласт неисчерпаем. С каждым
шагом нашей страны вперёд он становится всё богаче… <…>
Город наш молодой не только потому, что его история исчис-
ляется всего двумя годами. Он молод своим населением»
(с. 142, 144), [с. 301, 303].
Молодёжь, по мнению Воронина, подкреплённому
ссылкой на доклад товарища Жданова о журналах «Звезда» и
«Ленинград»2, и есть главный пласт золотой жилы. Конечно,
1 В поздней версии последняя реплика Воронина отличается боль-
шей человечностью: «Да, да, уж лучше не падай» [с. 80]. 2 Герои поздней версии романа доклада Жданова уже не читают.
«Золотая жила» янтарного края 77
финал романа оптимистичен: Саша Выров, отказавшись от по-
ездки в Сибирь, остаётся работать в порту, а Алексею Хазову
Воронин предлагает стать секретарём горкома комсомола1.
В этом романе много советских людей – коллективы, на
собраниях которых присутствует Воронин, участники перво-
майской демонстрации2 на площади Трёх маршалов. Все они
русские, что отвечает пафосу восстановления исторических
прав на землю. Немецкое присутствие в топосе осуществляет-
ся лишь за счёт архитектуры, памятников (Бисмарку и Виль-
гельму), а также вывесок на зданиях. В вымышленном мире
Ф. Ведина немцы и русские не пересекались, что противоре-
чило реальному ходу событий. «Город был пуст, – читает ста-
хановцам лекцию Вера Андреевна. – Немецкое гражданское
население эвакуировалось в центральные районы Германии, а
законные хозяева, русские переселенцы, ещё не приехали…»
(с. 139), [с. 318]3. То ли (само)цензурные ограничения, то ли
невозможность вписать немцев в картину становления совет-
ского города вынудили писателя поступиться исторической
действительностью. Немецкое прошлое было вытеснено в об-
ласть мифологии, его уликами остались только развалины да
памятники. Показателен эпизод, когда Саша Выров «поднял с
земли заржавленный осколок и бросил в каску “железного”
1 В поздней версии Хазов после смены ряда руководящих должно-
стей по заданию партии идёт работать слесарем вагонзавода и одно-
временно исполняющим обязанности секретаря парткома. «Нала-
дишь партийную работу, – говорит ему Воронин, – утвердим посто-
янным секретарём, и тогда со слесарной специальностью придётся
расстаться…» [с. 302]. 2 Она проводится второй раз, что позволяет определить время дей-
ствия романа – весна 1947 г. 3 В поздней версии романа уже орудуют шпионы, которые органи-
зуют обрушение домов и планируют взорвать эшелон с переселен-
цами, однако после их разоблачения выясняется, что это советские
люди, не немцы [с. 292–293]. Детективная линия в романе особого
развития не получила.
78 И. О. Дементьев
канцлера. Не попал, – осколок ударился о длинную ногу Виль-
гельма» (с.109), [с. 193], из которого следует, будто памятники
стояли рядом, что, конечно, противоречило действительности
в настоящем Кёнигсберге. Раскрытия «правды жизни» в худо-
жественном пространстве романа «Золотая жила» не произо-
шло, хотя этого и не требовалось эстетикой соцреализма. Как
отмечается в одном из недавних исследований, «основным
критерием правдивости искусства соцреализма выступает не
степень соответствия изображаемого художественного текста
наличному состоянию действительности, а образ перехода, его
качество и характер»1. С этой точки зрения движение от ста-
рого к новому (и в ландшафте городского бытия, и в сознании
героев) изображено в произведении во всей полноте.
Насколько типичным был роман Фёдора Ведина для ли-
тературы социалистического реализма и калининградской ли-
тературы в целом? Бесспорно, он отвечал основным эстетиче-
ским и идеологическим требованиям времени. Роман написан
в Калининграде в 1946–1950 гг. и опубликован в сборнике
«Калининград» в 1951 г. Этот сборник, открывавшийся порт-
ретом И.В. Сталина, содержал несколько литературных произ-
ведений и очерков, которые предваряла передовая под харак-
терным названием «На западе – нет больше Восточной Прус-
сии!»2 Передовая не была подписана, претендуя на то, чтобы
1 Булавка Л. Социалистический реализм: превратности метода. Фи-
лософский дискурс. М., 2007. С. 111. 2 На западе – нет больше Восточной Пруссии! // Калининград…
С. 3–14. Ссылки на передовую далее даются в тексте. Этот манифест
цитируется в упомянутой работе П. Бродерзена (см.: Brodersen P.
Op. cit. S. 9, 103, 178), там же (S. 103) отмечено, что название заим-
ствовано из доклада Г.М. Маленкова на торжественном заседании
Моссовета 6 ноября 1949 г.: «На Западе – нет больше Восточной
Пруссии – этого многовекового плацдарма для нападения на нашу
Родину» (см., например, текст доклада в кемеровской газете «Кол-
хозный труд» за 10 ноября 1949 г., электронный адрес:
http://elib.ngonb.ru/jspui/bitstream/NGONB/16168/1/N46_noyb.pdf).
«Золотая жила» янтарного края 79
задавать координаты официального дискурса о прошлом,
настоящем и будущем Калининградской области.
Прошлое рисовалось в мрачных красках. Было как бы
два прошлых – давнее («плюсквамперфект») и недавнее (ассо-
циируемое с фашистами). В «плюсквамперфекте» Восточную
Пруссию населяли «литовские племена пруссов», которых в
ХIII в. почти полностью истребляет Тевтонский орден (с. 3).
Характерно, что официально местное население не признава-
лось славянским; славянские государства обозначены лишь
как соседи, которым не давала свободно развиваться Восточ-
ная Пруссия, бывшая «гнездом самой чёрной реакции и сред-
невекового варварства»1. Попытки царского правительства
«ликвидировать это осиное гнездо прусской военщины» (с. 4)
во время Семилетней и Первой мировой войн оказались не-
удачными. Лишь в апреле 1945 г. удалось уничтожить «змеи-
ное гнездо прусских милитаристов» (с. 5)2.
Фашисты оставили новым жителям разорённое хозяй-
ство3, поэтому задача строительства социалистического Кали-
1 Определения Кёнигсберга всецело отвечают установкам господ-
ствовавшего в годы позднего сталинизма дискурса о Восточной
Пруссии. См.: Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 9–12. 2 П. Бродерзен пишет о том, что «официальный топос Калининграда
подразумевал некоторый дисконтинуитет истории области: между
“славянской древностью” (“urslawischer Frühzeit”) и советской вла-
стью пролегло междуцарствие» (Brodersen P. Op. cit. S. 101). В исто-
рии отношений между Россией и регионом были обозначены три
«точки соприкосновения»: Семилетняя война, борьба против Напо-
леона и продвижение русских войск в Восточной Пруссии. 3 Идеологема о том, что немцы сами разорили свои земли, была
чрезвычайно популярной в официальном дискурсе. Ср. обзор исто-
рии области, сделанный И.А. Фарутиным в 1961 г.: «За 15 лет, про-
шедших со времени образования Калининградской области на опу-
стошённых гитлеровской военщиной землях, возрождены, построе-
ны и работают ныне сотни промышленных предприятий…» (Обра-
зование и развитие Калининградской области : док-ты и матер. за
1946–1960 гг. / Архивный отдел УВД Калинингр. облисполкома;
80 И. О. Дементьев
нинграда была серьёзно осложнена. Однако будущее города
уже определилось – «форпост мира и безопасности на запад-
ных рубежах нашей могучей Родины» (с. 5). Вот ради чего
трудятся новые поселенцы в колхозах и на заводах. Успехи
были бы невозможны без помощи свыше: «О Калининграде
думали в Москве, Ленинграде; о нём думал самый великий ар-
хитектор нашего времени – товарищ Сталин. Калининградцы
на каждом шагу ощущали его отеческую заботу, внимание. Он
постоянно согревал нас теплотой своего сталинского сердца»
(с. 6).
Оппозиция «Кёнигсберг – Калининград» всё ещё сохра-
няет актуальность на уровне дискурса, новое население не мо-
жет не сопоставлять свой опыт с опытом предшественников:
Перед нами открывается незабываемая панорама повер-
женного Кёнигсберга и строящегося советского Калинингра-
да. Он раскинулся в глубокой лощине. Вот он какой, этот го-
род! Трамвай везёт нас по горбатым и узким улицам бывшего
города. Бывшего потому, что Кёнигсберг действительно быв-
ший город. Его не существует. Стоят, тесно прижавшись друг
к другу, разбитые пустые дома, без крыш и перекрытий. Они
заросли бурьяном и плющом. Внутри каждого дома-коробки
пробивается лес. В стороне, в руинах, лежит замок трёх коро-
лей – цитадель, массивные стены его позеленели от времени и
дождей.
Старый Кёнигсберг – это мёртвый город. Его восстанавли-
вать бесполезно. Легче, практичнее строить новый город. А
что делать со старым! Калининградцы всерьёз предлагают об-
нести разрушенный Кёнигсберг каменной стеной и время от
Гос. архив Калинингр. обл.; Парт. архив Калинингр. обкома КПСС ;
сост. И.А. Фарутин [и др.]. Калининград, 1961. С. 45 (машинопись)).
Обращает на себя внимание не только привычное для советского
дискурса умолчание об английском участии в разрушении Кёниг-
сберга, но и нетипичная формула «возрождение предприятий», от
которой советские авторы долгое время безуспешно пытались изба-
виться (ср.: Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 219–220).
«Золотая жила» янтарного края 81
времени водить себя на экскурсии претендентов на мировое
господство. Пусть этот город-музей, его развалины будут
служить грозным предостережением для всех, кто хочет раз-
жечь пламя новой мировой войны, кто хочет силой подчинить
себе мир! (с. 13–14)1.
В этом тексте многое значимо: несколько раз констати-
руется смерть Кёнигсберга (это повторение свидетельствует
как раз о том, что мёртвый продолжал хватать живого; отсюда
же и парадоксальная формулировка «везёт… по улицам быв-
шего города»2); своеобразный параллелизм в судьбе города
образуют две триады – замок трёх королей и площадь Трёх
маршалов, о которой идёт речь на той же странице; перспек-
тива обнесения каменной стеной находит параллели с прокля-
тым римлянами Карфагеном (из передовой следует, что рус-
скому народу только с третьей попытки удалось ликвидиро-
вать источник агрессии, а Пунических войн тоже было три, и
последняя оказалась для Карфагена разрушительной). Лозунг
«На западе нет больше Восточной Пруссии!» принадлежит к
тому же дискурсивному пространству, что и формула «Карфа-
ген должен быть разрушен!». Расширение империи на руинах
поверженного города неизбежно вызывало в памяти опреде-
лённые ассоциации.
Идеи, высказанные героями романа «Золотая жила», в
целом вписываются в систему координат, заданных передови-
цей; привнесена была только идея о древнем славянском насе-
лении земли, распространённая в агитпропе второй половины
1940-х – начала 1950-х гг. Ю.В. Костяшов показал, что после
того, как тезис об «исконной славянской земле» впервые был
1 Пассаж о музее упомянут в монографии Б. Хоппе, см.: Hoppe B. Op.
cit. S. 55. Также Хоппе цитирует большой фрагмент передовицы:
ibid. S. 75–76. 2 Ср. с мнением А.И. Рыжовой, приехавшей в Калининград в 1947 г.:
«…призрак Кёнигсберга витает над городом. Он-то и не даёт людям
покоя» (Восточная Пруссия глазами… С. 242).
82 И. О. Дементьев
высказан И.В. Сталиным на Тегеранской конференции1, он
многократно воспроизведился усилиями пропагандистов раз-
личного толка2. Аргументами в пользу этой идеи должна была
снабдить власти археологическая наука – с 1946 г. в Калинин-
граде работала сотрудница ленинградского Института истории
материальной культуры Ф.Д. Гуревич. Её статья о результатах
раскопок, опубликованная в «Калининградской правде», со-
держала объективный вывод, продублированный в отчёте за
1950 г.: в III–V вв. на территории области возникла своеобраз-
ная культура, «развитие которой находилось в тесном обще-
нии со славянским миром»3.
1 Немецкий историк П. Бродерзен обнаружил более раннее свиде-
тельство (8 сентября 1941 г.) в дневниковой записи Георгия Димит-
рова, процитировавшего шутку Сталина о том, что после победы Во-
сточная Пруссия будет возвращена славянам, которым она прежде
принадлежала. См.: Brodersen P. Op. cit. S. 93. 2 Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 22–24 ; Hoppe B. Op. cit. S. 45–46 ;
Brodersen P. Op. cit. S. 93–100. Вероятно, впрочем, этот тезис не сра-
зу утвердился в официальном советском дискурсе. Например,
В.М. Молотов в докладе на заседании Моссовета по случаю 28-й го-
довщины Октябрьской революции описывает так расширение стра-
ны: «Западная граница нашей страны раздвинулась также за счёт
присоединения к Советскому Союзу Кенигсберга, что дает нам об-
ладание хорошим незамерзающим портом в Балтийском море» (Во
славу Родины. 1945. 7 нояб.). Аргументация восходит к сталинской
мысли о незамерзающем порте, однако понятие «присоединение»
вовсе не идентично понятию «возвращение». На столичном уровне
ревизия истории протекала медленнее, чем в бывшей Восточной
Пруссии. 3 Цит. по: Костяшов Ю.В. Указ соч. С. 23. См. также: Гуревич Ф.Д.
О чём говорят археологические раскопки // Калининградская правда.
1949. 5 авг. По мнению Ю.В. Костяшова, тезис о славянском населе-
нии (со временем он был модифицирован, и население «стало обо-
значаться как славянско-литовское») впервые был публично под-
вергнут сомнению после смерти Сталина – в апреле 1954 г., когда в
краеведческой секции Областного лекторского бюро обсуждалась
лекция В.С. Фёдорова об историческом прошлом области. В рецен-
«Золотая жила» янтарного края 83
Однако художественное пространство давало больше
простора для фантазии. В том же сборнике «Калининград»
напечатан рассказ Надежды Грязевой «Черепки», в котором
сталинская идея получила законченное художественное
оформление1. Основное действие разворачивается в 1949 г.
(как раз в этом году началась систематическая работа археоло-
гического отряда под руководством Ф.Д. Гуревич), хотя герой
рассказа Вячеслав Иванович Сабинин возвращается в своих
воспоминаниях и к драматичным событиям 1945 г., когда он
простым капитаном (мобилизованным аспирантом кафедры
археологии МГУ) участвовал в штурме Кёнигсберга. Будучи
замполитом, он воспроизводил тезис «Восточная Пруссия –
исконно славянская земля» уже на подходе к границе немец-
кой территории (с. 223). После боя Сабинин обнаруживает че-
репок и вступает в разговор с солдатами:
– «Немецкая посудина», говорите?! Нет, товарищи, – сла-
вянская, самая настоящая древняя славянская. И мы с вами,
друзья мои, первые русские советские люди, которые в своих
руках держим неопровержимое вещественное доказательство,
что эта земля принадлежала нашим предкам-славянам. В те-
чение веков немцы, захватившие эту землю, сделали всё, чтоб
изгладить из памяти народов, что она когда-то принадлежала
кому-то другому, а не им. В ход пошли не только огонь и же-
лезо, безжалостно уничтожившие памятники «чужой», не
германской культуры, но и чернила и перья маститых и нема-
ститых учёных, нагло искажавших факты, замазавших все
следы народа, когда-то жившего здесь. (с. 225).
зии члена бюро Цыганкова и в выступлении И.П. Колганова («реви-
зионистов», по определению Ю.В. Костяшова), а также в решении
секции подчёркивалось, что древнее население области ошибочно
определять как славянское, «здесь жили пруссы, племена литовской
народности» (Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 25). Из передовой статьи
в сборнике «Калининград» следует, что уже в 1951 г. установка была
не столь однозначной. 1 Грязева Н. Черепки // Калининград… С. 222–233. Ссылки на стра-
ницы далее даны в тексте.
84 И. О. Дементьев
Слушатели этой небольшой лекции, в которой слишком
легко ретроспективно проследить все признаки проекции са-
мообвинений на других, задают Сабинину наивные вопросы о
том, в чём, собственно, состоит доказательство, поднятое из
глубин земли случайной взрывной волной. Замполит охотно
объясняет: «Этот волнообразный орнамент, который сохра-
нился в глиняной посуде и до наших дней, встречается у всех
славян: восточных, западных и южных и заметьте – только у
славян» (с. 225)1.
Найдя черепок, Сабинин указывает на карте «Городи-
ще» «недалеко от курорта “Отрадное”»; он возвращается сюда
после войны уже начальником экспедиции Археологического
института. Один из участников раскопок, Васька, проникается
идеей возвращения исторических прав: «…это наша древняя
славянская земля, и надо превратить её в передовую, совет-
скую» (с. 229). Вокруг городища возникает новый разговор, в
котором излагается краткий курс истории этой земли (от VI в.,
когда несомненно славянское присутствие, к событиям орден-
ской экспансии ХIII в.2). По мнению Сабинина, культурные
1 Тезис опирался на соображения, высказанные в газетной статье:
Раскопки древнего городища // Калининградская правда. 1950. 26
июля. Кстати, Ф. Ведин в поздней версии своего романа тоже вос-
производит разговор группы работников и секретаря горкома Воро-
нина по поводу черепков. «На черепках славянские надписи», – го-
ворит рабочий. «Ну и что же? И так всем известно, что здесь славяне
когда-то жили и наша это – русская земля. <…> Это давно известно,
и исторические права нашей страны на эти земли не вызывают со-
мнений», – парирует Воронин, после чего объясняет задачи, стоящие
перед археологическими экспедициями «по изучению быта и куль-
туры древних народов» [с. 266]. 2 Скептически настроенный студент спрашивает Сабинина о причи-
нах, по которым он датирует найденную рукоятку железного меча
именно ХIII в. «Орден-то существовал ещё сколько лет? Меч пре-
красно мог принадлежать какому-нибудь рыцарю времён, ну хотя
бы, Ивана Грозного и…» – «И благополучно оказаться среди череп-
ков эпохи Александра Невского?» – парирует другой участник экс-
«Золотая жила» янтарного края 85
слои, свидетельствующие о славянском населении, датируют-
ся и Х, и ХIII в.; керамика VI–IX вв. «грубая, толстостенная,
лепная», а к ХIII в. относится более изящная керамика. Руко-
ятка меча даёт пищу для фантазии археологов: им представля-
ется рыцарь, ворвавшийся в дом в «почти сплошь забрызган-
ном кровью белом плаще» (с. 232) и заставший там мёртвых
женщину и ребёнка. «Оттого ли, что некого больше убивать, и
он был лишён наслаждения видеть ужас и слышать пред-
смертные вопли, или просто повинуясь духу разрушения и
ненависти ко всему “чужому”, “варварскому”, рыцарь начал
всё крошить своим мечом» (с. 232).
Участникам разговора видится образ «фашистов в серо-
зелёных мундирах» (с. 233), потомков «тевтонских псов»; так
два временных пласта как бы соединяются, обозначая бес-
славное прошлое этой земли. Воображаемый конфликт полу-
чает разрешение в духе социалистического реализма: в дом
возвращается муж или кто-то другой из местных жителей и
кувалдой либо молотом наносит удар по мечу – «и от меча, да
и от рыцаря, наверно, звон пошёл, да во все стороны черепки
полетели!..» (с. 233). Найденные рукоятки и черепки оказыва-
ются в буквальном смысле слова результатами классовой
борьбы и в то же время борьбы за национальную независи-
мость. Профессионал Сабинин отрезвляет молодёжь: это всё
фантазии, как всё было на самом деле, мы не узнаем.
– Но мы знаем другое: семьсот лет назад здесь были уни-
чтожены славянские племена, которые не хотели покориться
захватчикам. Немцами было сделано всё, чтоб уничтожить
даже память о них. И я горжусь той честью, которая выпала
нам всем, устами советской, самой передовой гуманной науки
в мире сказать своё правдивое веское слово… (с. 233).
педиции (с. 231–232). Стоит ли говорить, что ко времени Ивана
Грозного орден на этой территории уже был секуляризирован. Этот
эпизод свидетельствует о невысоком уровне познаний по истории
региона либо героя рассказа, либо его автора.
86 И. О. Дементьев
Три временных пласта, представленных в рассказе, об-
разуют единый хронотоп, потому что конфликт «славян» и
«немцев» на этой территории как будто получает своё есте-
ственное разрешение: советские археологи завершают дело
советских солдат, возвращая исторические права на землю,
некогда отобранную у славян предками фашистов. Рукоятка
меча становится метафорой остатков «чужого» Кёнигсберга.
Процесс законного возвращения земли приобретает легитим-
ность, освящённую авторитетом науки, которая «в советском
дискурсе второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. … пред-
ставала как наука партийная, плановая, нацеленная на практи-
ку, коллективная, народная, с материалистической основой»1.
Советский учёный в этом случае сочетал в себе роли исследо-
вателя, педагога и пропагандиста. Археолог Сабинин, как и
секретарь горкома партии Воронин в «Золотой жиле», вносит
свой профессиональный и личный вклад в строительство со-
циалистического Калининграда.
Практика «освоения» территории путём предъявления
исторических прав не была чисто калининградской новацией.
Похожим образом строилась аргументация новых властей в
Литве и Польше в отношении других частей бывшей Восточ-
ной Пруссии. Литовский исследователь В. Сафронов конста-
тирует различия образов, складывавшихся в пропаганде: в
Клайпеде завоевания трактовались как «освобождение» ли-
товских земель от немецкого гнёта, тогда как в Калининграде
за отсутствием опоры на традицию эти образы поддерживали
стратегию узаконения военного трофея, для которой были ха-
рактерны мотивы «возмездия», «мести» врагу. По мнению ис-
торика, эти различия объясняют актуальность мифа проис-
хождения в современном Калининграде: в прошлом Калинин-
градской области не удалось найти «русские корни», поэтому
«освоение» города могло осуществляться лишь в советском
1 Трансформация образа... С. 132.
«Золотая жила» янтарного края 87
контексте (в отличие от Клайпеды, где со всей уверенностью
были обнаружены «литовские корни»)1. Очевидно, что в со-
ветском Калининграде пропаганда постулировала, а художе-
ственная литература художественно оформляла идею «славян-
ской земли» (что, кстати, не исключало мотива возмездия);
однако со временем, в связи отсутствием научного обоснова-
ния такой «генеалогии», эта идея отмерла сама собой.
Роман «Золотая жила» отвечал требованиям эпохи, гар-
монировал с эстетикой социалистического реализма2. М. Че-
годаева вписывает искусство в логику сталинского мифа:
«Основополагающим сталинским мифом был миф о торжестве
победившего социализма – земного рая, уже осуществивше-
гося, уже пребывающего здесь, сейчас в нашей советской дей-
ствительности. <…> Официальное искусство всеми средства-
ми возбуждало в советских людях чувство беспредельного
счастья жить в самой передовой в мире стране, под заботли-
вым оком величайшего вождя всех времён и народов…»3
1 См.: Safronovas V. Antrojo pasaulinio karo įvykiai Ritų Prūsijoje
Klaipėdos krašto ir Kaliningrado srities atminimo kultūroje // Antrojo pa-
saulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istoreinės įžvalgos.
Klaipėda, 2009. P. 107 (Acta historica Universitatis Klaipedensis;
XVIII.). Мне оказалось доступно только резюме статьи на русском
языке. См. также о мифологии «Прусской Литвы»: Sakson A. Od
Kłajpedy do Olsztyna. Wspólsześni mieszkańcy byłych Prus
Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury.
Poznań, 2011. S. 265–277. В той же работе А. Саксон характеризует
польскую стратегию изгнания «немецкого духа», см.: ibid. S. 256–
262. 2 То, что требования к литературе, ставшие основой соцреализма,
были не (с)только порождены официальными идеологами, но и всей
совокупностью предпочтений советского массового читателя, со
всей убедительностью описано в работе: Добренко Е. Формовка со-
ветского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецеп-
ции советской литературы. СПб., 1997. С. 116–126. 3 Цит. по: Булавка Л. Указ. соч. С. 131.
88 И. О. Дементьев
В центре сюжета «Золотой жилы» – подвиг советских людей
под бдительным надзором секретаря горкома партии, общий
настрой произведения оптимистический, показана неизбеж-
ность прогрессивного движения общества. На этом пути у от-
дельных товарищей, даже должностных лиц1, можно встре-
тить недопонимание поставленных задач, но отеческая забота
Воронина помогает всем преодолеть заблуждения. Других
врагов на пути строительства светлого будущего нет (как от-
мечалось, немцы в художественном пространстве романа от-
сутствуют)2. Принцип историзма помогал связать прошлое
(захват славянских земель немцами и последующее «освобож-
дение»), настоящее (двухлетний период мирного труда, куль-
минацией которого стала первомайская демонстрация) и бу-
дущее (его силуэт прорисовывается в прогнозах архитектора
Финикова и планах, представленных женой Воронина). Идея
неизбежности успешного строительства города-сада после
преодоления временных трудностей проходит красной нитью
через всё произведение от эпиграфа до заключительного диа-
лога секретаря горкома партии и будущего секретаря горкома
комсомола.
Однако характерно, что описания «чужого», немецкого
наследия в романе носили двусмысленный характер: противо-
поставление «двух Кёнигсбергов» содержало имплицитную
оппозицию «хорошие немцы» (трудящиеся) – «плохие немцы»
1 Соцреализм допускал это, см.: Борев Ю.Б. Эстетика. М., 2005.
С. 656. 2 Идеалом «официозного соцреализма», по Л. Булавка, «является
априорно взятый образ “очищенной” от противоречий действитель-
ности, больше не нуждающийся в силу этого в диалектике (как логи-
ке их разрешения)» (Булавка Л. Указ. соч. С. 166). За отсутствием
немцев и классовых врагов в новой советской области действитель-
ность в романе оказалась очищена от противоречий, как сама кали-
нинградская земля быстро очищалась от остатков довоенной культу-
ры.
«Золотая жила» янтарного края 89
(буржуазия и фашисты); констатировалось, что в прошлом в
центральной части города было «красиво, уютно и богато».
Такой подход несколько противоречил проявлявшейся в те го-
ды тенденции «вычёркивать всякие упоминания о Восточной
Пруссии и её бывших хозяевах», описанной Ю.В. Костяшо-
вым1. В то же время он отвечал требованию увязывать любые
упоминания прошлого с демонстрацией преимуществ совет-
ского строя перед капитализмом2. Однако подход писателя
был глубже, чем привычная для тогдашних калининградцев
манера элементарного противопоставления светлого Калинин-
града тёмному Кёнигсбергу, мира войне, динамики песни ста-
тике скульптуры. Ср. стихотворение сержанта Ю. Князева,
опубликованное в газете Особого военного округа «Во славу
Родины» весной 1946 г.:
Обломки зданий, груды щебня…
Окопный, верный друг, вглядись:
Здесь грохотали пушки гневно,
Здесь мы прошли, здесь мы дрались.
У этих поседелых башен
Мы завершили свой поход,
И встали мы надёжной стражей
У наших западных ворот.
<…>
Пускай цветёт Отчизна наша,
Пусть мирно трудится народ,
Мы здесь стоим надёжной стражей
У наших западных ворот3.
О том же – стихотворение Ю. Андрущенко в том же
сборнике: «Здесь мрачная крепость // кирпичным плечом //
1 См.: Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 29. Исследователь указывает на
основе анализа многочисленных архивных документов на то, что
упоминания вычёркивались, вместо «восстановление завода» следо-
вало писать «строительство завода» и т. д. 2 Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 55. См. также: там же. С. 219–220.
3 Князев Ю. Мы на страже // Во славу Родины. 1946. 9 марта.
90 И. О. Дементьев
небо, казалось, // держала. // Здесь миру грозил // обнажённым
мечом // надменный король // с пьедестала. // Но сброшены
нами // на сплав короли. // Советский мы строим здесь город, //
советские // в море идут корабли // и мирные песни – над мо-
рем»1.
В романе «Золотая жила» образ Кёнигсберга был не та-
ким монохромным. У автора передовицы, открывавшей сбор-
ник, дома с красными черепичными крышами вызывали ассо-
циации с мухоморами под красными шляпами (с. 3); пройдёт
несколько десятилетий, пока в официальной калининградской
литературе станет возможным поэтизировать черепичные
крыши2. Однако уже в романе «Золотая жила» созерцание
этих утопающих в окружающей зелени крыш создаёт у героя
впечатление красоты (пусть и мёртвой), совпадающее с реаль-
ными впечатлениями первых переселенцев в Восточную
Пруссию3. Спонтанное разрушение ассоциируется только с
военным временем, в условиях которого такое поведение было
естественным. Саша Выров вспоминает, увидев высокую
башню с часами напротив старинной крепости в Сквере Ивана
Русского:
Участники боёв за город рассказывают: часы шли, когда
наши войска заняли уже все улицы. Их ход остановила оче-
редь из советского автомата. Говорят, что солдат сначала
крикнул: «Остановись, фашистское время!» А потом выстре-
1 Андрущенко Ю. Калининград // Калининград… С. 163.
2 Ср. стихотворение А. Рагузина «Советск», опубликованное через
30 лет после выхода сборника «Калининград»: «Я люблю этот город,
// и в разлуке мне снится, // как шагам моим вторит // красных крыш
черепица» (Калининградский комсомолец. 1981. 30 авг.). 3 Ср.: «Когда подъезжали к городу на поезде, поразили дома с чере-
пичной крышей. <…> Крыши домов островерхие и красиво выгля-
дели» (интервью с А.В. Целовальниковой, см.: Восточная Пруссия
глазами... С. 44); «Они были такого сочного цвета при весеннем
солнце и после дождя, что казалось, их подкрашивают время от вре-
мени» (интервью с М.П. Тетеревлевой, см.: там же. С. 50).
«Золотая жила» янтарного края 91
лил. В часах зашумело, золочёные стрелки закрутились быст-
ро-быстро, а потом на цифре 6 замерли навсегда (с. 109),
[с. 193]1.
И двойственность немецкого прошлого, и желание опе-
реться в строительстве нового мира на национальную тради-
цию (герои складывают русские печи взамен немецких и т. д.),
и смена тотального и иррационального разрушения рефлекси-
ей о нём в романе Ф.И. Ведина как бы предвосхищают новый
этап в развитии эстетики социалистического реализма.
Ю.Б. Борев определяет особенности художественной концеп-
ции соцреализма, утверждающейся в советской литературе
после 1956 г., следующим образом: «…мир не совершенен,
“надо мир сначала переделать, переделав, можно воспевать”;
личность должна быть социально активной в деле насиль-
ственного изменения мира»2. Опора на национальную тради-
цию в условиях «чужого» окружения была естественным
средством защиты от «призрака» ненавистного прошлого; в то
же время имплицитно формировалось осознание сложности
взаимодействия новых людей и старой культуры.
Однако судьба образов Восточной Пруссии и Кёниг-
сберга оказалась совсем не такой, какой виделась героям про-
изведений эпохи соцреализма. Со временем выяснилось, что
освобождение от образов прошлого, которое представлялось
героям романа делом нескольких лет, обернулось в конечном
счёте ещё большей зависимостью от них. Уже в 1960–1970-е
гг. сложится круг людей, готовых защищать историко-
культурное наследие региона от разрушения (пример успеха
этих действий – сохранившийся Кафедральный собор3); тогда
1 Понятно, почему на цифре 6 – это самый низ циферблата, стрелки
упали к этой цифре подобно опущенным флагам со свастикой во
время парада на Красной площади в июле 1945 г. 2 Борев Ю.Б. Указ. соч. С. 667.
3 О том, что отдельные люди и в конце 1940-х – начале 1950-х гг.
действовали в интересах сохранения немецкого наследия, красноре-
чиво пишет Ю.В. Костяшов. См.: Костяшов Ю.В. Указ. соч. С. 42–
92 И. О. Дементьев
же в калининградскую литературу начнут проникать гумани-
стические мотивы, а образ немцев в послевоенном Кёнигсбер-
ге утратит свою монохромность1. В годы Перестройки и после
неё обнаружится, что история Кёнигсберга и Восточной Прус-
сии в целом – настоящая золотая жила, в разработку которой
будет вовлечено множество людей – исследователей, экскур-
соводов, архивистов, поэтов, художников, фотографов, архи-
текторов, журналистов, блогеров… Окажется, что хозяйское
отношение – это не всегда снос старого и строительство ново-
го на основе сомнительных аргументов об исторической спра-
ведливости, но также бережное отношение к чужой культуре –
отношение, не исключающее сохранения культуры собствен-
ной, а выступающее как бы более высокой формой этого со-
хранения; это отношение предполагает принятие драматизма
своей истории и уважение к землякам – и к тем, кто строил го-
род на протяжении столетий, и к тем, кто восстанавливал его
из руин после страшной войны.
Подобная перспектива была, по всей видимости, неве-
дома авторам соцреалистических произведений начала
1950-х гг. Формовка советского читателя (Е. Добренко) в
Калининградской области происходила с помощью тех же
средств, что и до войны в других областях СССР: производ-
ство литературы дополнялось созданием сети массовых биб-
лиотек, формированием учебных планов средних школ, орга-
низацией пропагандистской работы. И всё же не всех читате-
лей удавалось ввести в заблуждение.
В 1952 г. к десяти годам исправительно-трудовых лаге-
рей был приговорён калининградец С.К. Рычков. Свидетель-
45. Однако группы людей, готовых к совместным действиям, склады-
ваются всё же позднее. 1 Об этих процессах в 1970–1980-х гг. подробнее см.: Дементьев
И.О. «Рябинка у бойницы»: реабилитация довоенного прошлого в
памяти калининградцев (1970–1980-е гг.) // Erdvių pasisavinimas Rytų
Prūsijoje XX amžiuje. Klaipėda, 2012. Р. 92–118. (Acta Historica Uni-
versitatis Klaipedensis; XXIV).
«Золотая жила» янтарного края 93
ница С., в частности, показала, что Рычков «в разговоре о ху-
дожественных произведениях Советских писателей заявлял,
что в наше время таких писателей, как Пушкин быть не может,
так как везде существуют планы, которые распространяются и
на писателей, а последние, будучи связаны сроками, стремятся
выпустить книгу в установленный для них срок, не считаясь с
её содержанием»1. Похоже, Фёдор Ведин писал свой роман не
«в установленный срок»; наряду с данью канону соцреализма
его книга отражала противоречивые чувства советских людей,
встретивших чужую культуру и пытающихся освоиться в ней.
Конечно, читатель Рычков прав, Ведин не был Пушкиным. Но
в романе советского писателя читатели следующих поколений
открывают для себя необычный и не поддающийся однознач-
ной оценке мир бывшего немецкого края, ставшего объектом
советизации. Из истории янтарного края нельзя вычеркнуть
ни антисоветские стихи переселенцев, ни творчество абсо-
лютно лояльных к социалистическому строю писателей – ху-
дожественное осмысление опыта строительства дивного ново-
го мира происходило в разных формах и заслуживает сегодня
самого пристального внимания.
Об авторе
Илья Олегович Дементьев – кандидат исторических наук, доцент
кафедры зарубежной истории и международных отношений БФУ
им. И. Канта, [email protected]
1 Книга памяти… С. 376. Орфография и пунктуация сохранены.