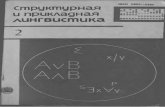Новые образы в художественной бронзе саков...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
7 -
download
0
Transcript of Новые образы в художественной бронзе саков...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіЛ. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Тарих факультеті К. А. Ақышев атындағы археология ғылыми-зерттеу институты
ҚАЗАҚСТАН АРХЕОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫ
Көрнекті археолог К. А. Акышевтің 90 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция жинағы
22-24 сәуір 2014 ж. Астана қаласы
Астана 2014
Министерство образования и науки Республики КазахстанЕвразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Исторический факультетНаучно-исследовательский институт археологии им. К. А. Акишева
ДИАЛОГ КУЛЬТУР ЕВРАЗИИ ВАРХЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА
Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося археолога К. А. Акишева
22-24 апреля 2014 г. Астана
Астана 2014
УДК 902 (063)ББК 63.4Қ 18
Бас редактор: Садыков Т. С.Жауапты редактор: Хабдулина М. К.
Редакциялық алқа: Біләлова Г. Д., Сәкенов С. К., Свиридов А. Н.,
Оразбаева З. Б., Тлеугабулов Д. Т., Ярыгин С. А.
Қ 18 Қазақстан археологиясындағы Еуразиялық мәдениеттер тоғысы. Көрнекті археолог К. А. Ақышевтің 90-жылдығына арналған ғылыми мақалалар жинағы. – Астана, 2014. «Сарыарқа» баспасы. – 736 бет.
ISBN 978-601-277-167-1
«Қазақстан археологиясындағы Еуразиялық мәдениеттер тоғысы» халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы тарих ғылымдарының докторы, Қазақ КСР ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығының Лауреаты, Герман Археология институтының корреспондент-мүшесі, Қазақстан Республикасы біліміне еңбегі сіңген құрметті азамат, есімі Қазақ КСР-нің құрметті Алтын кітабына жазылған ғалым, сондай-ақ Еуразиялық археологияның алтын қорына еңбектері енген Кемел Ақышұлы Ақышевтің 90-жылдығына арналған. Конференция баяндамаларында К. А. Ақышевтің ар-хеология ғылымы саласында ашқан ғылыми жаңалықтары мен жетістіктері зерделеніп, сондай-ақ ежелгі еуразиялық кеңістіктегі көпқырлы тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеу нәтижелері талданған.
Ғылыми жинақта К. А. Ақышевтің шәкірттері мен әріптестерінің ғалым жайында жазған естеліктері, библиографиялық мәліметтер, ғылыми еңбектері мен экспедициялық жұмыстары жүйелендірілген. Басылым археологтарға, тарихшыларға, этнологтарға, гуманитарлық бағыттағы студенттерге арналған.
УДК 902 (063) ББК 63.4
ISBN 978-601-277-167-1 © Мақалалар авторы, 2014 © Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ К. А. Ақышев атындағы археология ҒЗИ © «Сарыарқа» баспасы, 2014
УДК 902 (063)ББК 63.4Д 44
Главный редактор: Садыков Т. С.Ответственный редактор: Хабдулина М. К.
Редакционная коллегия: Билялова Г. Д., Сакенов С. К., Свиридов А. Н.,
Оразбаева З. Б., Тлеугабулов Д. Т., Ярыгин С. А.
Д 44 Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Сборник научных статей, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося археолога К. А. Акишева. – Астана, 2014. Издательство «Сарыарка» – 736 с.
ISBN 978-601-277-168-8
Сборник содержит материалы международной научной конференции «Диалог культур Евразии в археологии Казахстана», посвященной 90-летию со дня рождения доктора истори-ческих наук, Заслуженного деятеля науки Казахской ССР, Лауреата Государственной премии Казахской ССР, член-корреспондента Германского Археологического института, Почетного работника образования Республики Казахстан, ученого, занесенного в Золотую книгу почета Казахской ССР – Кималя Акишевича Акишева, чьи труды вошли в золотой фонд евразийской археологии. В докладах конференции представлены научные направления, которые разраба-тывал К. А. Акишев, и результаты изучения новых археологических памятников, раскрываю-щих многообразную палитру историко-культурных древностей евразийского пространства.
В сборник включены воспоминания коллег и учеников К. А. Акишева, биографические сведения, список научных трудов и хроника экспедиционных работ. Издание ориентировано на археологов, историков, этнологов, студентов гуманитарных направлений.
УДК 902 (063) ББК 63.4
ISBN 978-601-277-168-8 © Авторы статей, 2014 © НИИ археологии им. К.А. Акишева ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2014 © Издательство «Сарыарка», 2014
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие .....................................................................................................10
К. А. Акишев в памяти коллег…
Артықбаев Ж. О. Кемал аға және оның бір жұмбағы ................................16Байпаков К. М. Учитель ................................................................................21Горячева В. Д. Всегда светлые воспоминания ............................................33Жолдасбаев С. Құрметті Кемал ағай Сіздің арманыңыз орындалды ........37Кошман Т. В. Путь солдата (об офицере роты связи 230 стрелковойдивизии Акишеве К.) .......................................................................................40Қожа М. «Сіздерде де фараондар болған екен ғой» дегіздіргенКемел Ақышев ..................................................................................................45Нурмуханбетов Б. Н. Сверяю себя с учителем ...........................................48Садықов Т. С. Абыз аға! (Қазақтың біртуар азаматы, ел тарихын әлемгетанытқан атақты археолог К. Ақышевтың 90 жылдық тойына орайой-толғам) .........................................................................................................52Самашев З. С. К. А. Ақышев туралы ............................................................54Усманова Э. Р. Верный солдат археологии .................................................57
Научное наследие К. А. Акишева
Ганиева А. С. К вопросу об истоках государственности в трудахК. А. Акишева ...................................................................................................68Мусабалина Г. Т. Вклад К. Акишева в изучение истории древнего исредневекового Казахстана .............................................................................77Таиров А. Д. Перечитывая классиков археологии ......................................82Шаймердинова Н. Г. Феномен К. А. Акишева в исследовании древнейкультуры ...........................................................................................................90Список печатных работ К. А. Акишева .........................................................97Публикации о К. А. Акишиве .......................................................................111Хроника экспедиционных работ ..................................................................113
Диалог культур Евразии в археологии Казахстана
Акишев К. А. Курганы Каражулдыз – памятник средневековыхномадов ...........................................................................................................128Абдыканова А., Табалдиев К., Чаргынов Т., Онума К., Куме Ш.,Мотузайте Матузeвичуте Г., Бекетаева Ж. Новый памятниккаменного века Айгыржал-2 (Кыргызстан, Нарынская область) ..............147
Алаева И. П. Поселение бронзового века Малая Березовая-4 .................161Бейсенов А. З., Варфоломеев В. В., Мерц В. К., Мерц И. В.Раскопки могильника Караоба в 2013 г. ......................................................173Біләлов С. Ө., Амиргалина Г.Т. Ортағасырлық Жанкентқалашығында 2013 жылы жүргізілген археологиялықжұмыстардың қысқаша қорытындылары ....................................................187Билялова Г. Д., Ярыгин С. А., Бонора Ж. Л. О процесселингвистической интеграции в Казахстане: проект составлениямультилингвистического словаря археологической терминологии(на казахском, русском, английском и итальянском языке) ......................202Гаврилов Д. А., Мерц И. В. Фосфатный анализ культурного слояпоселения Борлы 4 (Кулундинская равнина) ..............................................206Гайдученко Л. Л. Время появления и особенности древнейшегостепного животноводства в Казахстане .......................................................211Гасанов З. Чтение иссыкской надписи .......................................................215Горячева В. Д. Археология и философия ...................................................231Дашковский П. К. Погребальные памятники кочевниковскифо-сакского периода в Северо-Западном Алтае ...................................235Дашковский П. К., Гончарова Н. С. Некоторые аспекты изучениямировоззрения населения Южной и Западной Сибири эпохипалеометалла в современной археологии ....................................................244Дашковский П. К., Мейкшан И. А. Некоторые тенденции изученияэлиты древних и средневековых кочевников Центральной Азиив современной российской номадологии .....................................................293Джумабекова Г. С., Базарбаева Г. А., Торгоев А. И. Новые образыв художественной бронзе саков Приисыккулья..........................................307Епимахов А. В., Берсенева Н. А. Homo Ludens бронзового века(к постановке проблемы) ...............................................................................328Епимахов А. В., Семьян И. А. Укрепленные поселения бронзовоговека Южного Урала: основные характеристики и функции ......................334Ермоленко Л. Н., Курманкулов Ж. К. Оленный камень из урочищаКойшокы .........................................................................................................341Кириченко Д. А. Дайламан, Южный Кавказ, Азербайджан и сарматыв античное время по данным антропологии ................................................349Китова Л. Ю. История появления и трансформация археологическогообразования в Сибири (на примере Кемеровского государственногоуниверситета) .................................................................................................358Ковшова Н. С., Мартынюк О. И., Плешаков А. А. Опытреконструкции женской одежды энеолитического времении эпохи бронзы ...............................................................................................370
Колбина А. В. Антропологическая характеристика погребенногоиз средневекового захоронения некрополя городища Бозок .....................378Комаров С. Г., Китов Е. П. Средневековые погребения в мавзолеена территории городища Бектобе: краниологическое исследование .......388Кукушкин И. А. Доандроновские погребенияЦентрального Казахстана ..............................................................................401Кызласов И. Л. Там ли мы ищем пратюркские народы?..........................415Лукпанова Я. А. Костюм женщины сарматской эпохи: опытреконструкции ................................................................................................430Марсадолов Л. С. «Модель мира» и основы сакрально-научныхзнаний древних кочевников Центральной Азии .........................................441Мартынов А. И. Археологические культуры и цивилизационноеразвитие в степной Евразии (к 100 летию открытия В. А. Городцовымархеологических культур палеометаллической эпохи) ..............................460Мартынюк О. И., Ковшова Н. С., Плешаков А. А. К вопросувоссоздания древних жилых и хозяйственных конструкций ....................471Матбабаев Б. Х., Алохунов А., Холикулов Р. К историиархеологического изучения древней и средневековой культурыкочевников-скотоводов ферганы ..................................................................476Мұстапаева Д. Ө. Ұлытау петроглифтеріндегі елдің көне салт-дәстүр,наным – сенімдерінің көрінісі .......................................................................483Недашковский Л. Ф. Классификация погребальной обрядностигрунтовых могильников округи Селитренного городища .........................489Николаев Е. Н. Археологические памятники среднего теченияреки Кэнкэмэ ..................................................................................................501Петров Д. М. Типы погребальных конструкций в якутскихзахоронениях Верхоянского района республики Саха (Якутия)...............504Плешаков А. А., Ковшова Н. С. Опыт изучения и восстановленияорудийной и хозяйственной деятельности древнего населенияСеверного Казахстана ....................................................................................508Полидович Ю. Б. Художественный прием «зооморфныхпревращений» в сакском «зверином стиле» ................................................518Ражабов А. Ю. Древнекаменный век Тирнасая(Кашкадарьинская область Республики Узбекистан) ................................527Рогожинский А. Е. Тамги-петроглифы средневековых кочевниковКазахстана (опыт типологии и идентификации знаков) ............................534Рябкова Т. В. 1-й разменный (Костромской) курган и памятникисеверного Казахстана: к вопросу о параллелях в погребальнойобрядности ......................................................................................................548Сакенов С. К. Станковая керамика из поселения шагалалы II(к вопросу о культурных связях племен эпохи бронзы СеверногоКазахстана и Средней Азии) .........................................................................557
Свиридов А. Н., Ярыгин С. А., Дукомбайев А. Т. Кыстау-зимовкиАкмолинского региона (топографо-планиграфические особенности) .....568Свиридов А. Н., Ярыгин С. А., Сакенов С. К. Элитные курганыАкмолинской области ....................................................................................576Серегин Н. Н. Ранний этап формирования социальной системысредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии(по материалам археологических комплексов) ...........................................597Смагулов Е. А., Яценко С. А. Графические сюжеты на керамикеСидака (средняя Сырдарья) ..........................................................................605Сулейманов Р. Х., Подушкин А. Н. Новое местонахождение среднегопалеолита в долине реки Угам ......................................................................626Тихонов С. С. Методологические основания для сопоставленияхозяйственно-культурных комплексов кочевников раннего железноговека и нового времени ...................................................................................639Ткачев А. А. К вопросу о формировании и развитии погребальнойобрядности атасуской культуры ...................................................................653Ткачев В. В. Горное дело и цветная металлургия на западномфланге андроновской общности ...................................................................665Үмітқалиев Ұ. Ү. Сақ патша обаларының архитектурасы .......................679Хабдулина М. К., Гольева А. А., Гаврилов Д. А. Загадки Бозокскоймелиоративной системы ................................................................................686Худяков Ю. Особенности формирования комплексов вооружениядревних номадов Саяно-Алтая в ранний скифский период .......................704Чугунов К. В. Захоронения «золотых людей» в традиции номадовЕвразии (новые материалы и некоторые аспекты исследований).............714
Список сокращений .......................................................................................726Сведения об авторах ......................................................................................728
307
Джумабекова Г. С.1, Базарбаева Г. А.1, Торгоев А. И.2
1Институт археологии им. А. Х. Маргулана,Алматы, Казахстан
2Государственный Эрмитаж,Санкт-Петербург, Россия
НОВЫЕ ОБРАЗЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БРОНЗЕ САКОВ ПРИИССЫККУЛьЯ*
Летом 2012 г. археолог Д. В. Лужанский (г. Бишкек) ознакомил одного из авторов статьи с бронзовой курильницей, найденной аквалангистами на дне озера Иссык-Куль у с. Долинка (ныне Кара-Ой). Курильница была не-очищена, имелись значительные утраты, полностью была покрыта сильно налипшим, зацементировавшимся песком донных отложений, забившимся в значительные разрывы металла и трещины. Практически целиком была утра-чена ножка.
Эта интереснейшая находка попала в коллекцию известного бишкекского книготорговца и литератора В. П. Кадырова, который выставил ее в своем открытом собрании, экспонирующемся в салоне магазина «Раритет» в числе других древностей, найденных им самим или приобретенных у других лиц. Фото курильницы было опубликовано им в его последней книге.
К лету 2013 г. курильницу очистили от плотных песчаных налетов таким образом, что стали видны две сохранившиеся фигурки людей, лучше прояви-лись и фигуры верблюдов, находящиеся в центре. Тогда же курильница по-пала к одному из авторов этой работы для научной обработки, когда и были прорисованы фигуры и сделаны непрофессиональные фотографии.
Каждая находка предметов, обозначенных как сакские семиреченские ху-дожественные бронзы, в силу их чрезвычайной редкости, безусловно, достой-на отдельной публикации.
В котловине оз. Иссык-Куль, наряду с Алматинской областью, сакские ху-дожественные бронзы встречаются наиболее часто. Достаточно вспомнить, что на северном берегу озера, в местности Кырчин, в 1938 г. был найден са-мый полный, а точнее два комплекта ритуальных предметов, ныне хранящих-ся в Государственном Эрмитаже. Каждый комплект включал по жертвенно-му столу, курильнице и котлу. Последний по времени нахождения комплекс ритуальных бронзовых предметов саков был обнаружен на оз. Иссык-Куль в 1976 г. (Винник, Лесниченко, Санаров, 1977). Отдельные находки фрагмен-
* Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК, проект №0332 ГФ «Истоки степной цивилизации: комплексные исследования памятников эпох камня, бронзы и раннего железного века».
308
тов ножек жертвенных столов попадались и в более позднее время, к несча-стью, оседая в антикварных салонах Бишкека и Алматы.
Находка из Долинки сохранилась не полностью, но, тем не менее, значи-мость ее отнюдь не становится ниже. От курильницы сохранился только под-дон – блюдо квадратной формы, размером 19х19 см, с закрепленными на нем литыми фигурками дерущихся верблюдов в центре и людей по углам. Бортик поддона низкий, высотой 1 см, венчик бортика горизонтально отогнут нару-жу. Ножка была пирамидальной формы, квадратная в сечении, ажурная. От ножки сохранились только два обломка ребер, образующих пирамиду. Рас-ширялась ножка не очень сильно. Полную форму курильницы легко пред-ставить, обратившись к аналогиям. Так, прямой аналог ей по форме, но не сюжету, – курильница, найденная в 1912 г. около г. Верного (Алматы), не-однократно воспроизводившаяся в печати (Стрелков, 1934; Артамонов, 1973, ил. 45 и т. д.).
В центре поддона курильницы из Долинки находятся две фигуры верблю-дов, вступивших в схватку. Фигуры тщательно проработаны и выполнены с большой натуралистичностью, мастерством и экспрессией. Передние части обеих фигур прижимаются к земле. Один из животных, перегнув шею, схва-тил второго зубами за загривок. Последний изображен плотно схватившим первого за передний горб. У обеих фигур показаны напряженные брюшные мышцы. Большое напряжение стоящих в упоре выступающих задних бедер передано скупыми, но очень четко передающими экспрессию линиями на них. Очевидно, на блюде помещена сцена дерущихся верблюдов, показаны такие видовые признаки, как «шапки» шерсти на верхушках горбов, на голо-ве, по бокам свисающая длинная шерсть, подшейная грива. Клыков не видно, нет хохолка.
Фигуры стоящих людей были отлиты по одной модели. К поддону они присоединены наливкой металла, полностью опоясывающего ноги фигур от высоты трети голени до колен, довольно небрежно. Ноги слегка согнуты в ко-ленях, руки обеих фигур согнуты в локтях почти под прямым углом. Кулаки кажутся несоразмерно большими, по сравнению с общим масштабом фигур. В них, по всей видимости, были сквозные отверстия, в которые что-то встав-лялось. Сейчас отверстия очень плотно забиты зацементировавшимся песком и илом.
Лица были хорошо проработаны, но сейчас сильно изъедены окислами. Удается разглядеть глазницы, короткий рот, довольно длинный прямой (?) нос. Вследствие высокой степени окисления, тонкие детали проработки лиц утратили четкость, и антропологический тип определить не удается. На го-лове фигур очень хорошо проработанный конический головной убор, типа колпака. В передней части двумя валиками показана, возможно, меховая ото-рочка, которая продолжается таким образом, что по краю дает изгиб к длин-
309
ным наушникам, которые показаны перекрещенными сзади, спускающимися на спину. Возможно, что здесь показана меховая шапка и скрещенные длин-ные наушники, ранее не зафиксированные в изображениях саков и близких им народов, и это является своеобразной этнографической чертой той груп-пы саков, в среде которых пользовались курильницей. Интересно заметить, что этот убор имеет прямые этнографические параллели в казахской меховой шапке «тумак», которую еще называют «малахай» (Сухарева, 1954, с. 330-331). В малахае, как и в этом головном уборе, присутствует меховая опушка передней части, длинные подбитые мехом наушники и назатыльник. В дан-ном случае назатыльник не виден, однако можно полагать, что он короткий, и скрыт длинными наушниками. С. А. Яценко отмечает также, что верх баш-лыка ранних кочевников (скифов) может быть отделен от макушки лентой или шнурком. Может быть верх отделен горизонтальной полосой и пересечен другой полосой по диагонали (Яценко, 2006, с. 58).
Фигурки изображают мужчин, одетых в куртку или короткий кафтан. Вертикальный разрез, переданный на фигурках, позволяет предположить, что куртки не имели запа́ха и надевались встык. Куртка приталенная, пояс, очевидно, не показан. Манжеты, ворот, полы не выделены. Штаны узкие. На кистях нанесены две короткие вертикальные линии. Мужчины показаны сто-ящими на слегка согнутых в коленях ногах, в руках – в сжатых кистях – от-верстия. Причем они утолщены, возможно, для того чтобы усилить отверстия или они специально такие преувеличенные, похожие внешне на сосуды (рис. 1, 2).
Изображения ранних кочевников на территории Казахстана, Кыргызстана, Сибири, Китая (СУАР) составляют целую галерею. Они передают этнографи-ческий облик ранних кочевников и часто вырваны из контекста, либо являют-ся участниками насыщенного действием сюжета.
Антропоморфные персонажи изображены в головных уборах или без них, в детально проработанных костюмах; с оружием, в статичной позе, либо это сцена охоты.
Изображений людей эпохи ранних кочевников на территории Жетысу, При-иссыккулья, восточной части Евразийского пояса степей известно довольно много: курильницы из Иссыкского клада, из РУРТа (г. Алматы), скульптурка воина из Жамбылского областного историко-краеведческого музея (г. Тараз), скульптурки женщин-ножек жертвенного стола из Кыргызстана, бляшка из Центрального Казахстана – мог. Нуркен, серьга из Каргалинского комплек-са, бляшки из Тенлика, конный лучник из коллекции Петра I (Миллеровский всадник), пара застежек со сценой под деревом (коллекция Петра I), оковка со сценой возвращения с охоты, парные застежки со сценой охоты на каба-на, Балгазинская композиция из Тывы, на коврах из кургана 5 мог. Пазырык,
21-22
310
реконструкции по материалам кургана Аржан 2, кургана 9 мог. Локоть 4а, а также барельефы из Персеполя и др.
В первую очередь, конечно, это фигурка человека с курильницы из Ис-сыка (Мартынов, 1955). Анализ этого персонажа дан в обстоятельной статье С. А. Яценко (2011а). Сходство с антропоморфными образами с курильни-цы из Долинки состоит в статичной позе, наличии головного убора, покрое короткого кафтана. Отличие заключается в позе (иссыкский персонаж сидит «по-турецки»), присутствии коня, другом типе головного убора, руке с за-жатым сосудом (рис. 2, 1-3). Вывод автора статьи – «композиция на иссык-ской «курильнице» представляла, вероятно, само божество (Митру) и симво-лическое приобщение к нему с помощью священного напитка (на молочной основе типа хаомы?) в кубке и посвященного ему коня, а также с помощью реального воскурения» (Яценко, 2011а, с. 62).
В Семиречье/Жетысу можно назвать еще одну курильницу с участием ан-тропоморфных персонажей, найденную на территории г. Алма-Аты в 1979 г. (Кадырбаев, 1983). На блюде курильницы помещен сюжет с двумя конными лучниками и вереницей бегущих бычков по краю. Курильница представляет собой круглое неглубокое блюдо с вертикальными, чуть расширяющимися кверху стенками и отогнутым наружу бортиком шириной 1,6 см и высотой 1,1 см. Оно укреплено на ажурной конической подставке, плавно расширяю-щейся к основанию. Близко к середине блюда помещена вертикальная трубка для фитиля, являющаяся центром композиции. Рядом с ней находились две фигурки конных лучников. Фигурки 15 бычков, бегущих вереницей по краю бортика, замыкают пространство блюда. Размеры курильницы: высота – 24 см, диаметр основания подставки – 23,5 см, высота трубки – 4,8 см, диаметр – 1,5-1,6 см (рис. 2, 4-6).
Все фигуры выполнены в технике скульптуры. Центральная фигура пред-ставляет собой всадника, сидящего на коне. Конь изображен скачущим. Скульптура передает малорослое животное с крупной головой на короткой шее. К видовым особенностям следует отнести также короткие передние ноги. У коня показана подстриженная грива, крупные стоячие уши и заметна челка на лбу. Каплевидные большие глаза оконтурены гравировкой, широ-кие ноздри и рот четко обозначены углубленной линией. Хвост посередине перехвачен узлом. Конское снаряжение проработано довольно подробно. Оголовье, седло с подпрямоугольным седельным покрытием, нагрудный и подхвостный ремни. Над коленным сгибом передних ног с внешней стороны выгравированы знаки, вероятно, подчеркивающие мускулатуру (?) или суста-вы. Гравированные линии есть и на крупе коня с правой стороны, неглубоки-ми бороздками подчеркнуты отдельные пряди волос гривы, челки и узла на хвосте (Тасмагамбетов, 2003, с. 28).
311
Всадник-лучник изображен в характерном ракурсе – верхняя часть тулови-ща развернута в три четверти. Черты лица проработаны довольно подробно, но в низком рельефе: глаза оконтурены, нос и губы выступают незначитель-но. Голова обнажена, лицо безбородое и безусое. Глаза сужены как у целяще-гося человека. Выделена прическа – волосы шапкой, не длинные, до шеи. На всаднике плотно облегающий кафтан с длинными узкими рукавами. Выделен боевой пояс. На спине его показан пятиугольный башлык или оплечье, а пола кафтана отмечена каймой. Запах кафтана определить невозможно, ноги обтя-нуты узкими штанами и мягкой обувью. Обувь без голенищ, об этом можно догадаться по рельефной линии на правой ноге, отделяющей обувь и штаны. Посадка всадника типично скифская: он сидит близко к шее животного, ноги плотно прижаты к крупу коня, носки вытянуты вниз. Персонаж держит «М»-образный лук, натягивает тетиву. Четко проработаны пальцы рук. На левом бедре лучника показан горит, от которого вдоль ноги, вероятно, свисает плеть. Горит показан в полном боевом снаряжении: к нему прикреплен мешочек для запасных наконечников стрел. В спине коня имеются два вертикальных от-верстия диаметром 0,5-0,6 см, расположенные перед лучником и позади него.
На противоположной половине блюда сохранились два прямоугольных отверстия, расположенные симметрично относительно статуэтки лучника, – от второй скульптурки лучника. Кроме указанных отверстий, между ними и скульптуркой лучника имеются еще два прямоугольных отверстия – следы какой-то несохранившейся фигуры.
Фигура коня полая, швов не заметно, за исключением проема между хво-стом и задними ногами. Скульптурки бычков были отлиты. На поверхности блюда имеются два грубых наплыва металла. Блюдо и подставка состыкова-ны очень небрежно, возможно, изделие подвергалось ремонту. Скульптура коня прикреплена к поверхности блюда так, что на обратной стороне его об-разовались «заклепки» в виде небольших колоколовидных наплывов. Фигу-ры бычков влиты аккуратно, наплывы отсутствуют. На ажурной стенке под-ставки прослеживаются два вертикальных шва.
15 фигур бычков, расположенных по отогнутому краю блюда, даны в мас-штабе, намного меньшем скульптуры всадника. Они представлены бегущи-ми, головы животных развернуты от центра, наружу. Для бычков характер-на острая мордочка, короткие S-видные рога, загнутые назад. Сравнительно большие подтреугольные уши оттопырены, на морде оконтурены углублен-ной линией продолговатые, близко к миндалевидным, большие глаза, пере-даны ноздри. Бычки представляют собой изящных животных. На спине резко выделен острый подтреугольный горбик. Короткий хвост с кистью на конце закинут на спину. По бокам туловища длинная шерсть свисает до колен, фак-тура шерсти передана длинными бороздками. Ноги животных раскинуты, чем напоминают позу коня. Они даны попарно, обобщенно, копыта не выделены.
312
Обращают на себя внимание отличительные черты персонажа: отсутствие головного убора и кафтан с четко выделенными деталями, движение, экс-прессия. Человеческие персонажи здесь находятся в центре композиции – яв-ляются центром действия.
Еще один антропоморфный персонаж из региона – ножки жертвенного стола в виде фигуры женщины из Кыргызстана, из комплекса, найденного у с. Чильпек (Винник, Лесниченко, Санаров, 1976, с. 582-583; Памятники куль-туры и искусства Киргизии, 1983, кат. 38). Они являлись ножками жертвен-ного стола. Эти изображения характеризуются явными монголоидными при-знаками – удлиненной формой лица, раскосыми глазами, носом с широкими ноздрями, выделенными скулами, широким ртом с узкими губами. Можно даже сказать, что детально переданные черты больше соответствуют мужско-му лицу. На голове, по словам авторов, передан обруч (диадема). Возможно, обозначена шапочка (?) наподобие той, что показана на голове богини с вой-лочного ковра из 5 Пазырыкского кургана или женщины в сцене под деревом на паре золотых застежек из Сибирской коллекции Петра I, только меньшей высоты. Кстати, необходимо отметить, что, вероятно, все эти персонажи мон-голоидного типа. У женщин – кофточка с короткими рукавами, спереди вниз до талии идет орнаментальная полоса, юбка длинная, складками, широкая. По пропорциям можно предположить, что нижняя часть туловища показана не полностью, ноги подразумеваются ниже (?) (илл. 2, 1).
Деталь какого-то предмета, возможно, также курильницы или жертвенни-ка – фигурка воина из Жамбылского областного историко-краеведческого му-зея. Она изображает воина в шлеме («кубанского» типа), одетого в панцирь в виде приталенной куртки с высоким стоячим воротником и защитой бедер, состоящей из нескольких рядов полос (Сенигова, 1968, с. 210, рис. 1; Иванов, 2011). На основе анализа элементов экипировки специалистами предлагается датировка V в. до н. э. или даже рубежом VI и V вв. до н. э. (петля на шлеме), М. В. Горелик датирует IV – III вв. до н. э. (1987, с. 112). В сохранившейся руке – отверстие, переданы пальцы руки. Т. Н. Сенигова предполагает, что в это отверстие вставлялся лук (1968, с. 210). Кстати, у него тоже скорее можно предположить монголоидные черты. Поза воина статична, отсутствует часть правой руки, окончания ног (видимо, они изначально отсутствовали), очевид-но, что фигурка воина насаживалась на что-то (хотя бы на штырь) (илл. 2, 2).
Сцена охоты на кабана (Руденко, 1962, табл. IV, 5; I, 5; Артамонов, 1973, ил. 184-185) на парных застежках. Сюжет наполнен динамизмом. У персона-жей непокрытая голова, показана прическа, усы, куртки с широкой каймой вдоль борта и по подолу стянуты поясом на талии, с сердцевидной накладкой по спине, узкие рукава с манжетами, узкие штаны или ноговицы и мягкие са-поги, выделены плечи, высокие голенища, лук, футляр для лука. Кони с под-стриженной гривой и выступом-челкой, отогнутой назад, хвост подвязан или
313
перетянут узлом посередине, мягкое седло с подпругой, нагрудный и под-хвостный ремни, проработано оголовье. Антропологический облик заметно отличается от вышеописанных.
Некоторая перекличка наблюдается с изображением всадника на войлоч-ном ковре из 5 Пазырыкского кургана.
Следующие предметы с изображением людей периода ранних кочевни-ков – пара застежек со сценой отдыха в пути (Руденко, 1962, табл. VIII, 1, 7; Артамонов, 1973, ил. 189-190): на мужчинах показаны короткие кафтаны или куртки, также перетянутые поясом в талии, с запа́хом налево, выделены плечи, подол, борта куртки. Головы непокрытые, также обозначены густые, зачесанные назад волосы, усы. На ногах – узкие штаны, обувь, перетянутая креплениями на стопах. Кони показаны в полном снаряжении – с оголовьем, со стриженными гривами и выделенным городком, есть челка, хвост запле-тен; подхвостные, нагрудные ремни и подпруга удерживают седло, головы коней крупные.
Фигурка всадника Г. Миллера из Сибирской коллекции Петра I (Руденко, 1962, табл. XXII, 8, 9; Артамонов, 1973, ил. 265; Завитухина, 1990): без голов-ного убора, усатый, в коротком подпоясанном кафтане, выделены манжеты, плечи, подол, на спине – оплечье, как у охотника на кабана, узкие штаны, мягкая обувь, голенища на икрах более высокие. Декоративные полосы, как и у воинов со сцены охоты, и всадника со сцены на войлочном ковре из 5 Па-зырыкского кургана, украшены нашивными (?) бляшками. Кроме того, у него украшены оплечье и куртка спереди. М. П. Завитухина обратила внимание на то, что на паре блях со сценой отдыха в лесу изображены два типа одежды: сидящий мужчина в кафтане с заходящими одна за другую полами, в то время как лежащий – в куртке с прямыми полами (1990, с. 24).
На всаднике узкие штаны или ноговицы, нашит наколенник, возможно, ко-роткие сапоги. Лук, как отметила М. П. Завитухина, «скифского» типа. Но, в отличие от скифских, он не с загнутыми, а с прямыми концами, как у «си-бирских» луков. Длина лука превышает половину фигуры всадника, длина стрелы равна вытянутой руке и ширине плеч стрелка. Характерны энергично натянутая тетива, положение стрелы вправо от лука и захват ее между боль-шим и указательным пальцами, что составляет «монгольский» тип стрельбы» (Завитухина, 1990, с. 24). Суставы ног проработаны.
Композиция из Балгазы, опубликованная Н. Л. и А. Д. Грач (1987), под-робно проанализирована. Охотник одет в короткий кафтан, на котором вы-делены орнаментальные полосы по плечам и полам кафтана, манжеты. Лук с характерно загнутыми концами, колчан. Передача лица человека находит параллели с изображениями персонажей в сцене охоты на кабана – тот же подчеркнутый нос, усы, прическа с густыми волосами. Авторами публикации отмечается, что «это ярко выраженный европеоид» и выявляется сходство с
314
изображением всадника в сцене на войлочном ковре из 5 Пазырыкского кур-гана и сфинкса. Датировка – V-IV вв. до н. э.
Курган «Тенлик» (Акишев, 1978, ил. 120): бляхи с изображением всадни-ка. Одет в кафтан с выделенным подолом, показаны манжеты, пояс, сзади развевается плащ-накидка, возможно, ноговицы с наколенником, прическа с густой прядью волос надо лбом либо, что менее вероятно, это головной убор типа башлыка с загнутым вперед верхом. У коня – седло, нагрудник, хвост за-плетен или перевит, стриженая грива, на голове – начельник либо собранные в пучок волосы челки.
П. И. Шульга, как автор раскопок, сделал реконструкцию облачения погре-бенного в кургане 9, мог. 1, Локоть-4а, на основе которой пришел к выводу о том, что куртка имела длину и покрой, подобные иссыкской и изображению на войлочном ковре в 5 Пазырыкском кургане. Полы куртки были обшиты, лицевая сторона обшита бляшками, запах куртки возможно левый, край бор-та орнаментирован нашивными бляшками, рукава куртки на обшлагах также орнаментировались, линия предплечья также украшалась. Справедливо от-метил, что такой стандарт размещения орнаментальных поясов на теле или одежде человека был широко распространен в скифское время от Индии до сакского мира. Среди аналогий облачению из Локтя и Иссыка – изображение жреца из Амударьинского клада, всадник с ковра из 5 Пазырыкского курга-на. Штаны узкие с лампасами, сапоги с декором по краю голенищ. Головной убор – колпак незначительной высоты с двумя опоясывающими кантами (по линии околыша и выше) (Шульга, 2003, с. 67-85, рис. 37).
Всадник со сцены на ковре из 5 Пазырыкского кургана: кафтан короткий без пояса, по плечу, подол, обшлага декорированы окантовкой, плащ с на-шивками, облегающие штаны или чулки с наколенником, обувь с невысоким голенищем, также закрывающим ногу сзади. Слева лук в горите. У коня стри-женая грива с острым выступом, челка. Показаны нагрудный и подхвостный ремни, седло с высокой передней лукой, хвост заплетен. Помимо явно отлич-ного антропологического облика всадника, выделяется конь экстерьером: у него небольшая голова на высокой шее, длинное туловище, круп более узкий и длинный (Руденко, 1953, рис. 152, ж).
Сцена возвращения воинов после битвы (Руденко, 1962, рис. 29; табл. ХХII, 18): на голове – шлемы или башлыки с назатыльником и завязанны-ми наушниками. Видимо, здесь изображены разные головные уборы. Куртки с бронированными рукавами (ламинарными наручами), сама куртка брони-рована только у впереди едущего всадника, воротники стоячие (не у всех), бедра закрыты «юбкой» разной длины из горизонтальных полос, ноги также закрыты (поножи?). У всадников подчеркнуты выступающие носы и большие глаза. У коней – стриженные гривы с одним городком (?), оголовье включает сдвоенный наносный ремень, нащечный, отсутствует налобный ремень. По-
315
казан подхвостный ремень, хвосты не развеваются, нагрудный ремень, седла. Особым приемом переданы сильная широкая грудь и тонкие ноги.
С. С. Иванов отметил, что аналогичный по строению доспех был широко распространен в восточных областях степной части Евразии (2011). Он также отмечен и на китайских изображениях «варваров» северо-западной перифе-рии (Горелик, 1987, с. 114-117). М. В. Горелик отметил, что элементы сакско-го панциря (стоячий воротник, ламинарная защита рук, применение крупных прямоугольных пластинок и др.) были широко распространены в Древнем мире от ахеменидского Ирана до Северного Китая, а также в парфянском, кушанском, циньском и позднесакском доспехах (Горелик, 1987, с. 121).
Иссык: высокий конический головной убор, короткий кафтан, обшитый бляшками, ворот, плечи, борта и низ орнаментально выделены; наборный пояс с кинжалом и мечом, узкие штаны, сапоги с высокими голенищами, так-же обшитыми бляхами (Акишев, 1978).
Бляшка из кургана 2 мог. Нуркен-2: в сюжетной композиции присутствует изображение пяти персон, центральной из которых, очевидно, является во-оруженный всадник. Он показан спокойно восседающим на стоящем коне в экипировке: на голове – облегающая шапочка с широким с назатыльником (дополнительно проработана фактура, передающая складку или шов), на-ушники завязаны под подбородком, куртка узкая до пояса, бедра закрыты «юбкой»-доспехом из горизонтальных полос, руки выше локтей, вероятно, также защищены доспехами, подобными наручам (?), облегающие чулки-са-поги (Бейсенов, 2011, фото на с. 20).
Всадник восседает на коне, у которого показаны поводья, седло с подпруж-ными ремнями, подхвостный и нагрудный ремни, хвост, видимо, перетянут в двух местах широкими лентами. У коня стриженая грива с «городком». Обра-щают внимание мощная грудь и шея коня и сравнительно небольшая голова. Считаем, что передан экстерьер не степной лошадки.
Позади конного лучника стоит человек, вооруженный чеканом. Еще двое человек показаны сидящими в нижней части композиции. У них облегающие голову шапочки с менее широкими назатыльниками и подвязанные под под-бородком, кафтаны, перетянутые поясом, ноговицы.
У людей выделены носы, глаза, передача рта напоминает прием, выявлен-ный у фигурки воина из Тараза и в изображениях женщин из Кыргызстана. Черты лица довольно грубые.
От пятого участника композиции сохранились лишь бронированная «юбка» из горизонтальных полос и ноги.
Определенное сходство наблюдается с изображениями всадников на вор-совом ковре из 5 Пазырыкского кургана: башлыки с назатыльником и завяз-ками, короткие орнаментированные куртки, облегающие штаны и обувь без голенищ. У коней выделяется султан, яркая попона, подвязанный хвост (Ру-
316
денко, 1968, ил. 32, 34). Как справедливо отметил С. И. Руденко, такой голов-ной убор характерен для персов и мидян (1968, с. 47).
Серьга из каргалинского комплекса: показан сидящий на коленях человек, в него вцепилось животное, длинный хвост которого является дужкой серь-ги. У человека схематично показаны основные детали – большие глаза, нос, ухо, прическа (?), короткий кафтан, облегающие штаны. На голове, возмож-но, обозначен чуб, отходящий ото лба на макушку и далее назад к затылку наподобие того, что проследила Л. Н. Ермоленко на ряде изобразительных памятников (Ермоленко, Курманкулов, 2011).
Анализируемый сюжет также обнаруживает сходство с фигуркой из Тари-ма – в обеих руках отверстия (Mallory, Victor H. Mair, 2000).
Еще один образ воина-охотника помещен на навершии кинжала III-I вв. до н. э. из Горного Алтая, где изображена сцена схватки героя с вепрем. Охотник показан без головного убора, кафтан с прямыми полами не доходит до колен, внизу меховая оторочка, рукава полотно облегают руки. На перекрестье по-мещена другая сцена – лежит оседланная лошадь со стриженной гривой, со-хранилась часть изображения человека (часть полы и ноги), который лежит перед лошадью. Автор публикации считает, что изображен герой, который или отдыхает, или убит. На другой стороне навершия помещено изображение героя, едущего на колеснице навстречу подвигам (Суразаков, 1979).
Все эти изображения – в сцене «Отдыха под деревом», охоты на кабана, предстояния всадника на ковре из 5 Пазырыкского кургана, конный лучник из коллекции Петра I, вероятно, балгазинский персонаж, как заметила М.П. Завитухина, объединяются по покрою кафтана или куртки, прическе, особен-ностям передачи антропологического типа. В фигурке лучника, по мнению автора публикации, передан идеализированный образ всадника (большая го-лова, мощная короткая шея, крупный плечевой пояс, узкая талия). Эти черты особенно показательны у всадника на пазырыкском ковре. Глубокая посадка с «параллельным расположением бедер относительно спины коня и оттяну-тыми вертикально вниз стопами. Подобная посадка по аналогии с памятника-ми Переднего Востока могла существовать у сакских племен с VII в. до н. э.» (Завитухина, 1990, с. 23-24).
У изображений людей из района Жетысу и Кыргызстана другие пропор-ции, все соразмерно.
К вопросу о том, кто представлен в образах мужчин на курильнице, можно отметить, что они не совсем соответствуют облику саков тиграхауда, о ко-торых существует общепринятое мнение, что одной из отличительных черт этнографического облика является высокий конический головной убор. Од-ним из аргументов служат изображения на рельефе в ападане Персеполя, где у саков длинный – по колено – кафтан, островерхий головной убор, борода и усы, низ чулка-сапога выделен.
317
С. А. Яценко на основе анализа изображений основных вассальных от Ахе-менидов этносов пришел к выводу, что у саков tigraxauda стоячие головные уборы Tyara дополнительно скреплены идущими от темени тремя лентами под подбородком, на лбу и чуть выше его. Они имеют высокий, заостренный верх, у персонажей показаны борода, усы. Обувь – длинные войлочные чул-ки, пояс. Кафтан имеет длину по колено или чуть ниже колен, длинный, по-дол прямой (Яценко, 2011б, с. 499).
На рельефах опор Тронного зала Артаксеркса I в Персеполе саки тиграха-уда показаны в высоком головном уборе с загнутым верхом, кафтан со ско-шенными назад краями, штаны довольно широкие (Яценко, 2011б, рис. 3, 22; с. 501).
Печати с изображением батальных сцен и их оттиски из Британского Му-зея демонстрируют человека в высоком, островерхом головном уборе с узким назатыльником и довольно узкими полосами-завязками под подбородком. Узкие штаны с сетчатым орнаментом, кафтан длиной до низа таза, по бортам подчеркнута декоративная кайма с рядом крупных круглых золотых бляшек. Борода отсутствует. У одного из персонажей – полусферическая шапочка и кафтан со скошенными полами. «Отсутствие бороды может намекать на мо-лодость врагов: у кочевых народов в некоторых походах участвовали почти одни юноши» (Яценко, 2011б, с. 503-504, рис. 4, 2).
На известном изображении вождя саков Скунха по низу островерхого го-ловного убора видна декоративная кайма или «шнурок» (Дандамаев, 1985, рис. 7). Также на изображениях «острошапочных» саков на рельефах в Персе-поле на головных уборах показаны две каймы по линии лба и выше. Эти дета-ли, возможно, имеют аналогии с оформлением головного убора у персонажей с Долинской курильницы.
Считается, что высокие головные уборы носили как мужчины, так и жен-щины, но назначение их было разное. Мужская часть скифов и саков, носив-шая на голове колпаки, была воинами, и эти уборы подчеркивали их муже-ственность (Баркова, Чехова, 2006, с. 31-35).
Наши фигурки с курильницы отличаются от привычных образов саков-ти-грахауда. Можно предположить, что здесь они показаны в какой-то особый момент жизни, во время исполнения ритуальных действий или это не тигра-хауда. Надо заметить, что форма головного убора отличается и от привычных башлыков, и от шлемов, хотя кафтаны и узкие штаны являются типичными для ранних кочевников региона.
Некоторые параллели головным уборам персонажей с курильницы фик-сируются у хорезмийцев: широкий, относительно высокий или невысокий конусообразный, может быть с наушниками, но без декора или дополнитель-ных деталей на передней части колпака (Яценко, 2006, рис. 62, 2, 3; с. 105). В античный период поверх головного убора могли надевать диадему. Короткие
318
кафтаны до низа таза. Вписывается в перечень элементов костюма, которые С. А. Яценко считает общеиранскими (2006, с. 110-111).
Не только для знатных, но и для рядовых членов общества ранних кочев-ников был характерен такой элемент одежды, как диадемы и гривны, разли-чие состояло в материале (дерево, бронза, золото). Так, для рядовых курганов кочевников Алтая зафиксированы диадемы, выполненные на гнутых дере-вянных пластинах. Диадемы, плоские и широкие по центру, оканчиваются в виде двух стержней с отверстиями, предназначенными для стягивания их ре-мешком на затылке. Предполагается, что они окаймляли нижний край голов-ного убора, придавая ему нужную форму и жесткость (Кубарев, 1987, с. 114).
Как предположение можно очень осторожно допустить, что и на головных уборах персонажей с курильницы изображены диадемы или иной декоратив-ный элемент.
Археологические находки из районов Синьцзяна и Северного Китая, прак-тически аналогичные предметам из Жетысу, позволяют обратиться к этим регионам. В книге J.P. Mallory, Victor H. Mair «The Tarim Mummies. Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West» упоминается ком-плекс из долины р. Или, состоящий из котла, треножника и скульптуры че-ловека («кавказоид», по мнению авторов публикации), стоящего на правом колене, обнаженного по пояс, в «юбке» в складку, в головном уборе типа вы-сокого остроконечного колпака с загнутым вперед верхом, с небольшими по-лями. Ясно проработаны черты лица – крупные овальные (миндалевидные?) глаза, нос, пухлые губы. Руки человека сжаты в кистях, одна рука лежит на колене, другая – на бедре правой ноги, в них однозначно что-то вставлялось, по мнению авторов, оружие или знамя (Mallory J.P., Victor H. Mair, 2000, с. 162-163, рис. 82). Очевидно, здесь может идти речь о каком-то ритуальном характере не только самого предмета – фигурки человека, но и такого облика – обнаженного по пояс, босого, в юбке. Наличие головного убора, возможно, свидетельствует о нем, как о своеобразном этнографическом или ритуальном идентифицирующим признаке.
Г. М. Майтдинова описывает и археологически зафиксированный облик древнего населения из Субаши. Среди предметов одежды можно отметить облегающую шапочку с продольной полосой спереди, «кокарду» с изображе-нием трех голов; в другом случае – разрисованное лицо, как отмечает автор статьи, в ритуальных целях (Майтдинова, 2001, с. 84).
Антропоморфные фигуры мужчин с согнутыми в локтях руками, сжатыми в кулаки кистями известны в эпоху ранних кочевников и на Северном Кав-казе. Интересно, что фигурки также показаны обнаженными, но с поясом, в сапогах и головном уборе в виде конусообразного колпака или «гребенча-того» (возможно, прическа?). Автор по аналогии с фигурками из Антиохии и изображениями со ст. Казбек предполагает, что в руках могли находиться
319
копье и булава, ритон, «Фигурки «утерявшие» атрибуты, могут быть семан-тически соотнесены либо с образом «хозяина зверей», на что указывают каз-бекские аналогии, либо с образом громовника, божества плодородия, о чем свидетельствуют антиохийские параллели» (Вольная, 1999, с. 7).
Еще один вектор параллелей фигуркам людей с Долинской курильницы – предметы Амударьинского клада. Из 180 наименований предметов более 50 – пластины из золота с гравированными изображениями. Большинство из них содержат изображения жрецов или дедикантов, несущих барсом в руках. В состав клада также входят сами прутья барсома, точнее их модели. Анало-гии сюжетам выявлены в сакральных изображениях ахеменидского времени. Специалисты пришли к выводу о принадлежности Клада Окса к Храму Окса, его предметы – это «выборка» из храмовой сокровищницы. Назначение пред-метов Клада Окса определяется как вотивы Храма, а изображения трактуются как изображения жрецов и посвятительных вотивов. Следует обратить вни-мание на то, что в состав Клада входили также фиалы для сакральных воз-лияний и оружие, видимо, попавшее сюда в результате практики посвящения десятины добычи или военных трофеев в храмы (Литвинский, Пичикян, 2000, с. 31-36). Помимо пластинок в Кладе есть фигурки персов в кандисах и тиарах с повязками на нижней части лица и с ветками барсома в руках.
В составе Клада также присутствуют фигуры персонажей со сжатыми в кистях руками, где оставлены отверстия для вставки каких-то предметов – та-ков обнаженный юноша, скульптура выполнена из серебра, на голове колпак, руки сжаты в кулаках (Ртвеладзе, 2005, с. 72; Archaeology «Art and Civilization from the World»). Также можно привести в качестве примера фигурку муж-чины-всадника (№76 по Зеймаль, 1979; Яценко 2006, с. 36), облаченного в полный комплект (башлык-tiara (по: Яценко, 2006, с. 38), кафтан, в сжатых кистях рук которого, видимо, первоначально находились поводья (Зеймаль, 1979; Archaeology «Art and Civilization from the World»).
Фигура всадника играет несколько иную роль, так как в его руках пред-полагаются поводья. Совсем иное значение приобретают фигуры обнажен-ных мужчин с сжатыми в кулаках руками и в головных уборах. Это находит косвенное подтверждение в композиции, расположенной на крышке котелка, найденного у р. Кальмиус: на его крышке располагались две фигурки людей, сидящих друг против друга в «восточной позе». С. А. Яценко обратил вни-мание на то, что у персонажей подчеркнуты крупные носы и небольшие го-ловные уборы наподобие берета. Один из них (преклонивший левое колено) передает чашу другому (сидящему «по-турецки») (Скрипкин, 2000; Яценко, 2006, с. 59). Автор публикации справедливо считает, что у кочевников такие котлы выполняли, видимо, культовые функции. Их появление в восточноев-ропейских степях он связывает с продвижением различных подразделений кочевников с востока на запад (Скрипкин, 2000, с. 98).
320
Возможно говорить о ритуальном характере антропоморфных персонажей со сжатыми кистями рук, связи этих образов с сосудом. Помимо того, что фигурки сопутствуют таким ритуальным атрибутам, как курильница и котел, к этому подводят и предметы из Амударьинского клада.
Как в амударьинском кладе – прутья-барсомы. В зороастризме барсом – ритуальный пучок прутьев, состоявший из ветвей тамариска или гранато-вого дерева, который держит жрец во время молитвы. М. Бойс также гово-рит об этом: Во время обряда ясна (яджна) под ноги жертвенного животного бросали траву… Во время богослужения жрец, совершавший обряд, держал в левой руке пучок травы (называемый иранцами барэсман), видимо, в каче-стве признания того факта, что «всякая плоть – трава», а человек и животное – одного происхождения (Бойс, 1988). Позднее и в Иране, и в Индии пучок травы был заменен прутьями (Бойс, 1988).
Об использовании в древности барсома свидетельствует Страбон:14. Жертвы они приносят преимущественно огню и воде… Затем маги
кладут куски мяса на миртовую или лавровую ветвь и, прикасаясь к мясу тонкими палочками, произносят заклинания, совершая при этом возлияния оливковым маслом, смешанным с молоком и медом, но не в огонь или в воду, а на землю. Заклинания они произносят долго, держа в руках связку тонких тамарисковых палочек.
15. В Каппадокии (так как здесь есть большой клан магов, которые назы-ваются пирефами, и множество святилищ персидских божеств) при жертво-приношениях не применяют ножа, а пользуются чем-то вроде полена, убивая жертву как бы молотом. У персов есть также пирефии – обширные огорожен-ные священные участки. Посредине участков находится жертвенник с боль-шим количеством пепла, на жертвеннике маги поддерживают неугасимый огонь. Ежедневно входя в пирефий, маги произносят там почти целый час заклинания, держа перед огнем связку прутьев; на головах у них войлочные тиары, свисающие концы которых спускаются с двух сторон по щекам, так что закрывают губы. Те же самые обряды совершаются и в святилищах Ана-ит и Омана. И в этих святилищах есть огороженные священные участки, и в торжественной процессии носят деревянную статую Омана. Эти обряды мне пришлось наблюдать самому. Что касается других, а также и следующих, то о них говорится в исторических сочинениях (Страбон, Книга XV.III).
Возможно, что и в руках персонажей с Долинской курильницы, как и из Тарима, могло быть не только оружие.
О роли пучка-прутьев в ритуальных действах говорят В. Н. Андреев и В. Н. Саенко: смерть и погребальный обряд в религиях различных народов рассматривались как жертвоприношение богам. В связи с этим, все совер-шаемые действия имели целью обеспечение благополучной переправы в мир иной. Роль универсального медиатора, возносящего к богам молитвы и жерт-
321
воприношения, играл пучок травы (бархис, барэсман – брасман – барсом), впоследствии замененный прутьями. В качестве брасмана могло использо-ваться и оружие. В качестве подтверждения бытования таких идей, по мне-нию авторов, свидетельствуют изображения саков с брасманом (пучком пру-тьев или копьем) в руке на пластинах из Амударьинского клада (Андреев, Саенко, 1992).
Таким образом, можно предположить две группы сюжетов с изображени-ями ранних кочевников: они представляют, по-видимому, героев, являются участниками какого-то мифологического сюжета; либо они являются своего рода ритуальными атрибутами, элементами ритуальной утвари.
«Светильник» с двумя верблюдами посредине и восемью хищниками по борту известен с территории Кыргызстана. У верблюдов также выражены ви-довые признаки, в горбах оставлены отверстия, видимо, для фитилей (Арта-монов, 1973, с. 42; ил. 51).
Из сравнительно недавних находок можно назвать курильницу из района п. Панфиловский, 1988 г. (окрестности г. Алматы). Типологически она иден-тична: круглое блюдо с бортиком, ажурная подставка, на бортике располо-жено восемь фигур верблюдов, также по часовой стрелке, также в спокойной позе – практически стоящие. По центру (рядом со стержнем для фитиля) рас-положены фигурки двух спокойно стоящих верблюдов, но, в отличие от ку-рильницы из Государственного Эрмитажа, обращены головами не навстречу друг другу, а в одну сторону (Тасмагамбетов, 2003, с. 18-19).
Верблюды из п. Панфиловский обладают рядом характерных для звери-ного стиля ранних кочевников черт: хохолок, переходящий в гриву, шапка волос на горбах, подшейная грива и бахрома волос на передних ногах, хищно оскаленная пасть с детально проработанными зубами и клыками, выделены щеки (илл. 2, 3).
Еще одна фигурка верблюда – лежащего, как предполагается, деталь котла, случайно найдена на территории г. Алматы (Тасмагамбетов, 2003, с. 130-131).
Эта фигурка несколько отличается от описанных выше – у животного сом-кнутая пасть, он не такой хищный, по-иному переданы глаза, уши (меньших размеров), горб передан с таким характерным креном на бок (илл. 2, 4).
Несмотря на наличие общих художественных характеристик – хохолок, хищная пасть, щеки, подшейная грива, шерсть на передних ногах – саврома-то-сарматские отличаются. Форма глаза, проработка шерсти, форма горбов, проработка копыт иные.
Е. Ф. Королькова выделяет несколько вариантов композиции с верблюда-ми: одиночные фигурки стоящих, идущих, лежащих верблюдов; два верблю-да в позиции противостояния (обращены друг к другу головами), в том числе сцены битвы двух верблюдов-самцов; изображение только головы (Король-кова, 2006, с. 88-89). Все эти варианты отмечены в Жетысу и Приисыккулье.
322
Сюжеты с верблюдами довольно многочисленны в сюжетах петроглифов.Так, в сюжетах наскальных рисунков хребта Каратау отмечены верблю-
ды, запряженные в колесницу; сцена сражения вокруг огромного верблюда. В сцене с участием людей и верблюдов в центре высечена большая фигура бак-триана со спутанными ногами; под фигурами верблюдов изображены люди в позе адорации, в стороне – пляшущие люди и фигуры других животных. По наблюдению авторов, верблюды чаще других животных изображены рядом с людьми, фигуры их выбиты очень тщательно и с особой любовью (Кадырба-ев, Марьяшев, 2007, рис. 7, 28, 30; с. 25).
Сцены с участием верблюда имеют культовый характер, что подчеркива-лось огромными размерами этого животного и непропорционально мелкими изображениями других действующих лиц. Зафиксировано, что в некоторых композициях спокойная поза бактриана резко контрастирует с динамичными фигурами окружающих его персонажей (Кадырбаев, Марьяшев, 2007, с. 58). Что касается сюжета с дерущимися самцами верблюдов, то он был знаком жителям Каратау уже в эпоху бронзы (Кадырбаев, Марьяшев, 2007, с. 70).
О культовой роли верблюда – особой роли в мифо-ритуальном комплексе, говорит, например, факт оформления носика-слива в виде высокой изогнутой шеи верблюда с головой, с хищно оскаленной пастью котелочка из погр. кур-гана 6 могильника Таксай 1 (Лукпанова, 2013; Алтынбеков, 2013, с. 30-31).
Наиболее полно сущность образа верблюда в мифологии саков показана у А. К. Акишева (1984). Не повторяя выводы автора, подчеркнем лишь важные, на наш взгляд, моменты: Золотая вершина Мировой горы – место первого появления Митры – солярного бога (по описанию он похож на Веретрагну). Олицетворением племенного союза у иранцев являлся вождь, его могли счи-тать Митрой на земле. Самое понятие «царственности» или «царской славы» называлось «хварной». Воплощением хварны был верблюд. Существовали мифы о Веретрагне (его воплощением, в числе прочего, был верблюд), где он боролся с противником в «симметричном» воплощении. Мог быть и образ соперника Веретрагны, принявшего облик верблюда.
Вождь – лицо, воплощающее единство коллектива – идеологически оцени-вался как символ космической гармонии, правильного устройства Вселенной и общества, ему подвластного. Понятие беспорядка, зла приобретало гло-бальное значение (Акишев А., 1984, с. 73-76).
Таким образом, курильница с верблюдами на блюде могла служить риту-альным атрибутом, применявшимся в церемониях восстановления гармонии и порядка, например, нарушенного в случае смерти вождя, героя.
В этом плане проступает связь антропоморфных персонажей, сосуда, огня.Одним из ритуальных действий в случае смерти человека, воплощающего
космический порядок, являлось воздвижение предмета, являющегося мате-риальным воплощением мирового столба. Таковым являлось скифское ан-
323
тропоморфное изваяние. «Воздвижение изваяния на могиле человека, смерть которого нарушила существующий миропорядок, должно в таком случае трактоваться как действие, ведущее к восстановлению этого порядка, к устра-нению нанесенного ему урона» (Раевский, 1983, с. 59). Известно, что извая-ния обычно изображали воинов с сосудом в руке.
Образ вождя обеспечивал необходимость «участия» изваяний в «соверше-нии обрядов, призванных поддерживать мировое равновесие и ликвидировать деструктивные последствия смерти, наступления нового года, социальных и иных потрясений, данные же обряды являлись формами проявления целой группы культов, таких как культа героизированных предков, культа мертвых, умирающей и воскресающей природы, культа героя, воинского божества и т.д.» (Ольховский, 2005, с. 117, 153).
Эта традиция, семантическая наполненность образов воинов и ритуалов, связанных со смертью героя, сохранились в основе и в древнетюркскую эпо-ху. По заключению Л. Н. Ермоленко, балбалы, символизирующие убитых врагов, означают жертву, адресованную божеству (войны) и путь умершего героя в обитель этого божества. Сосуд, который в иконографии древнетюрк-ского изваяния обычно сочетается с оружием, приобретает дополнительный смысл как атрибут воина (Ермоленко, 2008, с. 57).
Таким образом, курильница из Долинки, несомненно, являлась ритуаль-ным атрибутом, подобно культовой утвари семиреченских бронз, применяв-шимся в церемониях восстановления гармонии, связанных с культом вождя, героя, героизированных предков, с воинскими культами. Не случайно, види-мо, в Жетысу и Приисыккулье фиксируется средоточие так называемых «цар-ских» курганов и культовой утвари.
Түйiн
Мақалада алғашқы рет Ыстықкөл жағалауында орналасқан Долинка ауылының (қазіргі Қара-ой ауылы) маңынан 2012 жылы аквалангистармен табылған хош иіс түтететін ыдыс жариялануда. Бұл ыдыс Жетісу сақтарының қоладан жасалған құрбандық бұйымдарының біріне жатады. Хош иіс түтететін ыдыстың үстіңгі бетіндегі композиция, яғни екі түйенің бір-бірімен айқасы және төрт бұрышында орналастырылған адамдар бейнесі Еуразия дала белдеуінің шығыс тараптарындағы ерте көшпелілер өнерінде ұқсастықтар та-бады. Ыдыс бетіндегі символикалы-сакральды мағынадағы желі бұйымның ғұрыптық мақсаттағы зат екенін дәлелдейді.
Список источников и литературы
Акишев А. К. Образ верблюда в легендах Центральной Азии // Этнография народов Сибири. – Новосибирск, 1984. – С. 69-76.
324
Акишев К. А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. – М.: Искусство, 1978. – 132 с.
Алтынбеков К. Возрожденная из пепла. Реконструкция по материалам погребения жрицы из комплекса Таксай 1. – Алматы: ТОО «Остров Крым», 2013. – 64 с.: ил.
Андреев В. Н., Саенко В. Н. О семантике стрел в скифском погребальном обряде // Древности Степного Причерноморья и Крыма. – Запорожье, 1992. – Т. III: сб. научн. тр. – С. 157-161.
Артамонов М. И. Сокровища саков. Памятники древнего искусства. – М.: Искусство, 1973. – 279 с.
Баркова Л. Л., Чехова Е. А. Войлочный колпак из Второго Пазырыкского кургана // СГЭ. – 2006. – Вып. LXIV. – С. 31-35.
Бейсенов А. З. Сарыарка – колыбель степной цивилизации. – Алматы, 2011. – 32 с.
Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М.: Наука, 1988. – 303 с.: ил.
Винник Д. Ф., Лесниченко Н. С., Санаров А. В. Новый жертвенный ком-плекс Иссык-Куля // АО-1976. – 1977. – С. 582-583.
Вольная Г. Н. О некоторых традициях антропоморфной бронзовой пласти-ки кобанской культуры // Античная цивилизация и варварский мир: матер. 7-го археол. семинара (г. Краснодар, 8–11 июня 1999 г.). – Краснодар, 2000. – С. 6-9.
Горелик М. В. Сакский доспех // Центральная Азия. Новые памятники письменности и искусства. – М., 1987. – С. 110-133.
Грач Н. Л., Грач А. Д. Золотая композиция скифского времени из Тувы // Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства. – M., 1987. – С. 134-148, 332-334.
Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. – М.: На-ука, 1985. – 319 с.: ил.
Ермоленко Л. Н. Изобразительные памятники и эпическая традиция: по ма-териалам культуры древних и средневековых кочевников Евразии. – Томск, 2008. – 288 с.
Ермоленко Л. Н., Курманкулов Ж. К. Оригинальное изваяние из фондов Карагандинского историко-краеведческого музея // Археология Южной Си-бири. Сб. научн. тр., посв. 80-летию со дня рождения Я. А. Шера. – Кемерово, 2011. – Вып. 25. – С. 156-161.
Завитухина М. П. Золотая фигурка конного лучника V – IV вв. до н. э. Художественное произведение круга Сибирской коллекции Петра I // СГЭ. – 1990. – Вып. LIV. – С. 21-25.
Зеймаль Е. В. Амударьинский клад. Каталог выставки. – Л.: Искусство, 1979. – 96 с.
325
Иванов С. С. К вопросу о защитном вооружении ранних кочевников Сред-ней Азии // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына, труды ИИМОПа, спец. выпуск к 15-летию ИИМОП. – Бишкек, 2011. – С. 491-497.
Кадырбаев М. К. Бронзовый светильник из Алма-Аты // Культура и ис-кусство Киргизии: тез. докл. Всесоюзн. научн. конф. (г. Ленинград, 3-6 июня 1983 г.). – Л., 1983. – Вып. 1. – С. 38-40.
Кадырбаев М. К., Марьяшев А.Н. Петроглифы хребта Каратау. – Алматы, 2007. – 147 с.
Королькова Е. Ф. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII – IV вв. до н. э.). Про-блемы стиля и этнокультурной принадлежности. – СПб., 2006. – 272 с.
Кубарев В. Д. Курганы Уландрыка. – Новосибирск: Наука, 1987. – 150 с.Литвинский Б. А., Пичикян И. Р. Эллинистический храм Окса в Бактрии
(Южный Таджикистан). – М.: Восточная литература РАН, 2000. – Т. 1. – 503 с.
Лукпанова Я. А. Знаковая функция предметов с зооморфными изображе-ниями из кургана № 6 комплекса Таксай I (Степное Приуралье) // Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов Cтепной Евразии. – Караганды, 2013. – В печати.
Майтдинова Г. М. Древний костюм из могильников Синьцзяня // Пробле-мы древней и средневековой истории и культуры Центральной Азии. – Ду-шанбе, 2001. – С. 70-85.
Мартынов Г. С. Иссыкская находка // КСИИМК. – 1955. – Вып. 59. – С. 150-155, рис. 63-67.
Ольховский В. С. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. – М.: Наука, 2005. – 299 с.:156 ил.
Памятники культуры и искусства Киргизии. Древность и средневековье. Каталог выставки. – Л.: Искусство, 1983. – 80 с.: ил.
Раевский Д. С. Скифские каменные изваяния в системе религиозно-ми-фологических представлений ираноязычных народов евразийских степей // Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. – М.: Наука, 1983. – С. 40-60.
Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент, 2005. – 288 с.
Руденко С. И. Сибирская коллекция Петра I. – САИ. – 1962. – Вып. Д3-9. – 52 с.+27 табл.
Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.-Л.: Наука, 1953. – 401 с.: ил.
Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани из оле-денелых курганов Горного Алтая. – М.: Искусство, 1968. – 136 с.
22-22
326
Сенигова Т. Н. Осветительные приборы Тараза и их связь с культом огня // СА. – 1968. – № 1. – С. 208-225.
Скрипкин А. С. О китайских традициях в сарматской культуре // Античная цивилизация и варварский мир: матер. 7-го археол. семинара (г. Краснодар, 8–11 июня 1999 г.). – Краснодар, 2000. – С. 96-99.
Страбон. География в 17 кн. Репринтное воспроизведение текста издания 1964 г. – М.: Ладомир, 1994. / Перевод, статья и комментарии Г. А. Стратанов-ского. Под общ. ред. проф. С.Л. Утченко. – Книга XV.III.
Стрелков А. С. Большой Семиреченский алтарь // С. Ф. Ольденбургу к пя-тидесятилетию научно-общественной деятельности. – Л., 1934. – С. 477-494.
Суразаков А. С. Железный кинжал из долины Ачик Горно-Алтайской авто-номной области // СА. – 1979. – № 3. – С. 265-269.
Сухарева О. А. Древнейшие черты в формах головных уборов народов Средней Азии // Среднеазиатский этнографический сборник: Тр. Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – 1954. – Т. XXI. – С. 299-353.
Тасмагамбетов И. Кентавры Великой степи. Художественная культура древних кочевников. Алматы: ОФ «Берел», 2003. – 336 с.
Шульга П. И. Могильник скифского времени Локоть-4а. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 204 с.:ил.
Яценко С. А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы. – М.: Вост.лит., 2006. – 664 с.: ил.
Яценко С. А. Сидящий мужской персонаж с сосудом в руке на сакской бронзовой «курильнице» из Семиречья // История и археология Семиречья: сб. статей и публикаций. – Алматы, 2011а. – Вып. 4. – С. 48-66.
Яценко С. А. Враги из Средней Азии в искусстве империи Ахеменидов // Вопросы археологии Казахстана. Сб. научн. статей. – Алматы, 2011б. – Вып. 3. – С. 495-510.
Archaeology «Art and Civiulization from the World». Режим доступа: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=465270323574544&set=a.340127549422156.59771.340097106091867&type=1&theater
Mallory J. P., Victor H. Mair. The Tarim Mummies. Ancient China and the Mystery of the Earliest Peoples from the West. – London, 2000. – 352 p.
327
Рис. 1. Курильница, найденная у с. Долинка
Рис. 2. Художественные бронзы Жетысу. 1-3 – курильница. Случайная находка в 8 км западнее г. Есик, 1953 г. ЦГМ РК КП №8591; 4-6 – курильница. г. Алма-Ата. Раскопки М. К. Кадырбаева, 1979 г.
726
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АН – Академия наукАО – Археологические открытияАОИКМ – Акмолинский областной историко-краеведческий музейАРТ – Археологические работы в ТаджикистанеАСГЭ – Археологический сборник Государственного ЭрмитажаАЭАЕ – Археология, этнография и антропология ЕвразииБНЦ СО РАН – Бурятский научный центр Сибирского отделения Россий-
ской академии наукВАУ – Вопросы археологии УралаВДИ – Вестник древней историиГАИМК – Государственная Академия истории материальной культурыГАГУ – Горно-Алтайский государственный университетГУ – Государственное управлениеГЭ – Государственный ЭрмитажОНТИ ПНЦ РАН – Отдел научно-технической информации Пущинского
научного центра Российской академии наукЕНУ – Евразийский национальный университетИА РАН – Институт археологии Российской академии наукИАК – Императорская археологическая комиссияИАиЭ СО РАН – Институт археологии и этнографии Сибирского отделе-
ния Российской академии наукИГТУ – Иркутский государственный технический университетИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской ака-
демии наукИИиА УрО РАН – Институт истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наукИМиБ СО РАН – Институт менеджмента и бизнеса Сибирского отделения
Российской академии наукИМКУ – История материальной культуры УзбекистанаИПОС СО РАН – Институт проблем освоения Севера Сибирского отделе-
ния Российской академии наукКН – Комитет наукиКСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССРКСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культу-
ры АН СССРМАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской академии наукМГУ – Московский государственный университетМИА – Материалы и исследования по археологии СССРМОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан
727
МЭ – Материалы по этнографииНАН РК – Национальная Академия наук Республики КазахстанОАК – Отчеты археологической комиссииОГПИ – Орский государственный педагогический институтОмГУ – Омский государственный университетПАВ – Петербургский археологический вестникПГУ – Павлодарский государственный университетПЦК РК – Президентский центр культуры Республики КазахстанРА – Российская археологияРАН – Российская академия наукСА – Советская археологияСАИ – Археология СССР. Свод археологических источниковСАИПИ – Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусстваСГЭ – Сообщения Государственного ЭрмитажаСО РАН – Сибирское отделение Российской академии наукСПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университетСУАР – Синцзян-Уйгурский автономный районСЭ – Советская этнографияТГУ – Томский государственный университетТОО – Товарищество с ограниченной ответственностьюУГПИ – Уссурийский государственный педагогический институтУСА – Успехи среднеазиатской археологииУрО РАН – Уральское отделение Российской академии наукЦКАЭ – Центрально-Казахстанская археологическая экспедицияЧГПУ – Челябинский государственный педагогический университетЮККАЭ – Южно-Казахстанская комплексная археологическая экспедицияЮУрГУ – Южно-Уральский государственный университетЯГУ – Якутский государственный университетAJPhA – American Journal of Physical Anthropology
728
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абдыканова Аида Калыдаевна – кандидат исторических наук, доцент, департамент антропологии Американского университета Центральной Азии (Кыргызстан, г. Бишкек)
Алаева Ирина Павловна – Челябинский государственный педагогиче-ский университет (Российская Федерация, г. Челябинск)
Амиргалина Гульмира Темирболатовна – магистр истории, научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Археология и этнография», Кызылординский государственный университет (Республика Казахстан, г. Кызылорда)
Артықбаев Жамбыл Омарович – доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана)
Базарбаева Галия Аппазовна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана (Республика Казахстан, г. Алматы)
Байпаков Карл Молдахметович – доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, главный научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана КН МОН РК (Республика Казахстан, г. Алматы)
Бейсенов Арман Зияденович – кандидат исторических наук, главный на-учный сотрудник, заведующий отделом Института археологии им. А. Х. Мар-гулана КН МОН РК (Республика Казахстан, г. Алматы)
Берсенева Наталья Александровна – кандидат исторических наук, науч-ный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Рос-сийской академиии наук (Российская Федерация, г. Екатеринбург)
Билалов Сейдали Умиртаевич – магистр истории, научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Археология и этнография», Кызылор-динский государственный университет (Республика Казахстан, г. Кызылорда)
Билялова Гульзат Дулатовна – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Магистрант 2 курса специальности «Археология и этно-логия». Астана, Казахстан
729
Бонора Жан Лука – Приглашенный профессор из Болонского универси-тета, факультет археологии. Болонья, Италия
Варфоломеев Виктор Васильевич – кандидат исторических наук, доцент, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова (Республи-ка Казахстан, г. Караганда)
Гаврилов Денис Александрович – кандидат биологических наук, Инсти-тут почвоведения и агрохимии СО РАН (Российская Федерация, г. Новоси-бирск)
Гайдученко Леонид Леонидович – кандидат геолого-минералогических наук, Челябинский государственный педагогический университет (Россий-ская федерация, г. Челябинск)
Ганиева Айнагуль Сабитовна – кандидат исторических наук, доцент, Ев-разийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева (Республика Казах-стан, г. Астана)
Гасанов Заур Гасан-оглу – кандидат исторических наук, доктор (PhD), ведущий научный сотрудник отдела античной археологии Института архео-логии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана (Азербайд-жан, г. Баку)
Гедре Мотузайте Мотузавичуте Кин – доктор (PhD), научный сотруд-ник, Университет Вильнюс (Литовская Республика, г. Вильнюс)
Гольева Александра Амурьевна – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН (Российская Федерация, г. Москва)
Гончарова Наталья Сергеевна – Алтайский государственный универси-тет (Российская Федерация, г. Барнаул)
Горячева Валентина Дмитриевна – доктор исторических наук, профес-сор кафедры философии науки Кыргызско-Российского Славянского универ-ситета им. Б. Н. Ельцина (Кыргызская Республика, г. Бишкек)
Дашковский Петр Константинович – доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой религиоведения и государственно-конфессиональных отношений, заведующий лабораторией этнокультурных и религиоведческих
730
исследований, Алтайский государственный университет (Российская Феде-рация, г. Барнаул)
Джумабекова Гульнара Саиновна – кандидат исторических наук, веду-щий научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана (Респу-блика Казахстан, г. Алматы)
Дукомбайев Азамат Талгатович – студент 4 курса исторического фа-культета Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Ре-спублика Казахстан, г. Астана)
Епимахов Андрей Владимирович – доктор исторических наук, доцент, Южно-Уральский государственный университет (Российская Федерация, г. Челябинск)
Ермоленко Любовь Николаевна – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры археологии Кемеровского государственного университе-та (Российская Федерация, г. Кемерово)
Жолдасбаев Сайден Жолдасбаевич – доктор исторических наук, профес-сор, директор научно-исследовательского центра археологии Международно-го казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави (Республика Казахстан, г. Туркестан)
Катцухико Онума – доктор (PhD), профессор, Университет Кокушикан (Япония, г. Токио)
Кириченко Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, на-учный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной Акаде-мии Наук Азербайджана (Азербайджанская Республика, г. Баку)
Китов Егор Петрович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра физической антропологии, Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Российская Федерация, г. Москва)
Китова Людмила Юрьевна – доктор исторических наук, доцент, профес-сор кафедры археологии Кемеровского государственного университета (Рос-сийская Федерация, г. Кемерово)
Ковшова Наталья Сергеевна – научный сотрудник Учебно-научного центра археологии Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева (Республика Казахстан, г. Петропавловск)
731
Колбина Алина Викторовна – антрополог, научный сотрудник Костанай-ского областного историко-краеведческого музея (Республика Казахстан, г. Костанай)
Комаров Сергей Геннадьевич – кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Российская Федерация, г. Москва)
Кошман Татьяна Васильевна – старший преподаватель кафедры архео-логии и этнологии Евразийского национального университета им. Л. Н. Гу-милева (Республика Казахстан, г. Астана)
Кукушкин Игорь Алексеевич – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Сарыаркинского археологического института, Караган-динский государственный университет им. Е. А. Букетова (Республика Казах-стан, г. Караганда)
Курманкулов Жолдасбек Курманкулович – кандидат исторических наук, Институт археологии им. А. Х. Маргулана (Республика Казахстан, г. Астана)
Кызласов Игорь Леонидович – доктор исторических наук, профессор, Институт археологии РАН (Российская Федерация, г. Москва)
Қожа Мухтар – доктор исторических наук, Международный казахско-ту-рецкий университет им. Қ. А. Яссави (Республика Казахстан, г. Туркестан)
Лукпанова Яна Амангельдиевна – Западно-Казахстанский областной центр истории и археологии (Республика Казахстан, г. Уральск)
Марсадолов Леонид Сергеевич – доктор культурологии, академик Санкт-Петербургской Академии истории культуры, ведущий научный сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири, Государственный Эрмитаж (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
Мартынов Анатолий Иванович – доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель науки России, кафедра археологии Кемеровского госу-дарственного университета (Российская Федерация, г. Кемерово)
268
К статье Джумабековой Г. С., Базарбаевой Г. А., Торгоева А. И.НОВЫЕ ОБРАЗЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БРОНЗЕ
САКОВ ПРИИСЫККУЛЬЯ
Илл.1. Курильница, найденная у с. Долинка
Илл. 2. Элементы культовых бронз Жетысу и Кыргызстана. 1 – фигуры женщин. Фрагмент жертвенного стола. Иссык-Куль, с. Чильпек; 2 – фигурка воина. Жамбыл-ский областной историко-краеведческий музей; 3 – курильница. Случайная находка в районе п. Алатау, 1978 г. (по: Тасмагамбетов И., 2003, с. 18-19); 4 – фигурка вер-блюда. Окрестности г. Алматы, мкр. Аксай (по: Тасмагамбетов И., 2003, с. 130-131)
Отпечатано в Издательстве «Сарыарка».
Директор Алиев КайратВерстка Степанец Наталья
Подписано в печать 01.04.2014 г.Формат 70х100 1/16. Гарнитура «Times New Roman».
Объем 46 п.л. Тираж 500. Заказ № 22.
г. Астана, ул. Кокарал, 2тел.: 8(7172) 52-74-11, 52-74-89e-mail: [email protected]
ҚАЗАҚСТАН АРХЕОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЕУРАЗИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫ
Көрнекті археолог К. А. Акышевтің 90 жылдығына арналған халықаралық ғылыми конференция жинағы
22-24 сәуір 2014 ж. Астана қаласы
ДИАЛОГ КУЛЬТУР ЕВРАЗИИ ВАРХЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА
Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения выдающегося археолога К. А. Акишева
22-24 апреля 2014 г. Астана