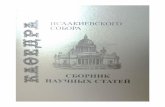VERBUM 5 Образы культуры и стили мышления: иберийский...
Transcript of VERBUM 5 Образы культуры и стили мышления: иберийский...
СОДЕРЖАНИЕContents.............................................7От редакции..........................................8Preface..............................................9
I . ИСПАНСКАЯ КУЛЬТУРА: ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Смагин Ю. Е. Арабская культура и мавританская Испания..............................10Калугина Е. О. Движение alumbrados в религиозной жизни Испании XVI века..................17Морозова А. В. Античность в аспекте героическихтем в испанских трактатах по искусству XVI века.....27Савватеев С. К. Книги и трактаты о живописи в Испании XVI -XVII вв...................38Сергиевская Г. Е. Грасиан: две стратегии (к 400-летию со дня рождения Бальтасара Грасиана)...53Корконосенко К. С. Роман как место встречи автора игероя: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Грифон» А. Конде.........60
II . PHILOSOPHIA IBERICA : НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ Журавлев О. В. Толедская школа переводчиков (очерк историографии)...............................70Джон П. Дойл Коимбрские схоластики о семиотическом характере зеркальных отражений (перевод Л.В. Цыпиной). 93Цыпина Л. В., Шмонин Д .В. «Курс» коимбрских докторов: послесловие к статье проф. Дойла...................110Хосе М. Вегас Радикальный реализм Хавьера Субири (перевод Л.Е. Яковлевой)...............................117
III . ПЕРЕВОДЫ. КОММЕНТАРИИ. ПУБЛИКАЦИИ Франсиско де Кеведо Стихотворения (переводы В. Андреева, Вс. Багно, Н. Ванханен).............164
Багно В. Е. «И прахом стану, прахом, но влюбленным ...» (послесловие к публикации переводов)....................170Франсиско Суарес Комментарии на книги Аристотеля «О душе». Введение (фрагмент) (перевод и примечания Д.В. Шмонина).......................................174Шмонин Д. В. Наука о душе (Метафизика познания Франсиско Суареса)............184Андрей (Ян) Белобоцкий Великая и предивная наука Богом преосвященного учителя Раймунда Люллия (публикация и примечания В.А. Кульматова)...............212Кульматов В. А. От «Ars Magna» Р. Луллия к «Великой науке» А.Х. Белобоцкого.................217Гумерсиндо Лаверде-и-Руис Фокс Морсильо. Вступительноеслово к академическому курсу 1884-1885 учебного года вУниверситете Сантьяго. (перевод и комментарии О.В.Журавлева).........................................241
Авторы выпуска.....................................264Authors of the issue...............................265
2
CONTENTS
CULTURAL IMAGES AND INTELLECTUAL STYLES:IBERIAN EXPERIENCE
Preface..............................................8
I. SPANISH CULTURE: FROM MIDDLE AGES TOCONTEMPORANEITY
Yury Smagin Arab Culture and Moorish Spain............10Elena Kalugina Alumbrados movement in the religious life of XVI-century Span...........17Anna Morozova Antiquity in aspect of heroic themes in XVII-century Spanish treatises on art.....27Stanislav Savvateev Books and treatises on painting in Spain of XVII-XVIII centuries...........38Dedicated to the 400 Anniversary of Baltasar GracianGalina Sergievskaya Gracian: two strategies............53Кirill Korkonosenko Novel as a meeting place of author with hero: “Master and Margarita” of M. Bulgakov and “Griffon” of A. Conde............60
II. PHILOSOPHIA IBERICA: UNKNOWN PAGES Oleg Zhuravliov Toledian School of translation.........70John P. Doyle The Conimbricenses on the Semiotic Character of Mirror Images (translated by L.Tsipina)................93Lada Tsipina, Dmitry Shmonin The «Course» ofConimbricenses: Afterword to the Prof. Doyle’s Article.............110José M. Vegas Radical realism of Havier Zubiri (translated by L.Yakovleva)................117
III. TRANSLATIONS. PUBLICATIONS. COMMENTARIES Fransisco de Quevedo Verses (translated by V. Andreev, Vs. Bagno, N. Vankhanen)............164
ФУНКЦИИ ГРОТЕСКНОЙ ОБРАЗНОСТИ
Vsevolod Bagno «Polvo será, mas polvo enamorado...» (Afteword and commentary to the new translations of the verses of Francisco de Quevedo).................................170 Francisco Suárez Commentary to Books on Soul of Aristotle. Introduction. (translated by Dmitry Shmonin)...........................174Dmitry Shmonin Science About Soul (Metaphysics of Cognition of Francisco Suárez).....184Andrey (Jan) Belobotsky Magnificent and Admirable Scienceof Ramon Llull (publication and notes by V. Kulmatov)......212V. Kulmatov From «Ars Magna» of R. Llull to «Magnificent Science» of Andrey Belobotsky......217Gumrecindo Laverde y Ruiz Fox Morcillo. Foreword to 1884-1885 Academic Year at University of Santiago. (translation and noted by Oleg Zhuravliov)..................241
Authors of the issue...............................265
ОТ РЕДАКЦИИ
Предлагаемая читателю книга является пятым по счетувыпуском альманаха «Verbum». За последние два годавышли в свет четыре номера, каждый из которых былпосвящен определенной теме: Выпуск 1 «Франсиско Суареси европейская культура XVI-XVII вв.» (СПб., 1999);выпуск 2 «Наследие Средневековья и современнаякультура» (СПб., 2000); выпуск 3 «Византийскоебогословие и традиции религиозно-философской мысли вРоссии» (СПб., 2000); выпуск 4 «Философия УильямаОккама: традиции и современность» (СПб., 2001).
Настоящий выпуск также имеет тематическую
4
ФУНКЦИИ ГРОТЕСКНОЙ ОБРАЗНОСТИ
направленность, которая выражена в его названии:«Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт». Всборнике приняли участие российские и зарубежныеученые, чьи исследования, при всем их разнообразии,посвящены изучению интеллектуальной и духовнойкультуры иберийских стран, в первую очередь, Испании.
I раздел «Испанская культура: от Средних веков ксовременности» включает статьи по истории культуры(Ю.Е. Смагин), религиозной жизни (Е.О. Калугина),истории искусства и литературы в Испании(А.В. Морозова, С.К. Савватеев, Г.Е. Сергиевская), атакже работу, затрагивающую проблемы взаимного влияниярусской и испанской литератур в ХХ веке(К.С. Корконосенко).
Содержание II раздела «Philosophia Ibericа:неизвестные страницы» содействует восполнениюсущественных пробелов в российскойисторико-философской науке. Статьи, помещенные в этомразделе, посвящены Толедской школе переводчиков(О.В. Журавлев), философии португальских иезуитовXVI - начала XVII столетий (Джон П. Дойл, Л.В. Цыпина,Д.В. Шмонин), а также жизни и творчеству одного изсамых значительных европейских мыслителей XX в. -Хавьера Субири (Хосе М. Вегас).
В III разделе выпуска читатель найдет новыепереводы поэта Франсиско де Кеведо и философа ФрансикоСуареса, откроет для себя неизвестные испанские имена(Гумерсиндо Лаверде-и-Руис, Фокс Морсильо), а такжепознакомится с сочинением русского последователяРаймунда Луллия (Андрей Белобоцкий). Все публикациираздела снабжены примечаниями и комментариями.
В конце каждой статьи настоящего выпуска, перед
5
ФУНКЦИИ ГРОТЕСКНОЙ ОБРАЗНОСТИ
авторскими примечаниями, содержится краткое резюме наанглийском языке.
6
PREFACE
The present book is the 5th issue of the journal«Verbum». Every issue printed out during last twoyears was dedicated to the definite theme: Issue 1«Francisco Suarez and European Culture of XVI - XVIIcenturies» (St. Petersburg, 1999); Issue 2 «Heritageof Middle Age and Contemporary Culture» (St.Petersburg, 2000); Issue 3 «Byzantine Theology andTraditions of Religious and Philosophical Thought inRussia» (St. Petersburg, 2000); Issue 4 «Philosophy ofWilliam Ockam» (St. Petersburg, 2001).
This issue is under title: «Cultural ImagesIntellectual Stiles: Iberian Experience». The bookcontains contributions of Russian and foreignparticipants specialized on different fields ofintellectual and spiritual culture of Iberiancountries, especially Spain.
The section I of the issue «Spanish Culture: FromMiddle Age to Contemporaneity» regarding articlesinvestigating the cultural and religious movement inSpain (Yury Smagin, Elena Kalugina), history ofSpanish art and literature (Anna Morozova, StanislavSavvateev, Galina Sergievskaya) and the articledealing with interaction of Russian and Spanishliterature of the XX century (Kirill Korkonosenko).
The articles of the Section II «PhilosophiaIbericа: white pages» fill up gaps existing in Russianscience. They are dedicated to Toledo TranslationSchool (Oleg Zhuravliov), philosophy of PortugalJesuits of the XVI - beginning of the XVII century(John P. Doyle, Lada Tsipina, Dmitry Shmonin), and to
ФУНКЦИИ ГРОТЕСКНОЙ ОБРАЗНОСТИ
the work of one of the significant thinkers of the XX-century Europe Havier Zubiri (Jose M. Vegas).
In the Section III «Translations. Publications.Commentaries» a reader finds several new Russiantranslations of poems of Francisco de Quevedo and ofphilosophical meditations of Francisco Suarez. Alsoone can open unknown Spanish names (Gumersindo Laverdey Ruiz, Fox Morcillo) and reveal the original text ofAndrei Belobotsky, the XVII-century Russian followerof Ramon Llull (Lullius). Every publication of theSection III is annotated and commented.
In the present issue of «Verbum», in between thetexts of articles and endnotes there are Englishsummaries written by authors.
8
I . ИСПАНСКАЯ КУЛЬТУРА: ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ
Ю. Е. Смагин
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
К началу VIII века Арабский халифат территориальнопревышает прежнюю Римскую империю, в него входятАравия, Иран, Армения, северо-западная Индия, Сирия,Египет, Палестина, практически все северное побережьеАфрики и Пиренейский полуостров. В создании арабскойкультуры принимают участие многие народы: арабы,тюрки, египтяне, иранцы и берберы; объединяющиминачалами этой культуры являются, с одной стороны,арабский язык и ислам, с другой, синтезированноенаследие культур античного мира и древнего Востока.Взаимоотношения между христианским миром имусульманским имеют сложный и противоречивыйхарактер1. Здесь необходимо рассмотреть историческиеусловия и обстоятельства завоевания арабами-мусульманами Испании.
В это время, в Испании, ортодоксально-католическийсимвол веры вытесняет арианский, что ведет к усилению
1 Влияние и роль арабской культуры в Испании и, вообще, в странахсредневековой Европы, казалось бы, общеизвестны; тем не менееданная тематика требует серьезного историко-философскогоосмысления в сфере соприкосновения Христианства и Ислама. И этоособенно актуально сегодня, после мрачного вторника (11. 09.2001), когда многие ценности должны быть переосмыслены.
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
религиозного преследования неверных; 90.000 евреевбыли насильственным образом окрещены и обязанынеукоснительно выполнять обряды и церемониихристианской религии. Готская монархия былаизбирательною, король Родерик, вследствие сложнойполитической борьбы, восседает на ее престол. Перваяпопытка завоевания Испании арабами-мусульманамиосуществляется в июле 710 г., когда военный отрядчисленностью около 400 человек появляется на югестраны. Через год, в июле 711 г. мусульманская армия,насчитывающая лишь примерно 15.000 воинов, наноситсокрушительное поражение висиготскому королюРодерику2. Впоследствии арабы не встречают серьезногосопротивления и к 715 г. занимают все основные городаИспании. Завоеванные города арабы, как правило,передают в руки евреев, желающих отомстить христианам;подобное стремление в значительной мере способствовалопобеде арабов-мусульман. Войска эмира Мусы и Тарикаобъединяются и двигаются к Франции, намереваясьзахватить и эту страну. Однако в стане арабовначинаются политические раздоры, что в значительной
2 Король Родерик, отважный и храбрый воин, будучи в Толедо,страстно влюбился в дочь графа Юлиана, губернатора Сеуты в Африке.Однако не в состоянии добиться взаимной любви, король прибегает кфизическому насилию. Отец девушки клянется отмстить злодею, тайнымобразом возвращает свою дочь и вступает в переговоры с арабскимэмиром Мусой, убеждая его начать вторжение в Испанию. После тогокак условия были тщательно согласованы и выработаны, военачальникэмира Гибралтар Тарик вторгся в Испанию. (В честь его имени иназван пролив между северной Африкой и Испанией). Граф и егосообщники выполнили данные обещания и перешли во время битвы насторону арабов, сам Родерик во время бегства утонул в рекеГвадалкивира. Эта печальная история наводит на размышления о ролиженщины в военных конфликтах.
11
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
степени помешало полному покорению Франции3. Особоезначение для Франции и других стран средневековойЕвропы имеет битва при Туре (10.10 732 г.) междуфранками под предводительством Карла Мартелла иарабами под командованием Абдеррахмана ибн Абдиллаха.Сражение длилось в течение нескольких дней, арабыпонесли большой урон, Абдеррахман погиб, а его войскобежало с поля боя. Это сражение считается одним изповоротных пунктов истории, остановившее продвижениеарабов в Европу4.
После падения дома Омайядов, единственный из всейсемьи избежавший казни молодой эмир в 756 г. подименем Абдеррахман I провозглашается эмиром Кордовы,так начинается династия Омайядов в Испании. Вдальнейшем кордовские эмиры всегда играли рольпокровителей знания, во время их правления Кордовабыла цветущим городом, где население составляло болеемиллиона человек и находилось 200.000 домов5. Дворцы и
3 Эмир Муса и его военачальник Тарик, по всей видимости, просто немогли воевать вместе. Эмир с завистью смотрел на успешные военныедействия своего подчиненного и не мог смириться с подобнымразвитием событий. Началась сложная борьба: Тарик был заключен втюрьму и подвергнут бичеванию, затем уже сам Муса был арестован ипредан публичному бичеванию. Муса, победитель Испании, влачилнищенское существование и должен был просить милостыню, жизньзакончил в горе и нужде.
4 Поражение арабов представляется не столь серьезным: буквальночерез несколько месяцев они возобновляют наступление, однакополитическая борьба за власть как в самой Испании, так и вазиатском калифате не позволяет арабам успешно продвигаться вглубьЕвропы.
5 Улицы были чистыми и ухоженными, прекрасные вымощенные мостовыесоздавали общий неповторимый колорит города. Существоваломножество общественных фонарей, после наступления темноты жители
12
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
сады отличались особой роскошью, арабский архитекторстремился отнести внешний ландшафт на задний план исосредоточить внимание именно на своем произведении.Поскольку Ислам запрещал изображение человеческихформ, тогда архитектор устремлял свой талант насоздание разного рода чудес в оформлении рукотворногосада. Редкие экзотические растения и цветы украшалидома и внутренние помещения. Пожалуй, никто непревосходил испанских арабов по красоте и роскошисадов, нигде не умели так искусно украшать сады:архитектор-садовник не только пытался доставитьудовольствие причудливым сочетанием красок, но умелоподбирал различные запахи цветов и растений.Наивысшего расцвета мавританская Испания достигает вовремя правления Абдеррахмана III (912-961 гг.), когдавласть Омайядов утверждается практически на всемПиренейском полуострове. Арабская культура не толькоутверждается в мавританской Испании, но постепеннопроникает и в страны западной Европы. ПроцветаниеИспании продолжается при сыне и внуке АбдеррахманаIII, но вследствие сложной и напряженной политическойборьбы за власть единое Омайядское государствораспадается; начинается время удельных правителей (к1031 г. существовало около 30 независимых мелкихкняжеств). Однако, несмотря на политическиеразногласия среди мусульман, и искусство, и литератураразвиваются и процветают. Этого нельзя сказать ополитической борьбе среди мавританских правителей. В
чувствовали себя уютно: можно было многие километры пути в городепреодолевать при хорошем освещении. Так, в Лондоне спустя 700 летбыл лишь один общественный фонарь, не говоря о других столицахевропейских государств.
13
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
результате, в 1085 г., христиане захватывают важныймусульманский центр – город Толедо. Соприкосновениехристианского и исламского миров принимает все болееожесточенный и непримиримый характер. Мусульманскиеправители, осознавая серьезность христианскоговлияния, обращаются с просьбой о помощи к Алморавидам,династии, правившей огромной Берберской империей насеверо-западе Африки. Алморавиды наносятсокрушительное поражение христианским армиям и правятмавританской Испанией с 1090 по 1145 гг. Затемправление Испанией переходит более сильной династииАлмохадов, которые властвовали в стране вплоть до 1223г. В это время, большей частью вследствие опять жевнутренней политической борьбы за власть в средеАлмохадов, христианские войска занимают Кордову в 1236г. и Севилью в 1248 г. В XIII веке единственныммусульманским государством в Испании остается Гранада,сравнительно небольшая по площади провинция, гдеправила династия Насридов. В этом небольшомгосударстве продолжает развиваться арабскаялитература, именно Гранаде принадлежит один из самыхвеличественных архитектурных памятников мавританскойИспании – крепость Алхамбра6. Независимость Гранады6 Когда центр мавританского царства перемещается в Гранаду,мусульмане срочно приступают к укреплению фортификационныхсооружений Алкасамбы и возводят вокруг нее крепостную стену сбашнями и бастионами. Перестроенная крепость получает названиеКрасный Замок (по-арабски Ал-Кала-ал-Хамбара, отсюда современноеиспанское название Алхамбра). Неувядаемую славу снискала нестолько мощь Алхамбры как военного укрепления, сколько красота иизящная неповторимость ее внутренних убранств и сооружений,созданных усилиями и стараниями короля Юсуфа I (1333-1353 гг.) икороля Мохаммеда V (1353-1391 гг.). Пожалуй нигде, кроме Алхамбры,не проявляется с такой силой любовь мавров к изысканным
14
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
продолжалась вплоть до 1492 г., когда Алхамбра палапод натиском христианских армий.
Арабы никогда не переводили на свой языкдревнегреческих поэтов, но в то же время самымтщательным образом собирают и переводят наследиедревнегреческих философов; это объясняется неприятиемязыческой мифологии как непристойной и отвратительнойдля мусульманского религиозного чувства. Тем не менеев арабской культуре возникли тенсопы, или поэтическиедиспуты, которые впоследствии были доведенытрубадурами до совершенства. Английские, немецкие ифранцузские представители высшей знати подражаютарабам и перенимают их любовь к лошадям, умениюискусно владеть верховою ездой; соколиная охотастановится любимым времяпрепровождением европейскихдворян; особым спросом пользуется знаменитая породаандалузских лошадей. Можно говорить, что роскошь,великолепие, вкус и главным образом рыцарские обычаи иизящное обращение мавританского общества переходят изКордовы в Прованс и другие западно-европейские
архитектурным украшениям и геометрической симметрии. Для этогоархитектурного сооружения характерны самые изощренные изамысловатые переплетения изогнутых линий. Идея абстрактно-сложныхфигур, воплощенная в мозаиках, кирпичной кладке и гипсовыхрельефах, по-видимому, была заимствована из растительного мира,поскольку Ислам запрещает изображать людей или животных. Стеныкрепости испещрены арабскими письменами с изречениями из Корана.Так, одна из надписей гласит: «Нет в жизни более жестокогонаказания, чем быть слепым в Гранаде». Это был не просто«мавританский рай», Алхамброй восхищались все, кто хоть однаждыпобывал в величественной крепости. Г.Х. Андерсон сравниваетизысканно-утонченную резьбу крепости с «окаменевшим кружевнымбазаром», В. Ирвинг в эссе «Алхамбра» воспевает очарованиекрепости и таинственно-мистический мир Востока.
15
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
провинции. Это время величия и самых изысканныхрыцарских нравов. Утонченное общество Кордовы гордитсясвоей вежливостью, изящными манерами и дажевыхолощенностью. Испанские калифы, следуя и подражаяпримеру Багдадских калифов, являлись не толькопокровителями научных знаний и изящных искусств, но исами разрабатывали их7.
К X веку мавританская Испания становится темместом, куда устремляются все, кто питает склонность кнаукам и изящным удовольствиям. Подобное устремлениеособенно распространяется благодаря блестящему успехуГерберта из Орийака, который из университета в Кордовепереходит в Рим в качестве Папы Сильвестра II (999-1003). Особым покровительством испанского калифатапочиталась литература. Библиотеки практическисуществовали во всех крупных городах. При каждоймечети находилась общественная школа, где дети бедныхлюдей изучали Коран, обучались письму и чтению. Длясостоятельных лиц существовали академии. В Кордове идругих больших городах имелись университеты,преимущественно под управлением евреев8. Вуниверситетах читались лекции об арабских классическихпроизведениях, преподавались риторика, математика,астрономия. Многие современные университетскиетрадиции унаследованы от мавританских школ и7 Так, например, библиотека кордовского калифа Алхакама II в X векебыла настолько обширна, что ее каталог состоял из 40.000 томов.Испанских калифов отличала любовь к калиграфии и разрисованнымрукописям.
8 Терпимость магометан являла собой резкую противоположность снетерпимостью Европы. В этом отношении они следовали примеруазиатского калифа Гаруна-ал-Рашида, который доверил управлениесвоими школами Иоанну Мазуэ, несторианскому христианину.
16
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
университетов. Арабский язык объявлялся наилучшимязыком, на котором говорит и изъясняется человечество.Так, утверждалось, что сам Магомет, когда его просилипроизвести чудо в доказательство действительности егомиссии, всегда указывал на Коран, на его неподражаемоепревосходство служить наилучшим доказательством того,что он внушен свыше. А правоверные мослемиты (те, ктобеспрекословно подчиняется воле Аллаха) уверяли, чтолюбая строка суры из Корана есть явное чудо. А потомуне удивительно, что основное внимание в арабскихшколах обращалось на изучение языка и грамматики.Особенное внимание уделялось составлению словарей, приэтом значение и смысл каждого слова доказывались иобъяснялись буквальными цитатами известных арабскихавторов. Также имелись греческие, латинские иеврейские словари. Арабские поэтические произведениявключали в себя такие формы поэзии как сатира, ода,элегия, но не высшие формы как трагедия и эпопея.Арабам принадлежит изобретение и введение рифмы(иногда одна и та же рифма употреблялась от начала доконца поэтического произведения)9. Истории испанскиеарабы придавали не меньшее значение, чем литературнымжанрам. У каждого испанского калифа имелся собственныйисторик-хронолог10. Одновременно с историческимиизысканиями разрабатывалась статистика (в современномсмысле этого слова): необходимость распределенияподати среди покоренного населения требовала знания
9 От арабской поэзии через провансальскую к европейской – этовопрос, требующий особого рассмотрения и самого тщательногоизучения.
10 Существовали не только биографы калифов, но также были историки,повествующие о знаменитых родословных коней и верблюдов.
17
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
точной численности такового. Арабская наука имела попреимуществу сугубо практический характер, арабскийученый был прежде всего путешественником и находился впостоянном движении, не пребывал в академическойудаленности, в тиши библиотек и кабинетов. Ученостьпомогала легко получить доступ к любому азиатскому илиже африканскому двору11.
В мавританской Испании самое серьезное вниманиеуделяется медицинским исследованиям. Ибн-Зухра(Авензоар) из Севильи (ум. 1161 г.) считаетсянепререкаемым авторитетом в арабской фармакологии.Фармакопеи, издававшиеся в Испании, представляли собойзначительный шаг вперед по сравнению с несторианскими.Испанские арабы первые начали применять химию как ктеории, так и к практике медицины лечения болезней.Абул-Касим-аз-Захрави (Абулказис) из Кордовы (ум.после 1009 г.) проводит самые смелые хирургическиеоперации. Ибн-Рушд (Аверроэс) из Кордовы (1126-1198гг.), великий философ, блестяще знал юриспруденцию имедицину, пользовался заслуженной славой, почетом иуважением12.
В математике арабы признают себя обязанными двумисточникам: греческому и индусскому. Поэтомунеудивительно стремление арабских математиковпереводить труды Эвклида, Архимеда, Аполлодора и11 Неудивительно, что необыкновенно романтический характер отличаетбиографии многих арабских ученых, где чудесные перемены счастьязачастую переплетаются с насильственной смертью.
12 В данной статье намеренно не рассматриваются арабо-испанскиетеологические и философские воззрения мавританских мыслителей. Этотема отдельного и самого серьезного исследования; даже сегодня мыне имеем полного представления об арабо-испанской философскоймысли.
18
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
других древнегреческих геометров. Знанию арифметикиарабы обязаны индусам, а то что мы сейчас называемарабскими числами, сами арабы обозначали как индусскиецифры. Уже в X веке данная система счисленияупотреблялась (основанная на девяти цифрах и ноле)среди испанских и африканских математиков. Измавританской Испании подобная система счисленияпереходит в Италию и другие западно-европейскиестраны. И сегодня мы употребляем слово алгоритм ,производное от имени знаменитого математика Ал-Хваризми (ум. после 846 г.). Весьма больших успеховдостигают арабы в практическом приложении математики кфизике и астрономии (в частности, в определениинаклонности эклиптики). Арабы первые в Европепостроили обсерваторию: севильская башня, или Джиралдабыла воздвигнута в 1196 г. при непосредственномучастии известного математика Гебера13.
Арабская культура проявила себя не только в сферетеоретическо-научного знания, но и в сферепромышленных искусств. В Испании арабы усовершенствуюти расширяют ирригационную систему земледелия, чтоприводит к появлению новых видов и сортов овощей,фруктов, злаковых культур; развивается животноводствои шелководство; улучшается производство кожевенных иткацких изделий; оружие из Толедо пользуетсязаслуженной репутацией и имеет большой спрос как виспанском калифате, так и за его пределами. Арабскоевино прославило Херес и Малагу. В военныхпротивостояниях арабы первые вводят в употребление
13 Весьма характерно, что после изгнания мавров из Севильи, испанцы-христиане не знали как и к чему применить Джиралду и обратили ее вколокольню.
19
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
порох и артиллерию, что приведет к самым серьезнымпоследствиям в европейской военной тактике истратегии. Но особую и неоспоримую значимость имеетвведение арабами морского компаса14, что приводит красширению торговых связей мусульман. Так, АбдеррахманIII получал доход, по-видимому, намного превосходящийдоходы всех вместе взятых христианских правителей. Вэтой связи небезынтересно отметить роль евреев вмавританской Испании. Морской порт Барселоны и портыдругих испанских прибрежных городов, которыеинтенсивно поддерживали торговлю с Востоком,находились по преимуществу в руках евреев. Еще современи первого вторжения эмира Мусы в Испанию евреибыли приверженцами и союзниками арабов-мусульман.Еврейские торговцы содержали на свои деньги большойморской флот, состоящий из тысячи судов, вели обширнуюторговлю с Константинополем и другими городамиВизантийской империи; их корабли доходили до портовИндии и Китая на Востоке и до Мадагаскара в Африке.После изгнания мавров из Испании, именно на евреевбыли вначале направлены преследования инквизиции.
Наименьшим весом в торговле, употреблявшимсяарабскими купцами, было ячменное зерно, а четыре зернаравнялись одной сладкой горошине, по-арабски – карат;эта мера и до сих пор применяется в мировом обращении.Особенно показательно, что практически все современныеевропейские языки (включая и русский) имеют множествоарабских слов и терминов, применяемых как в научномлексиконе, так и в обыденном языке: алхимия и адмирал,
14 Приоритет изобретения остается до сих пор спорным инеоднозначным. См., например: Монтгомери Уотт У. Влияние ислама насредневековую Европу. М., 1976.
20
АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА И МАВРИТАНСКАЯ ИСПАНИЯ
алкоголь и альманах, лютня и гитара, гарем и султан,зенит и зеро и многие другие.
Арабская культура мавританской Испаниираспространяется в страны центральной и севернойЕвропы, тем не менее, несмотря на то что западнаяЕвропа тесными узами была связана с Византийскойимперией, она унаследовала от арабов больше, чем отвизантийцев15.
SUMMARY
The article concerns with the phenomenon of Arabicculture in Moorish Spain and reveals grounds and rootsof its formation starting from the VIII century up tothe XV one.
ПРИМЕЧАНИЯ
15 Это показывает, что феномен арабской культуры мавританскойИспании по сих пор должным образом не отражен в соприкосновении схристианской культурой.
© Ю. Е. Смагин, 2001
21
Е. О. Калугина
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS» В РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ИСПАНИИ ХVI ВЕКА
Ренессанс внес в религиозную жизнь Испании широкийспектр разнообразных течений и направлений. Среди нихследует особо выделить религиозно-мистическое движение«озаренных», иллюминатов («alumbrados»), которое М.Батайон назвал «великой ересью XVI века». Подлинноиспанское в своей сущности, это движение возникло наПиренейском полуострове в начале столетия. В глубинныхистоках оно было связано с духовной жизньюсредневековой Испании, а также с предреформационнымрелигиозным течением «нового благочестия».Малоизученное, это движение вызывало самыепротиворечивые оценки и толкования. Этому немалоспособствовало отсутствие письменного изложениядоктрины «озаренных». Большинство источников дляизучения этого явления происходят из архивовинквизиции, представляют собой материалы процессовпротив иллюминатов. Это способствует созданию крайнеотрицательного образа, вызывает слишком одностороннююоценку движения «озарённых».
Несколько слов о самом термине. В XV векеопределение «alumbrado» – озаренный, просветленный ещене имело того негативного значения, которое предастсяему впоследствии. В «Посланиях святой ЕкатериныСиенской», изданных в 1512 году на кастильском, этослово использовалось для характеристики определенныхгрупп людей, стремящихся к евангельскому благочестию и
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
достижению духовного совершенства посредствомсоблюдения заповедей, практикой мысленной молитвы,основанной на толковании Священного писания. В этихобъединениях «совершенных» («perfectos») духовноевдохновение почиталось больше, чем церковныеавторитеты.1 Термин «озаренный» имел здесьположительный и даже похвальный оттенок. Впоследствиион приобрел резко отрицательный характер, применяясьинквизицией вначале для характеристики отдельных лиц,озаренных мраком Сатаны («alumbrado con las tinieblasde Satanas»)2, а затем, в толедском Эдикте о вере 1525года, как название еретической секты мистическогохарактера.
В основе движения иллюминатов лежало глубинноежелание религиозной свободы, что приводило их кнеприятию обрядового формализма, отказу от церковнойдогматики, католической ортодоксии, от народныхрелигиозных суеверий, граничащих с магией; отпочитания священных образов, реликвий, отказу отобщепринятой молитвенной практики и т. п. Несомненнаобщность этого явления с духовными движениямирелигиозного обновления, ставящими целью нравственноепреобразование общества путём воспитания глубоколичной религиозности, стремления к совершенствованиюпутём «подражания Христу». Оно обнаруживало сходство ис реформационными движениями, потрясавшими Европу вначале XVI века. Ранее в науке существовали два
1 1 Asencio E. El Erasmismo y las corrientes espirituales afines //Revista de Filologia Espanola. 1952. T. 36. P.71
2 2 В письме фрая Антонио де Пастраны кардиналу Сиснеросу от 27августа 1512 года впервые определение «алюмбрадо» применено кнекоему францисканцу , «озаренному мраком Сатаны» // Bataillon M.Erasmo y Espana : Estudois sobre la historia espiritual del sigloXVI. Mexico. 1979. P. 68
23
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
основных направления в изучении движения алюмбрадос: содной стороны, в связи с эразмианством, как это сделалфранцузский исследователь М. Батайон в капитальномисследовании, посвященном духовной культуре ИспанииXVI века,3 с другой – оно рассматривалось в связи слютеранством.4 Действительно, характер религиозностииллюминатов обнаруживал много общего с некоторымиположениями «философии Христа» Эразма Роттердамского,в частности, с его тезисом о «внутренней религии», атакже с лютеранскими идеями индивидуальной веры.Однако, первые «тайные сборища озаренных» -«conventiculos de alumbrados» возникли ранее, чем вИспании были переведены сочинения Эразма.Исследователи все же сильно преувеличили влияние идейфилософа из Роттердама на испанскую культуру XVI века,которое наиболее сильно проявилось в 20-е годы ипродолжалось до 1559 г., когда был опубликован «Индексзапрещенных книг» Фернандо Вальдеса. Истоки движенияиллюминатов лежали гораздо глубже – в средневековойИспании, в которой были тесно переплетеныхристианская, еврейская и арабская традиции. Некоторыеученые даже объясняли движение иллюминатов массовымобращением евреев в христианство, наибольший процент внем составляли новые христиане из «конверсос» -«conversos» – крещенных евреев.5
«Алюмбрадос» не удовлетворяла обрядовая сторона
3 3 Bataillon M. Erasmo y España : Estudois sobre la historiaespiritual del siglo XVI. Mexico. 1979.
4 4 Redondo A. Les premiers “illumines” castillans et Luter // Aspectsdu libertinisme au XVI-e siecle // Actes du Colloque internationalde sommieres. Paris, 1974. P. 84-88
5 5 Bataillon M. Op. cit. P. 179-181
24
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
религии, они стремились к поискам живого личного Бога,искали религиозности, свободной от всяких внешнихатрибутов. Они хотели общаться с Христом в интимнойглубине сердца, глубоко личностно постигая смыслСвященного писания. Как писал М. Батайон: «Испанскийиллюминизм, в широком смысле слова, есть внутреннеехристианство, живое чувство благодати».6 Иллюминизм неимел четко сформулированной письменной доктрины ивыражался с наибольшей полнотой в молитвеннойпрактике.
Главным для «озаренных» был мистический путьобьединения с Богом в любви, в этом заключалось ихсходство с ортодоксальной мистикой, прежде всего,францисканской. Испанский исследователь Э. Асенсиосчитал францисканский источник гораздо более важным,чем эразмианство, для понимания движения иллюминатов,образно называя последнее «испорченная ветвь великогодрева францисканского благочестия» (rama bastarda delgran arbol de la piedad franciscana)7. Францисканскаямистика процветала в начале XVI века в Новой Кастилиисреди членов ордена, реформированного кардиналомФрансиско Хименесом де Сиснеросом. Ее сущностьнаиболее полно и глубоко выражена в Третьем духовномсловаре (Terсer abecedario espiritual), написанномфранцисканским монахом Франсиско де Осуной, и можетбыть охарактеризована понятием «el recogimiento»(сосредоточенное уединение)8. В ее основе лежал особыйметод мысленной молитвы, при котором душа ищет Бога вглубине своего сердца, при полном отказе от мира,6 6 Ibid. P.1677 7 Asensio E. Op. cit. P. 708 8 Bataillon M. Op. cit. P. 167-169
25
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
исключая всякое чувство и всякую мысль. Трактат Осуныпредставлял своеобразный путеводитель души кобъединению с Богом путем очищения ее от страстей ижеланий. Францисканская мистика в 1520-е годы еще непопала под цензуру инквизиции, так как она являласьодной из форм ортодоксальной духовности, которая идетгораздо дальше общепринятых форм католическойнабожности, но не отрицает их. Однако, этот метод неудовлетворял ни блаженную Исабель де ла Крус, нипроповедника Педро Руиса де Алькараса, самых яркихпредставителей первых «озаренных» Новой Кастилии,которые проповедовали «отдание» (себя Богу) (eldejamiento).9
Доктрина «алюмбрадос» также была основана намистическом пути объединения с Богом, на бескорыстнойлюбви и личном внутреннем опыте. Однако они отрицаливсе традиционные формы религиозности, включаясловесную молитву. «Озаренные» верили, что благодатьБожья, воздействуя на душу, приводит ее в стольсовершенное состояние, что лишает свободы воли иделает свободной от всякого морального закона ивсякого греха. Ядром доктрины иллюминатов являлосьсостояние «отдания себя Богу» («el dejamiento»), накотором было основано отрицание разума во всех егопроявлениях: от наиболее внешних – авторитета теологовдо самых личностных и внутренних – мыслей о Боге вовремя молитвы.
В этом состоянии происходило объединение души сБогом в любви. Любовь к Богу для того, кто познал ее,являлась не только кульминацией духовной жизни, но иее принципом. Отсюда следовал императив: «Кто отдается9 9 Ibid. P. 169-176
26
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
этой любви Бога … не может совершать ни мелких, нисмертных грехов». Это приводило к доктринебезгрешности человека, озаренного Божественнойлюбовью1010. Сущность учения «алюмбрадос» наилучшимобразом передает фраза: «Любовь Бога в человеке естьБог», признанная еретической толедским эдиктом 1525года. Известный теолог-доминиканец Мельчор Канополстолетия спустя увидел в ней квинтэссенциюиллюминизма.1111
Иллюминизм призывал божественное вдохновение преждевсего против религиозного формализма, против внешних,рутинных форм религиозности. «Озарённые» утверждали,что тот, кто не познал, что значит отдаться Богу влюбви – может сколь угодно осенять себя крестнымзнамением, ударять себя в грудь, кропить святойводой... становиться на колени, целовать землю.1212Сама молитва являлась для них «путами», мешающимипознать Бога. «Почему – спрашивали они – молиться вцеркви лучше, чем в любом другом месте? Зачем молитьсятеми или иными словами, а не этими? Зачем произноситьмолитву вслух?»1313. Они не признавали ни монашескуюжизнь, ни индульгенции, ни отлучение от церкви,соблюдение постов и добрые дела, исповедь, культсвященных изображений и поклонение кресту, церковныетаинства. Все вышесказанное объясняет, почемуинквизиция была сильно обеспокоена пропагандой учения«озаренных, отдавших себя Богу или совершенных»1010 Abellan J.L. Historia critica del pensamiento espanol. En 3 vols.Madrid, 1984-1989. Tomo II. La Edad de Oro. 1986. P.43
1111 Bataillon M. Op. cit. P. 1711212 Ibid. P.1731313 Ibid.
27
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
(«alumbrados, dejados o perfectos»). Подозрение уцерковных авторитетов вызывало то, что иллюминаты, непринадлежа как правило ни к какому из религиозныхорденов, отделяются от общин верующих католиков,образуя «сборища » людей, объединенных вокругблаженной или учителя тайной практикой духовныхупражнений.
В этом движении огромную роль играли набожныеженщины, которых называли «блаженными провидицами, илиозаренными » («beatas revelanderas o alumbradas»),которые проповедовали особые формы религиозной жизни вмиру и почитались как наделенные сверхьестественнойблагодатью и даром пророчества. Первой была Мария деСанто Доминго, монахиня третьего доминиканскогоордена, более известная под именем «Блаженная изПьедраиты» (la Beata de Piedrahita), вслед за которойпоявилось множество блаженных в Андалусии, Кастилии иЭстремадуре, увлекавших своими доктринами имолитвенной практикой простых людей и даже клириков,которые повиновались им как учителям. Атмосфераподозрения, которую вызывали эти блаженные, былатакова, что инквизиция сомневалась в искренности иортодоксии всякой женщины, которая словом или писаниемобращалась к аскетическим или мистическим темам исовершала духовные упражнения, малоизвестные основноймассе верующих. Даже кармелиток Севильи, саму святуюТересу подозревали в иллюминатстве.
Любопытно, что две противоположные тенденции виспанской мистике XVI века – ортодоксальных мистиков,которые никогда не разрывали связи с Церковью и еётаинствами, но ставили их в основу внутренней жизни, иеретическое движение «озаренных», для которых
28
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
единственно мысленная молитва была достаточна дляслияния с Богом – наблюдались и в духовной культуремусульманской Испании XIV–XV веков – в среде исламскихмистиков суфийской школе садили, на что указалвыдающийся испанский арабист М. Асин Паласиос. Онотмечал, что среди них также существовали секты,отличные от религиозных орденов, объединенныеобщностью морального, аскетического и мистическогокодекса, который они исповедовали, а также указывал набольшую роль, которую играли в них блаженные женщины.Причем, для ислама не было ничего странного впроповедницах подобного рода. В молитвенной практикеэтих сект основную роль играла ментальная молитва,включающая серию психических состояний (околоодиннадцати), из которых большое значение имела стадия«отдания себя Богу» (la morada del dejamiento). АсинПаласиос выдвинул гипотезу о влиянии ее на доктринуиллюминатов1414.
Но вернемся к XVI веку. Первые ростки движения«озаренных» появились в Кастилии в 1510-е годы.Современный исследователь этого движения А. Маркесопределял хронологические рамки его первого периода1519 – 1529 годами1515. Очагами ереси являлисьПастрана, Гуадалахара с центром во дворце герцоговИнфантадо и замок маркизов де Вильена в Эскалоне.Иллюминизм в Новой Кастилии был ограничентерриториально и специфичен по социальному составу:несколько семейств кастильской знати, в первую очередьфамилия герцога Мендосы, небольшой круг городской1414 Asin Palasios M. Shadilies y alumbrados // Al Andalus. 1946.Tomo XI.P.4
1515 Abellan J.L. Op. cit. P. 41
29
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
буржуазии из Гуадалахары, почти все они, как правило,происходили из «конверсос». Они объединялись вокругблаженной Исабель де ла Крус, наиболее яркойпредставительницы первого этапа движения «озаренных»,и проповедника Педро Руиса де Алькараса, неявлявшегося священником. К движению относят такжегруппу клириков из Пастраны, где в течение многих летпродолжал тайно существовать очаг иудаизма. Ведущуюроль среди них играл Гаспар де Бегойа1616. Движениепостепенно росло. Инквизиция, встревоженная егоразмахом, увидела в нем ростки лютеранства. В 1525году в Толедо был провозглашен Эдикт о вере,направленный против «озаренных», содержащий 48 пунктовобвинения, согласно которому, каждый верующий обязанбыл доносить на любого, кто мог быть заподозрен вприверженности к иллюминатам или лютеранам1717. Впервой половине 1530-х годов состоялись процессыпротив наиболее активных членов секты.
Новое оживление движения наблюдалось в 1550-е –1570-е годы в Эстремадуре1818. В Бадахосе, Фуэнте деКантосе, Талаверуэле, Льерене, Фуэнте де Маэстре,Сафре, Фрегенале де ла Сьерре и других городах иселениях существовали тайные очаги иллюминатства. Оереси «озаренных» в Эстремадуре известно благодаряопубликованию из архивов инквизиции серииобличительных писем-доносов, составленных доминиканцем
1616 Bataillon M. Op. cit. P. 169-189; Abelan J.L. Op. cit. P.42-431717 Bataillon M. Op. cit. P.1901818 Очаги ереси «алюмбрадос» наблюдались в эти годы и в Андалусии,преимущественно в Хаэне и Кордове. Их доктрина была сходна стаковой иллюминатов Новой Кастилии, но от последних их отличалэротико-религиозный характер молитвенной практики. См., например,Beltran de Heredia O.P. Los alumbrados de la diocesis de Jaen //Revista Española Teologiсa. 1949. № 9. P.161-222, 445-488
30
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
Алонсо де ла Фуэнте, знаменитым преследователемиллюминатов1919. Его «Мемориал» охватывал период сконца 1570 года, когда доминиканец был направленпроповедовать в свое родное селение Фуэнте де лаМаэстру и где впервые обнаружил «сколь зло иподозрительно было это учение»2020 и до 1575года.
А. де ла Фуэнте отмечал широкое распространениеереси в землях Эстремадуры, а также указывал, чтобольшинство его членов составляли блаженные женщины,которых он называл «театинками и созерцательницами».Многие из них не являлись монахинями, но были«простыми служанками». Он отмечал большоепренебрежение иллюминаток к молитве, произносимойвслух, говоря, что только умственную молитву считаютподходящей для них.2121 Фрая Алонсо поражало и казалосьподозрительным, что эти женщины, которые едва зналиосновные церковные молитвы, в своей молитвеннойпрактике поднимались до самых высоких стадийбожественного созерцания. Высшая ступень христианскогосовершенства на мистическом пути к Богу, заключающаясяв соединении с Ним в Любви, которая достигаласьизбранными путем величайших усилий и самоотречения,для иллюминаток была обычным и широко распространеннымпринципом молитвенного опыта. Для их религиозной жизнибыли характерны обмороки, экстазы и сверхъестественныевидения. Одна из них, звавшаяся Мари Санчес, достигла
1919 Этот мемориал был опубликован. См.: M.Mir y el P.J.Cuervo O.P. Losalumbrados de Estremadura en el siglo XVI // Revista de Archivos,Bibliotecas y Museos (RAMB). 1903, № 9. P. 203-206; 1904, №10.P.64-67; № 11. P.179-191; 1905. №12. P.459-463; №13. 57-62, 262-271
2020 RAMB. 1904, № 10. P. 662121 RAMB. 1904, № 11. P. 184
31
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
такого совершенного состояния, что причащалась каждыйдень, так как имела необычайный душевный голод, и еслией не давали гостии, испытывала сильные боли истрадала от мук2222 Последовательница Мари Санчеспризналась отцу Алонсо, что однажды узрела «как будтотелесными очами, что стоит у подножия креста сраспятым Христом и видит бегущую кровь, которая ееомывает»2323 . Фрай Алонсо указывал на «великуюпраздность» иллюминатов. «Многие из них переставализаниматься общественными делами и проводили все дни всозерцании…»2424 Некая иллюминатка пребывала в такомблаженном состоянии, что каждый день видела ИисусаХриста. Однажды она узрела младенца Иисуса, лежащего вяслях, другой раз Господа на кресте, третий раз,Христа, привязанного к колонне и все это так ясно иотчетливо «как будто телесными очами». В состоянииэкстаза она видела Господа во славе и слышалабожественную музыку. В один из дней, когда А. Де лаФуэнте находился в храме и беседовал с нею, она«помутилась в разуме и упала без чувств. Я пытался ееподнять, но она не приходила в себя, как если бы онабыла из камня. И когда прошел экстаз и она пришла всебя, как человек, которого пробудили от глубокогосна, и сказала мне, что видела великолепие небес…»2525Он отмечал также, что даже ученые теологи не знали, отБога или Дьявола происходили подобные видения и «имеливысокое мнение о святости этих людей». Большинствосвященников, покровительствующих ереси, принадлежали кновым христианам, происходили из «конверсос». Фрай
2222 RAMB. 1904, № 10. P. 662323 RAMB. 1904, № 11. P. 1802424 RAMB. 1904, № 10. P. 662525 RAMB. 1904, № 11. P. 181
32
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
Алонсо указывал в «Мемориале», что в Сафре изсемидесяти священников шестьдесят были евреями2626. Онобвинял также францисканцев из монастыря де Ла Лапы изокрестностей Сафры в том, что они являлись «друзьямииллюминатов».
Прямую вину за возрождение и распространение ереси«озаренных» Алонсо де ла Фуэнте возлагал на святогоХуана де Авилу, «Апостола Андалусии», под влияниемпроповедей которого в Эстремадуре появилось огромноечисло блаженных2727. Доминиканец находил «росткиковарной ереси» и в сочинениях ученика де Авилы, фраяЛуиса де Гранады, выдающегося проповедника ирелигиозного писателя. Произведения последнего имелиширокое хождение в Эстремадуре и были со страстьючитаемы в той экзальтированной среде. Враспространении ереси были повинны, по мнению фраяАлонсо, и «театинцы или иезуиты».2828 Он рассматривал«Духовные упражнения» Игнасио де Лойолы какруководство по магии. Алонсо де ла Фуэнте обвинял впотворстве иллюминатам даже епископов Бадахоса, донаКристобаля де Сандоваля и Рохаса и дона Хуана деРиберу, будущего архиепископа Валенсии. О последнем онписал, что «хотя вначале он показал себя противникомиллюминатов, за очень короткое время они обратили егов свою веру и сделали его столь послушным, что он,доверяя вышеупомянутым алюмбрадос, вверил им всеуправление в своих церквях и оказывал им те жемилости, что и дон Кристобаль де Рохас… Особенно,самых просветленных (иллюминаток), которые пребывали вэкстазах и испытывали (физическую боль) от язв Христа,2626 RAMB. 1905, № 13. P. 612727 RAMB. 1905, № 13. P. 2692828 RAMB. 1905, № 12 P. 460
33
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
приходил расспрашивать (об их видениях) и признавая ихэкстазы и видения, восхвалял их и преподносил особыедары»2929. А. де ла Фуэнте имел некоторые основания длясвоих обвинений. В ту эпоху, стремясь к преобразованиюрелигиозной жизни, многие теологи отходили отобщепринятого, поддерживали поиски в области«внутренней религиозности», индивидуальные искания,опиравшиеся на личное откровение. Кроме того, духовнаядоктрина Хуана де Авилы, Луиса де Гранады и ихпоследователей включала такие положения какпредпочтение мысленной молитвы словесной, медитациинад Страстями Христовыми, часто выражавшиеся в видесильных эмоций и слез и т. п.
Однако, «озаренные» в своей молитвенной практикесильно искажали и вульгаризировали отдельные пункты ихучения. «Алюмбрадос» полагали, что испытывать вмедитации особый жар, трепет, скорбь и обмороки,особенно при созерцании язв и Страстей Христовых, естьпризнак особой любви к Богу и знак обладаниябожественной благодатью. Святой Хуан де Авила сгоречью писал о «ложной святости» этих людей,называющих себя его учениками, но на деле неявляющихся ими, которые полагали, что «подлиннаялюбовь к Богу совпадает с чувством любви». «О, брат!..- писал он одному из своих последователей, - берегитесвоё тело от всего, что требует от вас наслаждение,набожность, удовольствие и желание... упражняйтесь вчистом страдании Христа ради, в чтении и молитве,покаянии, исповеди, причащении и послушании и висполнение всех добродетелей, и не заблуждайтесь... Яхочу, чтобы вы знали, друг, что... легковерные и2929 RAMB. 1905, № 12 P. 461
34
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
слабые сердцем и обделённые благодатью Святого Духаочень часто ощущают эту чувственную сладость ивнутреннее волнение, которое не всегда испытываютистинно любящие Бога...»3030
Один из основных пунктов обвинения Алонсо де лаФуэнте и был направлен против чувственного характерамедитаций «озарённых». Ибо в соответствии с ихдоктриной выходило, что «…тот, кто не имеетчувственных посещений Бога - не находится в егоблагодати, не знает ее, не знает секрета добродетели.Способ, которым этот бог общается с этими людьми,является таким: они чувственно ощущают в себеприсутствие Господа… [Слова, наиболее употребляемыеими:] божественное чувство, божественное вдохновение,божественное посещение, крест христианина, дарыГоспода, живое познание Бога (божественный жар). Всеэти определения понимаются еретически, так как этодемон действует в них с чувственным порывом».3131
Фрай Алонсо обвинял алюмбрадос и в телеснойневоздержанности. Доминиканец утверждал, что являетсядемон в образе Христа и возжигает в душах женщинстрастные плотские желания... Он писал, что доктринаиллюминатов «была в своей основе очень запутанной инавеянной дьявольскими кознями и магическимичарами»3232. Обвинения в демонизме составляли самыйважный пункт, который фрай Алонсо предъявлялиллюминатам. Любопытно привести отрывок из
3030 Sala Balust L. En torno al grupo de alumbrados de Llerena //Corrientes espirituales en la Espana del siglo XVI // Trabajos deII Congreso de espiritualidad. Barcelona. 1963.P. 512-513
3131 Ibid. P.515-5163232 RAMB. 1904, № 11. P. 181
35
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
«Мемориала», ярко характеризующий дух эпохи. В нёмречь шла о чудесном появлении в окрестностях Сафрынаводящей ужас змеи чудовищных размеров, которую якобывидели многие из местных жителей. Она «оставила явныезнаки того, что являлась не земною змеёй, но созданиемвысшим и демоническим...» Фрай Алонсо де ла Фуэнтетрактовал это «пророческое» видение следующим образом:«Новая ересь алюмбрадос является по сути бесовскойдоктриной... дьявола, который столько лет скрывался всердцах этих людей, захотел Господь, по своемумилосердию, обнаружить миру ... и страшное чудовищесекты алюмбрадос должно было проявиться в городеСафре»3333.
Доминиканец не жалел чёрной краски, живописуя«бесовскую» ересь, которую он обнаружил в Эстремадуре.Хотя фрай Алонсо и имел основания для обвинений,созданный им резко негативный образ духовного движения«озарённых» был связан, в первую очередь, с крайнеподозрительным отношением официальной церкви иинквизиции ко всяким индивидуальным исканиям в области« внутренней религиозности».
Третий этап движения иллюминатов был связан сАндалусией и относится к началу XVII века, в связи счем остается за рамками нашего исследования3434.
В заключении следует подчеркнуть, что в религиознойжизни Испании первой половины, середины XVI века,столь напряженной и разнообразной, области ортодоксиии ереси не были еще столь разграниченными, как
3333 RAMB. 1905, № 13 P. 263-2643434 Об «алюмбрадос» Андалусии см.: Enciclopedia universal ilustradaeuropeo-americana. En 70 tomos. Barcelona-Madrid. 1924-1930. T.28.P.1020
36
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
впоследствии. В движении иллюминатов взаимодействовалии переплетались, влияя друг на друга, различныетенденции, идущие от христианской традиции, и прямопротивоположные ей, имеющие глубокие и сильные корни вдуховной жизни средневековой Испании. Вместе с тем, вереси «озаренных» ярко проявилась характернаяособенность религиозной мысли эпохи. Ее образновыразил известный испанский исследователь АмерикоКастро: «… одна и та же волна омывала аскетов,пиетистов, иллюминатов, эразмистов и мистиков,стремившихся утвердить свое религиозное сознание какавтономное и индивидуальное»3535.
SUMMARY
The religious movement of the “alumbrados” aroseon the Pyrenean peninsula in the beginning of the XVIcentury. In this “great heresy of the century”different trends interacted, both those originatingfrom the Christian tradition and those contradictoryto it, having deep and strong roots in the spirituallife Medieval Spain. The “alumbradismo” did not haveany strictly formulated written doctrine. Most of allit was expressed in the practice of prayer. Theessence of the doctrine of the “alumbrados” may bebest rendered in a sentence “ God’s love in man isGod.” During the century the movement of the
3535 Castro A. Teresa la Santa y otros ensayos. Madrid. 1982. P.48 (ПереводЗ.И.Плавскина. См.: Плавскин З.И. Литература Возрождения вИспании. СПб., 1994. С.128
© Е. О. Калугина, 2001
37
ДВИЖЕНИЕ «ALUMBRADOS»
“alumbrados” went through several stages. Declaredheretical, it was heavy persecuted by the Inquisition.
ПРИМЕЧАНИЯ
38
А.В. Морозова
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ГЕРОИЧЕСКОЙ ТЕМЫ В ИСПАНСКИХТРАКТАТАХ ПО ИСКУССТВУ XVI ВЕКА
Явления художественной жизни страны тесно связаны с ееисторической и общекультурной ситуацией. По мнениюисториков, «в целом в течение большей части XVI в. впестром калейдоскопе политических и военных успехов инеудач Испании все же преобладали громкие победы»16. Кконцу XV в. Испания превратилась в сильную державу,способную влиять на ход европейской политики. В началеXVI в. в состав испанского государства прочно вошлоНеаполитанское королевство. Быстрыми темпамипродолжалась испанская колонизация Нового Света. Рядопорных пунктов Испания захватила на северномпобережье Африки. В 1516 г. фактическим королемИспании провозглашается Карл I. В 1519 г. он былизбран императором Священной Римской империи подименем Карла V. Под властью Карла V оказались Испанияс ее заокеанскими колониями и арагонскими владениями всеверной Африке, Нидерланды и имперские земли заисключением Венгрии и Чехии. При Карле V еще большерасширились колониальные владения Испании. Ряд громкихпобед принесли Карлу V европейские войны. В 1530 г. вБолонье Клемент VII торжественно короновал Карлаимператором Священной Римской империи и королемЛомбардии. Сокрушительное поражение Карл V нанеспротестантам в битве под Мюльбергом в 1547 г.. Империя
16 Ведюшкин В.А. Страны Пиренейского полуострова // История Европы в8 т. С древнейших времен до наших дней / Под ред. Чубарьяна А.О.,Виппера Ю.Б., Волкова В.К. и др.. Т.3. От средневековья к новомувремени. М., 1993. С.230.
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
Карла V по размерам территории, количеству населения иполитической мощи превзошла крупнейшую империю вистории Европы – Римскую.В 1556 г. после отречения Карла V от престолаиспанским королем становится сын Карла V Филипп II. Изимперских владений Карла V Филиппу II переходятНидерланды, Милан, Франш-Конте. В 1557 г. при Сан-Кантене Филипп II одерживает крупную победу надвоенными силами Франции – главного соперника интересовИспании в Италии. При Филиппе II 7 октября 1571 г. приЛепанто морскую победу над турками одержала СвятаяЛига – возглавляемая Испанией европейская антитурецкаякоалиция. В 1580 г. Филипп II стал португальскимкоролем, объединив под своей властью испанские ипортугальские колониальные владения, все продолжавшиерасширяться во второй половине XVI в.. С этого моментавладения короля Испании были действительно такими, вкоторых «не заходило солнце». Испания с конца XV в. вступает в эпоху Возрождения.Основные принципы ренессансного гуманистическогомироощущения – утверждение права человека на свободу исчастье, вера в присущие человеку от природыбескорыстие, благородство, осознание собственногодостоинства. На смену авторитетам средневековья вэпоху Возрождения приходит ориентация на античныхписателей, мыслителей, художников как на образец дляподражания. Очень важной особенностью культурыВозрождения является ее в целом оптимистический,жизнерадостный характер, органичной частью которогостановится героическое начало.Культура Возрождения в Испании при наличииперечисленных выше признаков имела ряд характерныхпризнаков, к которым принадлежала особая значимость
40
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
идеи чести как высшего нравственного императива. Какотмечает З.И.Плавскин, «королевская власть и правящаяверхушка испанского общества в эту эпохусознательно ... поддерживала рыцарские нравы и идеалы,видя в них ... действенное средство воспитанияпреданных солдат... Победы испанского оружия ...способствовали, в свою очередь, распространению иукреплению преувеличенных представлений о «чести»,«доблести» и «мужестве» испанского дворянства»17. Такимобразом, героическое начало, как составная частьгуманистического мироощущения эпохи Возрождения, вкультуре Испании XVI в. получило особое развитие. Героическое начало как составная частьгуманистического мироощущения эпохи Возрожденияполучило большое развитие в искусстве Испании XVI в..В испанском зодчестве объединение страны под властьюкатолических королей сказалось в появлении«...сооружений, пропагандирующих в архитектурныхобразах величие и могущество королевской власти»18. Вскульптуре героическое начало наиболее ярко проявилосьв надгробной пластике и в архитектурном декоре. Виспанской живописи – в жанре портрета. Античныеобразы, с наступлением эпохи Возрождения появляющиесяв декоре испанских памятников, трактуются героически.Обращение к античности как сокровищницеобщегуманистических ценностей было характерной чертойиспанской культуры эпохи Возрождения. Испанскиетеоретики искусства XVI в. в качестве образца дляподражания предлагают современным мастерам античное
17 Плавскин З.И. Литература Возрождения в Испании. СПб., 1994. С.2918 Савицкий Ю.Ю. Этапы развития Ренессанса и Барокко. Диссертация насоискание ученой степени кандидата архитектуры. Академияархитектуры СССР. М., 1949. С.118.
41
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
искусство. Описывая античные художественныепроизведения, в частности, античную скульптуру, особоевнимание авторы уделяли изображению сильныхмужественных героев и героинь, полководцев,императоров. «...проблема героического образа» была«...закономерной в стране, на протяжении многихстолетий участвовавшей в оборонительных изавоевательных войнах»19.Первая испанская книга, посвященная античномуискусству, – «Измерения римлян» Диего де Сагредо (1526г.). Автор трактата настаивает на необходимости длясовременных мастеров изучать и использоватьстроительный, художественный и теоретический опытдревних. Рассуждая об искусствах механических исвободных и утверждая, что скульптура и живописьявляются свободными искусствами, Д. де Сагредоопирается на точку зрения античных теоретиковискусства, говоривших, «что нет искусства болеезнаменитого, чем живопись, которая представляет нашимглазам древние подвиги»20. Таким образом, Д. де Сагредоглавное достоинство античных художников видит в том,что они живописали героические деяния своих предков.Кристобаль де Вильялон, автор «Остроумного сравнениядревнего и современного» (1539 г.), в уста одного изучастников диалога, в форме которого построеносочинение, вкладывает восхищенное описание античной
19 Каганэ Л.Л. Испанские авторы XVI в. о портрете. – ТрудыГосударственного Эрмитажа. Л., 1973. Т.14. С.38.
20 Sanchez Canton F.J. Fuentes literarios para la historia del ArteEspanol. Madrid, 1923-1944. T.I. P.16. «... diziendo que no puedeser arte mas noble ni de mayor prerogatiua que la pintura que nospone ante los ojos las hystorias y hazanas de los passados...»
42
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
статуи Порции21 . Порция – древняя римлянка, жена МаркаБрута. История Порции являет собой суровый примерсупружеской верности. После того как ее муж кончилсамоубийством, она также покончила с собой, проглотивгорящий уголь. Испанцев несомненно притягивалгероический ореол многих античных образов.Франсиско де Оланда, автор «Диалогов о живописи» (1548г.), красочно описывает свои впечатления отдревнеримских руин. «...особенно любил я, – пишет Ф.де Оланда, – тех древних людей, которые изваяны изкамня на арках и колоннах старых построек... и многоеузнал я у них и их сурового молчания»22. Ф. де Оландаявно имел в виду героические изображения стриумфальных арок Древнего Рима.Фелипе де Гевара в своих «Комментариях о живописи»(1560 г.?), приводя в пример современным художникамдревних мастеров, отмечает, что Апеллес написалобнаженного «Героя» так, что его живопись соперничалас природой23. Слово «Герой» у Гевары написано с большойбуквы, автору было важно не только то, как писалАпеллес, но и то, кого он изображал. «Я бы хотел, ...чтобы те, кто имеет таланты в искусстве, прославились,имея столь замечательные примеры, как те, что мыпривели...»24 , – отмечает далее Гевара, подразумевая,
21 Испанская эстетика. М., 1977. С.111-112.22 Sanchez Canton F.J. 1923-1944. T.1. P.48. “...y mas amava yo aquelloshombres antiguos de piedra que en los arcas y colunas estavanesculpidos por los viejos edificios, ... y mas de ellos aprendia yoy de su silencio grave”.
23 Sanchez Canton F.J. Op. cit. T.1. P.171.24 Ibid. P.179. «...querria ... para que los que en el arte estanaventajados, se glorien, teniendo tan excelentes exemplos, como losque les hemos puesto delante...»
43
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
что необходимо подражать древним и в форме, и всодержании произведений искусства.Испанский теоретик Диего де Вильяльта для своей книги«Об античных статуях» (1590 г.), в которой авторприводит и зарисовки античной скульптуры, «...специально выбирает для воспроизведения военныхгероев, проявляя характерно испанский интерес к ихобразам. ...Вполне понятно, что изображенияполководцев были особенно притягательны для испанцев втворчестве античных художников»25. Вильяльта особовыделяет такие античные статуи, как «статую Семирамидына лошади, со шпагой в правой руке», статую «КатонаУтического со шпагой в правой руке, левая рукавытянута в жесте приветствия», «статую Траяна налошади в курбете»...26 Вильяльта описывает исовременные памятники, например, бронзовую статуюФилиппа II. «...Вильяльта прямо указывает, что именнопо примеру античных статуй Филипп II наряжен вдоспех»27. В создании современных статуй также часторешающую роль играло стремление к героизации,художественным приемам которой современные мастераучились у древних.Амбросио де Моралес в «Путешествии» 1572 г., описываяантичную скульптуру с изображением Горациев иКуриациев из испанского города Усильос, добавляет, чтовеликолепие этого произведения можно выразить словамиБерругете, который, увидев памятник, воскликнул:
25 Каганэ Л.Л. 1973. C.34.26 Sanchez Canton F.J. Op. cit. T.1. P.289. «Estatua de Semiramis, acaballo y con espada en la diestra», «Caton de Utica espada en lamano dra. y como arengando con la izquda», «Estatua de Trajanoecuestre y caballo en corveta».
27 Каганэ Л.Л. Указ. соч. 1973. С.35.
44
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
«Ничего лучше я не видел и в Италии… и мало чего виделстоль же хорошего»28.Испанцы XVI в. ценили героический настрой не только вантичной скульптуре, но и в античной архитектуре. Так,падре Хосе де Сигуэнса, испанский историк, гуманист,писал (1600-1605 гг.) об античном акведуке в Сеговии,что это «замечательное произведение, котороепоказывает ... большую душу древних, которая помогалаим понимать героическое»29 .Важной в свете интереса к античности являетсядиктовавшаяся в том числе соображениями престижасобирательская деятельность испанской знати. Мартин деГурреа и Арагон, герцог де Вильяермоса и граф деРибагорса (1526-1581 гг.) в «Рассуждениях о медалях идревностях» описывает свою коллекцию статуй. Вчастности он очень гордится уменьшенной копиейантичной статуи Юлия Цезаря, заказанной им специальнодля своей коллекции30. Известно, что коллекция герцогавключала также изображения Помпея и Адриана. Владельцуявно импонировал героический дух Древнего Рима.Фрай Хуан де Сан Херонимо в «Описании Эскориала»(1563-1591 гг.) упоминает важные для нас фактыдеятельности гуманиста, библиотекаря монастыря АриасаМонтано31. По распоряжению Ариаса Монтано в библиотеке
28 Sanchez Canton F.J. Op. cit. T.1. P.276. «Ninguna cosa mejor he vistoen Italia… y pocas tan buenas».
29 Siguenza, Fray Jose de. Historia de la orden de San Jeronimo, 1600-1605. – Sanchez Canton F.J.. 1923-1944. T.1. P.334. «[De larestauracion del acueducto de Segovia] ...obra ilustre en que semuestra ... el gran animo que tenian los primeros [la antiguedad],para emprender obras heroicas...»
30 Sanchez Canton F.J. Op. cit. T.1. P.341.31 Memorias de fray Juan de San Jeronimo (1563-1591). El monasterio
45
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
Эскориала были поставлены изображения римскихимператоров. Героическая тематика органично включаласьв XVI в. даже в декор библиотек.Из написанного в 1590 г. Диего де Вильяльтой труда «Обантичных статуях»32 известно об испанскихколлекционерах античных произведений искусства: Диегоде Мендосе, Луисе де Авиле, герцоге де Алькала. Авторсообщает, что «...дон Диего де Мендоса, будучи посломв Риме, собрал около 50 античных статуй, наиболеезамечательных из тех, что только можно увидеть в мире.Среди них статуи ...Юпитера Капитолийского и другие.»33
Известно, что из коллекции Диего Уртадо де Мендосы(1503-1575 гг.) происходят мраморные головы Цезаря,Траяна, Антиноя, Вителия, Юлии Домны, а также головагладиатора (первая половина XVI в., анонимный мастер,Венеция или Рим) из музея Прадо. Головы представляютсобой ренессансные копии древних скульптур. Для насзначим интерес коллекционера к изображениямдревнеримских полководцев, воителей, императоров иличностей из императорского окружения.«Дон Луис де Авила, – продолжает далее Д. деВильяльта, – придворный Карла V, командор орденаАлькантары, маркиз де Миравель, собрал некоторыестатуи и многие древности в чудесном саду своегодворца в Пласенсии. Среди этих статуй – статуя Юлияребенком, изображенного с птичкой в руках и змеей,
de San Lorenzo de el Escorial (впервые издана в 1845 г.) // SanchezCanton F.J. Op. cit. T.1. P.245.
32 Villalta, Diego de. De las estatuas antiguas. – Sanchez Canton F.J..1923-1944. T.I. Pp.291-292.
33 Villalta, Diego de. Op. cit.: «...don Diego de Mendoca ... q siendoembaxador en Roma recogio cassi cinquenta statuas antiguas de lasmas excellentes que pudo aver en el mundo, entre ellas ay ... otra[statua] de Jupiter Capitolino y otras tales.”
46
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
которая по виноградной лозе подкрадывается к птичке.Это восхитительная скульптура, снабженная стихамистоль же древними, как и статуя, которая была найденав Мериде. Дон Пер Афан де Рибера, герцог де Алькала,будучи в Неаполе, вывез из Италии прекрасные статуи,которые можно видеть сейчас в Севилье в его богатейшихдомах, называемых домами маркиза де Тарифа. Многиестатуи таковы, что знаменитые скульпторы никогда неперестанут ими восхищаться; прежде всего, это колоссиз Алегриа, одно лицо этой статуи без всякихпояснительных надписей свидетельствует, какова былався фигура...»34 Статуи Юпитера, Юлия Цезаря, колосс неслучайны в коллекциях XVI в. Они отражают тягуколлекционеров к героическим образам.Античные статуи из коллекции Диего де Мендосы ковремени Вильяльты перешли к Филиппу II35. Из рода семьиМендосы в библиотеку Эскориала перешла и коллекциярисунков с античных скульптур, так называемый
34 Ibid.: “... El segundo fue don Luis de Avila de la camara delEmperador Carlos Quinto comendador mayor de Alcantara y marques deMiravel junto este gran cavallero algunas statuas y muchasantiguallas en el marauilloso jardin pensil que hizo en Plasenciaen las cassas de aquel marquesado. Entre las otras esta la statuadel nino Juliano con vn paxarito en la mano y vna culebra que porvna parra esta acechando al paxarillo, toda es admirable sculturacelebrada alli con seis y ocho versos tan antiguos como la statua,q fue hallada en Merida. El postrero fue el duque de Alcala DonPerafan de Ribera que siendo vyrrey de Napoles embio de alli y detoda ytalia muchas y excellentes statuas que se veen agora enSeuilla en sus muy ricas cassas que llaman del marques de Tarifa.Muchas ay cierto que nunca acaban los grandes sculptores decelebrarlas y admirarse dellas, y entre todas es muy insigne elgran colosso de la Alegria que en solo el rostro sin ningunaynsignia muestra cuya es la figura».
35 Ibid. T.I. P.291.
47
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
эскориальский кодекс, содержавший немало героическихобразов – изображения Геракла, изображения рельефов стриумфальных арок Древнего Рима. Джованни Риччо,кардинал де Монтепульчано, нунций папы Павла III,подарил в 1539 г. принцу Филиппу, будущему Филиппу II,двенадцать бюстов римских императоров – мраморныекопии с античных оригиналов36. Гардеробная мадридскогоАлькасара, судя по описаниям путешественника ДжованниБаттиста Вентурино (1571 г.), была украшена античнымиголовами Ганнибала, Пирра, Септимио Севера и Адриана,подаренными Филиппу II папой Пием IV37. В коллекциюФилиппа II попали и портреты античных императоров(антики или копии с антиков) – подарок (в период с1566 г. по 1572 г.) от бывшего тосканского герцогаФранческо Медичи папы Пия V38. Известно, что вколлекцию Филиппа II входили и произведениясовременных художников на героические античные сюжеты.Так, Веспасиан Гонзага в 1577 г. подарил Филиппу IIкартину Джулио Романо, предназначавшуюся для переводав стенную роспись, с изображением римских консулов,отправляющихся на войну39. Особую группу источников по культуре Испании XVI в.представляют собой сочинения так называемыхмифографов, авторов, повествующих о легендарных векахиспанской истории. В Испании эпохи Возрождения была
36 Madrazo D., Pedro de. Viaje artistico de tres siglos por lascolecciones de cuadros de los reyes de Espana. Barcelona, 1884.P.69.
37 Felipe II. Un monarca y su epoca Un principe del Renacimiento. Elcatalogo de la exposicion en el Museo Nacional del Prado. 13 deoctubre de 1998 – 10 de enero 1999. Madrid, 1998. P. 45.
38 Rouches G. La peinture espagnole. Paris, 1923.39 Agustin Bustamante, Garcia. Datos sobre el gusto espanol del sigloXVI. // Archivo espanol de arte, 1995. V.68. N271. P.305.
48
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
очень популярна мысль о том, что античные боги и героиступали на испанскую землю. Мифографы попыталисьаргументировать данный тезис. Их сочинения вводятИспанию в контекст античной мифологии. В неизданной«Истории Севильи», написанной около 1535 г. хронистомЛуисом Перасой, рассказывается, как Геракл основалСевилью и какие подвиги он там совершил. Вдоказательство античного прошлого города приводятсяописания античных руин на территории Севильи40.Севильский гуманист Маль Лара (1524-1571 гг.)подтверждал, что город был основан Геркулесом и ЮлиемЦезарем. Для статуи Геркулеса, водружавшейся в честьвъезда в Севилью в 1570 г. Филиппа II, Маль Ларапридумал следующую пояснительную надпись: «Я [т.е.Геракл] основал этот город. Юлий Цезарь поставилстены. Карл его украсил. И ты дашь ему благоденствие»41
. Наиболее известными испанскими мифографами XVI в.являются Флориан де Окампо, автор «Всеобщей хроникиИспании» (1543 г.), и И.Мариана (1536-1624 гг.),написавший «Всеобщую историю Испании» (конец XVI в.).Испанские мифографы утверждают факт причастностиИспании к героике античной мифологии. Испанцы были прекрасно осведомлены о тех античныхруинах, которыми могла похвалиться их родина.Скрупулезное перечисление античных памятников,сохранившихся на территории Испании, можно найтибуквально в каждом теоретическом сочинении XVI в.,посвященном вопросам искусства. Л.Пераса пишет обантичных руинах в окрестностях Севильи в районе,
40 Lleo Canal V. Nueva Roma. Sevilla, 1979. P.156-158.41 Lleo Canal V. Op.cit.. P.175. “Yo (i.e. Hercules) funde esta ciudad.Iulio Cesar puso los muros en su servicio. Carlos (el Emperador)la adorno. Y tu le daras cosas mejores”.
49
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
названном Вальпараисо, на берегу Гвадалквивира42.Ласаро де Веласко в переводе Десяти книг поархитектуре Витрувия (1550-1565 гг.) в главе обантичных театрах называет театр де Монтредре, театры вТаррагоне и Сагунто43 . Диего де Сагредо вопубликованной в 1526 г. книге «Измерения римлян»упоминает о том, что трудами его современниковвосстанавливались некоторые римские постройки: «Многиевещи, о которых мы говорили, можно видеть в античныхзданиях, находящихся в различных местах Испании ипрежде всего в Мериде, где римляне построили сбольшими стараниями здания, очень красивые, впоследующем разрушенные готами, теперь мы ихвосстановили»44. Хуан де Арфе (1585 г.) перечисляет ужене только испанские архитектурные памятникиантичности, но и скульптурные античные произведения45.Он пишет: «В Испании можно видеть некоторые изантичных построек: в Сеговии большой мост и акведук, вКапарра квадратный храм и остатки стен. В Мериде мости шесть колонн, руины моста в Гвадиане, колизей, вБельпуче знаменитое надгробие, в городе Родриго триколонны... В Усильос также надгробие с замечательнойскульптурой, в Севилье старый разрушенный колизей итеатр, руины построек находятся в старой Талавере,Сорие и Осме, в этих руинах проявляется высота души
42 Ibid. P.39, 64.43 Sanchez Canton F.J. 1923-1944. T.1. P.217.44 Ibid.. T.1. P.19. «...Mucha parte desto que auemos dicho podriasver si quisiesses en edificios antiguos que se hallan en algunospueblos de Espana e principalmente en Merida: donde los romanosedificaron con mucha diligencia edificios muy marauillosos quedespues fueron por los godos destruydos segun que de lo que agoraparece colegimos.»
45 Ibid.. P.276.
50
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
древних»46. Поражает аккуратность, с которой Хуан деАрфе перечисляет то, чем могла похвастаться Испания. Впоисках «испанской» античности реализуется патриотизм.Античные памятники на территории Иберийскогополуострова были значимы как знак и свидетельстводревности корней и причастности к античной героике.«...По руинам, которые остались от сооружений древних,мы можем сделать вывод, насколько велики были их сила,благоразумие и ум, которые они вложили в своиработы»47, – отмечает Хуан де Арфе.Музеи местных античных каменных плит, скульптур имонет были устроены в Севилье в домах Гонсала Мартела,Франсиско де Эскивела, герцога Медины Сидонии48. Здесьеще нет классификации по видам искусства. Собираютсялюбые «обломки» античности: архитектурные детали,скульптура, нумизматические редкости. Испанцы горячо отстаивали значимость национальноговклада в развитие античной цивилизации. Иллюстрациейтому эпизоды из жизнеописаний испанских художников. Ванналах художественной истории Севильи зафиксировано
46 Ibid.. «... de los quales se veen oy en Espana algunos [deedificios illustres de architectos clasicos], como en Segovia lagran puente y conducto del agua, En Caparra vn templezilloquadrado y otros pedacos de muralla, en Merida vna puerta y seyscolunas y parte de la puente de Quadiana con vn coliseo, EnBelpuche vn sepulcro famoso, En Ciudad Rodrigo tres columnas... EnHusillos otro sepulcro de maravillosa sculptura, y en Sevilla lavieja vn coliseo o theatro redondo arruynado y otras muchas cosasque ay en Talavera la vieja, Soria y Osma, en que se muestra vienel valor de sus animos».
47 Ibid.. «...Pero de las ruynas que quedaron nos hazen entenderquan grandes fueron su fuerca, discrecion y pensamientos paraponer en obra sus intentos».
48 Lleo Canal V.. 1979. P.64.
51
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
анекдотическое событие, главным действующим лицомкоторого был Пабло де Сеспедес (1538-1608 гг.),севильский живописец, скульптор, архитектор и поэт. Вовремя своего пребывания в Риме (1565-1577 гг.)Сеспедес обратил внимание на римский антик, известныйкак статуя Сенеки. Голова этой статуи была отбита.Сеспедес не мог стерпеть, чтобы изображение егосоотечественника оставалось лишенным головы. Онисполняет «красивейшую голову классической пропорции»(какой, как известно, отнюдь не была голова великогостоика) и в одну из ночей устанавливает ее на место.На следующее утро римляне с удивлением увидели, чтостатуя великого философа «завершена»; имя реставратораосталось бы неизвестным, если бы, как гласитжизнеописание, рукой друга не было написано напьедестале «Victor lo Spagnuolo»49 . Из этого эпизодаследует, что статуя Сенеки для Сеспедеса была нетолько реликвией античности, но прежде всегопамятником римлянину, уроженцу Испании. А преклонениеперед классической правильностью оказалось в Сеспедесесильнее пиетета к античным оригиналам. В конце XVI в. в Испании стали появляться книги,истолковывающие античные образы аллегорически, главнымобразом в морализаторском ключе. Это «Тайнаяфилософия, в которой в фабульных историях содержитсядоктрина, полезная для всех штудий. О происхожденииидолов, или богов, язычества. Это материал, предельнонеобходимый для понимания поэтов и историков» автораХуана Переса де Мойи (1513?-1592 гг.) (1585г.)50 и49 Arellano, Rafael y Diaz de Morales. Diccionario biografico deartistas de la provincia de Cordoba. Madrid, s.a.. P.118. «...unacabeza hermosisima, de clasicas proporciones...».
50 Philosophia secreta, donde debaxo de historias fabulosas secontiene mucha doctrina provechosa a todos estudios. Con el origen
52
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
«Метаморфозы Овидия на испанском языке в пятнадцатикнигах с аллегориями в конце и их изображениями дляпользы художников» (Антверпен, 1595, книга печаталасьво Фландрии на испанском языке), автор пролога икомментариев Педро Бельеро51. Древние фабулы и у Переса де Мойи, и в комментариях киспанскому изданию «Метаморфоз» получаютморализаторское истолкование. Считалось, чтоцеломудренные герои трансформируются в вечнозеленыедеревья и нежные цветы. Жестокие и кровожадные тиранынаказываются превращением в хищных зверей. Ворыстановятся жадными птицами. Грешники превращаются вночных птиц, стыдящихся света добродетели. Монстры сглазами на животе демонстрируют всем, что их Бог –чрево52. Метода аллегорико-моралистического истолкованияантичных образов придерживается и падре Хосе деСигуэнса, автор «Истории ордена св. Иеронима» (1600-1605 гг.). Падре Сигуэнсе наряду с Ариасом Монтано былавтором гуманистической программы эскориальскойбиблиотеки. Он помещает в своей «Истории...»комментарии к росписям библиотеки. Программа посвященасеми свободным искусствам, философии и теологии.Языческая и христианская истории намереннообъединяются. Сигуэнса отмечал, что некоторым можетпоказаться спорным вопрос о совмещении в ансамблеde los Idolos, o Diosos de la Gentilidad. Es materia muynecessaria para entender Poetas y Historiadores. Ordenado por elbachiller Juan Perez de Moya. Madrid, 1585.
51 Las Transformaciones de Ovidio en lengua espa ola, repartidasen quinze libros, con los Allegorias al fin dellos y sus figuras,para provecho de los artifices. Anvers, 1595. En casa de PedroBellero.
52 Ibid.. P.391-392.
53
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
библиотеки религиозного монастыря святого иязыческого53. Но «Из всего можно извлечь пользу»54.Античность представляла интерес для конца XVI в. сточки зрения того, что могла подтвердить своимавторитетом те или иные современные постулаты, служитьаллегорией тех или иных понятий в современной системезнаний. Сигуэнса писал об изображениях, сопровождающихМузыку: «Музыка словно вырывает из когтей адских фурийту часть человеческого существа, которая стремится ксвету знаний. Этот смысл воплощен в ... истории,являющейся ... фабулой Орфея, спасающего возлюбленнуюЭвридику из ада, звуками своей лиры мягкоуспокаивающего и повергающего в сон Цербера о трехголовах»55. Сюжет античного мифа превращен в аллегорию.Сигуэнсе в данном случае перипетии античной фабулыважны только постольку, поскольку она аллегорична.Эвридика для Сигуэнсы – это «та часть человеческогосущества, которая стремится к свету знаний». Орфей –аллегория Музыки, покоряющей даже страшного Цербера. В теоретической литературе по искусству конца XVI в.интерес к аллегорико-морализаторскому истолкованиюантичных образов приходит на смену интереса к53 Siguenza, Jose de. Historia de la Orden de San Jeronimo. T.2.Madrid, 1909. P.576.
54 Ibid.. P.577.“... que de todo se aprovechan para bien».55 Ibid.. P.581.«...y es una musica que saca y libra como de entre unas furiasinfernales aquella parte que desea gozar la luz del entendimiento.Esto es lo que significa en la otra historia frontera, que es ladocta fabula de Orfeo, quando saca a su amada consorte Euridice
del infierno, ta endo dulcemente con el harpa adormeciendo alson el Ceruero de tres cabeсas...»
© А. В. Морозова, 2001
54
АНТИЧНОСТЬ В АСПЕКТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМЫ
героическому.Героическая трактовка античных образов выявляет однуиз характерных черт испанской культуры эпохиВозрождения – ее героический настрой, свойственныйосновной направленности испанской политической историиэтого времени.Античные образы как носители героического началаособенно ярко проявили себя именно в испанскомискусстве XVI в.. В испанском искусстве XVII в. нарядус героическим подходом к трактовке античных образовзаявит о себе иное понимание античных персонажей,характеризующееся многозначностью выражаемых имиаллегорий.
SUMMARY
The article analyses the perception of antiquity bythe Spanish art theorists of the XVI century. Theauthor shows that it was the heroic representation ofgenerals, emperors, and mythological characters thatheld the most interest for the Spanish art theoristsin respect of ancient art. The heroic interpretationof ancient images reflects one of the most prominentfeatures of the Renaissance Spanish culture – itsheroic tone, which went with the flow of the Spanishpolitical history of that time.
ПРИМЕЧАНИЯ
55
С. К. Савватеев
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В
ИСПАНИИ XVI-XVII ВВ.
В XVI веке получила широкое распространение литературао живописи, чему предшествовал расцвет этого видаискусства в эпоху кватроченто. Ренессансноемировоззрение рассматривало искусство как явлениекультуры. Возникает стремление узнать его историю иэволюцию. Художественное творчество понимается какразновидность интеллектуальной деятельности ипривлекает внимание гуманистически образованных людей.Ставятся вопросы о цели и функции искусства.Выявляются и определяются эстетические категорииобъясняющие создание и функционирование художественныхпроизведений и предписываются нормы и законы, покоторым они должны создаваться. Такой обширныйдиапазон выдвигаемых проблем был характерен в первуюочередь по отношению к живописи в силу еёполифункциональности. Как пример можно привести идущееиз античности сравнение ut pictura poesis (поэзия какживопись), которое в рассматриваемое нами времяполучило широкое и разнообразное культурологическоеобоснование и, в свою очередь, породило обратное – utроesis pictura (живопись как поэзия).Первые трактаты о живописи появились в Италии. В XVвеке их было всего два. В 1435 году Л.-Б. Альбертинаписал трактат «О живописи», а на рубеже XV и XVI вв.Леонардо да Винчи написал трактат, который хотя и небыл издан, но имел широкое хождение в копиях отдельныхего частей и был известен как в Италии, так и в других
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
странах. В 1509 году издаётся «Трактат о живописи»Франческо Ланчилотти и в период с 40-х годов допоследней четверти XVII столетия было написано болеедвадцати теоретических произведений посвящённыхпроблемам одной только живописи. Кроме того, внекоторых сочинениях живопись рассматривается в рядудругих искусств.Для Испании как ни для какой другой страны характереннеобыкновенный интерес к искусству живописи.Многочисленны в разного рода литературныхпроизведениях высказывания о живописи, художниках иотдельных картинах. По проблемам живописи писалихудожники, учёные, писатели, теологи.Первая книга о живописи в Испании была написанапортугальским художником Франсиской де Оландой (ок.I5I7-I584). Тесные связи с Испанией этого живописца,рисовальщика, автора архитектурных проектов итеоретика позволяют рассматривать его трактат вконтексте испанской художественной теории. В 1548 годуОланда написал книгу «О древней живописи».Предположительно существовало три авторских рукописныхэкземпляра трактата. Одну копию автор сделал дляпортугальского короля Жуана III. Вторая была послана вКастилию для перевода на испанский язык56. Перевод былсделан в 1563 году испанским живописцем португальскогопроисхождения Мануэлем Денисом. Манускрипт былопубликован впервые только в конце XIX века57. В 1918году он был напечатан в виде книги и в 1930 году
56 Vasconcellos,Joaquim de. Francisco de Holanda: Vier Gesprache überMalerei gefürt zu Rom I538. Wien,1899. P. LXXII.
57 Ж.Васконселлуш опубликовал его частями в г. Порту в журнале: AVida Moderna. 1890-1892, XII-XIV. BI9I6 году он был напечатан ввиде книги и в 1930 году переиздан.
57
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
переиздан. В 1969 году предпринято новое изданиекниги58. Испанский перевод трактата увидел свет тольков 1921 году59.Трактат состоит из двух книг. Первая книга посвященатеоретическим проблемам и состоит из 44 глав, которыеможно сгруппировать следующим образом. В первыхтринадцати главах обосновывается искусство живописи,рассматривается её история, сравнивается древняя иновая живопись и говорится о путях, которые ведут кстановлению живописного мастерства. Главы с 14 по 19 ис 34 по 41 посвящены вопросам теории живописи, средикоторых такие ключевые понятия во всей последующейевропейской художественной теории как idea u invenzione.В остальных главах речь идёт о технических проблемахживописи. Вторая книга включает четыре диалога,которые автор предположительно вёл в 1538 году в Римепо проблемам живописи с известными людьми, в числекоторых были художники Микеланджело и Джулио Кловио,гуманист Латтанцио Толомей, выдающаясяпредставительница ренессансной культуры поэтессаВиктория Колонна. Далее дан список художников,которые, по мнению Оланды,составляют славусовременного искусства. Заключает книгу короткийавтобиографический очерк.Трактат Оланды отражает идеи итальянского искусства,которые он воспринял во время своих ученических лет вРиме в 1538-1540 гг. Философской основой егоэстетического учения является неоплатонизм. Красотавнешнего мира признаётся Ф. Оландой объективной и ис-
58Francisco de Holanda. Da Pintura Antigua (1548). Ed. Angel GonzülezGarcüa. Lisbonne,1983.
59 Издан Академией Сан-Фернандо в Мадриде под редакцией Ф.Х. СанчесаКантона и Э. Тормо.
58
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
ходя из этого строится теория подражания. Живописецточно копирует то, что вечный Бог с великой заботой имудростью замыслил и сотворил60. Но Ф.Оланда, каквпоследствии и теоретики маньеризма, одновременно снеоплатоническим ригоричным подражанием говорит и орациональном характере творчества, отдавая тем самымдань теории аристотелевского мимесиса. В поднимаемом всеми пишущими о живописи авторамивопросе, что важнее, колорит или рисунок, Ф.Оланда какревностный приверженец Микеланждело безоговорочноотдаёт пальму первенства рисунку. Более того, рисунокоснова и смысл не только живописи, но и всехпластических искусств61. Живопись признаётся важнейшимискусством и ставится проблема о её соотношении сдругими видами искусства, в том числе с литературой имузыкой.Следующим по времени написания трактатом о живописибыли «Комментарии о живописи» Фелипе де Гевары(1500-1564), придворного короля Филиппа II. Гумманистическиобразованный, он хорошо знал античную литературу и былстрастным коллекционером. Знаток древностей Амбросиоде Моралес утверждал, что его коллекция монет и меда-лей была самой лучшей в Испании по количеству,уникальности и разнообразию представленных в нейобразцов62. Им была написана книга о римских монетах.Собрание живописи Ф.де Гевары выделялось разделомнидерландских примитивов. Вместе со знаменитой «Четой
60 Sünchez Cantün F.J. Fuentes literarias para la historia del arteespaüol. Madrid,1923. Т.1. Р.9б-97. Далее: Sünchez Cantün.
61 Sünchez Cantün. P. 96.62 Allende-Salazar J. Don Felipe de Guevara, coleccionista y escritor dearte del siglo XVI //Archivo Espaüol de Arte y Arqueologüa, 1925.T.I. Р.190.
59
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
Арнольфини» Яна ван Эйка в коллекции были работыРогера ван Вейдена, Патинира и Х. Босха63. Трактат«Комментарии о живописи» был написан Геварой незадолгодо смерти и увидел свет только в 1786 году, когда былиздан живописцем и исследователем древностей АнтониоПонсом64.Как представитель ренессансной культуры Ф. де Геварабезоговорочно ставит классическое искусство вышесовременного. Но это в значительной мере и даньтрадиции, поскольку те места его трактата, которыеотличает самобытность мнений и искренний энтузиазм,посвящены нидерландским живописцам 15 и 16 вв.Испанской живописи, по мнению Гевары, недостаётсовершенства присущего итальянской и нидерландской,потому что местные художники мало заботятся оследовании натуре и подвержены недостаткуприслушиваться к некомпетентным суждениям заказчиков.Присутствие итальянских живописцев, которые были приз-ваны в Испанию королём, оказало настолькоблагоприятное влияние на местных мастеров, что они,когда те вернулись на родину, заслужили честь ихзаменить. Теоретические суждения Гевары представляютбольшой интерес, поскольку, не являясь практиком, онрассматривает механизм художественного творчества. Этопозволяет, преломив их на испанскую живопись тоговремени, увидеть фиксацию современником новых
63 Уже после смерти Ф. де Гевары, в 1570 году, король Филипп IIприобрёл у его вдовы и сына шесть картин Босха. Op. сit. P.191.
64 Comentarios de la Pintura que escribio D. Felipe de Guevara,Gentilhombre de boca del Seüor Emperador Carlos Quinto, Rey deEspaüa. Se publican por la primera vez con un discurso preliminary algunas notas de Don Antonio Ponz, quien ofrece su trabajo alConde de Floridablanca, protector de las Nobles Artes,Madrid,1788. Imp.Jerünimo Ortega e Hijos de Ibarra.
60
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
стилистических тенденций и отношение автора кпроисходящим изменениям. Испанский автор негативноотносится к маньеристической живописи, для которойбыло чуждо скрупулёзное копирование реальности. Геварасетует, что «нынешние живописцы, исключая немногих, неучатся с тщательностью подражать природе, как этопревосходно делали древние»65. А такой постулатманьеристической живописи как подражание манерамизвестных мастеров Гевара считает главным препятствиемв достижении живописцами должного уровняхудожественного мастерства.Согласно Гевары существуют два вида подражания. Припервом вещи представляются в сознании и затемкопируются с помощью рук. Это и есть искусствоживописи. Второй вид подражания состоит только в мы-слительных операциях, и он присущ не толькоживописцам. Он служит для того, чтобы судить оживописи и имеет регулирующую функцию.В трактате «О древних статуях» написанном в 1590 годуДиего де Вильяльтой пассаж, где перечисляются именаживописцев работавших в монастыре Сан-Лоренсо вЭскориале, завершается такими словами:»...и Эрнандо деАвила,сын Лоренсо де Авилы, живописец его величества вМадриде. Эрнандо де Авила прославляет со знанием делавсех [этих живописцев] и самые выдающиеся произведенияими созданные в «Книге об искусстве живописи» имнаписанной, где он упоминает всех знаменитыхживописцев нашего времени и пишет об их лучшихкартинах. Труд, несомненно, очень интересный идостойный уважения»66. Это единственное упоминание онаписанной до 1590 года живописцем Э. де Авилой книге,
65 Sanchez Cantün. P. 171.66 Ibid. P. 295.
61
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
которая внесла бы большой вклад в изучение историииспанской живописи, если бы дошла до наших дней.Эрнандо де Авила был в своё время довольно известнымживописцем, работал в Мадриде и Толедо. Сохранилосьбольшое количество документов, в которых онупоминается как оценщик картин написанных по заказуразличных церковных учреждений. В 1586 году, например,он принимал участие в качестве эксперта в известнойтяжбе между курией церкви Св. Фомы и Эль Греко поповоду картины «Погребение графа Оргаса» и оценил еёпо высокой цене. Умер в 1595 году. Действительно, достоин сожаления тот факт, что книгане сохранилась, поскольку Ф.де Авила писал в нейподробно о живописцах с которыми он вместе работал илибыл хорошо знаком. Имена художников говорят сами засебя и их следует, вслед за Д. де Вильяльтой,перечислить. Это Ринкон де Фигероа, Гаспар Бесерра,Лоренсо де Авила, Луис де Моралес, Хуан Фернандес деНаваррете(Эль Мудо), Хуан Корреа де Вивар, Педро иАлонсо Берругете, Диего де Урбина, Луис де Карвахаль,Мигель Барросо, Алонсо Санчес Коэльо, Эрнандо Яньес дела Альмедина. Как видно из этого списка, это мастеразанимавшие ведущее место в испанской живописи второйполовины XVI столетия и определявшие её характер вэтот переходный период, когда в искусстве происходилистилистические изменения. В XVI и XVII веках это былединственный трактат с биографиями художников.В 1600 году в Мадриде была издана книга явившаясяреакцией на проходившие многочисленные судебныепроцессы, на которых испанские художники отстаивалиправо считать свое искусство свободным, а немеханическим и соответственно не платить налог захудожественную продукцию, которым они облагались как
62
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
считавшиеся ремесленниками67. Название трактата хорошоотражает ситуацию, которая вызвала его появление:«Главный довод в пользу уважения искусств и о способе,по которому одни из них признаются свободными, адругие являются механическими и сервильными». Авторкниги не имел отношения к искусству. Им был, какследует из надписи на титульном листе, «лиценциат,профессор обоих прав и греческой и латинской литературжитель Саламанки Гаспар Гутьерррес де лос Риос»68. Изтекста известно ещё, что его отец, Педро Гутьеррес, в1582 году стал ковровщиком короля и умер в 1602 году.Тематически книгу можно разделить на три вполненезависимые части. Первая часть представляет собойобщие рассуждения о свободных искусствах. Во второйопределяются в соответствии с античной традициейсвободные искусства. В третьем разделе авторобосновывает принадлежность к свободным искусствамтех, в основе которых лежит рисунок, в первую очередьживопись. Согласно ренессансной традиции к основнымнаукам относились поэтика, история, грамматика,риторика, диалектика, математика, медицина ифилософия. Испанский автор, показывая, что живописцу
67 Первым процессом такого рода было судебное разбирательство пред-принятое по инициативе Эль Греко ввиду отказа им платить налог ссуммы полученной за картину “ Богоматерь Милосердия “, написаннойв 1603 году для госпиталя Милосердия в г. Ильескас.
68 Noticia general para la estimaciün de las artes, y de la maneraen que se conocen las liberales de las que son mecünicas yserviles, con una exortaciün a la honra de la virtud y del trabajocontra los ociosos, y otras particulares para las personas detodos estados. Por El L. Gaspar Gutiürrez de los Rüos, Professorde Ambos Derechos y Letras Humanas, natural de la ciudad deSalamanca. Dirigido a Don Francisco Gümez Sandoval y Rojas, Duquede Lerma, etс. Con privilegio. En Madrid, por Pedro Madrigal. Aüode MDC.
63
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
необходимо знать и применять все эти науки выводитпринадлежность живописи к свободным искусствам. Книгавпоследствии не переиздавалась.В Испании первой трети XVII столетия борьба заизменение социального статуса живописцев продолжалашириться и как её отражение было появление ещё однойкниги, которая проложила тему поднимавшеюся впредыдущей книге. Если в книге Риоса живописьрассматривалась в системе пластических искусств, товышедшая в 1626 году книга Хуана Бутрона посвященаодной только живописи и имеет название, которое как быподводило итог длительному процессу повышенияобщественного положения художников: «Апологетическиерассуждения, в которых отстаивается независимостьживописи по праву считающейся свободным искусством, неуступающим семи искусствам, которые таковымисчитаются»69. Об авторе известно только то, что оннаписал о себе сам. Родился в 1603 году. Занималсяюриспруденцией и достиг должности адвоката судаКастилии. Об интересе к искусству можетсвидетельствовать его дружба с поэтом ЭстебаномМануэлем де Вильедасом.Основным источником для книги Х. де Бутрона служили«Жизнеописания» Дж. Вазари и «История орденаСв.Иеронима» Хосе де Сигуэнсы. Кроме того,использовался труд Г. де лос Риоса и, как видно изтекста, различные устные источники. Возможно,что авторобращался к книге Эрнандо де Авилы, поскольку пишет о69 Discursos apologüticos,en que se defiende la ingenuidad del artede la pintura, que es liberal, de todos derechos, no inferior alas siete que comunmente se reciben. De Don Juan de Butrün,Professor de Ambos Derechos. A Don Fernando de la Hoz,Gentilhombre de la Casa de Su Magestad. Con privilegio. En Madrid,por Luis Sanchez. Aüo de M.DC.XXVI
64
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
живописцах, которые жили до него и их биографии,насколько нам известно, были только в этой книге. Вюридических вопросах Х. де Бутрон во многом опиралсяна книгу Риоса, но превосходит её по тематическомумногообразию, информированности в проблемах живописи иглубине художественных воззрений. В «Апологетическихрассуждениях» обосновывается религиозно-дидактическаяфункция живописи, определяемая с точки зренияидеологии Контрреформации.Хуан де Бутрон был одним из авторов напечатанного в1629 году известного»Прошения живописцев»70. Этанебольшая книга представляет собой юридическийдокумент направленный против налога на живописнуюпродкуцию и появилась вследствие судебного процессамежду живописцами Мадрида и Королевским финансовымведомством. Она включает рассуждения в пользупринадлежности живописи к свободным искусствам семиизвестных специалистов в области юриспруденции,искусства и литературы. Кроме Х. де Бутрона,являвшегося адвокатом живописцев на этом процессе,авторами были Лопе де Вега, живописец Хуан де Хауреги,кардинал Хосе де Вальдивьель и юристы Антонио де Леон,Лоренсо Вандерхамен-и-Леон, Хуан Родригес де Леон.Борьба художников за признание принадлежности живописик свободным искусствам вновь усилилась в последнейтрети XVII века и опять, как в начале столетия, имелиместо многочисленные судебные процессы71. Отражением70 Memorial informatorio por los pintores. En el pleito que tratancon el Seüor Fiscal de Su Magestad en el Real Consejo de Hazienda,sobre la exenciün del Arte de la Pintura. En Madrid, por JuanGonzalez, 1б29. В. Кардучо включил его, как приложение, в «Диалогио живописи». См.: Carducho V. Dialogos de la Pintura. Madrid,18б5.Р. 369--518.
71 Об этих процессах см.: Palomino de Castro, Antonio. El Museo pictürico
65
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
этих событий стала ещё одна книга в защитублагородства искусства живописи. В 1681 году былаиздана маленькая книжечка под названием «Кисть»72. Еёавтором был арагонский писатель, поэт и историк ФеликсЛусио Эспиноса-и-Маль (1641--1691).В то время, когда в Испании шла борьба, в том числе ипером, за признание неремесленного статуса живописцев,как бы в подтверждение её правомочности в этой странежил и творил ренессансный по духу и образованностихудожник. Им был живописец и скульптор, гуманист,поэт, теоретик искусства Пабло де Сеспедес (1536/40-I608). Образование Сеспедес получил в знаменитомуниверситете Алькала де Энарес и ещё будучи студентомотличался глубокими познаниями в разных науках. Какхудожник сформировался в Италии, где прожил околодвадцати лет. Живописный стиль Сеспедеса показываетсильное влияние Микеланджело. Круг его знакомств идружеских привязанностей составляли одни из самыхобразованных людей того времени. Достаточно назватьтакие имена как Фернандо Эррера, Луие де Алькасар,Франсиско де Медина, Хуан Антонио де Алькасар.Сеспедес написал два сочинения посвященные живописи.При жизни художника они изданы не были, но были хорошоизвестны современникам. Одно из них, написаннаяоктавами «Поэма о живописи», дошло до нас благодарятому, что Франсиско Пачеко включил её отдельныефрагменты в свою книгу «Искусство живописи» изданную в1649 году и о которой речь идти будет ниже. Второеy escala üptica. Madrid,1795. T. 1. P. 108-110
72 El Pincel. Cuyas Glorias descrivüa Don Fülix de Lucio Espinosa yMal,Cronista Mayor de Su Magestad en todos Reynos de la Corona deAragün, y General de los de Castilla y Leon, En Madrid, porFrancisco Sanz, impressor del Reyno. Aüo MDCLXXXI. Переиздана в1722 году
66
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
произведение Сеспедееа было написано в 1604 году иназывается «Рассуждение о сравнении древней живописи искульптуры с новыми», в котором говорится одостоинствах произведений древних мастеров и о том,превосходят ли их работы современных мастеров73. Обизвестности «Рассуждения» свидетельствует тот факт,что во второй половине XVII века кордовский живописецХуан де Альфаро скопировал его для Тересы Сармьенто,герцогины Бехар. Впервые сочинения Сеспедеса былиизданы в 1800 году Х.А. Сеаном Бермудесом в видеприложения к пятому тому его «Исторического словарясамых знаменитых мастеров в изобразительном искусствев Испании». Он использовал копию «Рассуждения»сделанную Х. де Альфарой и собрал разрозненные отрывкиразбросанные по книге Ф. Пачеко. Ещё в это приложениевошло «Письмо о живописи», которое в 1606 годуСеспедес написал Пачеко и которое тот включил в«Искусство живописи» и «Рассуждение о храме Соломона»,в котором говорится о происхождении живописи74.Престиж Сеспедеса как теоретика живописи средисовременников был очень высок, чему свидетельствуетчастое обращение Ф. Пачеко к «Поэме о живописи», когдаему было необходимо подчеркнуть значимость своихдоводов. Через сто лет после его смерти А. Паломинописал о нём как о «превосходном живописце, большомфилософе, скульпторе и архитекторе и весьма сведущемво многих языках..., большом поэте и гуманисте». И
73 Discurso de la comparaciün de la antigua y moderna pintura yescultura, donde se trata de la excelencia de las obras de losantiguos, y si se aventavajaban a la de los modernos. Dirigido aPedro de Valencia y escritos a instancias suyas aüo 1604.
74 Ceün Bermuüdez, Juan Agustün. Diccionario histürico de los müs ilust-res profesores de las Bellas Artes en Espaüa. Madrid,1800. T.5.Pags.267-352.
67
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
добавляет, что им были написаны большие научныесочинения, которые он сам видел в виде рукописей75.Уважение к Сеспедесу как теоретику сохранилось и вXVIII веке.Сочинения Сеспедеса представляют большой интерес дляиспанской теоретической мысли в области живописи нетолько по причине разнообразия поднимаемых проблем.Они были написаны в период, когда в испанской живописипроисходил переход от позднего маньеризма к барочномунатурализму. В них как в зеркале можно увидетьсамосознание художника работавшего в это время. В силуфрагментарности дошедшего до нас труда Сеспедесаневозможно полностью выявить его художественно-эстетические представления. Поскольку, как и всетеоретики XVI и XVII вв., Сеспедес обращается кдостаточно фиксированному репертуару проблем, товсегда есть вероятность того, что некоторые егорассуждения, существующие для нас вне первоначальногоконтекста, могут быть интерпретированны неправильно.Суждениям Сеспедеса о живописи свойственнаоригинальность. Всё, что он говорит о живописи, этослова художника, который не только достиг высокогоиндивидуального мастерства, но и хорошо изучил то, чтобыло ему доступно из древней живописи во времяархеологических изысканий в Риме. В вопросе сравнениядревней и современной живописи Сеспедес придерживаетсязолотой середины, не считая правомочным отдать пальмупервенств одной из них. Современник итальянскихтеоретиков маньеризма, Сеспедес не стремится создатьзаконченную систему, согласно которой происходитформирование, развитие и совершенствование художников.Для испанского художника живопись является особым ви-
75 Ceün Bermuüdez, Juan Agustün. Оp.cit. 1797. T.2. P. 406.
68
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
дом умственной деятельности и её предназначениезаключается в подражании природе. Сеспедеса отличаетповышенное сенсуалистическое отношение к живописи. Егоможно назвать теоретиком практической живописи.В 1618 году в Севильи увидела свет маленькая книжечка,которую, несмотря на её маленький размер, нельзяисключить из нашей темы. Её автором был Хуан деХауреги (1583-1641), который, по отзывам сов-ременников, считался в Испании первой трети XVII векаодним из лучших поэтов, превосходным живописцем ипочитался как знаток в области искусств. Книжечканазывалась «Диалог Природы, Живописи и Скульптуры, вкоем обсуждаются и определяются их достоинства.Посвящается практикам и теоретикам этих искусств»76.Написан «Диалог» в стихах.Поэма Хауреги продолжает тему сопоставления живописи искульптуры, впервые поднятую Леонардо да Винчей ишироко обсуждавшеюся в Италии на протяжении XVIстолетия (Б. Варки, П. Пино, А.Ф. Дони, Л. Дольче, Р.Боргини). В Испании к ней обращались Ф. Пачеко, В.Кардучо. Х. де Хауреги отдаёт пальму первенстваживописи, в чём следует всем предшествующим ипоследующим авторам.Причина появления «Диалога» была практическогохарактера. Вероятно, он обсуждал эту проблему ссевильским живописцем и теоретиком Ф. Пачеко, скоторым его связывали дружеские отношения и который в1622 году издал брошюру, поводом для написания которойстал судебный процесс между известным скульптором Х.М.
76 Jauregui-y-Aguilar,Juan de. Diülogo entre la Naturaleza y las dos artes,pintura y escultura, de cuia preminencia se disputa y juzga.Dedicado a los prücticos y teüricos en estas artes. Rimas(XXXI).Sevilla, por Francisco de Lyra Varreto,l6l8.
69
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
Монтаньесом и живописцами. Монтаньес, получив плату забольшое скульптурное ретабло для монастыря Св.Клары вразмере 6 тысячи реалов, дал живописцу, которыйзолотил и расписывал полихромную скульптуру, толькополторы тысячи77. Суть прецедента заключалась внарушении существующей в Испании в это время практики.Заказчики полихромной скульптуры заключали отдельныеконтракты со скульптором и живописцем, которые должныбыли иметь диплом мастера. Монахи монастыря Св.Кларыподписали контракт только с Мартинесом. Это давало емуправо контроля над живописцем, что нарушало финансовыеправа живописцев и принижало их профессиональный исоциальный статус. Ф. Пачеко, как наиболее уважаемый вэто время Севильи живописец встал во главе живописцевна этом процессе и напечатал брошюру «К мастерамживописцам», целью которой было доказать превосходствоживописи над скульптурой78.Всегда, когда рассматривается испанская художественнаятеория, явно или подспудно возникают соображения о еёсвязи с теоретической мыслью Италии. Это имеетоснование как в силу ведущей роли Италии в этойобласти , так и из-за всеобщности поднимаемых проблем.Но недостаточно находить общие места и перечислятьитальянские источники, к которым могли обращатьсяиспанские авторы, стремясь обосновать свои выводы.Следует учитывать контекст, в котором высказываются теили иные положения и социально-художественную среду,которая их породила. Примером может служить книгаВисенте Кардучо «Диалоги о живописи. Её обоснование,77 Arte en Espaüa. 18б4. Т. З. Р. 29.78 Pacheco, Francisco. A los profesores del arte de la pintura. Impresoen Sevilla el l6 de Julio de 1622. Переиздание: Zarco del Valle,M. Un opüsculo de Pacheco // El Arte en Espaüa. 1865. T.3(18б4).Р. 29-38.
70
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
происхождение, сущность, определение манер иразличий», которая была издана в 1633 году79.В. Кардучо родился во Флоренции ок. 1576 года и ещёмальчиком, в I585 году, перeехал в Испанию со своимстаршим братом Бартоломе Кардучо, который был членоммастерской Ф. Цуккаро и последовал за своим учителем,когда тот подписал контракт для живописных работ вЭскориале. Оба брата после завершения контрактаостались в Испании. В. Кардучо с 1596 года начинаетупоминаться в документах и вскоре становится ведущиммадридским живописцем на протяжении первой трети XVIIстолетия и одним из самым плодовитых испанскихживописцев этого времени. Признанием заслуг живописцастало присвоение ему в 1609 году звания живописцакороля.Формирование В. Кардучо как художника проходило всреде работавших в Эскориале итальянских позднихманьеристов. Расцвет его творчества совпал спереходным периодом, временем смены стилевых направ-лений. Причём на смену достаточно унифицированнойхудожественной системы второй половины XVI столетияпришло многообразие живописных манер. Живописнаяманера Кардучо эволюционировала отпозднеманьеристической к академической с выраженныминатуралистическими элементами .В. Кардучо резко выделялся среди большинства своих79 Diülogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definiciün,modos y diferencias. Al gran monarcha de los Espaüas y NuevoMundo, Don FelipeIII. Por Vincencio Carducho, de la IllustreAcademia de la nobilüssima Ciudad de Florencia y pintor de SuMagd.Catülica. Siguense a los dialogos. Informaciones y pareceresen fabor del arte, escritas por varones insignes en todas letras.Impreso con licencia por Francisco Martünez. Aüo de 1633. Книгапереиздавалась в 1865 и 1979 гг.
71
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
коллег по уровню образованности и художественнойкультуре. Как видно из «Диалогов о живописи», ему былизнакома практически вся литература по искусству. Егосвязывала тесная дружба с Лопе де Вегой, Хуаном деХуареги, известным писателем Хосе де Вальдивьельсо80.Он принимал активнейшее участие в мероприятиях посозданию в Мадриде художественной академии, правдабезуспешных. Логическим следствием деятельностиКардучо стало появление в 1633 году книги о живописи.Факт весьма знаменательный, поскольку это была перваяизданная на испанском языке книга полностьюпосвящённая проблемам живописи. Написанная впереходный период между поздним маньеризмом и бароккокнига В. Кардучо является первым в Европе увидевшимсвет барочным трактатом о живописи. Авторрассматривает вопросы регламентации художественноготворчества путём создания академических учреждений ивыработки общих правил, дидактической и идеологическойфункции живописи, сходства живописи и поэзии,разработки иконографии. Главное намерение Кардучо былопедагогического характера. Это определило условное де-ление трактата на две смысловые части. В первой части,это два первых диалога, излагается сумма знаний иосновы наук имеющих отношение к живописи. Вторая частьявляется ключевой и в ней рассматриваются все тевопросы, которые обсуждались современниками: отношениек натурализму, иерархия жанров, цель и содержаниеживописного произведения. «Диалоги о живописи» В.Кардучо представляют собой хорошо информированныйисточник по узловым проблемам возникновения и развитиябарочной живописи. Книга является ценнейшим источникомпо современным художественным коллекциям Испании.
80 Cardenal M. Vicente Carducho(I578-l638) // Revista de ideas estüti-cas. 1950. N 29. P.90.
72
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
B I649 году в Севильи была издана книга, которой былосуждено стать самой знаменитой в испанской литературеоб искусстве. Она называлась «Искусство живописи» инаписал её живописец Франсиско Пачеко (1564-1644), приупоминании имени которого часто предпочитают добавитьтолько, что он был учителем Диего Веласкеса81. Книгабыла издана после смерти автора, хотя была завершена,как явствует из надписи на авторcкой рукописи, 24января 1636 года. Причём работа над «Искусствомживописи» продолжалась не менее двадцати лет. Этоттруд сделал автора одной из самых значительных фигур вхудожественной культуре Испании XVII столетия. Идеи,представления и обильный фактологический материалнаходящиеся в «Искусстве живописи» незаменимы дляпонимания художественной атмосферы того времени. Безэтой книги наши знания об испанской живописи золотоговека были бы значительно беднее.Ф. Пачеко занимал почётное место в культурной ихудожественной жизни Севильи конца 16 и первой третиXVII столетия. Являясь плодовитым, но похудожественному дарованию второстепенным живописцем,он одновременное был писателем и поэтом82. Пачекоявлялся активным членом литературного кружкасевильских интеллектуалов, который традиционно81 Arte de la pintura. Su antigüedad, y grandezas. Descrivense loshombres eminentes que ha avido en ella, assü antiguos comomodernos del dibujo, y colorido, del pintar al temple, al olio, dela iluminacion, y estofado; del pintar al fresco; de lasencarnaciones, del polimento, y de mate; del dorado ,bruсido, ymate. Y enseüa el modo de pintar todas las pinturas sagradas. PorFrancisco Pacheco, vecino de Sevilla. Sevilla, Simün Faxardo,1649. Книга переиздавалась в 1866,1956,1990 гг.
82 Обзор литературных работ Ф. Пачеко см.: Pacheco Р. Arte de laPintura. / Ediciün, introduciün y notas de Bonaventura Bassegoda iHugas. Madrid, 1990. P. 12-20. Далее: Pacheco.
73
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
называют академией Пачеко, хотя его возникновениеотносится ко второй половине XVI века и учредителембыл гуманист Хуан де Маль Лара83.
Пачеко преследовал цель написать трактат, которыйобобщал бы всё то, что было написано о живописи и былбы полезен не только практикам. Трактат делится на трикниги. В первой книге показывается и обосновываетсяблагородство искусства живописи. Вторая книга посвя-щена теоретическим проблемам. В ней даётся определениеживописи и определяется её цель, каковой считаетсяподражание всему сущему. Пачеко рассматривает живописькак вид деятельности только в контексте теологии ипоэтому для живописи «главная цель – это побуждатьлюдей к набожности и приближать их к богу»84. Далеерассматриваются составные части живописи. Свой методразработки теории живописи Пачеко объясняет сам:широко используются книги итальянских авторов и сужде-ния знатоков, из которых берётся то, что соответствуетего намерениям. Третья книга посвящена практическимвопросам. Здесь рассматриваются различные техники ижанры живописи. Завершается «Искусство живописи»большим приложением, где даётся и обосновываетсяиконография 43 религиозных сюжетов. Этому разделуПачеко придавал большое значение, поскольку былсоветником трибунала севильский инквизиции, когда этоучреждение давало живописцам апробацию о соответствиицерковным нормам сюжетов представленных в картинах.Теоретические воззрения Пачеко сформировались подвоздействием нескольких факторов. Он резюмирует идеипочерпнутые из итальянских трактатов, дополнив их
83 Brown J. Images and ideas in seventeenth-century Spanish paining.Princeton,1978. P.2 1-43.
84 Pacheco. Op.cit. Р. 253.
74
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
собственными рассуждениями, которые имеют философско-теологическую направленность. При этом теория живописирассматривается в преломлении через живописнуюпрактику. Мировоззрение Пачеко сформировалось подсильным влиянием контрреформационных идей. Вся егодеятельность как практика и теоретика была направленана претворение решений Тридентского собора в областиискусства, согласно которым живописи предписываласьрелигиозно-дидактическая функция.«Искусство живописи» Ф. Пачеко завершило первый этапистории испанской теории живописи, которая прошла путьот ренеcсансных представлений к мировоззрению Новоговремени. Авторам был свойственен концептуальный,системный подход к излагаемым проблемам и стремление ккультурологическому осмыслению живописи.В 1656 году была написана книга под названием «Краткоеизложение и перечень некоторых художников» и котораятак и не увидела свет85. Её написал Ласаро Диас дельВалье, певец Королевской капеллы автор исторических игенеалогических трудов. Книга содержит биографическиесведения и фактологический материал об испанских и85 Origen illustraciün del nobilüsimo y real arte de la pintura ydibuxo con un epülogo y nomenclatura de sus müs yllustres müsinsignes y müs afamados professores y muchas honras y mercedes quelos han hecho los mayores prüncipes del orbe y juntamente se danrazün de los prüncipes que han exercitado el pintar. Dirigida alRey Nro. S.D. Phelipe 4 que dios guarde muchos aüos por mano delmuy noble y muy honrado cavallero Diego Silva Velüzquez de lacümara de la cathülica y Rl. Magd. del Rey de las Espaüas D.Filipe 4. El Grande N.Sr. y aposentador mayor de su imperial pala-cio, mayor profesor de este arte en nros. tiempos ysuperintendente de las obras extraordinarias de Su Magd.recopilado... por D.Lazaro Diaz del Valle y de la puerta naturalde la Ciudad de Leün de Espaüa. Este aüo del Nacimiento de Xpto.165б. Частично воспроизведена: Sünchez Cantün. T.II. Р. 337-393.
75
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
некоторых знаменитых иностранных живописцах.Информация о художниках значительно разнится по объёмуи значимости и представляет собрание разрозненныхсведений. Наряду с авторскими оригинальными сведениямив книге много прямых заимствований из Вазари, Кардучо,Пачеко.В 1673 году второстепенный арагонский живописец ХусепеМартинес (1601-1662) написал «Практические рассужденияо благороднейшем искусстве жиовписи», которые былиизданы только в I853 году86. Х. Мартинес приблизительнов I620-I623 гг. совершил поездку в Италию. В Риме онбыл знаком с Г. Рени и Доменикино .В Неаполе посещалмастерскую Х. Риберы. В 1634 году находился в Мадриде,где был хорошо знаком с ведущими придворнымиживописцами. В 1642 году получает звание живописцакороля и ему поручается художественное воспитаниевнебрачного сына короля Хуана Австрийского, которому ибыли посвящены «Практические рассуждения». Длительноепребывание в первые годы творчества в Италии ипоследующий контакты с придворными живописцами опреде-лили формирование Мартинеса как классициста. Поэтомутрактат имеет характер академического сочинения ипредназначался как учебное пособие. На автора«Практических рассуждений» сильное влияние оказали«Диалоги о живописи» В. Кардучо, которые он считалсамой лучшей из прочитанных им книг о живописи.Являясь вторым в Испании после Кардучоклассицистическим теоретиком, Мартинес в своихсуждениях менее полемичен. Трактат состоит из 21главы, которые можно условно выделить в три группы. К86 Discursos practicables del nobilisimo arte de la pintura. Susrudimentos, medios y fines que enseüa la experiencia, con losejemplares de obras insignes de artüfices ilustres. Por JusepeMartünes, pintor de S.M.D. Felipe IV, y del Sermo. Sr.D.Juan deAustria, a quien dedica esta obra. После издания в 1853 году книгапепеиздавалась в 1666 и 1950 гг.
76
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
первой группе относятся главы, в которых даютсясведения о науках, знание которых необходиможивописцу. В главах второй группы говорится отеоретических основах живописи. Третья группапосвящена истерии живописи от кватроченто досовременности и представляет наибольший интерес.Мартинес, не являясь хорошим знатокам литературы обискусстве, исходит из собственных представлений обиспанских и иностранных мастерах и их произведениях.Длительное пребывание в Италии давало ему основаниедля этого. Поэтому «Практические рассуждения» являютсяценным источником по истории испанской живописи 17столетия и, в частности, арагонской, о которой до сихпор никто не писал.Десятью годами ранее «Практических рассуждений» X.Мартинеса был написан труд так же предназначавшийся вкачестве учебного пособия. В 1663 году бенедиктинскиймонах-живописец Хуан Рисси подготовил непредназначенный для печати трактат о живописи длясвоей воспитанницы герцогини Бехар, который назывался«Трактат о мудрой живописи»87. Текст представляет собойкраткое изложение основ геометрии, архитектуры,пропорций человеческого тела, астрономии, теологии исопровождается иллюстрирующими его прекраснымирисунками.В 1674 году в Валенсии было издано маленькоепрактическое пособие под названием «Руководство иосновные правила живописи». Автором книжечки былваленсийсиий живописец Висенте Сальвадор Гомес88. Книга
87 Tratado de la Pintura Sabia. Опубликован Э. Тормой в 1930 году.88 Principios para estudiar el nobilüsimo, y real arte de lapintura, con todo y partes del cuerpo humano, siguiendo la mejorescuela y simetrüa, con demonstaciones matemüticas que ajustan yenseüan la proporciün del rostro y ciertas perfiles del hombre,mujer y niüos. Факсимильное переиздание в 1965 году.
77
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
представляет собой четыре диалога между учителем иучеником, в которых рассматриваются симметрия,анатомия, физиогномика, геометрия, перспектива иполностью лишена теоретических рассуждений о живопси.Учитель прибегает к авторитету Леонардо, Вазари,Ломаццо, Кардучо, Пачеко, Дюрера. Издание этой книгиотвечало практическим потребностям провинциальныхживописцев, которые в силу своего невысокого образова-тельного уровня нуждались в подобных учебных пособиях.Завершает список книг о живописи, написанных в Испаниив XVI и XVII веках, «Основы для изученияблагороднейшего и прекрасного искусства живописи». Этакнига была издана в самом конце XVII столетия, в 1693году, живописцем и гравёром Хосе Гарсия Идальго (I656-I7I8)89. Она является типичным академическим трактатомпрактического характера. Текст сопровождается 135гравированными таблицами, с помощью которыхразъясняются вопросы анатомии, пропорций, перспективы,физиогномики и других вспомогательных дисциплин.Подробно рассматриваются проблемы техническогообучения живописцев. Но наибольший интереспредставляют сведения об испанских художниках, которыеможно найти в этой книге.Обзор написанных в Испании в XVI и XVII вв. книг оживописи показывает, что интерес к ней в этой странебыл высок. Сочинения разнятся по объёму, репертуару иглубине рассматриваемых проблем, по предназначению. Заэто время литература о живописи прошла путь отренессансных по духу и содержанию трактатов к89 Principios para estudiar el nobilüsimo, y real arte de lapintura, con todo y partes del cuerpo humano, siguiendo la mejorescuela y simetrüa, con demonstaciones matemüticas que ajustan yenseüan la proporciün del rostro y ciertas perfiles del hombre,mujer y niüos. Факсимильное переиздание в 1965 году.
© С. К. Савватеев, 2001
78
КНИГИ И ТРАКТАТЫ О ЖИВОПИСИ В ИСПАНИИ
академическим, что находилось в соответствии с общимразвитием испанской живописи. Характерной чертойиспанской литературы о живописи была её практическаянаправленность. Причины появления отдельныхпроизведений были конкретные. Часто это были какие-тореальные события, например, судебные процессы илимероприятия по созданию профессиональных учреждений. Вдругих случаях авторы полемизировали, реагируя напроисходившие в испанской живописи стилевые изменения.Даже академические сочинения насыщены реминисценциямииз реальной художественной жизни. Только во второйполовине XVII столетия появились произведения учебно-практического характера в чистом виде.
SUMMARY
In XVI-XVII centuries in Spain there was a broadinterest to painting that was showed in a spreading ofthe books and treaties about this art. The writingsdiffer on volume, repertory, assignments. For thistime the literature of painting has passed a way fromthe treaties renaissance on spirits and a contents toacademic that was according to general development ofthe Spanish painting. Character feature of the Spanishliterature about painting was its her practical trend.The authors discussed reacting on happen in theSpanish painting stylistic changes. Even academicworks are sated reminiscences from real artistic life.Only in second half 17 century have appeared writingsof educational practical character.
ПРИМЕЧАНИЯ
79
К 400-летию со дня рождения Бальтасара Грасиана
Г.Е. Сергиевская
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
5 января 1601 года, т.е. четыреста лет назад, внебольшом арагонском селении Бельмонте был крещен одиниз наиболее интеллигентных – по признанию самихиспанцев – мыслителей в истории испанской культуры,Бальтасар Грасиан-и-Моралес. Наверное, его нельзяназвать метафизиком в строго техническом значенииэтого термина. Как говорит Субири, метафизика это нета позиция, которая легко произрастает на иберийскойпочве. Но, если действительно верно, что в испанскойдраме и в испанской новелле мы находим наиболее полноепроявление испанского духа, то, несомненно, мы должнывключить этого великого арагонца в ряд умов, наиболееточно выразивших существеннейшие характеристикииспанского народа. В ряд писателей, сумевших передатьнам наиболее острые взгляды своей эпохи и, чтонаиболее важно, наиболее значимо, передать их в своемличном видении реальности. Это уже не одни толькоисторические и локальные черты, но концентрациярадикальных элементов человеческой природы и жизни,того, что является вечным и необходимым в человеке.
«Критикон» Грасиана, как и «Дон Кихот» Сервантеса,роман, в котором два персонажа предпринимаютпутешествие по миру. Перед ними проходят страны илюди. Их взорам предстает современное Грасиануобщество. Приключения героев, их удачи и неудачи, то,
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
что они видят вокруг, и то, что происходит с нимисамими, все это не столько проявление странности иэксцентричности их рассудка, сколько сумасшествиесамого этого мира, их отвергающего. Наблюдение заотдельными различиями этих двух романов, помогаетпонять, как упадок, который предвосхищает Сервантес,трансформируется у Грасиана в волну сумасшествия,готовую захлестнуть Испанию, и которая, во всякомслучае, захлестнула самого автора. У Сервантеса жизньрассматривается как длящаяся напряженность, какконфликтность без возможности нахождения решений в нейсамой, без внутренней справедливости, котораянаграждает доброту и рыцарскую отвагу. Если такаянаграда и может быть получена, то не в этом мире. Вэтом смысле роман Сервантеса – произведениеразочарованное. Без сомнения, вся любовь, все уважениеи даже восхищение автора концентрируются на фигурегероя. Если он не восторжествует, то только по причинесвоего безумия, однако, по большому счету, мир – этоне то место, которое соответствует его величине. Сныдуха удивительны, но мир движется не снами, а лишьрасчетом; заявив этот принцип, Сервантес провозглашаетконец эпохи.
Для Грасиана сон жизни не благородноепомешательство, а просто глупость. Два главныхдействующих лица «Критикона» зовутся Андренио иКритило: простое филологическое рассмотрение иментщательнейшим образом подобранных, изобретенныхГрасианом, демонстрирует нам свое аллегорическоезначение. Андренио, очевидно, происходит от andreios,т.е. человек природный, импульсивный, человек, которыйбез раздумий бросается в деятельность, в результате
81
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
которой он будет казаться знатным. Критило – человекразумный происходит от «кризис», «конфликт». Этокритический рассудок в смысле того холодного изученияреальности, которое раскрывает нам невозможность ееизменения посредством введения идеалов и, такимобразом, бесполезность подобных усилий. Несколькоранее те же самые идеалы, подвергнутые критическомуанализу, появляются перед нами как фальшивые образыидеального, как иллюзии.
Роман построен в форме робинзонады. Критилоприплывает на остров Святой Елены, где и находитАндренио – юношу, выросшего в пещере и не умеющегодаже говорить. Эти-то два героя и предпринимаютпутешествие в поисках родины Андренио. Во время этогопутешествия они наблюдают фантастические сцены,переживают необычайные приключения. Построение книгиклассическое для аллегорического романа: Критило –человек с несчастным прошлым. Когда-то он был богат иимел возможность видеть всю иллюзорность силы ивласти, пустоту их содержания, т.к. богатства исчезаютв один поворот судьбы, унося с собой наш сон особственной значимости и наше тщеславие. Сама любовьможет быть вовлечена в вихрь слепых обстоятельств,которые и есть наша жизнь, и то, что сегодня намкажется неизменным счастьем, завтра нежданно-негаданнопревращается в горести и одиночество. Человеческоеправосудие невинного бросает в тюрьму. Бесчестие иразорение оказываются всего лишь инструментами в рукахтех, кто распоряжается властью, кто использует властьдля собственного процветания. Печальный жизненный опыти разочарование конституируют духовный багаж Критило вначале странствования. По всей видимости, Грасиан
82
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
стремится таким образом изобразить человеческий опыткак результат освобождения реального с помощью критикии анализа от субъективных иллюзий и пытаетсяпроанализировать жизнь во всей ее неприкрытости.
Андренио, наоборот, должен представлять неугомоннуюэнергию человеческого энтузиазма, способностьброситься за великолепием внешности. Мы видим царя вовсем его блеске и принимаем этот блеск задействительность.1 На самом же деле настоящий царь –тот, кто справедливо правит, независимо от того,разодет ли он в пурпур или же носит простые одежды. Ноэтого истинного царя не существует. И куда бы низаносили приключения наших героев, повсюду мывстречаем одни лишь карикатуры. Несомненно, истинныйСудья – тот, кто судит согласно с правдой иосуществляет, таким образом, справедливость; однако,заглядывая за изнанку судов, мы видим, что судья эточеловек, который защищает интересы лишь имеющихвлияние.2 Однако, когда мы только вступаем в мир, напороге юности, мы не обладаем еще возможностьюразрушать видимости. Блеск двора убеждает нас поверитьв свое великолепие, красота женщин в их добродетель,медали генералов в их мужество, самоотверженность изаслуги перед родиной. Грасиану необходим персонаж,который заключил бы в себе всю эту невинность и всеэто простодушие. А так как глупость такой позицииочевидна, он ищет оправдания мечтательному оптимизмусвоего героя, делая Андренио сиротой, выросшим впещере в уединении необитаемого острова. ГеройГрасиана вскормлен самкой дикого зверя и ее детенышей11 См.: Грасиан Б. Критикон. Кризис VII // Грасиан Б. Карманный оракул.Критикон. М., 1981.22 См: Грасиан Б. Указ. соч. Кризис VI.
83
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
считает своими братьями и сестрами. Хищникисочувствуют уязвимой слабости ребенка и помогают ему вего несчастиях. Катаклизм разрушает пещеру и Андренио,парализованный удивлением и восторгом, засматриваетсяудивительным спектаклем природы. Его жизненный опытсоздается, таким образом, в результате созерцанияпроизведений Бога, красоты космоса и сочувствияживотных. Все это вместе взятое вполне объясняет иоправдывает его абсурдный оптимизм.
Человек – большая неудача в божественном творении.Он продуцирован свободой, он сын своих деяний, аотнюдь не необходимое следствие божественных законовприроды. И только длительный контакт, толькососуществование с ним, может, в конце концов, излечитьот иллюзии жизни. Только это может убедить, что мир, ккоторому обращаются все наши помыслы, все стремлениянашего сердца не есть та внешняя реальность, которуюнам столь охотно демонстрируют, но другая, болеевысокая, ожидающая нас, вручаемая нам лишь как наградаза нашу преданность истине в этом непростом странствиичерез сельву снов. Жизнь – это всего лишь путь. И надопройти по нему, пристально вглядываясь в окружающуюдействительность, подвергая критическому анализу всето, с чем сталкиваешься на этом пути, дабы непопасться на обман видимости. В конце концов, Андрениос Критило открывают, что ни одна из конкретных странне является той родиной, которую они ищут, но что она– эта родина – находится за пределами каких-либостран.
Обычно, обобщая философские взгляды Грасиана, сутьих видят в его пессимизме. Но действительно лиразочарованное размышление, которое мы находим в
84
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
Критиконе пессимизм? Без сомнения, в отказе отвосторга земной жизнью, от восприятия ее как высшейценности присутствует христианский мотив. Однако такоеотношение противоречит более обширному оптимизму,какой нам демонстрируют другие тенденции, существующиев лоне церкви, относящиеся к миру, ко вселенной слюбовью, рассматривая ее как божественное творение иотражение божественных атрибутов. Как же в такомслучае можно определить пессимизм в том виде, какой мынаходим у Грасиана? В каком значении тогда его мысльможет быть рассмотрена как пессимизм, и каковы будутего корни?
Возможно, наиболее точное выражение оптимизма ипессимизма, как понятий, которыми пользуется западныйразум, мы находим в греческом мышлении. В известномполитическом мифе «Политик» Платон анализируетосновные условия человеческой активности и выражает ихв следующей мифологической форме. В течениеопределенных исторических эпох Бог достаточно успешноруководил событиями, и космос явился нам полнымрациональности. В дальнейшем Бог удалился отуправления, и его творение оказалось переданным в рукилюдей, которые в результате своих споров и борьбы завласть ввергли все в хаос. Через какое-то время Бог,видя опасность, грозящую его детищу, вновь взял браздыправления в свои руки и вернулся на курс порядка идобра. Полагая, что божественное это разум,проявляющийся в обществе посредством разумных законов,установленных справедливыми правителями, мы можеминтерпретировать грасиановскую историю как гимн законуи установлению, по которым где-то существуетрациональное законотворчество, просвещенные хорошие
85
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
правители, которые почитают и любят богов, считая, чточеловеческие законы являются простым отображениембожественного природного закона. И где добро, такимобразом, торжествует.
И наоборот, возможен взгляд на общество, как накорабль, которым управляет обезумевшая команда,захватившая правление, дабы удовлетворять своетщеславие или же использовать власть как инструмент, спомощью которого можно тешить свое сладострастие.Команда, которая, без сомнения, лишь переоделасьмореплавателями и капитаном, знатными вельможами ипринцами но, несмотря на свои пышные униформы,является не более чем ряжеными невежественнымиавантюристами, не знающими искусства навигации, незнакомая с астрономией и не способная вести корабльнужным курсом. Не это ли совершенный образграсиановского мира? Сначала мы не распознаем в этихмошенниках, переодетых моряками, авантюристов. Но приближайшем рассмотрении все это оказывается ничтожным,надутым, пустым, как пробка, и лишь разодетым впрекрасные наряды.3 Кроме того, становится очевидным,что принцы на самом деле являются всего лишь рабамичужих или, по крайней мере, своих желаний.4
Мужественные и, казалось бы, самоотверженные солдаты,высокие сановники оказываются рабами своих страстей.5
Итак, если мы рассматриваем жизнь, согласноклассическому мышлению, как реализацию божественногопорядка (все равно с точки ли зрения пантеиста илиатеиста), как рациональный процесс, имманентныйкосмосу или истории, в таком случае мы оптимисты. И,33 См.: Там же. Кризис VII.44 См.: Там же. Кризис XII.55 См.: Там же. Кризис X.
86
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
наоборот, если мы видим ее как «абсурдный рассказ,повествующий об одном глупце», говоря шекспировскимисловами, то мы можем быть квалифицированы какпессимисты. Можно возразить, что сама жизньбезразличным образом относится к обеим этим позициям,и что ее структура зависит от того, как мы с нейпоступаем. Но столь уравновешенной позиции, как илюбого равновесия, трудно достигнуть и, тем более,трудно удерживать. Об этом очевидно свидетельствуетистория мысли, и посему мы видим мыслителей,балансирующих между этими двумя полюсами.
Если рассмотреть конкретно Грасиановскую позицию,то можно утверждать, что его герои, судя по ихразмышлениям по поводу своих приключений, представляютсуществование в строго пессимистическом смысле. Уже ссамого названия, которое Грасиан использует дляобозначения различных разделов своего основногопроизведения (Кризис I, Кризис II и т.д.) Автор как бывнушает, подсказывает нам идею нестабильности и краха,блестяще используя миф, для выражения беспорядкасуществования без детерминированного,предопределенного конца. С одной стороны,перечисленные приключения и многие другие, на которыетак же можно сослаться, не оставляют места сомнениямпо поводу пессимистических наклонностей этогогениального иезуита. Но, с другой, возникает вопрос,действительно ли все это именно так и можно ли раз инавсегда поместить его в категорию пессимистов? Могутли быть приложимы к его творчеству такие категории какапатия, недостаток решительности и смелости,безразличие к жизненным ценностям, которые обычносопровождают концепцию пессимизма?
87
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
Если мы заглянем в «Героя», первое из грасиановскихпроизведений, имевшее шумный успех, то найдемабсолютно иную духовную панораму. Здесь имеют местоличное мужество, служение высоким идеям, которые нетолько встречаются в жизни, но также реализуются всвоей наиболее высокой степени в отдельных великихличностях, героях. То есть в тех самых людях, которыеизбранны фортуной 6 для выполнения определеннойбожественной миссии (она имеет божественноепредназначения в истории, т.е. герой это тот, кого Богпосылает нам в качестве истинного навигатора). Нопоскольку герой, по своему благоразумию, может выбратьпуть для возможной реализации своего предназначения,несомненно, что героические планы могут развиваться вистории, и что она, в конце концов, не стольхаотична.7 Мало того, реализация таковых планов естьрезультат добродетели, воли и благоразумия героя. Мир,таким образом, поддается изменениям и улучшению спомощью человеческих добродетелей (в действительности,слишком человеческих для христианства), разума и воли.Таким образом, мы видим здесь черты рациональности,которые охарактеризовали бы как оптимизм. Этопроизведение, написанное в особенном, чистограсиановском стиле, одном из наиболее прекрасных вовсей испанской литературе, полно ренессансногооптимизма и энтузиазма. Как же могло случиться, и что
66 Cf.: Gracian y Morales B. Primor X // Gracian y Morales B. Obras completas.Madrid, 1960.77 Cf.: Gracian B. Op.cit. Primor VIII.
(Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 0103-0017)
© Г. Е. Сергиевская, 2001
88
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
должно было произойти, чтобы Грасиан проделал этотпуть от «Героя» до «Критикона»?
Двадцать лет отделяют одну книгу от другой. И этигоды оказались тем радикальным временем в историиИспании, когда всплыли крупные ошибки и просчетыполитики Карла V и Филипа II. Когда стало очевидным,что на гордом лице могущественной и героической,морской завоевательницы, осуществлявшей беспримерныйподвиг покорения и крещения, духовного и материальноговозвышения индейского мира, появился теперьболезненный плутовской и циничный лик пройдохи, жуликаи плута, мошенника и афериста. Благородного без чести,изголодавшегося по миру и справедливости, нищегопрофессора и бессильного короля. Критикон – этопопытка осознания данной ситуации. Осознания,доступного только мужеству и искренности человекатакого духовного величия, как Грасиан (как позднее вне менее несчастный момент испанской истории, былнеобходим художник такой величины, как Гойя, другойарагонец, дабы уловить ничтожество двора ФердинандаVII). И не случайно оба они пострадали от своейпроницательности. Грасиан подвергся травле, смешаннойсо злостью и завистью, как внутри, так и вне ордена, аГойя, сытый до тошноты своей родиной, решился уехать,чтобы умереть в Бурдеос.
Гениальность Грасиана состоит в том, что он смогмужественно противостоять этой реальности и правдиво,со всем своим художественным талантом отразить ее всвоем произведении. Надо сказать, что в этом смысле оннаходится в рамках большой традиции испанских монахов,которые, как Фрай Бартоломе де лас Касас, ценилиистину превыше всех обстоятельств, как личных так и
89
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
исторических. Только такие духовно великие люди, какКеведо и Грасиан смогли увидеть, что этот гигант,называемый Испанией, является колосом на глиняныхногах, что это всего лишь мыльный пузырь, готовыйлопнуть в любой момент. И оба заплатили как за своевидение, так и за смелость говорить об этом. НоГрасиан не просто очень проницательный человек, номыслитель большой энергии и мужества. И, возвращаясь квопросу о его пессимизме, нам необходимо уточнить, чтохотя в период, прошедший от «Героя» до «Критикона»,его жизненная активность изменилась; утратив жизненныйоптимизм, он погрузился в сумерки горечи иразочарования, это произошло не в силу изменения егособственной энергии, но в силу ясного осознания (и,возможно, недопустимой универсализации личного опыта иприписывания всей жизни негативных характеристик,соответствующих одной конкретной стране и в однойконкретной исторической эпохе) упадка своей родины. Вэтом безграничном пессимизме можно увидеть, проникая вблагородство помыслов, и стоический героизм, иогромную трансцендентную силу, которая поднимает,возвеличивая, категории смирения и христианскойстойкости, те корни, которые дали всходы. Нам не даноизменить историю. В силу этого мы можем назватьГрасиана пессимистом. Но можно достойно и мужественнотерпеть и ждать, всматриваясь в даль, в надеждеувидеть землю, о которой он сам писал, что «странникитам увидели, как много обрели, ежели кто пожелаетузнать и сам изведать, пусть направит стопы к высокойДобродетели и героическому Мужеству – тогда откроютсяему поприще Славы, престол Почета и обительБессмертия».
90
ГРАСИАН: ДВЕ СТРАТЕГИИ
SUMMARY
Baltasar Gracian is Spanish moralist andphilosopher, who’s 400 anniversary we celebrate in2001. In the modern European tradition Gracian isknown through the reception of Arthur Schopenhauer andother philosophers stressed pessimistic aspects ofGracians’ heritage. Meanwhile, this view does notrepresent the authentic position of Spanish thinkerand the real situation in much more complicated. Thisarticle is devoted to the reconstruction of histhought. In his creative work his exercised a notsimple way in transition from originally optimisticworld outlook to pessimism in his final period. Thistransition is connected with the personal destiny andalso with a destiny of his native country as well.
ПРИМЕЧАНИЯ
91
К. С. Корконосенко
РОМАН КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ АВТОРА И ЕГО ГЕРОЯ
(«МАСТЕР И МАРГАРИТА» М. БУЛГАКОВА И «ГРИФОН» А. КОНДЕ)
Когда я прочел роман «Грифон», написанныйгалисийским писателем Альфредо Конде в 1984 году,90 уменя сразу же возник вопрос: читал или не читал егоавтор «Мастера и Маргариту» Булгакова – ведь у этихдвух романов много общего в том, как выстраиваетсякомпозиция, как чередуются и соотносятся в рамкахединого текста главы о писателе и о героях, имсозданных. Изучение творчества ныне живущего писателяиногда дает возможность получать на вопросы,касающиеся его круга чтения, конкретные и однозначныеответы. Разобраться в проблеме возможного влиянияБулгакова на Конде мне помогла Е. С. Зернова,переводчик «Грифона» на русский язык, хорошая знакомаяписателя: «Да, Конде читал «Мастера и Маргариту», яэто знаю точно, потому что я сама подарила ему книгуБулгакова в переводе на испанский – но уже после того,как он написал своего «Грифона»».
Структура. хожесть композиции двух романовдействительно бросается в глаза. Сама по себе ситуация«романа в романе» или «обрамленной повести» – один изтрадиционных приемов, плодотворно разрабатывавшихся вмировой литературе во все времена, еще с античности(достаточно вспомнить, например, сказку об Амуре и
90 Conde A. Xa vai o Griffon no vento. Vigo, 1984.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Психее внутри «Золотого осла»), но и «Грифон», и«Мастер и Маргарита» – это не только «книга в книге»,но и книга о книге – текст, в котором рассматриваетсяприрода литературного текста как явления реальности.
В обоих романах повествование ведется в двухпланах, которые можно условно обозначить как«исторический» и «современный». Принципиальноесходство двух романов, дающее возможность длясопоставления их структуры, состоит в том, чтоисторическая часть создана писателем – персонажемсовременной части романа. История Посланца – этоненаписанный (во всяком случае, в рамках действия«Грифона») роман Приглашенного Профессора, лежащий напересечении выдуманной им истории о Грифоне иисторического документа – письма о последних дняхжизни Мартина Абало; история Иешуа и Понтия Пилата –это дважды сожженный роман Мастера.
И в «Грифоне», и в «Мастере и Маргарите»историческая и современная части развиваютсяпараллельно и на первый взгляд независимо друг отдруга, но между ними можно обнаружить множествоперекличек, а в финале обоих произведений два планаповествования объединяются в единую реальность.
Взаимопроникновение исторического и современногоплана в романах Булгакова и Конде становится возможнымблагодаря еще одному принципиально важномуструктурообразующему фактору, общему для двухпроизведений: наличию персонажей, принадлежащиходновременно нескольким романным реальностям, делающихпроницаемыми пространственные и временные границыповествования.
В «Мастере и Маргарите» это в первую очередь
71
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Воланд, который был и на балконе дворца ИродаВеликого, и во многих местах Москвы 30-х годов(впрочем, он знавал москвичей и раньше), и на завтракеу Канта, и еще черт знает где, как выразился бы самВоланд (например, на Брокенских горах в 1571 году). Вроманном универсуме Булгакова Воланд – не единственныйгерой – посредник между разными мирами: на Воробьевыхгорах появляется Левий Матвей; косвенно заявлено иприсутствие Иешуа в современной части романа (Иешуапрочел роман Мастера); наконец, Мастер как писатель,«угадавший» до мельчайших подробностей важнейшийотрезок жизни Понтия Пилата, тоже как бы принадлежитдвум мирам.
У Конде проводником между мирами являетсявыдуманный Профессором Грифон с телом угря и орла,способный перемещаться под водой во времени ипространстве. «Определенно, один из пупов землинаходится в Эксе, другой – в Аахене, и еще один – вКомпостеле, а еще – в Альярисе, и Грифон вдруг будетпоявляться в них, пройдя сквозь время, он возникнет изчетырехструйного фонтана и сначала не будет знать, вкакую эпоху попал: то ли он все еще в той, когда онначинал свои странствия, то ли в какой-то совсемдругой, из тех, что были ему указаны» (96)91.Перечисление пупов земли, очевидно, значимо длясоотношения двух сюжетов романа: в этих городах бывалии Посланец, и Приглашенный Профессор (и сам Конде:писатель родом из Альяриса). Влюбленный Грифон,придуманное чудовище (Конде вообще описывает созданиероманов как «усердное извлечение из потаенных глубин91 Здесь и далее цитаты из «Грифона» приводятся по изданию: Конде А.Грифон. СПб., 1998. В скобках указан номер страницы.
72
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
самого себя обитающих там чудовищ» (69)), обретает вромане реальность, воплощаясь в двух герояхисторической и современной части, в итоге ониоказываются единым героем – Грифоном, вынырнувшим наповерхность в разные эпохи.
Итак, по своей структуре «Грифон», как и «Мастер иМаргарита», – это роман в романе, роман, одна частькоторого написана персонажем другой части, роман, вкотором различимы параллели между действиемисторической и современной частей, наконец, это романс персонажем, принадлежащим одновременно обоим планамповествования. При этом известно, что когда Кондеписал «Грифона», он еще не читал «Мастера иМаргариту».
У двух романов, по видимому, есть общие предтексты,на которые ориентировались Булгаков и Конде,выстраивая композицию своих произведений и отношениямежду героями, хотя таких произведений не может бытьмного – два писателя в целом опирались на разныелитературные, исторические и религиозные традиции92.Текст, который, несомненно, повлиял на структуру обоихроманов, – это «Дон Кихот» Сервантеса с его сложнойсистемой мнимых авторов и повествователей, благодарякоторой граница между миром «реальной» жизни ихудожественным вымыслом ощущается как зыбкая ипроницаемая; с отношениями двоемирия, которыевозникают между эмпирической «действительностью»92 Приглашенный Профессор читает отдельную лекцию о Флобере,упоминает многих писателей XX века, причем выбор из кругасовременных писателей, как мне кажется, обусловливается еще идополнительной игровой закономерностью: Апдайк, Воннегут, Толкиен,о которых Профессор отзывается уважительно, – авторы романов овымышленных существах («Кентавр», «Сирены Титана», «Хоббит»).
73
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
романа и «романом сознания» Дон Кихота; с присущейСервантесу манерой говорить о сложнейших проблемахбытия и познания неявно, как бы вскользь, на языкехудожественного произведения, а не философскоготрактата, в творческом диалоге с читателем93.
Сопоставляя два эпизода из «Дон Кихота» и «Мастераи Маргариты» Ю. М. Лотман писал: «Образ Дон Кихотапринадлежит к тем персонажам мировой литературы,которые обладают способностью выглядывать из-за плечасовсем далеких от них, казалось бы, людей»94. Это вернои для поэтики романа Сервантеса.
Преемственность по отношению к «Дон Кихоту»специально маркирована в обоих текстах. «Мастер иМаргарита», так же как и роман Сервантеса, несколькораз внутри текста объявляется «правдивой историей»,«правдивейшим повествованием», в романе звучит голосавтора, который признается, что некоторые событияизвестны ему по слухам, а кое в чем он и вовсе неуверен; путаница, происходящая в эпилоге с фамилиямичерного мага и его помощников, на мой взгляд, той жеприроды, что и предположения «авторов», писавших оламанчском идальго, касательно его фамилии в первойглаве «Дон Кихота». В главе «Последние похожденияКоровьева и Бегемота» «Дон Кихот» прямо упомянут водном ряду с «Фаустом» и «Мертвыми душами» –произведениями, значение которых в контексте романаБулгакова несомненно.
93 Проблеме соотнесенности поэтики «Мастера и Маргариты» с поэтикой«Дон Кихота» специально посвящена статья С. И. Пискуновой«Булгаков и Сервантес» // Вестник МГУ. Сер. 9, филология. 1996, №5. С. 60-72.
94 Лотман Ю.М. Карамзин. СПб., 1997. С. 300.
74
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Сходный прием использует и Конде. Как известно,автор «Дон Кихота» дважды упомянут в своем романе: какписатель Сервантес, автор «Галатеи», и как отважныйсолдат Сааведра. В современной части романа Кондеэксплицитно повторяет прием Сервантеса: в рядусовременных галисийских писателей Профессор упоминаетписателя Конде. А в исторической части Посланец иканоник в дружеской беседе перечисляют литераторов –«великих мастеров нашего века». Из названных ими иментолько одно попадает на страницы «Грифона» – вот втакой хитроумной фразе: «Из них одному только гениюСервантеса – кажется, он из рода Сааведра, сын хирурга(обычно ими бывают евреи), – не суждено исчезнуть вомраке ночи» (133). Непонятно, кто бы мог произнестиэту фразу: один из персонажей или повествователь?Действие исторической части разворачивается в концеXVI века, поэтому Посланец и каноник еще не могличитать «Дон Кихота» (но уже могли читать «Галатею»,как и священник из «Дон Кихота») и уж никак не моглипредположить, что сыну хирурга из рода Сааведра, «несуждено исчезнуть во мраке ночи», – это знаетповествователь, автор исторической части – но у негоне может возникнуть сомнений по поводу второй фамилииСервантеса. Таким образом, упоминание о Сервантесе вромане Конде представляет собой смешение несколькихточек зрения в одной фразе, равным образом характерноекак для поэтики Конде, так и для поэтики Сервантеса.
Вполне допустимо предположение, что «Дон Кихот»Сервантеса может послужить связующим звеном междуроманами Булгакова и Конде. При сопоставлении «Мастераи Маргариты» и «Грифона» нельзя не отметить, что чертысходства композиции двух романов, которые
75
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
обнаруживаются на макроуровне, обусловливают немалочастных схождений между этими двумя текстами,созданными, еще раз повторю, независимо друг от друга.Именно ситуация «романа в романе» оказываетопределяющее влияние на сходство приемов, параллелизмнекоторых сюжетных ходов – особенно в том, чтокасается соположения исторического и современногопланов в романах Булгакова и Конде.
Мастер – Профессор. Есть черты, которые сближаютМастера и Профессора именно в их функции писателей,создающих роман о прошлом и в то же время воссоздающихреальные исторические события, которые когда-топроисходили.
Нельзя однозначно утверждать, что Грифон – этопорождение фантазии Профессора: Грифон возникает изтишины одного из вечеров в Провансе, он «призван»,чтобы прервать эту тишину; Сир Грифон – это личныйпризрак Профессора («a sua fantasma») и в то же время– это «нечто новое», то, что Профессор должен ввести вэтот мир. Так же и Понтий Пилат не создан Мастером –он им «угадан»: Мастер пишет роман об Иешуа и ПонтииПилате, о том, чего никогда не видел, но каким-тонепостижимым образом ему удалось описать событиямноговековой давности именно так, как онипроисходили95. Примечательно, что в предисловии к
95 Чудакова М.О. так характеризует композицию последней редакцииромана Булгакова: «В романе, дописывавшемся зимой и весной 1938года, он же сам и отражался: роман о Пилате и Иешуа не сразу, не ввиде единой вставной новеллы сообщался читателю, а будтодописывался на его глазах. Роман Мастера приобрел черты некоегопретекста, изначально существовавшего и лишь выведенного из тьмызабвения в светлое поле современного сознания гением художника.Самой композицией читатель принуждался поверить, что и создатель
76
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
русскому изданию романа Конде описывает свойсобственный опыт написания романа о Галисии оченьсходно с той ситуацией, в которой оказалсябулгаковский Мастер: «Сегодня имеется уже гораздобольше сведений об истории Галисии, но они во многомсовпадают с тем, что я создал в воображении, чтобынаписать свой роман», – пишет Конде, к тому времениуже, кстати, прочитавший роман Булгакова (10); «О, какя все угадал!» – восклицает Мастер, узнавая в рассказеБездомного о Понтии Пилате главу из своего же романа.
Мастер – это «человек примерно лет тридцативосьми»; Профессору (так же как и Дон Кихоту) – околопятидесяти; во время действия романов ни тот, нидругой, строго говоря, не являются писателями (то естьничего не пишут, потому что не могут писать). РоманМастера уже создан, он сам «утратил способностьописывать что-нибудь». «У меня больше нет никакихмечтаний и вдохновения тоже», – говорит Мастер (236)96.Приглашенный Профессор уже состоялся как писатель, нок моменту его приезда в Экс «он вдруг ощутил, чтоисточник его вдохновения иссяк» (27), он пытается, ноне может написать роман о Грифоне.
«Мастер и Маргарита» заканчивается теми же словами,что и роман Мастера, в своем последнем путешествии
Мастера, автор «другого» романа, вместившего этот, с тою же силойпровидения и верностью всех деталей постигал современную ему жизньи ее перспективу. Само творчество представало как процессбезусловного постижения истинного облика действительности».(Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988.С. 449.)
96 Здесь и далее цитаты из «Мастера и Маргариты» приводятся поизданию: Булгаков М.А. Избранное. М., 1980. В скобках указан номерстраницы.
77
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Мастер встречает своего героя и определяет егодальнейшую судьбу; в последней главе романа Кондепоявляется связь между письмом падре Пастраны икартой, украденной Профессором в Эксе. Роман, которыйстал ненавистен Мастеру и который он сам сжег, никудане исчез (рукописи не горят), читатель не толькоузнает о его судьбе, но и держит в руках, читает этотроман (в тексте «Мастера и Маргариты» он занимаетчетыре главы). То же самое происходит с историейГрифона, которую в рамках романа Конде не удаетсянаписать Профессору: довольно легко установить связьмежду отдельными чертами облика Сира Грифона,порождением фантазии Профессора и его помощниц, иобразом Посланца, героя четных глав романа (у неговзгляд угря или орла и детское прозвище «Грифон»).Будет вполне правомочным утверждать, что роман оГрифоне – это история, происходящая в XVI веке,написанная Профессором уже после окончания действияромана Конде. К такому прочтению подталкивает открытыйфинал романа, хотя нигде не утверждается однозначно,что Профессор преодолел свою творческую немоту.
Остановлюсь чуть подробней на этом предположении.«Грифон» кончается словами: «Мартин поднял письмо ипротянул ей. И они принялись читать его вместе». Вфинале романа с героем Конде происходит несколькочудесных превращений, которые могут оказатьсязначимыми для судьбы его еще не написанной книги.Профессор возвращается из своих странствий на родину,в Галисию. Он обретает возлюбленную и одновременнонастоящую Ученицу – Клэр (чувство Профессора к Клэр,несомненно, иной природы, нежели предыдущие егоувлечения, описанные в романе; сама по себе
78
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
незавершенность отношений Профессора и Ученицы впрошлом говорит о возможности их развития в будущем).По случайному стечению обстоятельств на украденнойкарте проступают слова, написанные рукой МартинаАбало, – Профессор и Клэр становятся причастныстаринной истории: если документ, хранящийся вБританском музее, является всеобщим достоянием, тонадпись на карте известна только им и прямо побуждаетзаново сотворить историю забытого галисийца. Наконец,на последней странице романа герой обретает имя –читатель узнает, что его зовут Мартин, так же, как и(будущего) героя его романа; не менее существенно, чтоимя герою дает его возлюбленная (сначала к Профессорупо имени обращается Клэр, потом так называет своегогероя и автор): ведь и булгаковский Мастер сталМастером, потому что так назвала его Маргарита; Мастерсмог написать свой роман, потому что рядом былаМаргарита.
На мысль о том, что Профессор все-таки написалроман о Грифоне, наводят и некоторые авторскиезамечания, связанные с настоящим и будущим героя.«Быть может, романы так и начинаются: «Я сейчас пишу отом, как...», «я думаю, эта тема...», «завязка,кажется, неплоха...» История «Грифона» как развступала на этот извилистый путь, и пройдет еще год, аон так и не разрешится ни одной фразой» (88). Незаостряя на этом внимания, автор как бы фиксируетсрок, в течение которого о Грифоне ничего не будетнаписано: год – это как раз время, прошедшее с отъездаПрофессора из Экса до приезда Клэр в Сантьяго. Этотприем схож с тем, который использует Булгаков,вкладывая в уста Иешуа неявное предсказание о грядущем
79
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
появлении достоверной его истории: «Эти добрыелюди /.../ ничему не учились и все перепутали, что яговорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница этабудет продолжаться очень долгое время» (23). «Оченьдолгое время» в контексте книги означает «до появленияромана Мастера». И у Конде, и у Булгакова предсказанияо судьбе книги звучат в одном ряду с другими, окоторых известно, что они сбылись – это подтверждаетдостоверность сказанного о романах Профессора иМастера.
Перекличка «исторического» и «современного» планову Булгакова и Конде. И Булгаков, и Конде оставляют длявнимательного и заинтересованного читателя немалоключей, свидетельствующих, что между современной иисторической частями их романов существуют не толькоотношения авторства, но и отношения тождества,параллелизма.
«В двух переплетенных и в каком-то смыслепараллельных историях «Грифона» действуют двагалисийца, влюбленные в свой край; они проходят темиже дорогами, живут в тех же кварталах и даже под однойкрышей – с промежутком в четыре века. У них есть общиечерты: обоих зовут Мартин, им по пятьдесят лет, онихолосты, их роднит любовь к чтению, хорошей кухне, кдорогам и путешествиям, и к воде»97. О сходствесоциальной роли двух героев говорит и сходство имен-определений, которые они носят в романе: геройисторической части назван Visitador; должностьсовременного героя – Profesor Visitante. (В русском
97 Pérez J. Visto y no visto: lectura ambigua de «El Griffón» //Antípodas. Journal of Hispanic and Galician studies. 1998, № X. P.159.
80
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
переводе – Посланец и Приглашенный Профессор, названиеи той и другой должности начинается с буквы «П».)
Конде избегает называть своих героев по имени, обаони принадлежат безмолвию – до того момента, покаПрофессор не вернется на родину, не встретится с Клэр,не обнаружит надпись на карте – то есть окажется всилах преодолеть это безмолвие, сотворить Грифона.Посланец в четных главах романа Конде в отличие отбольшинства других героев вообще не имеет личногоимени, причем эта деталь маркирована в тексте («...вголове старого и мудрого Декана, выслушавшегоисповедь, возникло одно имя» (47) – о том, как зовутПосланца, может догадаться только другой безымянныйгерой). Мартином Абало зовут приговоренного к смертииз письма отца Пастраны, и только надпись наукраденной карте подтверждает предположение, чтоПосланец и есть Мартин. Таким образом, оба герояобретают имя (одно и то же имя) на одной и той жестранице романа.
Можно обратить внимание и на другие маленькиештрихи, свидетельствующие о том, что два персонажа нетолько похожи, но и во многом тождественны: так, водних и тех же словах («de non doada descrición» – «мыне будем ее описывать» (25, 216)) в исторической и всовременной части упоминается о лестнице, по которойгерои поднимаются в свое жилище. В обоих случаяхлестница действительно не описывается, но о нейсказано самое важное: в современной части истории неописывается та же лестница, что и в исторической.
Тот же прием повторения определенных фраз имизансцен использует и Булгаков: так, слова «И ночьюпри луне мне нет покоя» произносит сначала Пилат,
81
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
затем Мастер; Б. М. Гаспаров отмечает, что встречаИуды и Низы на улицах Нижнего Города мизансценическиточно воспроизведена в первой встрече Мастера иМаргариты, а мизансцена избиения Варенухи Бегемотом иАзазелло повторяется в исторической части в сценеубийства Иуды98. Эти повторения можно, с одной стороны,рассматривать как проявления принципа «лейтмотивногопостроения» (термин Б. М. Гаспарова), «при которомнекоторый мотив, раз возникнув, повторяется затеммножество раз, выступая при этом каждый раз в новомварианте, новых очертаниях и во все новых сочетаниях сдругими мотивами»99; с другой стороны, для композицииромана важно, что отношения тождества возникают невнутри одной из частей (исторической или современной),а между эпизодами двух разных планов, действие в нихразвивается параллельно, Ершалаим подобен Москве – также как в романе Конде многие события историческойчасти дублируются в современности.
Оба сюжета в «Грифоне» сами по себе состоят из двуххронологических планов: Посланец, находясь в Эксе,вспоминает о том, что происходило с ним в Сантьяго;Профессор, вернувшись в Сантьяго, вспоминает о днях,проведенных им в Эксе (он жил в том же доме, что иПосланец, на Рю-де-Гриффон). В финале обеих историйпоявляются люди из покинутого героем хронотопа: заПосланцем приходят люди из Инквизиции, от которой онбежал из Галисии; к Профессору приезжает Клэр, егоученица из Прованса. Параллелизм композиции двух
98 Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романаМ. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Даугава. 1988, № 10.С. 98; 1989, № 1. С. 79.
99 Там же. 1988, № 10. С. 98.
82
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
историй на этом не кончается: продолжение историиМартина Абало – то, что последовало за его арестом –изложено в письме отца Пастраны, которое читают героисовременной части, а хронологическое продолжениеистории Профессора и Клэр – это роман, который,видимо, все-таки написал Профессор уже после окончаниядействия романа – то есть вся историческая часть«Грифона». Две истории, которые в линейном изложенииразвиваются параллельно, как чередующиеся главыромана, в другой перспективе можно увидеть как двестороны ленты Мебиуса, одна является продолжением и вто же время предысторией другой.
У Булгакова каждая часть из романа Мастера вводитсяв текст особым способом (история, рассказаннаяВоландом, сон Ивана, отрывок, который читаетМаргарита); после главы «Явление героя», где Мастеррассказывает Иванушке о себе, исторические главызанимают вполне определенное место и в современномсюжете: известно, что это – роман Мастера. У Кондемежду четными и нечетными главами нет прямой связи,почти нигде нет «подхватов», с помощью которыхПосланец получил бы прописку в современной части – какбудущий герой романа Профессора100. Читатель можеттолько предполагать это, опираясь на отдельные намеки,разбросанные в тексте романа. «Техника Кондесвоеобразна: он говорит и одновременно недоговаривает,как будто рисуя что-то и тут же стирая нарисованное.На многих эпизодах романа лежит печать риторикипротиворечия, всегда четкой с точки зрения синтаксисаи в то же время слегка не соответствующей требованиямясности, логичности и лаконичности, выдвигаемым100 Такой подхват в неявной форме различим между XII и XIII главами.
83
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
классической риторикой. В тексте романа слова«возможно», «откуда-то», «неизвестно каким образом»сочетаются друг с другом, чтобы умножить впечатлениенеясности и неуверенности, привнося даже оттеноктайны»101.
Интересно, что «риторика противоречия» – это нетолько черта поэтики «Грифона», но – внутри романа –еще и единственный способ общения с единомышленниками,который допустим для Мартина Абало, патриота изаговорщика: «Существует тайный сговор, он зиждется набезмолвии, на взглядах, в крайнем случае, наполусловах, жестах, так, чтобы никто не смог ничегоутверждать наверняка, но и отрицать тоже» (117), –только в таком непрямом виде, через характеристикуперсонажа романа, может появиться в тексте «Грифона»утверждение собственной поэтической манеры автора.
На мой взгляд, неправильно было бы вести разговор облизости поэтики Булгакова и Конде в целом: скорее,выявленные черты сходства двух романов объясняютсятем, что их авторы выстраивали свои произведения,исходя из общей ситуации «романа в романе» / «романа оромане» (Конде «угадал» прием, использованный до негоБулгаковым), причем возможно, что это – следствиесходного прочтения «Дон Кихота» русским и галисийскимписателями.
Роман Альфредо Конде впервые был опубликован по-галисийски под названием «Xa vai o griffon no vento»(«Грифон уже летит по ветру»). Чисто технически Грифон101 Perez J. Visto y no visto: lectura ambigua de «El Griffón» P. 155.
© К. Е. Корконосенко, 2001
84
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
у Конде не может передвигаться по воздуху: существо стелом угря и льва должно плавать по подземным рекам.Но, может быть, сам роман галисийского писателя – этои есть полет невозможного Грифона, полет, в реальностькоторого верит читатель Конде – так же, как веритчитатель Булгакова в незабываемые полеты Маргариты,Мастера и других персонажей его романа.
SUMMARY
The article «Novel as a meeting point of the authorand his hero» analyses the parallels between «TheMaster and Margarita» of Mikhail Bulgakov and «TheGriffon» of Alfredo Conde. It is known that whenwriting his «Griffon» Conde has not read Bulgakov’snovel, yet the structure of two texts proves to besimilar: both of them are novels about writing anovel, and the personages of the written novelinfluence the life of their authors. Many partialcoincidences found between two texts may be explainedas a result of a similar structure chosen by twowriters (a novel about a novel with alternating «real»and «fictional» chapters) and, partly, as a complexinfluence of Cervantes’ «Don Quixote».
85
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
II . PHILOSOPHIA IBERICA : НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
О. В. Журавлев
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ XII-XIII ВВ.
(ОЧЕРК ИСТОРИОГРАФИИ)
Феномен переводческой коллегии (школы),существовавшей в Испании в период Высокогосредневековья, что называется, на слуху у медиевистов,особенно в наше время ширящихся фронтальных разысканийв средневековой истории. Интерес к школе отмечаетсяуже в 40-е годы XIX века. Однако, после выхода в светфундаментальной работы А. Журдена «Критическиеисследования времени переводов на латынь Аристотеля, атакже греческих и арабских комментариев, выполненныхсхоластами» (Париж, 1843) проходят около 40 лет дотого времени, когда исследования этого судьбоносногоэпизода из истории средневековой культуры становятсясистематическими. Они опираются на расширяющуюсяисточниковедческую базу не только в континентальнойЕвропе, но и в Испании. К французским и немецкимисследователям В.Розе, А.Левенталю, О. Барденхеверу,Ф.Вюстенфельду «присоединяются» испанские авторы, внемалой степени подвигнутые к этой работе изменениями,происшедшеми в общественном мнении в Испании поотношению к истории национальной духовной культуры,имевшими место в связи с известной полемикой об
86
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
«испанской науке» 1876-1877 годов, выдвинувшей наавансцену исследований в этой области фигуруМ.Менендеса-и-Пелайо, ставшего впоследствии подлиннымкультуртрегером Испании. Его ученик Адольфо Бонилья-и-Сан Мартин уже в начале следующего века представилразвернутый источниковедческий анализ переводческойработы толедцев и схематическое, но весьмасодержательное историко-философское исследованиетворчества Доминго Гундисальво. В XX веке испанские ифранцузские католические историки вносят существенныйвклад в освещение «теневых» мест в деятельноститоледской школы и, шире, переводческого имиссионерского движения XXIV веков. Последний повремени наиболее полный очерк деятельности толедскихпереводчиков мы находим в 1-м томе «Критическойистории испанской философии» Х.Л.Абельяна. Несмотря назначительную работу, проделанную исследователями102,102 Представляем библиографию известных нам трудов по теме:
I. Общие работы:Jourdain A. Recherches crítíques sur l’âge et l’origine destraductions latines d’Aristote et sur les comentaires grecs ouarabes employés par les auteurs scolastiques. Paris, Joubert,1843.Rose, Valentín. Ptolemaeus und die Schule von Toledo//Hermes, Bd.VIII, 1874.Wüstenfeld F. Die Übersetzungen arabischer Werke in das Lateinischeseit dem XI. Jahrhundert. Göttingen, 1877.Pons Boiges F. Apuntes sobre las escrituras mozárabes toledanas quese conservan en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1897.Asín Palacios, M. Bosquejo de un Diccionario técnico de filosofía yteología musulmanas. Zaragoza, 1903. González Palencia A. El arzobispo don Raimundo de Toledo. Labor,Barcelona, 1936.Millás Vallicrosa J.M. Las traducciones orientales de los manuscritosde la Biblioteca Central de Toledo. 1942Théry G. Tolède, grande ville de la renaissance médievale. Orán,1944Menéndez Pidal R. España y la introducción de la ciencia árabe enOccidente//España, eslabón entre la Cristianidad y el Islam.Madrid, 1956Abellán J.L. Historia crítica del pensamiento español. T. 1, 2-aed., Madrid, 1988Pérez, Joseph. Histoire de l’Espagne. Paris, 1996
II. Работы об отдельных переводчиках:
87
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
многое, относящееся к этому движению, остается, таксказать, полулегендарным, требующим дополнительныхреконструкций фактологического и логическогохарактера, более полной экспликации воззрений егоучастников и, что особенно важно, изучения влияний«толедского эпизода» на дальнейшее развитиеевропейской христианской, философской и научной мысли.В данной статье задачи такого рода не ставились и немогли быть поставленными ввиду практически полнойнеразработанности темы в отечественной литературе иограниченности источниковедческой базы. Мыограничиваемся, поэтому, сообщением читателю известныхнам сведений о толедской школе и суммарнойсхематической реконструкцией воззрений «первогофилософа школы» Доминго Гундисальво, в основу которойположены представляющиеся нам достоверными разработки
Schmutzer J.G. De Michaele Scoto veneficii iniuste damnato//Histoirelittéraire de la France. T. XX, Paris, 1739..Bardenhewer Otto. Die pseudo aristotelische Schrift über das reinegute bekannt unter der Name «Liber de causis»…Herder, Friburg,1882.Guttmann. Die Philosophie des Salomon ibn Gabirol (Avicebron)dargestellt und erläutert. Göttingen, 1889.Endres J.A. Die Nachwirkung von Gundissalinus de immortalitateanimae//Philosophische Jahrbuch, Bd. XII, 1890.Löwenthal A. Dominicus Gundisalvi und seine psychologischesCompendium. Berlin, 1890Löwenthal A. Pseudo-Aristoteles «Uber die Seele». Einpsychologisches Schrift des XII Jahr, und ihre Beziehungen zuSalomo Ibn Gabirol. Berlin, 1891.Des Dominicus Gundissalinus Schrift «Von der Unsterblichkeit derSeele»…Münster, 1897.Brown J.W. An enquiry into the life and legend of Michel Scot.Edinburgh, 1897.Bauemker C. Dominicus Gundissalinus als philosophischerSchriftsteller. Münster, 1899.Bonilla y San Martín A. Historia de la filosofía española. T. I,Madrid, 1908.Gilson E. Les sources greco-arabes de l’augustinismeavicennissant//Archives d’Histoire doctrinale et littéraire duMouen Age. Vol. IV, 1929.Alonso M. Gundisalvo y Huan Hispano; Gundisalvo critica el «Decausis primis»; El latín de Gundisalvo//Temas filosóficosmedievales Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, 1959
88
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
А. Бонильи и Х.Л. Абельяна.
***
С середины XII века Испания начинает играть рольсвоего рода транзитного пункта переноса высокоразвитойарабской и еврейской философии и науки в средневековуюхристианскую Европу. Эта новая роль страны былаобусловлена рядом обстоятельств, из которых наиболеесущественные были связаны с успехами Реконкисты.
В конце XI века на удерживаемой арабами территорииполуострова образуется более двадцати так называемыхтаифских (племенных) эмиратов. Некогда единаямусульманская полуостровная держава пребывает всостоянии перманентного распада и политическогоупадка. Стремясь преодолеть кризис государственности,эмиры вступают в союзы друг с другом (одним изпримеров становится усиление так называемогоСевильского халифата), а также пытаются ослабитьдавление с севера со стороны христианских государствпосредством разного рода дипломатических, военных ииных маневров.
Сложившимся положением не преминул воспользоватьсяхристианский Север. Если к середине этого столетияграница территорий, отвоеванных испанцами у арабов,проходила северней Сарагосы, Толедо, Талаверы, то ужечерез три с половиной десятилетия христиане пробилисьна юге почти к верховьям Гвадалквивира и низовьямТахо. Успехи Реконкисты заставили эмиров обратиться запомощью к новой, хорошо организованной силе,способной, как они надеялись, остановить натискхристианских государств. Этой силой являлосьобъединение берберских племен – называвших себя
89
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
альморавидами («религиозными людьми») – ведшееуспешные завоевательные войны на севере Африки.
К концу XI века альморавидам, приглашенным вИспанию, удалось вернуть многие из утраченных арабамитерриторий и создать к концу 1-го десятилетия XIIцентрализованное государство под руководством Али,сына берберского вождя Юсуфа. Однако в дальнейшемальморавиды успешно деградируют как военная иполитическая сила. В правящих слоях воцаряютсякоррупция и политический откуп, а в обществе анархия иэкономический упадок. Тогда по призыву эмира Бадахосана испанскую землю высаживаются новые берберы,фанатичные альмохады («объединенные»). Берберскийэтнос, ставший руководящим в мусульманской Испании,дает здешним арабам имя мавров.103
Несколько десятилетий альмохады ведут войны схристианами вплоть до знаменитой битвы 1212 года приЛас Навас де Толоса, в которой они потерпели решающеепоражение от объединенного войска Кастилии, Наварры,Леона и Арагона. С этого времени Реконкиста пошлауспешней.
Важно подчеркнуть, что и при альморавидах, и приальмохадах подвижная, меняющая очертания граница междухристианами и маврами продолжает оставатьсяотносительно «прозрачной» не только для культурных, нои для политических отношений между христианами иарабами. Имеют место даже союзы на договорной основемежду эмирами и королями в эту эпоху смятения в
103 О событиях испанской средневековой истории, имеющих отношение ктеме статьи см.: Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании в 2-х тт. Т.1,М., 1951. Об идеологии альморавидов и альмохадов и оее влиянии наарабскую философию см.: Игнатенко А.А. В поисках счастья. М., 1989;Ренан Э. Аверроэс /Аверроэс. Опровержение опровержения. Киев-СПб.,1999.
90
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
таифских государствах. Что касается контактов в сферекультуры, то фактически здесь преобладают отнюдь непротивостояние и вражда, а заимствования ивзаимообогащение, при том что по-прежнему основнойпоток культурного обмена идет с севера, то есть изФранции. В последние десятилетия XI в. влияние состороны французской культуры становится еще болеезначительным. С другой стороны, усиление наопределенный период исламского фундаментализма104
неожиданно становится фактором, стимулирующиминтенсивность и широту освоения христианами арабской,а вместе с ней и античной культуры. Дело в том, чторепрессии мусульманских фанатиков оборачиваютсяфактическим разрушением ряда центров арабскогопросвещения на полуострове и вызывают массовое бегствоиз этих центров большого числа специалистов – арабов иевреев – знатоков арабского языка и арабскойлитературы, как это, в частности, имело место послеразгрома Лусены, города почти исключительно севрейским населением, являвшегося центром раввинскойкультуры в халифате или массового изгнания мосарабовиз Северной Африки, главным образом из Марокко в 1146году.105 Они оседают в городах христианского севера,предпочитая при этом поселения, в которых традиционнопри арабах имела место концентрация культуры, в том
104 Наряду с неподдельным интересом к философии, то есть крационалистической мысли, который «келейно» проявляли некоторыеальмохадские правители: от «махди» Мухаммеда ибн-Тумарта и до Абу-Якуба. См.: А.А.Игнатенко, указ. cоч., эпизод девятый.105 Гонения на евреев и мосарабов (христиан, в т.ч. крещеных евреев,живших под суверенитетом арабских правителей) во временаальморавидов и альмохадов инициировались мусульманскимдуховенством ввиду отказа евреев и христиан от добровольной ипринудительной исламизации, но не в меньшей степени объяснялись ихместом и ролью в экономической и общественно-политической жизниарабских государств
91
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
числе и религиозной. Особенно заметное место средитаких поселений занимал город Толедо, отвоеванныйкоролем Альфонсом VI у арабов в 1085 году и с тех поростававшийся несокрушимым бастионом Реконкисты и,одновременно, своего рода тиглем, в котором плавиласьиз разнородных элементов культура нового, кастильскогоэтноса.
Толедо минула печальная участь культурных центровбывшего Кордовского халифата. Более того, в городенакапливается огромный культурный потенциал, здесьдействует значительное число учреждений, знаменующихновый, более высокий уровень взаимодействия культур.Этому взаимодействию способствуют короли и церковныеиерархи, преследующие при этом и цели евангелизациинаселения отвоеванных территорий, а также усиленияхристианской теологической аргументации и расширенияпросвещения.
Известен был Толедо еще и как европейский центрмагических искусств. Как говаривали в те времена,клирики ехали в Париж учиться свободным искусствам, вБолонью кодексам (праву), в Салерно искусствуврачевания, а в Толедо – познавать дьяволов, а отнюдьне учиться хорошим манерам. О том же писал инфант ХуанМануэль в «Книге о Патронио»: ее герой, ИльянТоледский, в искусстве нигромантии «знал больше, чемкакой-либо другой муж в тогдашнем мире»106.
Толедская переводческая школа или коллегия явиласьодним из учреждений Реконкисты. Однако ее значениевыходит за рамки института испанской культуры: посуществу, указанная коллегия (наряду с аналогичным
106 См.: Bonilla y San Martín А.. Historia de la filosofía española. T.1.Madrid, 1908, pág. 310.
92
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
образованием на Сицилии) со временем превращается вмеждународный переводческий центр, в ареал пограничнойкультуры.
Толедская коллегия переводчиков наследуетскладывавшиеся с конца предшествующего столетиятрадиции перевода на средневековую латыньзначительного числа естественнонаучных сочиненийарабов. Пожалуй, раньше других в Средневековой Европедемонстрируют интерес к научным и философскимдостижениям арабов французские монахи. Удовлетворениюих интереса способствовали сохранявшиеся к этомувремени на северо-восточных территориях Испаниитрадиции вестготской культуры, при общем низком уровнеобразования. Монастырские библиотеки и школы вКаталонии и Наварре хранят труды Исидора Севильского,других христианских, а также классических латинскихавторов. Так что для установлению связей с соседнейФранцией на почве указанного интереса имелисьопределенные условия. Так, монах Герберт из Орильяка вОверни, обучавшийся в епископальной школе города Вик(северо-западнее Барселоны), впоследствии архиепископРеймский а затем и римский папа под именем СильвестраII (с 999 по 1003 гг.), возможно, посещавший Кордову,известен как один из первых собирателей арабскихрукописей. Значительное число этих рукописей былособрано и в французском аббатстве в Клюни. Из Арагонаэтот интерес северных соседей стимулирует крещеныйеврей из Уэски, врач и теолог Педро Альфонсо (1062-1140), автор «Disciplina clericalis» и «Писем к перипатетикампо ту сторону Альп» (1206), тоже написанных на латыни.В начале века в Таррагоне Уго де Санталья переводит налатынь около десятка научных сочинений арабов, став
93
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
тем самым наиболее заметной фигурой среди первыхарагонских переводчиков, сосредоточенных в основном вгородах долины реки Эбро от Логроньо до Таррагоны иБарселоны. А в известном своими учеными монахамикаталонском монастыре Святой Марии в Риполе (здесьподвизаются математик брат Олива, правовед брат Иоанн,а в XII в. действует латинская поэтическая школа),расположенном в восточном предгорьи Пиринеев, ждетсвоего часа большая и превосходная коллекциячрезвычайно дорогостоящих по тем временам арабских иеврейских манускриптов107, доставшихся монастырскойбиблиотеке в основном от беженцев с юга. Этот переченьфактов следует дополнить упоминанием о богатыхсобраниях рукописных книг по медицине, философии,теологии, имевшихся в библиотеках на Майорке и такжедоставшихся испанцам, которые в 1229 году завоевалиостров под предводительством юного короля АрагонаХаиме I.
В первые десятилетия XII века будущие толедцыподвизаются в различных городах Арагона на почтенномпереводческо-комментаторском поприще108. Это даетоснование для некоторых историографов выделить трипервые десятилетия XII века в самостоятельныйначальный, первый этап данного движения109. Так, помимоназывавшегося ранее Санталлы, в Таррагоне работаетАделард (или Абелард), англичанин из Бата-на-Эйвоне,известный переводами сочинений Эвклида и Аль-Хуварижни107 Эти сведения сообщают: парижский историк Ж. Перес. См.:Joseph
Pérez. Histoire de l’Espagne. Paris, 1996, p. 86; Riu Riu M. Manual dehistoria de España. V. 2. Madrid, 1989, pág. 328.108 Х.Л.Абельян называет три центра переводческой деятельности вАрагоне: район реки Эбро, Бургос и Таррагону. См.: Abellán J.L.Historia crítica del pensamiento español. T. 1, 2-a ed., Madrid,1988, pág. 210-211. К этим центрам уместно отнести и Наварру.109 См., например: Historia de España. Dir. Por. M.Tuñon de Lara.T.IV. Barcelona, 1980, pág. 85.
94
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
и критикой принципа опоры на авторитет в науке иотстаиванием нового метода, основанного на наблюдениии опыте. В Бургосе начинает свою деятельность иДоминго Гундисальво: в паре с евреем Соломоном онприступает к первым переводам на латынь сочиненийАвиценны. Наконец, в Наварре будущий толедец ГерманДалмата вместе с Робертом из Кетени перводят на латыньКоран по заказу клюнийского аббата
Впрочем, сама эта коллегия ориентируется напереводы философских сочинений по преимуществу, хотя унас нет данных о том, что это направление переводовбыло избрано членами коллегии вполне целенаправленно.Скорее всего, это было обязано выбору, сделанномуведущими сотрудниками школы, а главным образомотражает объем переводческой деятельности переводчиковименно философских трудов.
Коллегия110 была учреждена в 1230 году Великимканцлером Кастилии и вторым архиепископом Толедо (этудолжность он занимал в период с декабря 1125 по 1150или 1151 г.), французом по происхождению Раймундо де110 В авторитетной «Истории Испании» (Под общей ред. Мануэля Туньонде Лара) говорится: «С некоторых пор говорят о существованиинекоей школы переводчиков из Толедо, якобы основаннойархиепископом Раймундо или, по меньшей мере, получившей поддержкус его стороны, хотя на самом деле эта школа, похоже, никогда несуществовала. На самом деле имела место встреча интеллектуалов,прибывавших сюда с различных широт для того, чтобы войти в контактс трудами арабов и перевести их на латынь» (Ibid.). В связи сосказанным следует заметить, что указанная встреча интеллектуаловпродолжалась около полутора столетий при духовном и материальномпопечительстве со стороны иерархов церкви и королей. Что доРаймундо, то, помимо поддержки, он осуществлял и личный контрольза результатами работы переводчиков-мосарабов. (См.: A.Bonilla,op. cit., pág. 309). Как будет видно из дальнейшего, переводческаяработа толедцев представляла собой не некую последовательностьизолированных друг от друга опытов, но некое общее движение,обогащавшееся важными завоеваниями в технологии и методикахпереводов, в общих и специальных знаниях. Несомненна такжестимулирующая роль толедцев в способствовании просвещению и, вцелом, становлению испанской культуры, приходящемуся на XI-XIIвека.
95
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Советат (Sauvetât), членом молодого и динамичногоордена цисцерцианцев. Небезынтересно указать, в этойсвязи, что предшественник Раймундо на его посту,первый архиепископ Толедо, Бернардо также прибыл изФранции. Ему, так же как и клюнийским монахам извлиятельного монастыря в Саагуне немало обязана своимстановлением испанская культура, в том числе эпическаялитература и рыцарский роман.
Деятельность коллегии или школы теперь ужетоледских переводчиков охватывает время с 30-х поначало 80-х годов XII века. В это время в Толедосъезжаются соискатели арабской мудрости, неутомимыекнижники и великие труженики из разных стран Европы111,положившие начало всестороннему знакомствусредневековой Европы и с подлинной арабской наукой,теологией и философией, и с греческой классическоймыслью, на которую наложили свой отпечаток арабские иеврейские комментаторы, а также александрийцы. В этовремя на испанской земле здравствуют и трудятся такиевыдающиеся еврейские и арабские мыслители как Авраамбен Дауд га-Леви (1110-1180?), автор «Хазар» Иегудага-Леви (1085-1143), Ибн-Баджа (Авемпас, ок. 1070-1138), Ибн-Туфайл (Абубацер, ок. 1110-1185), Ибн-Рушд(Аверроэс, 1126-1198), знавшие греческую античностьблагодаря связям с сирийскими христианами.
Действительным организатором и руководителем или,скорее вдохновителем переводческой работы коллегииназывают архидиакона из Сеговии Доминго Гундисальво(Гундиссалино, а в транскрипции на кастильском романсеГонсало или Гонсалес, ум. после 1181 г.), внесшего
111 Есть свидетельства, что для размещения гостей королевскимичиновниками был приобретен постоялый двор у вдовы купца-мавра.
96
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
наибольший вклад в достижения коллегии. Его ближайшимсотрудником становится Хуан Севильский (Гиспанус илиГиспаленсис112, годы жизни неизв.), он же крещеныйеврей (мосараб) Хуан Авендеат или Авендеар, математик,прежде бывший раввином, личность легендарная113, о чемсвидетельствует список имен, кроме названных, подкоторым он был известен исследователям испанскогосредневековья: Хуан бен Давид (Давуд), Давид Иудей,Ибн-Дауд, Хуан де Луна. С него некоторые исследователиведут начало собственно Толедской школы. Один из них,Мануэль Алонсо рисует образ Хуана Севильского какпрекрасного организатора, не обремененного, однако,значительными творческими способностями, но, чтоособенно существенно, прекрасно разбиравшегося варабской литературе. Он начинал как самостоятельный еепереводчик на кастильский романсе.
Здесь необходимо сделать важное отступление,призванное помочь реально оценить особенностипереводческой деятельности в этот период на территорииИспании. Известно, что в Средние века латынь, ставшаяуниверсальным языком наук и философии, занимаетведущие позиции по сравнению с живымизападноевропейскими языками во внутрицерковном ивнутрифеодальном обиходе, а также в сфере права иобразования. Ученая и вульгарная латынь пребывают вдлительном противостоянии вплоть до XI века, когда наоснове последней складывается группа романских языков,а первая упрочивает свои позиции как хранительницакнижной мудрости и в Высоком средневековье112 От древнего бетического названия города Севильи - Hispalis113 Х.Л.Абельян, называющий Хуана Севильского «учителем исотрудником» Гундисальво, тут же замечает, что скудость сведений онем делает»весьма неопределенным (muy nebulosa) сам факт егоисторического существования» (Abellán J.L., op.cit., pág. 220).
97
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
используется при дворе монархов для официальнойредакции документов. Что касается романских языков илиромансе, то и классическая средневековаяраздробленность государств и народов, затрудненностькоммуникаций между ними, тяготение властителей кавтаркии, и обратные тенденции – возрождение городов,усиление в культуре светских элементов, тяготениегосударств к политической независимости и формирование«национальных идей» одинаково действуют в направленииупрочения позиций национальных языков. Не случайнымявлялось охарактеризованное выше стремление мосарабовинтегрироваться в новую культуру, используя для этогообиходный язык.
С другой стороны, адекватное воплощение в другойкультуре научных, теологических и философскихсочинений арабов, обладавших высокимипрофессиональными и литературными качествами, могло вэтот период осуществляться не на становящемсявульгарном языке, не обладавшем необходимым наборомпонятий и неспособным к передаче палитры смысловоригинальных текстов, а на ученой латыни. То, что, пооценке специалистов, от толедских переводчиков вЗападную Европу поступает большое количество латинскихверсий (А.Бонилья, например, в своем фундаментальномисследовании практически не пользуется терминомперевод, предпочитая говорить о версиях) арабских книгвысокого уровня, свидетельствовало о ясном пониманиитоледцами трудностей, стоявших перед ними и о своейответственности за их преодоление.
О трудностях красноречиво свидетельствуетнеизбежная многоступенчатая переводческая работа,которая стояла на пути от античных греческих текстов
98
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
до их латинских аналогов. Как уже говорилось,преимущественным источником греческих текстов дляарабов являлись их сирийские версии VII века,представленные в вариантах последнего периодасуществования греческой философии, то есть в основномв комментариях александрийцев. Первые греческие труды,переведенные на арабский, появляются в Испании в X в.в философской школе ибн-Массары. Два столетиями спустяс них делают переводы на романсе, и уже на основе этихверсий европейские и испанские латинисты воссоздают,точнее, реконструируют первоначальные тексты. Легкопредставить не только то, насколько сложной являласьподобная реконструкция, но и то, насколько далекими оторигинала могли быть результаты этих реконструкций. Ноэто, подчеркивал испанский историк философии Х.Л.Абельян, «был единственный путь, по которому греческаякультура могла быть возвращена Запад… через разрыв,образовавшийся… после нашествия варваров».
К трудностям осмысления этого процесса из нашеговремени добавляется, помимо названных обстоятельств,факт наличия, как правило, нескольких списковпереводов (они традиционно именуются кодексами),различия между которыми часто обязаны случайнымобстоятельствам, например, ошибкам переписчиков илидаже их намерениям исправить текст, дополнить илисократить его. Для латинистов, наконец, существеннымявлялось незнакомство с понятийным строем арабскогоязыка в его сопоставлении с понятиями греков.
Наиболее оптимальным путем преодоления названныхтрудностей становится рабочее сотрудничество междулатинистами, с одной стороны, и мосарабами и маврами,с другой. Образцом подобного сотрудничества становится
99
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
творческий союз между Доминго Гундисальво и ХуаномИспанским. Исследователи полагают, что делом ХуанаИспанского было создание возможно более точногоподстрочного перевода с арабского на обиходныйромансе, которым он, как считается, владел не всовершенстве (сам этот язык в рассматриваемый периоднаходился в стадии становления). Гундисальво, со своейстороны, как уже говорилось, конструировал латинскуюверсию текста. Работа с Гундисальво позволяет ХуануИспанскому совершенствовать собственные представления,формировавшиеся в процессе самостоятельного освоениятворчества его кумира Авиценны еще до своего обращенияв католицизм. Первичные переводы корректируются состороны их теоретического содержания и приобретаютотделку со стороны языкового соответствия.
Одним из первых переводов, выполненных в Толедо, тоесть уже во второй период переводческого движения,явился перевод «Quadripartitus et Sentiloquim» Птолемея,принадлежавший Хуану Испанскому а в его латинскойверсии – Гундисальво. Самостоятельными усилиями Хуанаотмечены и переводы астрономических и астрологическихтрактатов Абумаскара Аль-Балки, Аль-Алькабиси(Альхабитуса), Абулькасима, «Книги о воображении»Тебита Бен Курры. Как писал Х.Л.Абельян, постепенноформируется «другой Хуан – мыслитель, которомуособенно обязана католическая церковь». Речь идет оборигинальных трудах Хуана Испанского, среди которыхследует специально указать на трактаты «О душе» и «Опричинах», о которых будет сказано в дальнейшем.
Переводы трудов Авиценны, которого арабы считалинаиболее верным интерпретатором Аристотеля, кажутсяважнейшим делом и для Гундисальво. Ему принадлежат
100
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
версии основных сочинений Авиценны – «Физики» в 5-икнигах, «О небе и мире», «Метафизики» в 10 книгах.Перевел он также «Философию» Аль-Газали. Во всех этихпереводах, как подчеркивают исследователи, непременнымявлялось участие Хуана Севильского.
Имеющиеся данные подтверждают, что наибольшие плодыдает именно принципиальная работа вдвоем. Данныйконкретный случай Х.Л.Абельян рассматривает как типсотрудничества, которое вскоре станет характерным длясхоластической спекулятивной мысли. Являясьсовременниками Абеляра, Св.Бернарда, схоластовШартрской школы, Доминго и Хуан «идеологически» посуществу принадлежали XIII веку. В паре они создалилатинские версии трактатов Авиценны «О душе» и«Логики», «Книги о науках» Аль-Фараби, «Об уме» Аль-Кинди, «Различие между душой и духом» Косты Бен Луки,а также важного источника собственных воззренийГундисальво – «Источника жизни» Авицеброна.
Начиная с 60-х годов XII века в толедской школедоминируют выходцы из других стран Европы. Центральнойфигурой среди них становится Герард114 (1114-1187),уроженец итальянского города Кремона, с молодых летувлекшийся научными исследованиями и поискомманускриптов. В Кремоне проходило и его философскоеобразование. Принято считать, что отправляясь вТоледо, он руководствовался конкретной целью –ознакомиться с «Альмагестом» Птолемея, и к тому жепопытаться перевести его на латынь, а вместе с этойработой многие другие с общим намерением создать
114 Принятый в наших изданиях вариант имени этого толедца. Посколькук его имени в литературе нигде не применяется латинизированнаяформа, нет ясности в том, как его называли современники: Герардо(Херардо) на кастильском романсе или Джирардо по-итальянски.
101
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
энциклопедическое собрание арабской мысли, могущеебыть использованным христианами. Арабский язык оносвоил именно в Толедо.
Герардо явился самым плодовитым переводчиком сарабского на латынь на всем протяжении XII века.Источники указывают разное число переведенных им книг– от 60 до 86. Правда, есть свидетельства того, чтонемалая часть из этого поистине колоссального объемавыполненной работы тоже падает на плечи егомногочисленных помощников, скорее всего из числабеженцев из эмиратов, знавших арабский заведомо лучше,чем их руководитель. Тем не менее, его латинскаякультура, инициативы в выборе для переводовопределенных авторов и их трудов, редакторская работа,так же как и несомненно им самим выполненныемногочисленные переводы и комментарии к этим переводамзаслуживают самых высоких оценок.
В творчестве Герардо наследуется линия деятельностишколы второго периода, исчерпывавшаяся переводами по-преимуществу философских трудов арабскихаристотеликов. Ему принадлежат также переводы сарабских версий ряда работ Аристотеля, например,«Вторых аналитик» с текста Матта ибн Юнуса, ученикаАль-Фараби, а также «О порождении и распаде», «Книги ометеорах» и псевдо-аристотелевских работ – «Обэлементах», «О свойствах элементов». Герард проявляетбольшой интерес к трудам Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ишака(Ицхака) Аль-Израэли, переводит часть комментария Аль-Фараби к «Органону», а именно, «О силлогизме»,трактаты Аль-Фараби «Перечисление наук», «Осиллогизме», «О различении», а также ряд небольшихработ Александра Афродизийского и комментарии
102
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
последнего к Аристотелю – «О движении и времени», «Очувстве» и некоторые другие.
Осуществил Герард и намерение, с которым ехал вТоледо. Здесь он переводит не только текст«Альмагеста» с арабской версии Аль Хайяя бен Юсуфа бенМаттара, который еще в IX веке перевел этот трудПтолемея с сирийского на арабский, но и «Геометрию»Евклида и «Канон» Авиценны, ряд математических работконца прошлого и начала нового тысячелетия, а наряду сними многие сочинения по химии, алхимии и астрологии.Некоторые из приписываемых Герардо переводов неатрибутированы с достоверностью.
Уместно коротко остановиться и на именах не стользнаменитых, но все же оставивших свой след вэпохальном труде толедцев. Это увлеченный математикДэниэл из Морлая в Англии, прибывший в Толедо послезанятий в университетах Оксфорда и Парижа. Сохранилосьсвидетельство его разочарования ограниченностью ибедностью интеллектуальной жизни в этих средоточияхсредневековой учености. «Именно в наши дни, – писалДэниэл, – в Толедо арабская ученость…становится общимдостоянием, и я решил отправиться сюда, чтобы слушатьлекции самых мудрых в мире философов»115. Некоторыеисторики сообщают о нем как об авторе оригинальныхтрудов – «О началах математики», «О высшем мире», «Онизшем мире», однако, достоверность этих сведенийсомнительна. Достоверно то, что англичанин был по-настоящему захвачен открывшимся ему богатствоминтеллектуального наследия арабов и стал энтузиастомпереводческой деятельности.
115 Цит. по: Historia de España (Dir. por M.Tuñon de Lara, op.cit.,pág. 85)/
103
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Известна и еще одна пара переводчиков – Роберт изРетины, что в графстве Честер (он же РобертКетененский, а также Англус, Англигена, Англикус) иГерман Эль Далмата или Герман Схоластикус из Каринтии.До Испании Роберт путешествовал по Франции, Италии,Далматии, Греции, Сирии. Вместе с Германом они, посвидетельству Клюнийского аббата (из его письма кБернарду Клервосскому) учили астрологии студентов вгородах в долине Эбро. Их известность как переводчиковобязана переводу с арабского на латынь Корана позаказу того же Пьера Досточтимого. Считается, что вэтом им помогал Педро Толедский. Герман, со своейстороны, осуществил перевод «Планисферы» Птолемея, атакже посвятил ряд трудов изложению учения Магомета.Из переводчиков, так сказать, третьего плана,работавших в христианской Испании в это время, укажемтакже на еврея Абрахама (или Савасадора) из Барселоны,Платона из Тиволú, переводивших на латыньестественнонаучные труды арабов и евреев и англичанинаАделарда из Бата, автора трактата «De eodem et diverso».
Третий период деятельности Толедской школы относитсяк XIII в. и связан, по преимуществу, с именами ГерманаЭль Алемана (Алеманнуса или Тевтоникуса, ум около 1271г.) и Мигеля Эското (Михаила из Шотландии, годы жизнинеизвестны), которого в Испании считали прежде всегочернокнижником, что во времена широкогораспространения астрологических и алхимическихпредставлений отнюдь не представлялосьпредосудительным делом, хотя Данте и поместил«худобокого Михаила Шотландца» в ад как «доку вволшебных плутнях» (песнь 20-я «Ада»), а Роджер Бэкон,Альберт Великий и Франсиско де Кеведо писали о нем с
104
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
некоторым пренебрежении116. Как бы то ни было, вистории школы именно этим переводчикам выпало на долюсовершить основной труд по ознакомлению латинскогомира с трудами Аристотеля через переводы его сгреческого и с лучших арабских версий
Герман, являвшийся до прибытия в Толедоприближенным Манфреда Сицилийского, возможно, начиналпереводческий труд еще на Сицилии. Известно, что вИспании ок. 1266 г. он являлся епископом г. Асторга.Ему принадлежали переводы компендия «Никомаховойэтики» и «Риторики» Аристотеля, а также ряда крупныхкомментариев к трудам гения античности: глоссария Аль-Фараби к «Риторике» (вместе с переводом «Поэтики»Аверроэса эта работа была закончена в начале марта1256 года (интересно отметить, что в предисловии кпереводу глоссария Аль-Фараби Герман ссылается наизвестный ему перевод «Этики» Аристотеля, сделанныйРобертом Гроссететом, епископом из Линкольна) иСреднего комментария Аверроэса к «Никомаховой этике»(1260 г.). Он же перевел с еврейского на кастильскийромансе 70 псалмов Давида. Этот перевод был включен всостав издания Библии, которую архиепископ ТоледоКирога преподнес кастильскому королю Альфонсу XМудрому, выдающемуся просветителю Высокогосредневековья.
Мигель Эското происходил из графства Дарэм вАнглии, учился в университетах Оксфорда и Парижа. Егопуть в Толедо, как и у Германа, пролегал черезСицилию. Утверждают, что он владел греческим, арабским116 Бэкон считал Шотландца «ignarus quidem et verborum et rerum»,для Альберта Великого «Michael Scotus…in rei veritate nescivitnaturas, nec bene intellexit libros Aristotelis», Кеведо в«Свинарнике Плутона» (1608) пишет об этом чернокнижнике как олжеце и обманщике.
105
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
и еврейским языками, с которых самостоятельнопереводил на латынь. Утверждают также, что и Герман, иМигель часто пользовались подстрочными переводами идругими видами помощи со стороны ученых мосарабов имавров, что не умаляет, однако, их собственных заслуг.Масштаб проделанный ими работы воистину значителен.Мигель Эското, например, сумел представить на латыниколоссальный комментаторский труд Аверроэса,выдающегося мастера этого вида исследовательскойработы: его комментарии к трактатам Аристотеля «О небеи мире», «О душе», «О порождении и распаде», «Ометеорах», «О животных», к «Новой этике». Он перевелверсии парафразов Аверроэса к некоторым частямтрактата Аристотеля «De substantia orbis» и таких его работкак «О сне и бодрствовании», «О чувстве ичувствовании», «О памяти и воспоминании». Ему жепринадлежат переводы книг Авиценны «О животных» иастрономического трактата Абен Аль-Петрауза(Альпетрагио).
Достойны упоминания и такие переводчики третьегопериода как Эстебан Арнальдо из Барселоны, переводчик«Трактата о твердой сфере» Косты Бен-Луки и толедскийканоник Маркос, взявший на себя труд перевода налатынь с арабского языка четырех медицинских трудовГалена117, задолго до него переведенных на арабский сгреческого арабом Хонейном (Иоганисием). Маркос, крометого, заново перевел на латынь Коран.
Пик деятельности толедских переводчиков второгопериода приходится на 40-80-е годы XII века, атретьего периода – на 50-70-е годы следующего117 «Liber de tactu pulsus», «Liber de utilitate pulsus», «Liber demotu membroram seu de motu musculorum, a praesentibus translatus»,«Liber de motibus liquidis»,
106
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
столетия. На протяжении всего этого времени коллегияполучала поддержку со стороны королей и церкви,начиная с Альфонсо VII (1126-1157), но особенно приАльфонсо VIII (1158-1214), Фернандо III «Святом»(1214-1252) и его сыне Альфонсо X Мудром(1252-1282).при котором около 1260 года были учреждены латино-арабский институт и переводческая школа в Мурсии.Являясь общественным заведением, толедская коллегияолицетворяет долговременную политическую линиюстановящегося государства. В этом же направлениивыстраивается организация системы высшего образования,в частности, работы первых испанских университетов вПаленсии и Саламанке. Они были созданы королями исодержались за счет казны, их ограждали первое времяот вмешательства церкви (характерно, что в испанскихуниверситетах богословские науки стали преподаватьтолько в XV в.). Деятельность Толедской школынепосредственно предшествует и во многом определяетформирование просветительского климата в периодправления этого короля. При его непосредственномучастии составляются уникальный для своего времени,первый в Европе юридический компендий, получившийназвание «Семь частей» (закончен к 1265 г), а также«Всеобщая хроника» или «История Испании».Между 1263 и1272 гг. публикуются «Альфонсовы таблицы», выполненныепо заказу короля христианскими, еврейскими имусульманскими астрономами. С этого времени год делятна 365 дней, 5 часов, 48 минут и 6 секунд. Получаютразвитие алгебра и геометрия. С XII в. в Испаниипоявляется трактат «Об индийском числе». В первойполовине следующего века здесь были сделаны переводына романсе большого числа произведений дидактически-
107
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
морализаторского жанра – сборников сказаний и притч,причем, не только арабских, но и римских (из Вергилия,Теренция и др.), индийских и персидских, таких как«Книга о двенадцати мудрецах», «Цветы философии»,«Книга добрых притч», «Тайна тайн», «Калила и Димна»,«Сендебар».
Что касается воздействия арабских трудов, прошедшихчерез руки толедцев, на латинскую мысльконтинентальной Европы, то оно, вне всякого сомнения,было судьбоносным. Благодаря контактам с арабскойнаукой Европа смогла привести в действие доселе как быпарализованные возможности духовного развития. Этиконтакты, как писал в XVIII в. ученый иезуит ХуанАндрес, послужили делу «возрождения серьезныхисследований»118. Прежде всего, здесь с большейточностью и объективностью начинают оценивать месточеловека в физическом космосе. Вплоть до эпохиВозрождения, когда появляются условия для уточнения иисправления сведений об античной науке и философии,античная наука возвращается на европейский Запад черезарабов, как писал Э.Ренан в известном очерке«Аверроизи и аверроисты», «в более полном виде», вкомментариях арабов, переосмысленная с мусульманскихпозиций, обогащенная новыми проблемами и подходами. Сарабскими текстами приходит также новая терминология,повлиявшая на обновление и обогащение словарязападноевропейской философии, начавшееся с XIII в.
***
Переводчики-толедцы оставили после себяотносительно небольшое количество оригинальных работ,118 Цит. по: Pérez J., op. cit., pág. 89. Андрес Хуан (1740-1817) –исп. философ, историк литературы.
108
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
в тематике которых отразились, что совершенноочевидно, личные интересы и пристрастия этихподвижников. Например, чернокнижник Мигель Эскотоявился автором сочинения по физиогномике, ставшегопопулярным и неоднократно переиздававшимися начиная слейпцигского издания 1495 года. В том же году вБолонье была издана и вторая его работа – Комментарийк трактату Джованни де Сакробоско «De signumplanetarum». Известны также три его работы похиромантии. Об оригинальных сочинениях другихпереводчиков уже упоминалось в тексте настоящейстатьи. Дискуссионным остается вопрос о принадлежностинекоторых важных трудов, особенно «Книги причин», атакже «О душе» Хуану Севильскому.119
Первым и самым значительным «философом коллегии» и«первым западным мыслителем, который испытал влияниетрудов арабов и явился решающим агентом (в деле)внедрения этих трудов в латинский мир», был ДомингоГундисальво. Эта точка зрения, соединяющая взгляды наэту фигуру А.Бонильи и Х. Абельяна,120 представляетинтерес в контексте настоящих заметок. Знакомство сего трудами полезно для уточнения вопроса о реальномуровне ознакомления западных схоластов Высокогосредневековья с арабо-еврейской литературой, а черезнее с античной греческой мыслью. Так же, впрочем, каки о реальном уровне философского развития в самой119 Например, на его авторстве «Книги причин», которое издавнапринято приписывать Проклу (см. :A.Bonilla, op. cit., pág. 330-331), настаивает М. Алонсо и с ним, по-видимому, склоненсогласиться Х.Л.Абельян.120 Bonilla A., op. cit., pág. 316-317; Abellán J.L., op. cit., pág. 215. (Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 0103-00173)
© О. В. Журавлёв, 2001
109
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Испании того времени.Для большинства исследователей авторство
Гундисальво в отношении по крайней мере четырех илипяти работ представляется бесспорным. Имеются в видутрактаты «О разделении философии» (De divisionephilosophiae), «О мировом процессе» (De processionemundi), «Об объединенном и об одном» (De unitate etuno), «О душе» (De anima) и «О бессмертии души» (Deimmortalitate animae). Каждая их этих работпредставляет собой композицию из представлений арабов,греков и ранних христианских мыслителей. В то же времяв каждой из них Гундисальво проявляет себя и каксамостоятельно мыслящий философ.
Самым обширным сочинением его явился трактат «Dedivisione philosophiae in partes suas et partium in partes suassecundum philosophos», представляющий собой общуюклассификацию наук на основе греко-римской,раннехристианской, мусульманской и иудаистскойэнциклопедии: трудов Исидора Севильского, МарцианаКапеллы, Беды Досточтимого, Катона, Доната, Виргилия,Горация, Цицерона, Квинтилиана, Эвклида, комментариевк трудам Аристотеля, Библии, Исаака бен Саломона, Аль-Кинди, Аль-Газали, Авиценны. Главным же «вдохновением»для него послужил трактат «О перечислении наук» Аль-Фараби. Х.Л.Абельян подчеркивал, что критерием отборатрудов в эту энциклопедию Гундисальво являлсягармонизирующий дух, характеризовавший мировоззрениеиспанского мыслителя.
В этом труде дается определение философии, которуюГундисальво понимает весьма широко, как синоним наукивообще. Философия, таким образом, поглощает всякоенаучное знание: «Не существует науки, которая не
110
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
являлась бы частью философии» – повторяет он Исидора.Знание (наука) возникает на основе потребности. Средивещей, которых страстно домогается человек, что-топриходится на пользу его плоти, а что-то призваноудовлетворять потребности духовные. Относящееся к духуможет либо наносить вред, либо быть бесполезным, аможет приносить пользу. Вещи, полезные духу, учитГундисальво, включают добродетели и благоразумныенауки. Последние, подразделяются на божественныенауки, то есть на знания, переданные людям Богом черезВетхий и Новый Завет, и на человеческие знания,обязанные деятельности человеческого разума. Знаниявторого рода, в свою очередь, включают в себясовокупность теоретических и практических знаний(наук). Философия определяется как самое полное исовершенное знание, какое только человек можетполучить о себе. Генеральной целью философии илиразумного познания Гундисальво называетсовершенствование человека через познание истины вещейи любовь к добру.
Философия собственным предметом имеет бытие,которое подразделяется на вечное и per se, то есть неполучающее своего бытия от другого, и временное и abalio, то есть обладающее им как полученным от другого.Бытие второго рода подразделяется на начинающееся довремени (материя и ангелы), начинающееся одновременнос временем (небесные тела и элементы) и возникающее современем (все индивидуальные вещи). Всякоеиндивидуальное бытие представляет собой оформленнуюматерию, при том, что форма всеобща и обща всемединичным сущим одного вида, а материя единична иконкретна.
111
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
На этой гилеморфистской концепции основана теорияабстракции Гундисальво, которая, в свою очередь, былаположена им в основание его классификации наук. Какподчеркивает Х.Л.Абельян, в этой теории всеобщее имеет«чересчур реалистический характер». Поэтому, для того,чтобы понять всеобщую форму, достаточно освободить еепутем абстрагирования от материи и индивидуальныхсвойств. Продуктом этой абстракции (спекулятивноймысли) оказывается сущность вещей и сами разделызнания (наук).
Теоретическая философия, в классификацииГундисальво, охватывает три группы наук. Первойявляется физическая философия (физика), имеющая дело сформами, которые не могут быть отделены от материи нив реальности, ни в уме. В составе физики восемьдисциплин, среди них медицина, сельскохозяйственные инавигационные знания, а также алхимические имагические сведения. Вторая – математическая философия(математика) – относится к формам, не могущим бытьотделенными от материи в самой реальности, а могущимотделяться при посредстве ума. Она включает семь наук,среди которых арифметика, геометрия, музыка (наука озвуковых колебаниях), астрология, а также учение оспособностях ума. Третья – божественная философия илиметафизика (первая философия) занимается формами,существующими отдельно от материи и могущими бытьпостигнутыми независимо от последней.
Практическая философия или совокупность знаний,требующихся для целей практической жизни и требующаядля их усвоения практических действий, также состоитих трех групп знаний. Первая охватывает дисциплины,овладение которыми требуется для обеспечения
112
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
нормального взаимопонимания между людьми – грамматику,поэтику, риторику, логику и политические знания.Вторая состоит из знаний о ведении домашнего хозяйстваи семейной жизни. Третья – этика – содержит знания,необходимые для каждого человека, о том, как вестисебя среди других людей и сохранять при этомсобственное душевное здоровье.
Гундисальво создает более осложненнуюмногочисленными заимствованиями и запутанную,сравнительно с традиционной, аристотелевской, схемуклассификации наук, порывает со средневековойтрадицией тривиума и квадривиума и с стоическимразделением философии на логику, физику и этику. В егоклассификации появляются псхологические,экономические, политические знания. Он возвращается кприменению слова метафизика, в Средние века как быисчезнувшего из обихода. Понятие метафизики какбожественной науки включает в себя и первую философию,которая понимается как всеобщая и обширнейшая наука,поставляющая общие понятия всем остальным наукам, итеологию, обращенную к богу как к особенному иконкретному сущему.
Место теологии в философско-теологическойконструкции (системе) Гундисальво рельефно выделено вдругом его трактате «De processione mundi», созданном подопределяющим влиянием неоплатоника Ибн-Гебироля(Авицеброна), зачинателя пантеистической традиции взападноевропейской мысли, а также Боэция и Авиценны. Вразвернутом здесь космологическом учении мирпредставлен в поступательном движении «из ничто кпростым вещам, от простых к сложным, а от сложных кобщим» (220).Способами обретения вещами существования
113
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
избираются, тем самым, творение, составление целого изчастей и порождение, а первоочередной и важнейшейпроблемой оказывается рациональная экспликацияпринципа (начала) или первой причины всех вещей,возникающих на основе творения.
Трактат начинается с демонстрации доказательствсуществования бога, осуществляемой Гундисальво спомощью метода восходящих «путей»,усовершенствованного в последующем Фомой Аквинским.Приводятся шесть таких доказательств: 1. Устроениефизических сущих требует устроителя, а это не ктоиной, как бог; 2. Все существующее существует сначала. Мир начинается при переходе потенции в акт,поэтому существование мира нуждается в начале,которое, в свою очередь, является причиной мира,каковой причиной может быть только бог; 3. Переход изпотенции в акт есть движение, которое, для того, чтобыначаться, требует импульса, ибо движимое движимо чем-то, а в случае мира этим импульсом может быть толькобог; 4. Возможность бытия конечных сущих, образующихмир, не имеющих основания в себе самих, требует дляних необходимого бытия или первой причины, каковойявляется бог; 5. Мир есть цепь причин и действий, немогущая быть бесконечной и, тем самым, необусловленной. Не обусловленной или первой причиноймира может быть только бог. 6. Возможное бытие сущихab alio нуждается в существовании ens a se, то естьтакого, которое существовало бы образом, необходимымдля существования возможных сущих, а таковымнеобходимым существованием является бог.
Из перечня доказательств бытия бога следуют егоатрибуты: начала (первой причины) всех вещей и
114
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
единства (простоты и недвижимости); актуальнойоказывается также необходимость прояснения того, какэти свойства реализуются при устроении мира. Важнейшеезначение в теологии Гундисальво отводил учению отворении, основывавшемуся, как отмечалось ранее, наконцепции всеобщего гилеморфизма. Бог как простое иединое сущее, в акте творения созидает нечто сложное(составное), двойное, а именно, первоначальнуюдвойственность всеобщих материи и формы как принциповустроения всего случайного (преходящего) сущего.Материя требует активного принципа, который придавалбы ей определенность (конкретность), наделял еебытием. Таким началом является форма, которая, в своюочередь, находит в материи свое основание, своюобъективность.
Гундисальво не предусматривает отдельногосуществования форм вне бога. Отрицает он и возможностьотдельного существования первоматерии. Хаос, о которомпишут поэты, учит Гундисальво, не есть первоматерия,поскольку этот Хаос разлагается на элементы, тогда какпервые материя и форма сотворяются до элементов. Всесуществующее вне бога суть оформленная материя. Бытиеспособно пребывать в потенции, присущей как материи,так и форме, рассматриваемым в отдельности, или вакте, каковой соответствует соединенным материи иформе. Существующее помимо бога существует в акте инуждается для своего существования в материи, форме идействующей причине. Указанные три началаобусловливают всякое порождение как сугубо «мирской»способ получения вещами их существования. Что касаетсятворения или исключительно божественного способапорождения сущего, то прежде чем форма объединится с
115
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
материей, она существует в потенции в уме бога. УГундисальво формы это своего рода образцовые идеи,которые отделяются от божественного ума для того,чтобы впечататься в материю, образовав при этомреальный экземпляр запредельной идеи.
В теолого-космологическом учении Гундисальво формыподразделяются на духовные, телесные и промежуточныемежду первыми и вторыми. Эти промежуточные формыотнесены к субстанциальности и единству как кнеобходимым условиям восприятия других форм субъектомпознания и действия. Доминго Гундисальво пользуется изаимствованным у Ибн-Гебироля понятием света дляобозначения первой формы вещей. Первый союз формы иматерии это как бы света с воздухом или души с телом:так же, как благодаря свету становятся видимым темное,так и посредством формы познается каждое бытие.(Бонилья, 327). В Средние века это понятие получаетраспространение в трудах Гийома Овернского, РобертаГроссетеста, Св.Буэнавентуры, а в эпоху Возрождения уЛеона Еврея.
Учение о мировом процессе или космология Доминго вкачестве отправной позиции рассматривает первоетворение бога как первой причины – единство илисовокупность первичных материи и формы. Из данногоединства образуются вещи трех родов: творенияневидимого мира и видимый мир, состоящий из небесныхтел и четырех элементов. Дальнейший процессобразования остального сущего мироздания или обретениявещами их существования есть произведение вторичныхпричин способами порождения, соединения и сохранения.Помимо нетелесного, нерушимого и невидимого запределами небесного свода мира, мироздание включает в
116
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
себя второй мир, охватывающий пространство отнебосвода до Луны (это телесный, чувственновоспринимаемый и нерушимый мир) и подлунный мир,подверженный распаду. Каждому миру соответствует своядействующая причина, иерархически связанная спричинами, действующими в других мирах, вплоть до богакак первой и не обусловленной причины. Мировой процессили поступательное движение творений, порождений икомпозиций берет начало из унитарного бога ссотворением им первой пары, то есть материи и формыкак простых единств. Его продолжение мы находим впроисходящем из единства материи и формы утроении(троице): уме, небесных телах и четырех элементах.Разнообразные композиции четырех элементов илисубстанций (ума, рациональной души, чувствующей души иприроды) образуют, в свою очередь четверной порядок,охватывающий все преходящее, подверженное распаду. Этацелостная концептуальная картина мироздания,дополненная учением о сущностном единстве формы внебольшом трактате «О единстве» (De Unitate),свидетельствующем о пантеистической склонности умаГундисальво, достойна, как утверждал в свое времяА.Бонилья, отсаться, как и ее автор, «вечнымпамятником в истории философии» (329).
Учение о душе – одно из центральных вдемонстрируемой здесь философской «системе». Онопредставлено в трактатах «О душе» и «О бессмертиидуши».
Первым и главным вопросом трактата «О душе» (Deanima) является вопрос о существовании души.Гундисальво исходит из наблюдаемого нами вольного«чувствования и движения» некоторых тел и отсутствия
117
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
подобной «воли» у других тел, например, у камней.Другими словами, указанное свойство либо присуще, либоне присуще вещам. Свойственность воли вещам означалабы обусловленность их волей. Не свойственностьобусловливала бы чувствование и движение вещей другимивещами.
Философ полагает, что свойство вольного илисамодвижения вещи представить невозможно, посколькуничто не может одновременно пребывать в потенции и вакте. Следовательно, нет ничего, что двигалось бы самособой; напротив, все, что движется, движимо чем-тодругим. Существует нечто, внешнее телу; благодаряэтому нечто тело чувствует (ощущает) и движетсяпроизвольно (свободно). Нечто, которое одушевляеттело, делает его чувствительным и сообщает емупроизвольное движение, «мы называем душой или,замечает Гундисальво, как вам будет угодно» (dicaturanima, aut quomodo libet aliter) назвать это нечто.
Признание существования души оставляет открытымвопрос о ее отношении к телу, которому она сообщаетчувствительность и движение. По Гундисальво, душа неможет сопровождать движение (двигаться) ни вфизическом, ни в «чувствительном» отношениях, так какее пришлось бы в таком случае рассматривать либо кактелесную субстанцию, либо со стороны качественных,количественных или пространственных свойств вещи.Являясь движителем чего-либо, душа остаетсянедвижимой, подобно тому, как знание (наука),оставаясь недвижимым, является причиной мастерства.
Гундисальво утверждается в мнении о душе как онетелесной субстанции. В пользу этого мнения онприводит довод, согласно которому, телесные силы и
118
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
способности от их употребления со временем истощаютсяи могут совершенно растратиться, в то время какдушевные (и духовные) силы со временем обретают всебольшую живость (активность) и полезность, причем, стем большей силой, чем труднее оказываются перед нимипроблемы, которые им приходится преодолевать. Оразличной природе этих сил свидетельствует и то, чтокачества души не могут быть засвидетельствованычувствами. Душа, таким образом, не является телом.
Что же такое душа в ее отношении к телу?Гундисальво называет душу «истинной субстанцией» тела,основываясь при этом на аристотелевском определениидуши как «первого природного телесногоинструментального совершенства, обладающего ввозможности жизнью». Другими словами, потенциальнопродуктивного телесного совершенства. Будучисовершенством тела (традиционно именуемом энтелехией),его истинной субстанцией, душа оказывается сообразнойтелу, ибо различаются между собой не толькорастительная, чувствующая и рациональная душа, но идуши внутри этих видов. Если бы, например, рассуждаетГундисальво, во всех человеческих телах была одна и таже душа, ни для кого не составляло бы тайны то, чтопроисходит в душах других людей; было бы возможнымсуществование в одном человеке души мудреца и душиневежды или невозможность различения междуневежественной и мудрой душой и так далее.
Сообразность телам делает души по определениютварными, поскольку если бы указанная «истиннаясубстанция» была одна на все вещи и существовала бы отвека, она являлась бы небесной субстанцией, богом.Однако, предположение о существовании двух небесных и
119
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
вечных субстанций – бога и души – представляетсяневозможным, в силу чего душа с неизбежностью должнасчитаться тварной. В ответе на вопрос об источникетворения душ Гундисальво склоняется к мысли о том, чтобог не может также (в силу его вечности инедвижимости, то есть отсутствия у него какого-топобудителя к движению, который он мог бы использоватьдля побуждения к движению душ) являться их творцом.Вероятнее всего, считает философ, что их творятангелы. Так что бог здесь «царствует, но не правит». Осклонности к деистическим, а в пределе и кпантеистическим установкам свидетельствовала такжепопытка решения им вопроса о времени или о процессесотворения душ. Он отвергает совечность душ миру,полагая, что в ожидании сотворения тех вещей, которыедолжны были бы оживлять и совершенствовать сообразныеим души, эти последние невольно пребывали бы впраздности, в то время как в природе нет ничегопраздного. Души, таким образом, творятся со временем,день за днем, при том, что их творение не естьтворение во времени, поскольку во времени творится то,что имеет своим началом «другие вещи», то естьоформленную материю, тогда как душа сотворяется «изничего», хотя она и образована из материи и формы, притом, что материя во всех этих «истинных субстанциях»одна, а формы – разные.
Определяющее влияние на Гундисальво идей «Источникажизни» Ибн-Гебироля заметно, хотя и в меньшей степени,и в трактате «О бессмертии души» (De immortalitateanima), в котором мы обнаруживаем связи с трактатамиАристотеля «О небе» и «О порождении и распаде».
Идея бессмертия души, полагает Гундисальво, лежит в
120
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
основании человеческого благоразумия и любви к богу,поскольку через идею бессмертия человеческой душисвидетельствуется мудрость и доброта бога, которыйведает о тяготах земного пути людей и дарит им надеждуна будущую жизнь как на достижение подлинного счастьяв награду за их добрые дела на земле.
Аргументация Гундисальво в пользу бессмертия душисводится к следующим положениям: 1. Действиечеловеческой души тем меньше зависит от тела, чембольше в ней благородства, именно умственнойспособности (силы). Полнота последней служит отделениюдуши от тела и обретению вечности сущностью души. 2.Сущность человеческого понимания не зависит от тела попричинам, изложенным ранее: ослаблению физических силлюдей с возрастом противостоит максимизация ихумственных сил и возрастание умственной деятельности.3. Умственная субстанция принадлежит к субстанциям,форма которых нетленна, ибо тленны только материальныеформы. Ум получает образы из материальных форм, необладая при этом ни одной из них, подобно тому какглаз воспринимает образ некоего цвета, не принимаяцвета воспринятого образа. 4. Всякое порождение иразрушение и вообще конфликт между противоположностямиможет иметь место в материи, но не в нематериальном.5. Всякое естественное движение целеположено впределах своего земного самоосуществления. Другое делочеловек: ему свойственно стремление к достижениюподлинного и полного счастья (и ненависть кнесчастному существованию), что оказываетсяневозможным в естественной, земной жизни, отчего учеловека рождается желание достижения счастья в другойжизни. 6. Это желание, страстно впечатляющее ум в
121
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
гораздо большей степени, чем человеческие чувства,лучше подготавливает его для подлинного и полногосчастья, являясь, тем самым, благотворным для ума каксредство его совершенствования. 7. Душа неразрушима,так как она, во-первых, есть чистая форма, а нечторазрушается, если форма отделяется от материи; во-вторых, интеллект прост, а познание целого умомпроисходит сразу и в целом, что также свидетельствуето невозможности разрушения ума, ибо разрушается то, отчего отделяются составляющие его части; в-третьих,душа пребывает ближе к источнику жизни или первойпричине (божественной воле), чем природа, отчегоспособность души к сохранению своего существованиясильнее и постояннее, чем подобная природнаяспособность; 8. Интеллект неделим и нерушим в силу егонадприродной (внеприродной) бесстрастности и, какследствие, неспособности демонстрации своих действий:когда мы чувствуем тепло, наше тело расширяется, еслиощущаем свет, оказываемся освещенными, но когда мыпонимаем тепло и свет, мы в материальном смысле ненагреваемся и не освещаемся. 9. Умственная способностьнеистощима в своих действиях и во времени.
Итогом этих отнюдь не богословских рассужденийГундисальво о вечности или бессмертии человеческойдуши как о….является положение о том, что«естественным» движением ума является его тяготение ктому самому источнику жизни, в котором «пребывает» его(ума) высшее совершенство, и от какового тяготения умни вольно, ни под действием внешних сил не в состоянииотойти (отказаться).
Сочинения Гундисальво нашли довольно широкое исвоеобразное отражение в философской культуре
122
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОЛЕДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
последующих времен. Его трактат «О разделениифилософии» почти буквально воспроизвел Мигель Эското всвоем «Divisio Philosophiae» и частично Викентий Бовеский в«Speculum Doctrinale». Эта работа вдохновила на созданиесобственных классификаций знания Альберта Великого иРоберта Килуордби («De ortu et divisione philosophiae»).Трактат «О бессмертии души» тоже был использован почтицеликом и буквально Гийомом Овернским в книге под теиже названием. Заимствования у Гундисальво мы находим иу св. Буэнавентуры, например, в учении о raptus илиэкстазе, который у Гундисальво характеризуетосвобождение духа от пут смертной и преходящей плоти.Эти заимствования, а также ссылки на его книгимногочисленны и отнюдь не случайны. Напротив, онисвидетельствуют о реальной значимости и актуальностидля своей эпохи творческого по своему существу труда иэтого «первого философа школы» и толедскойпереводческой коллегии в целом.
SUMMARY
The article deals with the development and activityof International translator’s School of Toledo (XII-XIII centuries) in the history of European culture.Specifically, the essay focuses on the philosophicalviews of the main representative of Toledo SchoolDomingo Gundisalvo.
ПРИМЕЧАНИЯ
123
Джон П. Дойл
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ О СЕМИОТИЧЕСКОМХАРАКТЕРЕ ЗЕРКАЛЬНЫХ ОТРАЖЕНИЙ
I
Вообразите, если вам нетрудно, что я держу передвами зеркало. Смотрите в него прямо и говорите, что выв нем видите. Держу пари, что большинство из вас, еслине все, скажут, что видят самих себя. Однако минутноеразмышление покажет вам, что есть что-то не совсемверное в этом ответе. Очевидно, что вы не в зеркале –вы сидите или стоите за его пределами. Затем вы можетепоправить себя и сказать, что вы видите вашеотражение, и что оно есть некоторым образом следствие,которое позволяет вам перейти к вашей собственнойреальности как к его причине. В этой связи вы можетеподумать, что ваше отражение находится к вашейреальности в отношении, сравнимом с отношением дыма когню. Однако в связи с этим возникают проблемы,главная из которых та, что никто из нас не отдает себеникакого отчета в том, каким должен быть результат,когда мы заключаем от нашего отражения к самим себе.Возможно даже, что меньшая часть будет склонна думатьоб отражении в зеркале как о знаке, который ведет кчему-то означенному, как в случае дымом, который какзнак, указывает на огонь.
В своих «Quaestiones Naturales» испанский философ Iвека Сенека (4 до н. э.? – 65 н. э.) выделил две
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
теории относительно отражений в зеркале.121 Перваятеория утверждает, что в зеркале мы видим simulachraили подобия вещей122, а затем с их помощью переходим кзнанию самих вещей. Согласно второй теории в зеркалемы непосредственно видим вещи123. Современный издательПлатона рассматривал, по-моему справедливо, это второемнение как совпадающее с учением в «Тимее» (46 А-В),которое объясняет зеркальные образы через пересечениена поверхности зеркала лучей из глаза с лучами,исходящими от объекта124.
II
Коимбрские схоластики принадлежали к Орденуиезуитов и были профессорами философии в университетеКоимбры примерно в конце XVI века125. Самые известныеиз них — Эммануэль же Гоес (1542—1597), Косме деМагаланьш (1551—1624), Бальтасар Альварес (1561—1630),
121 «De speculis duae opiniones sunt.» Naturales quaestiones, I, 5, ed.Thomas H. Corcoran, in The Loeb Classical Library (Cambridge, MA: HarvardUniversity Press, 1971), I, p. 44.
122 «Alii enim in illis simulachra cerni putant, id est corporumnostrorum figuras a nostris corporibus emissas et separatas; ...»ibid.
123 «... alii non imagines in speculo, sed ipsa adspici corpora,retorta oculorum acie et in se rursus reflexa.» ibid.
124 Об этом см.: «Тимей», Платон собр. соч. в 4-х тт., т. 3, М., 1994,с. 448.
125О коимбрских схоластиках см. так же: John P. Doyle, «CollegiumConimbricense, « in Routledge Encyclopedia of Philosophy (London and New York:Routledge, 1998), vol. 2, pp. 406-408; Tavares, S., Bacalar Oliveira,J., «Conimbricensi, « in Enciclopedia Filosofica (Firenze, 1967), I, cols.1590-1; Marcial Solana, Historia de la filosofía española. Época del renacimiento(siglo XVI), (Madrid: Asociación Española para el Progreso de lasCiencias, 1940) III, 366-71.
125
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
и Себастиан де Коуто (1567—1639). Их учение изложено впяти томах, состоящих из комментариев на Аристотеля,которые были опубликованы между 1592 и 1606 годами.126
Последний из этих томов, включающий комментарии на всюаристотелевскую логику127, изданный и опубликованный деКоуто128, особенно важен в виду того, что он включаетих новаторский трактат о знаках.
Хотя знаки и рассматривались ранее другими авторами– стоиками в античности, и, возможно, наиболееосновательно, Роджером Бэконом (1220 – 1292) в XIIIвеке, – трактат коимбрских иезуитов самым решительнымобразом выводит за пределы Средневековья.129 Основная
126 Об отнесении каждого тома к его предполагаемому издателю см.:Friedrich Stegmuller, Filosofia e teologia nas universidades de Coimbra e Évora no seculo XVI(Coimbra: Universidade de Coimbra, 1959), pp. 95-7 см. также: CarlosSommervogel, S.J. (Bibliothèque de la Compagnie de Jesus [Bruxelles: OscarSchepens] II (1891), cols. 1273-8) и Charles H. Lohr (Latin AristotleCommentaries; II Renaissance Authors [Firenze: Leo S. Olschki Editore,1988], 98-9), который дополнительно приводит даты всех последующихизданий.
127Используемое мной издание: Commentarii Collegii Conimbricensis e Societate Jesu inuniversam dialecticam Aristotelis Stagiritae. Qui nunc primum Graeco Aristotelis contextuLatino a regione respondenti aucti duas in partes, ob studiosorum commoditatem sunt divisi.Cum duplici Indice. Lugduni: Sumptibus Horatii Cardon, 1607. См.также Commentarii Collegii Conimbricenses e Societate Jesu: in universam dialecticamAristotelis Stagiritae. Nunc primum in Germania in lucem editi, Coloniae Agrippinae:Apud Bernardum Gualtherium, 1607 переизданное с предисловием WilhelmRisse, Hildesheim/New York: Georg Olms, 1976.
128О Себастьяне де Коуто см.: Gonzalo Diaz Diaz, Hombres y documentos de lafilosofía española, II (Madrid: Consejo Superior de Investigacionescientificas, 1983), 441-43.
129Современное истолкование учения о знаках в средневековье и 17-мстолетьи см. в: Stephan Meier-Oeser, Die Spur des Zeichens: Das Zeichen undseine Funktion in der Philosophie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit (Berlin/NewYork: Walter de Gruyter, 1997).
126
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
часть их комментария на «Об истолковании» Аристотеля,– «per modum quaestionis» – занимает более 60 страницin quarto. Принципиальных вопросов, поднятых в нем,пять: (1) О природе знаков и об общих для нихусловиях; (2) О разделениях знаков; (3) Об обозначениипроизносимых и написанных слов; (4) Являются липонятия общими всему, а произносимые слова отличнымиот (всего); (5) Являются ли некоторые понятия в нашемуме истинными или ложными, тогда как другие (понятия)лишены истинности и ложности.130
По ходу дела возникают подвопросы о сущности знака,о возможности для чего-нибудь быть знаком самого себя,о знаках как естественных и конвенциональных, и оботношениях, содержащихся в знаках.131 Более того, дажеесли их комментарий был трудом по логике, коимбрскиеиезуиты отдавали себе отчет в том, что относительнознаков и означения могут быть поставлены многиеэпистемологические, психологические, метафизические итеологические вопросы.
Некоторые частные вопросы, которых они касалисьразличными способами – язык, синтаксическая речь,смех, дрема, кашель, речь человека во сне,человеческая ложь и произнесение человеком слов безмысли. Они размышляли о смысле отрицательных слов,синкатегорематических слов, таких как «если»,бессмысленных слов, таких как «абракадабра» и слов
130 Ср.: Commentarii ... in universam dialecticam ..., « Summa quaestionum et articulorumqui in secundo tomo continentur. In libros de Interpretatione. Liber primus. Caput primum designis. (Lugduni, 1607), II, initio.
131О последнем см. мою более раннюю статью: «The Conimbricenses on theRelations Involved in Signs, « in Semiotics 1984, pp. 567-76; а такжеMeier-Oeser, Die Spur ..., pp. 185-8.
127
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
вроде «химеры» или «кентавра», которым несоответствуют никакие реальные вещи. Их интересовализнаки, используемые при письме и чтении, особенно прибеззвучном чтении. Присоединившись к дискуссии офизиологической основе речи и слуха, они затронулиотношения между глухотой и затруднениями в речи иобщении.
Опираясь на рассказ Геродота о царе Псамметихе,который растил детей вместе с животными, чтобы увидетьна каком языке они начнут непроизвольно говорить132, атакже на сообщение, возможно основываемое иезуитскимимиссионерами на сходном эксперименте, осуществленномпотомком Тамерлана, Великим Моголом Индии Акбаром(1542 – 1605)133, коимбрские иезуиты начали обсуждение132Геродот История в 9-ти книгах, М., 1983, кн. 2., 2., с. 80-81.133Ср.: «... idem nostra aetate anno, scilicet 1596, fieri iussit RexAchebar Magni Tamorlani pronepos, ut cuius gentis linguam puer itaeducatus, natura duce loqueretur, illius susciperet fidem: at nonpermisit Deus Optimus maximus tantum principem, apud quem tunctemporis, fidei propagandae causa, nostrae Societatis hominesversabatur, in errorem adeo periculosum prolabi; itaque nullumprorsus verbum locutus est, qui ita educabatur.» Commentarii inuniversam Dialecticam ...» I, qu. 4, art. 3; p. 51 с этим сопоставимоперсидское свидетельство современников Акбара: «… у него был сераль(особняк), построенный в месте, куда не достигали звуки цивилизации.В это место для проведения эксперимента помещались новорождённые, закоторыми следили честные и деятельные стражи.На некоторое времяпозволялось присутствие кормилиц, у которых отрезалисьязыки.Поскольку в этом месте была закрыта дверь для речи, его обычноназывали Ганг Махал (дом немых).9-го августа 1582 г, он (Акбар )отправился на охоту Той ночью он остановился в Фансабаде, а наследующий день отправился с несколькими сопровождающими в местопроведения эксперимента, Ни одного крика не исходило из этого доматишины, ни одного слова не было там слышно. Хотя детям было уже 4года, они не проявляли дара речи, ничего нельзя было услышать, кромешума, производимого немыми». Цит. по H. Beveridge, The Akbarmania,
128
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
проблемы усвоения языка детьми, как и проблемы речидетей, выращенных животными. Возможно, опять такиопираясь на записи португальских миссионеров, оникратко обсудили различие между письменными языками,которые используют пиктограммы (они упомянулииероглифы, а также китайское и японское письмо) илиалфавит. В связи с этим они коснулись значения чиселдля математиков и знаков для астрономов. Сюжеты,связанные с Библией, касались языка Адама и Евы, речиАдама, нарекающего животных их истинными именами,печати Каина (которую, согласно св. Иерониму, онирассматривали как дрожь), радуги, посланной Ною иразделению языков на Вавилонской башне. В областизоосемиозиса они упоминают аристотелевское учение опении птиц134 и обсуждают словообразование у попугаев исорок, а также различные виды общения среди дикихживотных: мычание коров и лай собак. Они сделалиследующее разоблачающее замечание, хотя и не полновыражающее их семиотическую теорию: «Нет ничеготакого, что приводило бы к осознанию чего-либодругого, и не могло быть сведено к некоторому виду
перевод, 3 vols. (Bengal: Bibliotheca Indica, 1897-1910), pp. 581-2,as quoted by David Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language(Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 228. Не смотря наразногласия касательно даты эксперимента и ее интерпретациикоимбрскими схоластиками, оба свидетельства совпадают.Правдоподобнее всего, что непосредственным источником для коимбрскихдокторов послужил Jerónimo Xavier (ум. 1617), который возглавлялтретью миссию иезуитов к Великому Моголу и слышал об эксперименте отсамого Акбара. Об этом см.: Pierre du Jarric, S.J., Akbar and theJesuits, С переводом и примечаниями C.H. Payne (New York & London:Harper & Brothers, 1926), 84-5; also: J. Stephen Narayan, Acquavivaand the Great Mogul (Patna: Catholic Book Club, 1945), 66.
134Ср.: Historia animalium 4.7.536a20-33.
129
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
знака».135
В своем трактате о знаках коимбрские иезуитыобсуждали отражения и упомянули, вопреки общемуоснованию оптики, отражения в зеркалах. Ранее в своемкомментарии на трактат Аристотеля «О душе» онипродемонстрировали знание как рассуждений Сенеки,136
так и платоновского объяснения зеркальных отражений.Может удивить то, что они отвергли платоновскийвзгляд, но поддержали, в то же время, вторую теорию,описанную Сенекой.137 В трактате о знаках им нужно былосвести концы с концами – подтвердить семиотическийхарактер зеркальных отражений и, одновременно,отстоять положение о том, что в зеркале мынепосредственно видим вещи.
III
Поставленная таким образом задача, что былоочевидно самим коимбрским иезуитам, порождаларазногласия со св. Фомой Аквинским (1225 – 1274),следовать теологии которого требовал иезуитский RatioStudiorum,138 и философию которого иезуиты всегда135Ср.: «Initio illud statuimus nihil ducere in cognitionem alterius,quod in aliqua speciem signi non reducatur.» Commentarii ... in universamdialecticam ..., « q. 2, a. 3, sect. 3, (ed. 1607): p. 27.
136Об этом см.: Collegii Conimbricensis Societatis Jesu, In Tres Libros de Anima, AristotelisStagiritae, II, cap. 7, quaest. 8, art. 1, Editio tertia (Lugduni: ApudHoratium Cardon, 1603) p. 223.
137Ср.: «In speculo non videtur sola imago rei, nec res simul cumimagine; sed sola res a qua imago speculo imprimitur.» ibid. art. 2,p. 224.
138Об этом см. «Правила для Профессоров Схоластической Теологии»:«Все члены нашего Ордена должны следовать учению св. Фомы всхоластической теологии и рассматривать его как своего особогоучителя. Они должны сконцентрировать все свои усилия на его учении
130
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
поддерживали. Хотя некоторые тексты кажутсяпротиворечивыми, очевидно, что Аквинат по большейчасти предпочитал первую теорию, выделенную Сенекой.Например, в своем комментарии на знаменитый стих главы13 Первого послания к Коринфянам: «Теперь мы видим какбы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом клицу», Аквинат пишет: «Когда мы видим нечто в зеркале,мы не видим эту вещь, но только ее подобие. Но когдамы видим нечто лицом к лицу, тогда мы видим эту вещьтакой, какова она есть».139
Ранее, в своем Комментарии на «Сентенции» ПетраЛомбардского Аквинат писал: «Лицо человека,отражающееся в зеркале, глаз видит не через подобие,мгновенно запечатлевающееся на нем, но через подобие,отражающееся в зеркале, которое как результатоказывается в глазу. И этот взгляд сравним с тем, с
так, чтобы их ученики могли оценить теологию св. Фомы на стольковысоко, насколько это возможно. Однако, они должны сознавать, чтоограничивание этим учением не означает, что не позволено отступатьот него ни по какому вопросу. Если даже называющие себя томистамивремя от времени отступают от его учения, то не приличествуетчленам нашего Ордена быть привязанными к учению св. Фомы болеепрочно, чем сами томисты». Об этом см.: Edward A. Fitzpatrick, St.Ignatius and the Ratio Studiorum (New York and London: McGraw-Hill, 1933),pp. 160-5; а также «Правила для Профессоров Философии»: «Всегдадолжно говорить о св. Фоме с уважением, следуя за ним с готовностьютак часто, как это требуется, или же почтительно благоговейнорасходиться с ним, если его положения не представляютсяубедительными», ibid., p. 169.
139 «Cum enim videmus aliquid in speculo, non videmus ipsam rem, sedsimilitudinem ejus; sed quando videmus aliquid secundum faciem, tuncvidemus aliquid ipsam rem sicut est.» Super primam epistolam S. PauliApostoli ad Corinthios, Cap. 13, Lect. 4, in S. Thomae Aquinatis, In omnes S. PauliApostoli epistolas commentaria, ed. septima Taurinensis (Taurini: Marietti,1929): vol. 1, p. 369.
131
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
помощью которого Бог усматривается в действиях,находящихся вне интеллекта того, кто на негосмотрит».140 Таким образом, Фома очевидно думает, чтоздесь одновременно наличествует причина, вызывающаяотношение между отражением в зеркале и знаниемчеловека, чьим отражением оно является, плюс действие,вызывающее отношение между зеркальным отражением иреальным человеком.
Это подтверждается еще и в другом месте, где онпишет: «Возможно знать причину по действию в рядеслучаев. …В одном случае причина может быть усмотренав самом действии, так же как подобие причиныотражается в действии, так и человека можно увидеть взеркале, за счет его собственного подобия».141 В товремя как для Аквината человека и его отражение можнонекоторым образом увидеть вместе и одновременно,142
сохраняется положение о том, что вид одного(отражения) своей причиной имеет вид другого
140 «Vultus autem hominis relucens in speculo videtur ab oculo nonquidem per similitudinem ejus immediate in oculo relictam, sed persimilitudinem relucentem in speculo, ex quo resultat in pupilla; ethuic comparatur illa visio qua Deus videtur per effectum extraintellectum videntis: ...» In Sent. II, d. 23, q. 2, a. 1, in S.Thomas Aquinatis, Scriptum super libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi EpiscopiParisiensis, ed. R. P. Mandonnet, O.P. (Parisiis: Sumptibus P.Lethielleux, 1929): vol. 2, p. 573
141 «Contingit enim ex effectu cognoscere causam multipliciter. ...Alio modo, ita quod in ipso effectu videatur causa, inquantumsimilitudo causae resultat in effectu: sicut homo videtur inspeculo propter suam similitudinem.» Summa contra gentiles, III, c.49, in S. Thomae Aquinatis, Opera omnia, vol. 14 (Romae: TypisRiccardi Garroni, 1926): 134a.
142Ср.: «... una est visio utriusque: simul enim dum videtur effectus,videtur et causa in ipso.» ibid.
132
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
(человека). Это, кстати сказать, означает, что одноможно увидеть непосредственно, тогда как другое –через посредство этого первого.143
Насколько мне известно, Аквинат нигде не говорит озеркальных отражениях в семиотическом отношении.Коимбрские иезуиты, однако, говорят об этом как раз всвязи с теорией знаков и интерпретируют как учениеАквината положение о том, что мы вначале видимзеркальное отражение, а затем переходим к его причине,которой является вещь, отразившаяся в зеркале. Этоимеет место и в тех случаях, когда они цитируют тридругие пассажа из Аквината в поддержку мнения,утверждающего, что отражение в зеркале – это«инструментальный» знак, который, кстати сказать,узнается первым и, затем, ведет к знанию чего-либоеще.144 Другим примером такого инструментального знака
143Ср.: «Fertur autem in aliquid mens dupliciter: uno modo directe etimmediate; alio modo indirecte et mediate, sicut cum aliquis,videndo imaginem hominis in speculo, dicitur ferri in ipsumhominem.» Summa theologiae, I, q. 93, a. 8, in S. Thomae Aquinatis,Opera omnia, vol. 5 (Romae: Ex typographia polyglotta S.C. dePropaganda Fide, 1889): 411a.
144Ср.: «Secundum, imago obiecti existens in speculo ... est [signum]instrumentale, quoniam obiicitur aspectui, et ab eo percepta ducitin cognitionem obiecti, ut tradit D. Tho. 1. p. quaest. 56. art. 3.et 58. arti. 3. ad primum. Et de veritate quaest. 20. art. 4.»Conimbricenses, Commentarii in universam dialecticam Aristotelis, In DeInterpretatione, Lib. I, cap. 1, qu. 2, art. 3 (Lugduni: SumptibusHoratii Cardon, 1607): p. 20. Мы должны отметить, что во втором изцитируемых здесь отрывков Аквинат говорит, что переход образа однойвещи к другой воображаемой вещи мгновенен и не содержитдискурсивного размышления; Ср.: «Si autem in uno inspecto simulaliud inspiciatur, sicut in speculo inspiciatur simul imago rei etres; non est propter hoc cognitio discursiva.» Summa Theologiae, I,qu. 58, art. 3, ad 1, in Opera omnia, vol. 5, p. 83b. В третьем
133
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
может служить дым, обозначающий огонь.145
IV
Позиция коимбрских схоластиков находится также впротиворечии с современным семиотиком Умберто Эко,который утверждает, что «зеркальные отражения неявляются знаками».146 По большей части Эко резюмировалсвое отношение таким образом. «Феноменология нашегоопыта, связанного с зеркальными отражениями,представляет experimentum crucis для определения роли,которую играют две фундаментальные характеристикивсякого семиотического опыта: знак есть некоторый х,стоящий перед отсутствующим у, и процесс, которыйведет интерпретатора от х к у обладает полученнойпутем выведения природой».147 Эко признает, чточеловеческий опыт относительно зеркал «абсолютно
цитируемом отрывке Аквинат открыто противопоставляет способ, которымследствия наличествуют в причине, равно как и способ, которымвыводы включаются в предпосылки, со способом которым отражениеприсутствуют в зеркалах; Ср.: «... cum dicitur res esse in Deo,magis assimilatur illi modo quo effectus sunt in causa etconclusiones in principio, quod modo illi quo formae sunt inspeculo.» Quaestiones disputatae de veritate, qu. 20, art. 4, in Opera omnia,vol. 22, n. 2 (Romae: Ad Sanctae Sabinae, 1972): p. 581b. Согласнопоследнему утверждению его позиция проста: как только мы видимзеркало, мы видим, одновременно, и отражения в нем. Таким образом,отрицаемая им причинная зависимость между зеркалом и отражениями внем не такова, что между образами и их прообразами.
145Ср.: «... in instrumentalibus, ... ut est fumus respectuignis, ...» Conimbricenses, Commentarii in universam dialecticam ..., Lib.I, cap. 1, qu. 1, art. 2; p. 12
146Ср.: Umberto Eco, Semiotics and the Philosophy of Language, chapter 7:«Mirrors» (Bloomington: Indiana University Press, 1984), pp. 202-26., esp. p. 217.
147 Ibid., Introduction, p. 2.
134
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
уникален» и «находится на границе между восприятием иозначением».148 Тем не менее он утверждает, что«зеркальное отражение не отвечает требованиямзнака».149
Природа этих требований проясняется черезстратегическое понимание знака, которое Эко разделяетс античными стоиками. Так, он утверждает, что знакесть «нечто, замещающее другое нечто».150 Эта модельснова иллюстрируется примером дыма как знака,замещающего огонь.151 Из антецедента – восприятия дыма– каждый может получить консеквент – огонь, к которомукак к причине он (антецедент) отсылает.152
Однако указывает Эко, необходимо нечто большее, чемсвязь антецедента с консеквентом. Первое: антецедент,которым является знак, «должен быть потенциальноприсутствующим и воспринимаемым, в то время какконсеквент обычно отсутствует».153 Он говорит, кстати,что стоики требовали отсутствия консеквента так, чтодым мог быть знаком огня, только если сам огонь неприсутствовал непосредственно и с очевидностью.154 Но,второе: знак антецедента может существовать, даже еслинет консеквента, который этим знаком обозначается.Поэтому знак может быть ложным или обозначать нечто,
148 Ibid., «Mirrors, « p. 210.149 Ibid., p. 216.150 Ibid., Chapter 2: «Dictionary vs. Encyclopedia, « p. 46; see note38, below.
151 Ibid.152 Ibid., «Mirrors, « 214.153 Ibid.154 Ibid.
135
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
что таковым не является.155 Связанное с этим третье:лишь предполагается, что знак антецедента производитсяконсеквентом; и четвертое: знак антецедента включает всебя только класс возможных консеквентов.156 В самомделе, пятое: у стоиков такой знак сводится кнетелесному отношению импликации между двумяпредложениями. По своей сути это равносильно закону,выражающему отношение символа к символу.157 Шестое:такой тип отношений не зависит от какого бы то ни былонепосредственного индивидуального источника илипосредника; и, седьмое: его содержание, обладающеенекоторой двусмысленностью, открыто дляинтерпретации.158
155 Ibid.156 Ibid.157 «Но стоическое учение о знаках утверждает нечто большее. Стоики ненастаивают на том, что дым как знак совпадает с дымом какматериальным явлением. Знак у стоиков бестелесен: он есть отношениеимпликации двух суждений (Если есть дым, то должен быть огонь. Этоможет быть переведено в форму закономерности: всякий раз, когда естьдым, должен быть огонь). Таким образом, семиотическое отношение –это закономерность, соотносящая тип антецедента с типом консеквента.Знак не дается фактом того, что этот дым автоматически ведет меня кэтому огню. Но тот общий класс явлений, узнаваемых как дым, ведетменя к общему классу явлений, определяемых как огонь. Отношениясуществуют скорее между типами, чем между знаками». ibid., 215.
158 Ibid. «Таким образом, подмена не является единственным условиемзнака: равно необходима возможность интерпретации. Подинтерпретацией (или критерием интерпретируемости) мы подразумеваемпонятие, выработанное Пирсом, согласно которому интерпретант (знак,выражение или ряд выражений, поясняющих предшествующее выражение)помимо передачи непосредственного объекта или содержания знакаусиливает наше понимание его». ibid., Chapter 1: «Signs, « p. 43;«знак не есть лишь нечто, устанавливаемое для чего-то еще, он такжеесть то, что может и должно быть интерпретировано». Chapter 2:
136
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Ни одно из этих требований не выполняется в случаезеркального отражения. Напротив, зеркальное отражениевсегда действительно и, как особая реальность,непосредственно зависит от индивидуальной реальнойвещи, отражением которой оно является. Если естьзеркальное отражение, то вещь не может отсутствовать.Как таковое зеркальное отражение всегда истинно иотносится к вещи как к своему источнику не как символк символу, а как знак к знаку. Опять-таки, конкретноеотражение всегда зависит от конкретного зеркала,которое является его проводником и поэтому такжедолжно присутствовать. Наконец, его содержание кактаковое лишено всякой двусмысленности и, такимобразом, не открыто для интерпретации.159
V
Коимбрские схоластики находятся посередине междусв. Фомой и Эко. Зеркальное отражение, кажется, сразузнаком вещи, которая отражена, знаком, ведущим отсамого себя к этой вещи, но в то же время, сам этотзнак не является тем, что познается первым и толькотогда ведет к чему-либо еще.
Чтобы достичь такого понимания, коимбрские иезуитыдолжны были расширить традиционное учение о знаке,которое, в общем, было заимствовано из двухосновополагающих мест, приписываемых св. Августину(354 – 430). В первом из этих пассажей из второй книгипервой главы его работы «О Христианском учении»Августин определяет знак как «нечто, что помимовпечатления от себя самого, производимого в чувствах,
«Dictionary vs. Encyclopedia, « p. 46.159 Ibid., 216-217.
137
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
делает что-либо еще известным».160 Второй пассаж впятой главе книги «Основания диалектики» касаетсятого, что знак есть нечто само по себе чувственновоспринимаемое, которое предоставляет уму нечто иное,чем оно само.161 Хотя аутентичность «Основанийдиалектики» оспаривается, обычно это сочинениерассматривается как часть августинианского корпуса162,и, во всяком случае, позиция, цитируемая здесь, —подлинное мнение св. Августина.
Но при всем должном уважении, с которым егорассматривали коимбрские иезуиты, это мнение неполнопостольку, поскольку распространяется только начувственно воспринимаемые знаки.163 Это не позволило быобъяснять, что было широко распространено в их время,знаки как понятия и запечатленные формы вещей.164 Всоответствии с этим коимбрские профессора предпочлиописание знака, которое впоследствии стало
160 «Signum est enim res, praeter speciem quam ingerit sensibus,aliquid aliud ex se faciens in cogitationem venire: ...» De doctrinachristiana, I, c. 1, ed. Fr. Balbino Martín, O.S.A., in Obras de SanAugustin, tomo xv (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1957):112.
161Ср.: : «Signum est quod et se ipsum sensui et praeter se aliquidanimo ostendit.» Augustine, De Dialectica, глава 5 переовод, введение ипримечания B. Darrell Jackson, из текста вновь изданного Jan Pinborg(Dordrecht and Boston: D. Reidel Publishing Company, 1975): p. 86.
162 По вопросу об аутентичности см.: B. Darrell Jackson, ibid., pp. 1-81.
163Ср.: «Priori modo signum ea tantum comprehendit, quae sub sensuscadunt; ...» Conimbricenses, Commentarii in universam dialecticam ...,qu. 1, art. 1; p. 6.
164Ср.: ibid., qu. 2, art. 1; esp. p. 15. О различии между строгимитомистами и иезуитами по вопросу о статусе умопостигаемых видов см.:Meier-Oeser, Die Spur ... , 242-3.
138
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
общераспространенным, а именно: «Знак есть то, чтопредставляет познавательной способности что-либо[иное]».165 Описанный таким образом знак мог быть какчувственно воспринимаемым, так и умопостигаемым.166
VI
Это можно объяснить подробнее: несмотря на то, чтокоимбрские схоластики предлагали различные способыклассификации знаков, особое значение имеют два изних. Первое, — это тщательно обоснованное делениезнаков на естественные и конвенциональные.Естественные знаки суть те, что означают одну и ту жевещь для каждого или те, которые по самой своейприроде обладают способностью означать нечто. Простымпримером может служить дым, который в силу самой своейприроды для всех означает огонь. Напротив,конвенциональные знаки означают посредствомчеловеческой воли. Примерами могут служить написанныеи произносимые слова или вещи, которым, по соглашению,придана способность означать.167
165 «Signum est quod potentiae cognoscenti aliquid repraesentat.»Conimbricenses, Commentarii in universam dialecticam ..., Lib. I, cap. I,qu. 1, art. 1; p. 6. Ср.: также: «... est nimirum signum omne idquod potentiae cognoscenti aliquid a se distinctumrepraesentat; ...» ibid., qu. 2, art. 1; p. 15. Этот последнийфрагмент важен в той мере, в какой утверждается, что представленноеотлично от самого знака. Более полную позицию коимбрских схоластиковпо этому вопросу см.: ibid., cap. I, qu. 2, art. 2; pp. 10-13.
166 Ср.: «Posteriori modo, complectitur notio signi tam sensibilia,quam spiritualia.» ibid. В этой связи см. св. Фому (De veritate, qu. 9,art. 4, ad 4), который рассматривает человеческие знаки каквоспринимаемые чувственно, позволяя также более широкое истолкованиезнака с тем, чтобы учесть общение и понимание среди ангелов.
167 Ср.: «Quidquid aliud repraesentat, vel habet vim ad eam
139
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Второе, — это разделение между формальными иинструментальными знаками. Короче говоря, «все,посредством чего мы знаем что-нибудь еще, само по себеобязательно либо известно нам, либо нет. Если само оноесть то, что узнается первым, то это знакинструментальный, если нет, то это знак формальный».168
Подлинным признаком формального знака является то, чтосам он, не будучи познанным, является причинойпознания чего-либо еще.169 Более определенно,формальный знак производит знание, указывая или точноопределяя активность познавательной способности поспособу ее выражения (term) или по ее основанию,«непосредственно с помощью формы того, чтообозначается».170 Примером знака, вызывающего такую(кстати сказать, познавательную) активность по способувыражения, может быть понятие. Примером же знака,
repraesentationem ex natura sua, vel beneficio alicuius (alius enimmodus fingi non potest). Si habet vim a natura, est signum naturale;si beneficio imponentis, est ex instituto, sive, ut vocat D. August.signum datum, ut alii, ad placitum, vel artificiale. Signa autemnaturalia sunt, quae apud omnes idem significant, seu potius quaesuapte natura vim habent significandi aliquid. Signa vero exinstituto, quae ex hominum voluntate, et quadam quasi compositionesignificant.» Conimbricenses, Commentarii in dialecticam, q. 2, a. 1, p.14.
168 «Omne id, quo mediante aliud cognoscimus, aut necesse est a nobisprius cognosci, aut non, si debet cognosci, est instrumentalesignum; sin minus, formale.» ibid., qu. 2, art. 1; p. 15.
169 Ср.: «... dicendum, proprium characterem signi formalis esse, utnon cognitum efficiat cognitionem: ...» ibid., qu. 2, art. 3; p. 29.
170 «Quod idcirco formale dicitur, quia causat cognitionem informando,aut in ratione termini, aut in ratione principii, ...» Ibid., qu. 2,art. 1; p. 15.; Ср.: «... hoc debet cognitione distingui, auttamquam principium, aut tanquam terminus illius: ...» ibid., qu. 1,art. 3; p. 21.
140
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
формирующего знание по основанию, может бытьзапечатленная форма.171 Инструментальным знакомявляется такой знак, который сам должен быть познанпервым, чтобы вести к знанию чего-либо еще.172 Кактаковой он не будет непосредственно информироватьпознающего о форме того, что им обозначено, но,скорее, о форме того, что означает, то есть о самомзнаке. Примерами инструментальных знаков могут бытьдым или слова, большинство из которых познаютсяпервыми, никогда не формируя или не структурируязнание непосредственно формой того, что они означают.На этом основании кажется очевидным, что формальные иинструментальные знаки отличаются также следующим:первые (формальные) не требуют интерпретации, тогдакак последние (инструментальные) требуют.
По поводу отношения между двумя этими различениямикоимбрские профессора утверждают, что никакойформальный знак не является конвенциональным.173
Следовательно, каждый формальный знак являетсяестественным. Однако, обратное высказывание ложно: некаждый естественный знак является формальным.Некоторые естественные знаки, например дым, с
171 Ср.: «In formalibus ... sive enim sint conceptus, sive speciesimpressae, ...» ibid., qu. 1, art. 2; p. 12.
172 Ср.: « ... haec enim signa ex eo ducunt in aliorum notitiam, quiapercipiuntur.» ibid., qu. 1, art. 2; p. 12. «Instrumentalia, quaecognita efficunt alterius rei cognitionem.» ibid.; p. 15. «...signum instrumentale percipiendum esse, ut ducat in notitiamsignificati: ...» ibid., qu. 2, art. 3, sect. 2; p. 27.
173 Ср.: «.... est enim solemne in Logica nullum signum formale esseex instituto, quoniam formale significat per essentiam suam,impositum vero per constitutionem externam.» ibid., qu. 2, art. 3,sect. 1; p. 20.
141
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
очевидностью являются инструментальными. В то же самоевремя, каждый конвенциональный знак являетсяинструментальным. Он сам должен познаваться (и,очевидно, интерпретироваться) первым, чтобы вести кзнанию чего-либо еще. И снова обратное ложно: некаждый инструментальный знак являетсяконвенциональным. Это еще раз может бытьпроиллюстрировано примером дыма.
Как полагали коимбрские иезуиты, философы-предшественники, хотя и понимали различными способамиреальность деления знаков на формальные иинструментальные, но не имели ясного понятияформального знака.174 Однако раз такое понятие было вналичии,175 оно могло служить для понимания не толькопонятия или непосредственно запечатленной формы, нотакже для понимания зеркального отражения.176 Такимобразом, все названные выше виды могут бытьквалифицированы как знаки, поскольку они могут сделатьнечто известным для познавательной способности.177
174 Ibid., qu. 2, art. 1; pp. 14-15.175Можно заметить, что понятие формальног знака стало употребительнымв схоластической философии 20-го века, см.: Joseph Gredt, O.S.B.,Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, editio nona (Barcelona:Editorial Herder, 1951), vol. 1, p. 11; и Carolus Boyer, S.J., Cursusphilosophiae ad usum seminariorum, editio altera (Buenos Aires: EdicionesDesclée, 1939), vol. 1, p. 70.
176 Ср.: «... imago obiecti existens in speculo est signum formale;siquidem est eiusdem speciei cum ea, quae est in oculo, quam nemoexcludet a formalibus signis; ...» ibid., qu. 2, art. 3; p. 20. Хотяэто представлено как одно из двух альтернативных мнений, изконтекста очевидно, что это мнение самих коимбрских схоластиков.
177 Ср.: параллель между отражением как понятием и отражением взеркале: «... et ideo per cognitionem exprimitur imago in quarelucet obiectum, et in qua illud conspici videtur a potentia
142
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Опять-таки, пока все три вида могут иметь причину втом, что они означают, сами они, для того, чтобы такозначать, не могут познаваться первыми.178 В частности,ссылаясь как на оптиков, так и на собственныйкомментарий трактата «О душе» Аристотеля, коимбрскиесхоластики утверждают, что отражение в зеркале, «какможет подумать любой томист», конечно не видится самопо себе.179 На время непосредственным объектом знакаможет быть свет или цвет, которые (особенно согласноАристотелю и его ученикам) имеют лишь случайноесуществование в телесных субстанциях.180 Таким образом,реальный объект знака есть нечто, а именно тело,которое освещено (lucidum) или окрашено (coloratum), ато, что появляется в зеркале точно таким, какимописано, не является телом подобного рода.Соответственно, зеркальное отражение как таковое не
tanquam in speculo.» ibid., art. 3, sect. 1; p. 21. Также См.:аналогв характере знака, который существует между понятиями и отражениямив зеркале: «... ut conceptus solis in mente Astrologi, species inspeculo, et conceptus medius: nihilominus sunt plura signaformaliter ...» ibid., sect. 2; p. 24.
178 Ср.: «... existimamus species esse signa formalia ...; quia suntformae determinantes intellectum; habentes se ex parte obiecti,cuius loco ponuntur, et potentiam promovent in cognitionem, quinipsae cognoscantur: quae conditiones abunde explent rationem signiformalis.» ibid., sect. 1; p. 23.
179 Ср.: «... quidquid existimarint Thomistae, certum est speciem inspeculo non videri; ut ex perspectivorum schola late demonstratur inlib. 2. de anima, c. 7. q. 8.» ibid.; p. 25.
180 Ср.: «Contraria tamen sententia, quae asserit lucem nonsubstantialem sed accidentariam formam, neque corpus, sed qualitatemesse, omnino vera est. Eamque tuetur Peripatetica schola contraAcademicam docente Aristotele 2. de Anima cap. 7.» Commentarii CollegiiConimbricensis Societatis Jesu. In quatuor libros de Caelo Aristotelis Stagiritae, Lib. II,cap. 7, qu. 2, art. 1 (Lugduni: Ex officina Iuntarum, 1598): p. 297.
143
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
может быть увидено по причине того, что оно находитсявне объекта знака.181 То, что действительно являетсявидимым, — это объект, являющийся источником (т.е.освещенное или окрашенное тело), с помощью своихсвойств отражающийся от зеркала. Таким образом, этисвойства, которые, кстати сказать, и есть самозеркальное отражение182, не являются инструментальнымзнаком.183 Тогда, по методу исключения, такой знакявляется формальным.184 В соответствии с этим основнаяпозиция коимбрских иезуитов выглядит так: зеркальноеотражение не является самим по себе объектом, но видомпосредника, через который мы видим объект.
181 Ср.: «Obiectum visus nihil est, nisi lucidum, et coloratum, quorumneutrum participat species, cum sit accidens alienae omnino naturaeab his; ergo non percipitur a visu, qui ultra suum obiectum versarinon potest; ...» Conimbricenses, Commentarii in universam dialecticam ...,cap. 1, qu. 2, art. 3, sect. 2; p. 25.
182 Для идентификации отраженных видов с зеркальным отражением вконетксте доказательства коимбрскими схоластиками необходимостизапечатленных, чувственно воспринимаемых видов, См.: , Commentarii inlibros De Anima Aristotelis Stagiritae, Lib. II, cap. 6, qu. 2, art. 2; p. 174:«Oculus non videt se ipsum; videbit tamen, si ei obiiciaturspeculum; id vero non nisi, quia ab oculo producitur imago ipsiusin speculum, quae inde ad oculum reflectitur, eaque informatapotentia videndi actum elicit. Datur igitur talis species.»
183 «... sed quod cernitur est obiectum per speciem reflexam exspeculo: unde perspicuum manet speciem non esse signuminstrumentale.» Conimbricenses, Commentarii in universam Dialecticam...
184 См. сноску 51 выше. Также, Ср.: «... licet species dentur anatura, ut potentiae iis consignatae rerum notiones effingant, nondebere proinde species ipsas potentiis obiici, aut per se cognosci,cum non sint signa instrumentalia sed formalia.» Conimbricenses,Commentarii in libros De Anima ..., Lib. II, cap. 6, qu. 2, art. 2; p. 175.
144
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
VII
С точки зрения коимбрских схоластиков, оба, иАквинат, и Эко, могли бы подойти к проблемезеркального отражения, задаваясь вопросом о том,является ли оно инструментальным знаком. Аквинатнесомненно ответил бы утвердительно. Профессора изКоимбры не согласились бы с этим, поскольку зеркальноеотражение само не познается первым, а является толькопричиной знания о чем-либо еще. Эко, следовательно,свел бы все знаки к инструментальным. В виду того, чтозеркальные отражения сами не познаются первыми, они неимеют статуса знака, и из этого следует всякоедальнейшее отсутствие у них свойств знака. Коимбрскиеиезуиты приняли бы факт того, что зеркальное отражениене является инструментальным знаком, и при такомусловии, я думаю, они могли бы согласиться с выводомЭко в отношении свойств зеркальных отражений, которыеон отрицал. Тем не менее, они все же утверждают, чтозеркальное отражение является знаком. Опять-таки, то,что позволяет им утверждать так – это разное описаниезнака у Августина, стоиков, Эко, плюс различениеформальных и инструментальных знаков. В силу того, чтоэто основано на очевидном промежуточном статусе такихположений, как понятия и виды185, здесь учениекоимбрских иезуитов не является просто ad hoc.186 Болеетого, мне кажется, что возможно согласовать их учениес привычным опытом, который все мы имеем относительноотражений в зеркалах, когда мы видим себя,
185 По поводу проходившего в 17-м веке диспута о промежуточном статусевидов см.: Meier-Oeser, Die Spur ..., 242-3.
186 Сопоставимо с замечанием Дили, цитируемом ниже, сноска 72.
145
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
одновременно зная, что мы не в зеркале.
VIII
Трактаты коимбрских схоластиков были влиятельны ишироко распространены в XVII веке. Они выдержалинесколько изданий и однажды даже были переведены накитайский.187 Их теория знака изучалась большинствомиезуитских философов, часть из которых ее разделяла.Например, в следующем поколении, лиссабонский иезуитБальтасар Тельес (1596 -1675) признал, что он в долгуперед ними и точно следовал их учению о зеркальномотражении как о формальном знаке.188 Эхо учениякоимбрских профессоров можно расслышать у великогоиезуита Франсиско Суареса (1548 – 1617), хотя он и неследовал в точности их учению о формальном знаке, аучил, что мы сначала видим не образ в зеркале, анепосредственно и сразу видим вещь через ее образ.189
187 Carlos Sommervogel, S.J., Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, vol. 2(Bruxelles: Oscar Schepens, 1891), c. 1278.
188 Ср.: ««Ad confirmationem respondeo in speculo non videri speciem(quia haec non est obiectum lucidum, neque coloratum) sed videriobiectum repraesentatum in speculo, et per speciem ad oculosreflexum; ... Sunt igitur tam species, quae sunt in speculo, quamsunt in aere, ... signa formalia, ...» P.M. Balthazare Tellez,Ulyssiponeni, Societatis Jesu. In Conimbricensi Academia Publicoquondam Philosophiae nunc Theologiae Ulyssipone Primario Professore,Summa universae Philosophiae, Pars I. in Logicam. Disput. IX. Sect. I, n.14 (Ulyssipone, apud Paulum Craesbeeck, 1641), p. 79. For Tellez'sacknowledgement of the Conimbricenses, Ср.: ibid., n. 2; p. 77.
189 Ср.: «... juxta sententiam magis philosophia probatam, cum res perspeculum videtur, visio talis rei non terminatur proxime ad imaginemquasi depictam in speculo, sed ad rem ipsam immediate, cujus speciesmediante speculo per reflexionem ad oculum pervenit.» F. Suárez,Tractatus de divina substantia, Lib. II, Cap. 25, n. 34, in Opera omnia(Paris: L. Vivès, 1856-66), vol. 1, p. 156. Также: «... falsum est,
146
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Кроме того, коимбрские иезуиты изучались большинствомпредставителей католической университетской традиции.Возможно самым важным их них был Иоанн Поинсот (1589 -1644), который сам находился под их влиянием встуденческую пору в Коимбре, и чей собственныйзамечательный «Tractatus de Signis» был недавноопубликован с английским переводом и комментариемпрофессора Джона Дили.190 Поинсот не принял учениякоимбрских иезуитов о зеркальных отражениях, напротив,следуя своему доминиканскому предшественннику ФомеАквинату, он учил, что не сама по себе вещь, но,скорее, ее отражение есть то, что мы видим взеркале.191 Но, как показал профессор Дили, расширениеучения о знаках за пределы, положенные св. Августином,и сопутствующее учение о формальных знаках являютсясерцевиной семиотической теории Поинсота.192
quod visio terminetur aliquo modo ad imaginem in speculo, hoc enimtantum deseruit, ut in eo fiat reflexio specierum ad videndam remimmediate in seipsa, ...» idem, Tractatus de Anima, Lib. III, Cap. 2, n.14 (vol. 3, p. 619).
190 Ср.: Tractatus de Signis: The Semiotic of John Poinsot. Введение и комментарии:John N. Deely, Berkeley: University of California Press, 1985.
191 Ср.: «... in speculo non videtur intuitive res ipsa, sed imagoeius, quae per refractionem specierum et luminis formatur in speculo...» Tractatus de signis, Bk. 3, Qu. 2; p. 320b. Также см.: Joannis aSancto Thomae O.P., Cursus philosophicus thomisticus, Naturalis philosophiae, parsIV, qu. 6, art. 1, ed. P. Beato Reiser, vol 3 (Taurini: Ex officinaMarietti, 1937): pp. 174-7.
192 См. John Deely, New Beginnings: Early Modern Philosophy and Postmodern Thought(Toronto: University of Toronto Press, 1994): pp. 58-9, 136-7. В тоже время, хотя применимость его замечаний к коимбрским схоластикамнаходится вне сферы обсуждения настоящей статьи, Дили прав в том,что: «когда понятие формального знака отделяется от относительногобытия, создающего все знаки и трактуется, скорее, не как особаяинстанция такого бытия, но как нечто независимо устанавливаемое, как
147
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Коимбрские иезуиты так же были известны ивлиятельны по другую сторону религиозной границы XVIIвека. Так, их трактат о знаках послужил основой дляподобного трактата лютеранского профессора философии вГессене Кристофа Шайблера (1589 – 1653), которыйзаимствовал учение коимбрских иезуитов о зеркальномотражении. Для него, как и для них отражение в зеркале– формальный знак, который согласно и оптике, иаристотелевской физике сам не познается, даже еслиприводит к знанию вещи, отражением которой онявляется.193
На раннем этапе своего обучения Рене Декарт (1596 –1650) хорошо знал коимбрскую схоластику.194
оно есть без всяких прикрас, обнаруживается, что это чрезвычайноинтересный, но произвольный ad hoc конструкт...» Introducing Semiotic: ItsHistory and Doctrine (Bloomington: Indiana University Press, 1982): p.174. О важных расхождениях между Поинзотом и коимбрскимисхоластиками по вопросу о знаках См.: Meier-Oeser, Die Spur ..., esp.218-220.
193 Ср.: «... de specie in speculo recte respondent Dd.Conimb[ricenses] de Interp. c. 1, q. 2. a 3. in secundo, quod scilicet non sitsignum instrumentale, sed formale, unde porro negandum est eamspeciem est directe in speculo videri et cognosci, quod Opticisolent clare demonstrare. Probaturque idem physice inde, quod nihila visu est cognoscibile, nisi sit coloratum et illuminatum. At istaedenominationes non possunt speciebus tribui. Proinde visus inspeculo non apprehendit speciem, sed per speciem relexam apprehenditrem visibilem. Atque sic, quia ista species non cognoscitur, sedsolum res extra speculum existens, utique hoc ipso signum formaleerit talis species.» Christoph Scheibler, Opus metaphysicum. Duobuslibris (Giessae Hessorum: Typis Nicholai Hampelii, 1617), Lib. I,Cap. 24, Tit. 4, Art. 4, Punct. 2; p. 803.
194 Ср.: Tavares, S. and Bacalar Oliveira, «Conimbricensi» ..., col. 1591. Овозможном влиянии на Декарта коимбрских схоластиков см.: ÉtienneGilson, René Descartes: Discours de la méthode, texte et commentaire (Paris:Librairie J. Vrin, 1947), pp. 89, 209, 271, 416, and 430.
148
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Действительно, позднее он объявил, что из иезуитскихучебников, которые он изучал в Ла Флеш, он «запомнилтолько коимбрских схоластиков, Толедо (Francisco deToledo, 1533 – 1596) и Рубио (Antonio Rubio, 1548 –1615).»195 Коимбрские философы были также известныГотфриду Вильгельму Лейбницу (1646 – 1716), которыйцитировал их комментарий на аристотелевскую логику.196
Само собой, они были хорошо известны по другую сторонуАнглийского канала и даже в Америке. Так, их логикабыла среди трудов, рекомендованных в Эммануэль-колледже Кембриджа знаменитым списком РичардаХолдсвортса (1590 -1649).197 Так же она быларекомендована Тимоти Халтоном (1632? – 1704) – главойКоролевского колледжа в Оксфорде в 1652 г.,198 году, вкотором юный Джон Локк (1632 -1704) вступил в Колледж
195 Ср.: «... je ne me souviens plus que des Conìmbres, Toletus, etRubius.» Epist. 207, 30 Sept., 1640, à Mersenne, in Oeuvres deDescartes, ed. C. Adam et P. Tannery (Paris: L. Cerf, 1897), III, p.185.
196 Gottfried Wilhelm Leibniz, Sämtliche Schriften und Briefe, herausgegeben von derPreussischen Akademie der Wissenschaften, Sechste Reihe, PhilosophisceSchriften, Erster Band (Darmstadt: Otto Reichl Verlag, 1930), 6, 80, и89; Ср.: ibid., Erste Reihe, Allgemeiner Politischer und HistorischerBriefwechsel, Fünfter Band (Berlin: Akademie-Verlag and Hildesheim:Georg Olms Verlag, 1970), 441.
197 Об этом см.: Harris Fletcher, The Intellectual Development of John Milton(Urbana: University of Illinois, 1961: vol. 2, 623-664. Для болеедетального обоснования см.: William T. Costello, S.J., The ScholasticCurriculum at Early 17th Century Cambridge, Cambridge, MA: Harvard UniversityPress, 1958.
198 Ср.: Queen's College (Oxon.) MS, 518, как цитирует W. Henry Kenny,S.J., John Locke and the Oxford Training in Logic and Metaphysics, unpublishedPh.D. dissertation (St. Louis University: St. Louis, MO, 1959), p.35.
149
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
христовой церкви.199 Конечно, их трактат о знаках былизвестен в Оксфорде или непосредственно, или черезШрайблера, чей «Opus metaphysicum» был переиздан там в1637 г. и был связан с метафизическими трудами членасовета Королевского колледжа Томаса Барлоу (1607 –1691),200 который позже написал «Библиотеку для младшихстудентов», где он также рекомендовал логикукоимбрских иезуитов, входивших в число авторов, окоторых он писал: «Некоторые авторы, которые мне, ивозможно другим, кажутся наиболее полезными инеобходимыми».201
Хотя я не могу указать на влияние учения коимбрскихсхоластиков о зеркальных отражениях на кого-либо изамериканцев, их читали в XVII веке в Гарвардском
199По поводу их влияния на Дж. Локка см.: E.J. Ashworth, «'Do WordsSignify Ideas or Things?' The Scholastic Sources of Locke's Theoryof Language, « Journal of the History of Philosophy, 19, no. 3 (July, 1981):299-326. Собственное утверждение Локка о том, что семеотика должнабыть третьей главной ветвью науки хорошо известно: Ср.: John Locke,An Essay Concerning Human Understanding, collated and annotated byAlexander Campbell Fraser (New York: Dover Publications, 1959) vol.2, 461-2.
200 Exercitationes aliquot Metaphysicae de Deo. Quod sit objectumMetaphysicae. Quod sit naturaliter cognoscibilis, quousque, etquibus mediis. Quod sit Aeternus, et Immensus (contra Vorstium) etquomodo, etc., Oxoniae: Excudebat Guilielmus Turner, 1637.
201 'A Library for Younger Schollers, ' Compiled by an English Scholar-Priest about 1655,edited by Alma DeJordy and Harris Francis Fletcher (Urbana: TheUniversity of Illinois Press, 1961), p. 1.
150
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
колледже202, для которого Кембридж послужил моделью.203
Более того, в Гарварде XIX века Чарльз Сандерс Пирс(1839 – 1914), который оказал выдающееся влияние насовременную семиотику, был хорошо знаком с коимбрскимисхоластиками.204 По меньшей мере, в одном месте онточно ссылался на их комментарий ко всей логикеАристотеля и называл их комментаторами, «вышеавторитета которых не может быть».205 Предположительно,он был знаком с их учением о зеркальных отражениях.Хотя он не дает указаний на какое-либо заимствованиеих взглядов, его многочисленные определения знака206
202Интересно отметить, что выдающийся американский деятельпуританизма, Cotton Mather (1663-1728), имел копию комментариевкоимбрских схоластиков на аристотелевскую «Физику»; См.: Samuel E.Morison, Harvard College in the Seventeenth Century (Cambridge, MA: HarvardUniversity Press, 1936): vol. 1, p. 226.
203 «Если бы мы знали, согласно какой модели был создан ГарвардскийКолледж, каковы были идеалы его основателей и цели его первыхвоспитателей, мы обнаружили бы ни что иное как УниверситетКембриджа» Samuel E. Morison, The Founding of Harvard College (Cambridge,MA: Harvard University Press, 1935): p. 40. О дискуссии Морисонаотносительно Холдсвордского списка рекомендованой литературы,включающего сочинения коимбрских схоластиков, см.: ibid., pp. 67-77.
204 Ср.: Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, vol. 2 (Bloomington:Indiana University Press, 1984), 71 and 117; ibid., vol. 4 (1986),p. 509.
205 Ср.: «Благодаря тому, что большинство логиков ученых пренебрегалипролемой ложного вывода не так легко процетироваьт кого-либо из них,кто верно определил бы ложный вывод (ошибку). Коимбрские схоластики,выше авторитета которых не может быть, сделали это. (Commentarii inUniv. Dialecticam Arist. Stagir., In lib. Elench., q. i, art. 4)...» in Collected Papersof Charles Sanders Peirce, vol. 1 and vol. 2, edited by Charles Hartshorneand Paul Weiss (Cambridge, MA: The Belknap Pres of HarvardUniversity, 1978), 2.613; Ср.: ibid. 2.361.
206 Об этом см.: The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, vol. 2 (1893-1913), edited by the Peirce Edition Project (Bloomington: Indiana
151
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
ближе к образу мысли коимбрских иезуитов, чем к св.Августину. И хотя, в конце концов, Пирс мог бысогласиться с Эко,207 случалось, что он описывал знакидостаточно широко, что казалось, оставалось место длязеркальных отражений.208
SUMMARY
About images in mirrors, the Roman Senecadistinguished two theories. The first was that we see«simulachra» and through their meditation we pass tothings. The second was that in the mirror weimmediately see things themselves. The Conimbricenses,sixteenth-century Jesuit philosophers at Coimbra,regarded mirror images as signs and, aware of Seneca’sdistinction, they chose the second theory. In sodoing, they in turn distinguished between formal andinstrumental signs and classified mirror images asformal signs. This put them at odds with Thomas
University Press, 1998), pp. xxx, xxxv, 13, 272-3, 326, 410, 477,478, 482, 497, 500, and 544 n 22.
207Как Эко цитирует Пирса в поддержку своего взгляда на зеркальныеотражения, См.: Semiotics ..., Chapter 7: «Mirrors, « 215. Also seenote 38, above.
208 Ср.: «... подразумевая под термином «знак» всякий рисунок,диаграмму, естесвенный крик, указующий перст, подмигивание, узелокна носовом платке, память, мечту, фантазию, понятие, указание, знак,симптом, букву, число, слово, предложение, главу, книгу, библиотеку,короче, все то, что есть в физическом универсуме и есть в миремысли, как воплощенное в идею любого рода (что позволяет нам, всилу, этого, использовать термин «знак» для маркировки целей ичувств) или как связанное с каким-либо существующим объектом, илиотносящееся к будущим событиям, посредством общего закона,являющегося причиной чего-либо еще, знак можно интерпретировать каксоотносящийся с определенной идеей, существующей вещью или законом».ibid., p. 326.
© Джон П. Дойл, 2001
152
КОИМБРСКИЕ СХОЛАСТИКИ
Aquinas who evidently favored Seneca’s first theory.It also is at odds with the current semiotician,Umberto Eco, who maintains that mirror images are notsigns.
153
Л. В. Цыпина, Д. В. Шмонин
«КУРС» КОИМБРСКИХ ДОКТОРОВ:ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ ПРОФ. ДОЙЛА
Несмотря на постоянный интерес к средневековоймысли, наблюдаемый в отечественных историко-философских исследованиях, эпоха «второй схоластики»по-прежнему остается «неосвоенной территорией». Этосвязано как с труднодоступностью источников, так и сопределенными исследовательскими клише. Предложеннаявниманию читателя статья Дж. П. Дойла проливает светна проблемы и персоналии, не обсуждавшиеся ранее висторико-философском контексте в отечественноймедиевистике.
Профессор Джон П. Дойл (John P. Doyle) принадлежитк числу наиболее известных в мире специалистов вобласти истории так называемой «второй схоластики» XVI– начала XVII вв. Ученик Этьена Жильсона, защитивший вТоронто докторскую диссертацию, Джон Дойл с концашестидесятых годов работает в Университете Сент-Луиса(США). В настоящее время он продолжает преподаватьфилософию в этом университете, входит в советдиректоров Общества средневековой и ренессанснойфилософии (Society for Medieval and RenaissancePhilosophy) и является одним из редакторов журнала«The Modern Schoolman». Проф. Дойл – автор несколькихдесятков трудов по истории схоластики. Его перупринадлежит перевод на английский язык рассуждения «Осущих разума» («De entibus rationis») из «Метафизическихрассуждений» Франсиско Суареса.
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
Статья «Коимбрские схоластики о семиотическомхарактере зеркальных отражений», любезнопредоставленная Дж. П. Дойлом редакции нашего журнала,впервые увидела свет в ноябрьском номере «Современногосхоластика» 1998 г. (The Modern Schoolman, LXXVI,November 1998, pp. 17–31). Краткое резюме наанглийском, помещенное в конце статьи, сделано авторомспециально для публикации в нашем сборнике.
Необходимость воспроизведения историко-философскогоконтекста, к которому обращен текст проф. Дойла,потребовала настоящего послесловия. В его задачу невходит комментарий затронутой в статье проблематикиили концептуальная полемика с автором. Мы стремимсялишь познакомить читателя с наследием португальскихиезуитов – профессоров Коллегии искусств в Коимбре,которые оказали существенное влияние на созданиепоследней крупной формы схоластической философии.
Трактаты иезуитов, оставаясь по формекомментариями, по своей сути вышли далеко за пределыпослушного комментирования. Их отличаласамостоятельность в суждениях, которую не моглизамаскировать ни почтительные ссылки нараспространенные мнения, ни пространные комментарии кавторитетным источникам. Эти мнения и источники ужеперестали быть для теологов XVI столетия предметомисследования; они превратились в «освоенноепространство идей», в котором ставились иразрабатывались проблемы, важные для докторов-иезуитов. Конечно, труды схоластиков еще не приобрелиформу трактатов новоевропейского типа, таких, какими
156
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
будут «Первоначала философии» Декарта, «Первоосновыфилософии Гоббса, «Опыты» Локка и Лейбница.Схоластические комментарии были гораздо более обширныи подробно трактовали все, что только попадало впредметную область, при этом, фундаментальныефилософские вопросы терялись среди множествапериферийных и малоинтересных рассуждений.
Вместе с тем, труды иезуитов представляли собойважный шаг в развитии жанрового многообразияфилософской литературы. Теперь не «суммы» или«сентенции», но тематические трактаты по проблемамметафизики, этики, логики, натурфилософии стали формойвыражения философской мысли. К ним примыкалиспециализированные труды по философии права. Можноутверждать, что корпус схоластических текстов XVIвека, причудливо сочетавший в себе старое и новое, сточки зрения жанра, стиля и формы стал промежуточнымзвеном между двумя «типами философствования» –средневековым и новоевропейским. «Эпоха перемен»нуждалась в новых средствах выражения философскогознания, и она обрела их в значительной степениблагодаря философам-иезуитам. Авторы философскихучений XVII века опирались на достигнутоесхоластиками, преодолевая то, что казалось имнесовременным, отсталым или ошибочным.
Иезуитам, однако, принадлежит еще одна заслуга,имеющая значение не только для философии как таковой,но и для ее преподавания. Речь идет о создании целойсистемы трактатов, которые должны были служитьуниверситетскими учебниками и пособиями. Это такназываемый «Коимбрский курс» («CursusConimbricensis»), который принадлежал профессорам
157
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
иезуитской коллегии искусств Университета Коимбры,бывшего, как известно, ведущим учебным заведениемиезуитов не только в Португалии, но и вообще наПиренейском полуострове. Создание «Коимбрского курса»стало первым начинанием подобного рода, результаткоторого превзошел ожидания его создателей.209 Двадругих известных курса («Cursus Complutensis» и«Cursus Salmsnticensis»), составленные,соответственно, в Университете города Алкалá де Энареси в Саламанкском университете, были созданы несколькодесятилетий спустя и едва ли превосходили курскоимбрских схоластиков по основательности.210
Португалия, наряду с Испанией, стала одной изпервых стран, где Орден иезуитов, учрежденный в 1534году, очень быстро приобрел влияние. Близость иезуитов
209 Хотя книги распространялись в основном по иезуитским коллегиям иуниверситетам, их популярность в Европе оказалась весьма высокой.По ним учились не только в католических, но и в протестантскихстранах в течение целого столетия. Эти книги оказывали воздействиена университетское образование еще в первые десятилетия XVIII в.
210 «Cursus Complutenses» принадлежал перу профессоров коллегии св.Кирилла (над каждым трактатом трудились несколько авторов подруководством именитого профессора) и включал в себя 4 тома. В 1том (1624) входил «Artium Cursus», состоявший из рассуждений натемы логики и физики Аристотеля; 2 том (1627) был посвящентолкованию аристотелевского трактата «О возникновении иуничтожении», 3-й (1628) – трактата «О душе», а 4 том (1640)комментировал «Метафизику» Стагирита. «Cursus Salmanicenses» –«Теологический курс, охватывающий Сумму теологии докторабожественного Фомы» – был ориентирован на метафизику и теологиюАквината. Он формировался очень долго (с 1631 по 1712 г.) и былгораздо объемнее. Полная его версия, переизданная в Париже в 1870-1873 гг., включала 20 томов.
158
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
ко двору обеспечивала королевское покровительствооткрывающимся средним и высшим учебным заведениямОрдена. Без преувеличения можно сказать, что ссередины XVI столетия, как в самой Португалии, так и вее заморских провинциях, образование, особенносреднее, находилось под патронажем Общества Иисуса.211
Поэтому нет ничего удивительного в том, что первыйкорпус трактатов, предназначенных как для научных, таки для учебных целей был сформирован и опубликован вКоимбре, в Коллегии искусств, которая была учреждена в1555 г. иезуитами. Эта фундаментальная работапроводилась под пристальным вниманием иерарховОбщества Иисуса. В основу текстов были положены лучшиеконспекты, составленные слушателями лекций коимбрскихпрофессоров. Имена главных создателей этого курса,составлявших и редактировавших трактаты, упомянуты встатье Джона Дойла. Это Мануэль де Гоес (Manuel deGoes, 1542-1597), Косме де Магаланьш (Cosme deMagelhãnes, 1551-1624), Бальтасар Альварес (BaltasarAlbarez, 1561-1630) и Себастиан де Коуто (Sebastian deCouto, 1567-1639). «Автором идеи» курса был Педро даФонсека, под общей редакцией которого и стали выходитьв свет тома коимбрского корпуса. Первым изданием,опубликованным под названием «Комментарии Коимбрскойколлегии Общества Иисуса» («Commentarii Collegii ConimricenseSocietatis Jesu»), стал натурфилософский трактат,посвященный аристотелевской «Физике» (1591).212 В
211 Fereira G.J. Pedro da Fonseca: Sixteenth Century PortugesePhilosopher // International Philosophical Quarterly. 1966. Vol.VI. No 4. P. 632.
212 «In octo libros Physicorum Aristotelis Stagiritae».
159
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
течение следующих лет вышли в свет еще семь томов;213
достойным же завершением этого «проекта» стали«Комментарии к диалектике Аристотеля» (1606),214 поправу считающиеся высшим достижением коимбрскихсхоластиков.215 На примере этого трактата можнопроиллюстрировать особенности комментаторской«методы», свойственной коимбрским докторам.«Комментарии к диалектике...» состоят из двух разделови представляют собой обзор отдельных частей«Органона», которые, с точки зрения коимбрскихиезуитов, являются наиболее важными. Каждоерассуждение содержит греческий текст, его перевод налатынь, а также «заключение» авторов, в которомрезюмируется учение Аристотеля по данному вопросу. Итолько после этого начинается собственно комментарий,с постановкой вопросов, их подробным обсуждением,учитывающим опыт средневековой схоластики ипредставления самих коимбрских иезуитов.216
213 Всего с 1591 по 1606 г. были опубликованы комментарии к четыремкнигам «О небе» («De caelo», 1592), к «Метеорологике» («Meteorum»,1592), к «Никомаховой этике» («Ethicorum», 1593), краткий трактатпо философии природы («Parva Naturalia», 1595),комментарии к двумкнигам «О возникновении и уничтожении» («De generatione etcorruptione», 1597), к трем книгам «О душе («De anima», 1598).Последний труд вышел под редакцией Магаланьша с приложением егособственного трактата «О некоторых проблемах, касающихся пятичувств» и трактата Альвареса «Об отделенной душе».
214 Трактат «In Universam Dialecticam Aristotelis» был опубликованпод редакцией де Коуто.
215 Вообще о значении «Коимбрского курса» см., напр.: Abellán J.L.Historia crítica del pensamiento español. P. 587; а такжепредставленную в нашем выпуске статью Джона Дойла.
216 Примерами такой организации текста могут служить издания,
160
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
Очевидно, что трактаты «Коимбрского курса»разительно отличаются от современных учебников. Внешнеони очень напоминают труды средневековых схоластиков.И все же, именно эти трактаты стали первымифилософскими учебными пособиями, по которым училисьвоспитанники иезуитских и не только иезуитских школ.Более того, по этим учебникам учились философии Декарти Лейбниц, а также многие другие мыслители, которых мыотносим к Новому времени. О популярности этих книгможно судить по широте их распространения и количествупереизданий.217 «Курс» коимбрских докторовдемонстрируют сочетание новаторских подходов кисследованию с комментаторской эрудицией и традициямисхоластической учености, то есть с тем, что включает всебя понятие «школы».
В качестве примера обратимся к первому разделу«Комментария» на аристотелевский трактат «Обистолковании», который детально анализирует Джон Дойл.Этот раздел имеет подзаголовок «О знаке» («De signo»),и представляет собой первое, специально посвященноеэтому вопросу самостоятельное произведение, котороебыло написано несколькими десятилетиями раньше, чем
доступные российскому читателю: Commentarii CollegiiConimbricensis Societatis Jesu in libros de generatione etcorruptione Aristotelis Stagiritae. Moguntiae, 1601; CollegiiConimbricensis Societatis Jesu Commentarii in universam dialeicamAristotelis. En 2 vols. Lugduni, 1607.
217 Таких переизданий в течение XVII в. были десятки, как вкатолических, так и в протестантских странах. См., напр.: Indexgeneralis in omnes libros Instituti Socirtatis Iesu. Antverpiae,1635; Filosofía española y portugesa de 1500 a 1650 / Junta delcentenario de Suárez. Exposición bibliografica / Bibliotécanacional. Madrid, 1948.
161
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
аналогичные работы Гоббса, Локка и других философовXVII века. Традиционное обращение к тематике знаков иобозначений коимбрские схоластики при разборе этоготрактата Аристотеля трансформируют в исследованиеширокого спектра проблем, которые в наше время были быотнесены к семиотике, эпистемологии и психологии.218
Формально этот раздел, как и весь трактат, являетсялогической работой. Но обсуждаемые в нем проблемы явновыходят за рамки традиционной логики. Раздел включаетв себя вопросы о сущности знаков, о возможностикакого-либо самостоятельного бытия знаков, оклассификации знаков, об обозначении произносимых инаписанных слов, о «естественном древнем языке», оконвенциональности знаков, об истинности и ложностипонятий и т.д. Не говоря уже о том, что в немобсуждаются так же метафизические и морально-
218 Уже предметный указатель («Index rerum») свидетельствует обинтересе коимбрских схоластиков к словам без мысли, разговорам восне, смеху, к проблеме немоты, глухоты и невозможности общения.Авторы обсуждают способы общения животных, имитацию слов попугаямии другими птицами (ссылаясь, в частности, на трактат Аристотеля опении птиц). Кроме того, особый круг проблем составляют вопросыязыкознания. При этом в научный обиход вводятся новые факты,полученные от иезуитских миссионеров в Индии, где в 1596 г. придворе Могола Акбара проводились эксперименты (подобные тем,которые известны нам от Геродота), по содержанию детей в изоляцииот внешнего мира с целью узнать, каким был первый древний язык. Втрактате можно найти также рассуждения о различии между языками,использующими для письма алфавиты, иероглифы и пиктограммы,описания различных способов изображения астрономических знаков,цифр и т.д. Особый интерес представляет своеобразная концепцияоптических знаков, в первую очередь – зеркальных образов. Об этомподробно см. в статье Джона Дойла в настоящем сборнике.
162
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
теологические вопросы.219 В то же время, разнообразиеобсуждавшихся вопросов резюмируется авторами«Комментария к диалектике Аристотеля» достаточноопределенно: «Из того, что ведет к познанию чего бы тони было, нет ничего, что не может быть сведено ккакому-либо виду знаков».220 Коимбрским схоластикамудается соединить логику комментирования авторитетноготекста с освоением обширного научного материала.
При этом в «Cursus Conibricenses» обнаруживалсясерьезный пробел. В курсе отсутствовали специальныеработы, посвященные собственно метафизическимпроблемам – трактаты-комментарии к «первой философии»Аристотеля.221 «Недостаток метафизики», однако,компенсировался блестящими (по оценкам современников)сочинениями «португальского Аристотеля» – Педро даФонсеки, которого можно считать научным руководителемпрофессоров-иезуитов в Коимбре на начальном этапе.Основные достижения Педро да Фонсеки, относятся кобласти логики и метафизики. Ему принадлежит авторстводвух логических трактатов: «Наставление в диалектике»
219 В сюжетах, связанных с обращением к Писанию, можно найти,например, темы языка Адама и Евы, способа наименования Адамомзверей и птиц, темы Каиновой печати, смешения языков в Вавилоне идр.
220 Collegii Conimbricensis Societatis Jesu Commentarii in UniversamDialecticam Aristotelis. II.2.3.
221 Был и еще один пробел в «Коимбрском курсе»: весьма скудноеизложение моральной философии в «Комментариях к Никомаховой этикеАристотеля. Этот недостаток так и не был преодолен, хотя один изтеологов-иезуитов, Луис де Молина, стремился к тому, чтобы егонравственно-теологический трактат был включен в корпус сочиненийкоимбрских схоластиков. (См. об этом в параграфе «Поворот влабиринте».)
163
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
(«Institutionum dialecticarum, Libri Octo», 1575) и«Философское введение» («Isagoge philosophica», 1591),которые снискали популярность как самые краткие идоступные вводные курсы по логике и, одновременно, какновые и оригинальные философские произведения.Наиболее важным метафизическим произведением Фонсекиявляются его «Комментарии португальца Педро Фонсеки ккнигам Метафизики Аристотеля Стагирита»,222
составляющие четыре тома in quarto, и примыкающие ккоимбрскому «Курсу».
Сыграв решающую роль в философском обосновании идейКонтрреформации, иезуиты XVI века положили началоновому жанру философской литературы – самостоятельнымтрактатам, которые не просто следовали за текстомавторитета, но имели свою собственную логику. Они былипосвящены рассмотрению философских вопросов, которыепредставляли для авторов исследовательский интерес.Разумеется, эти вопросы были достаточно традиционныдля схоластики, а для их исследования использовалисьтексты Аристотеля и Фомы Аквинского. Такие трактатыпринадлежали перу представителей «второй схоластики» –Беллармино, Васкеса, Молины, Толедо, Фонсеки и другихтеологов и философов. Лучшим из них по праву считается«энциклопедия схоластки» – «Метафизическиерассуждения» Суареса. Учитывая ту беспрецедентнуюроль, которую играла организация, в частности школа, в
222 Fonseca P. Commentariorum Petri Fonsecae Lusitani... InMetaphysicorum Aristotelis Stagiritae Libros. En 4 vols. Coloniae,1604.
© Л. В. Цыпина, Д. В. Шмонин, 2001
164
КУРС «КОИМБРСКИХ» ДОКТОРОВ
контрреформационной программе, необходимо подчеркнуть,что «интеллектуальные вершины» второй схоластикинепосредственно связаны с новыми принципамипреподавания философии и теологии. «CursusConibricenses» задал проблемное поле, в котором этипринципы вырабатывались и подтверждали своюдееспособность. И если имена и труды коимбрскихсхоластиков «поблекли в тени» философской славы ихболее именитых современников, то переворот вуниверситетской методике обучения, совершенныйблагодаря таланту, эрудиции, новаторству итрудоспособности португальских иезуитов, задалпарадигму университетского образования, ставшегопочвой философских открытий Нового времени.
SUMMARY
«The «Course» of Doctors of Coimbra (Afterword toProf. Doyle’s Article)» presents to Russian readersAmerican researcher of the Second ScholasticismProfessor John P. Doyle (b. 1930) and the heroes ofhis investigation: Jesuits of Coimbra School inPortugal (the XVI – beginning of the XVII century),practically unknown in Russian science of history ofphilosophy.
ПРИМЕЧАНИЯ
165
Хосе М. Вегас
РАДИКАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ ХАВЬЕРА СУБИРИ
Введение: реализм и идеализм«Любая подлинная философия
начинается сегодня с разговора с Гегелем».223
Идеализм понять нелегко. Здравый смысл, исходнаяточка философии вплоть до XVI века, упорнопротивостоит ему. Но, если однажды вы вступили в этотдуховный мир, оказывается практически невозможнымвыйти из него. Современная философия, по крайней мере,начиная с Декарта, является историей движения отноминализма к идеализму, начало которому положил Кант.Критическая реакция на идеализм, начавшаяся послеГегеля, сама является пленницей того, против чего онасражается. Марксизм, и с другой стороны, позитивизмотвергают чистую спекуляцию ради того, чтобы обратитьсвой взор на конкретные вещи (объекты науки,общество), в прагматическом или революционном смысле.Кьеркегор и Ницше сражаются против системы тотальностив пользу нередуцируемого индивида. Но и те, и другие,каждый по своему, подтверждают фундаментальнуюидеалистическую точку зрения: первенство субъекта(индивидуального или социального), сознания и его волик власти, к самоутверждению перед лицом чистого бытия.
Когда философия в конце XIX века, пресыщенная223 Zubiri X. Naturaleza, Historia, Dios. Madrid, 1987. P. 271.
СТИХОТВОРЕНИЯ
позитивизмом, решила вернуться к радикальности мысли,то она сделала это, взяв в качестве точек отсчетаКанта и Гегеля. Это движение подготовило пришествиегуссерлианской феноменологии, которая была воспринятамногими из его последователей как возвращение креализму. Но феноменология – это, прежде всего метод,который не решает проблему реализма или идеализма. Аразвитие, которое феноменологические саженцы получаюту самого Гуссерля, приближается к одному из вариантовидеализма.
Можно сказать, что большая часть философии ХХ векаопирается на идеалистическую точку зрения, то есть, напервенство сознания, даже если речь идет в основном обобщественном сознании. Излюбленными объектамифилософии ХХ века являются язык, общество, история.
Так что избегнуть идеализма нелегко. Нодействительно ли необходимо уйти от него? Или, говорядругими словами, необходимо ли отказаться от идеализмаи вернуться к наивному реализму? В действительности,отказ от идеализма означает отказ от современности, авместе с ней, и от ее бесспорных достижений. Но это неприемлемо, если верно, что существует «нормативноесодержание современности», как говорит Хабермас, тоесть, ряд завоеваний, от которых нельзя отказываться:утверждение автономии индивида, его достоинства и егоправ, демократия как единственная политическаясистема, базирующаяся на уважении к этому достоинствуи этим правам, научный прогресс и т.д.
Тем не менее, постмодернистская критика открываетнам глаза на границы этого же самого периода. И еслиневозможно отказаться от современности в том, чтокасается ее нормативного содержания, то точно также
165
СТИХОТВОРЕНИЯ
нельзя делать из современности конец истории, цельчеловеческого прогресса. «Свет» Просвещения отбрасывалтакже свои тени: индивидуализм, эксплуатацию человекачеловеком, тоталитаризм, неравенство, нарушениеэкологического равновесия. Современный человек в своемстремлении к власти не был достаточно уважительным кбытию, природе, другому человеку. Отсюда, вызовбудущей философии – сохранить позитивный вкладидеализма, преодолев его ограниченность. То есть, речьидет о возрождении Бытия, без потери Субъекта.Возможно ли это?
Философы ХХ века размышляют об этом. Опираясь наних, мы можем осветить пути выхода из этой запутаннойситуации. Одним из этих философов является испанскийфилософ Хавьер Субири.
Перед взором Субири находится вся философскаятрадиция Запада с ее многочисленными противоречиями:между реализмом и идеализмом, чувством и разумом,наукой и метафизикой, скептицизмом и догматизмом,индивидуализмом и коллективизмом.… Эти апории, которыепроходят через всю историю западного мышления, недостигая никогда окончательного синтеза, требуют длясвоего решения достаточно радикальной точки зрения,которая позволила бы отдать дань истине каждого из егополюсов.
Философия Субири является попыткой переосмыслитьвсю философскую традицию Запада в некоторомрадикальном смысле, сделав предметом рассмотрения нетолько ее возможности, но и ее односторонности, и ееслабые места. Кроме того, она является попыткойсделать это на «вершине времен». Речь идет не о том,чтобы переиздать аристотелизм, платонизм, схоластику в
166
СТИХОТВОРЕНИЯ
диалоге с современностью. Это означало бы приговоритьсебя к непониманию современности и деформироватьклассический реализм. Субири пытается достичь новогосинтеза, способного превзойти старые противоречия,интегрировать новые научные знания и отдать должноереальности мира, человека и Бога.
Очевидно, что только мыслитель необычайной силыможет быть готовым к решению подобной задачи. Субири,действительно, является мыслителем великой мощи, однимиз грандов западной философии, одной из вершин ХХвека. Тот факт, что это не является общепризнанным, –случайность, которая не лишает все сказанное никрупицы истины. Это отсутствие признания, в частности,обязано собой тому случайному факту, что его работабыла написана по-испански, на языке, являющимся внекотором смысле маргинальным для философского мира.Поэтому его работы не известны. Кроме того, Субиривыпестовал свой собственный язык, который затрудняетперевод его работ. Те переводы, которые существуют (наитальянском, немецком и английском языках), неявляются хорошими, и сам Субири выражал несогласие снекоторыми из них.
Надеюсь, что эта статья, написанная испанскимфилософом, но не специалистом по Субири, пробудитинтерес к этому великому мыслителю среди просвещенныхколлег в России.
1.Человек и его работаХавьер Субири родился 4 декабря 1898 года в Сан-
Себастьяне (в Стране испанских басков). Он родился вгод, который отмечен моментом осознания глубочайшегоисторического кризиса Испании: потерей последних
167
СТИХОТВОРЕНИЯ
колоний и началом длительного периода упадка.Он совмещал духовные занятия в Мадридской семинарии
с занятиями философией в Центральном университетеэтого же города. В 1919 году состоялось его знакомствос Хосе Ортегой-и-Гассетом, которого Субири называл«мой учитель». Он получил диплом философа в Мадриде ив том же году защитил в Лувене диссертацию о проблемеобъективности у Гуссерля. В 1921 г. защитил докторскуюдиссертацию в Мадриде: «Эссе о феноменологическойтеории суждения». В 1926 г. занял кафедру историифилософии Мадридского государственного университета. С1928 по 1930 Субири продолжил свои исследования вФрайбурге, где работал вместе с Гуссерлем иХайдеггером. В 1931 г. в Берлине он также работал сНиколаем Гартманом и близко познакомился с Эйнштейном,Планком, Шредингером и другими крупными физиками,курсы которых он слушал.
В 1936 г., пока он находится в Риме, на его родине,в Испании, начинается гражданская война. В это времяСубири живет в Париже, где изучает классическую ивосточную лингвистику, а также математику, физику ибиологию.
С 1940 по 1942 он преподает в Барселонскомуниверситете, но по политическим причинам вынужденоставить преподавание.
1944: Первая книга Субири «Природа, История, Бог»,в которой он публикует итоги работы предшествующихлет.
1946: Переезд со своей женой и преданнойпомощницей, Кармен Кастро, в Соединенные Штаты. Онработает в Принстонском университете, где встречаетмногих европейских коллег. В частности, он делает
168
СТИХОТВОРЕНИЯ
доклад на французском языке «Реальность и математика:проблема философии».
1947: Основание в Мадриде Общества исследований ипубликаций, где Субири становится директором и впоследующие годы читает открытые курсы .
1962: Выход в свет первой крупной систематическойработы Субири «О сущности».
1963: Публикация «Пяти лекций о философии» .1971: В рамках Общества исследований и публикаций
создается «Семинар Хавьера Субири», посвященныйизложению и открытым дискуссиям об идеях егофилософии.
1973: Субири читает курс из двенадцати лекций вПапском Григорианском университете (Рим) под названием«Богословская проблема человека».
1974: Выход в свет первого номера журнала Realitas,ежегодника «Семинара Хавьера Субири». В 1979публикуется третий и последний на сегодняшний деньномер.
1979: Федеративная Республика Германии награждаетего «Большим Крестом за Заслуги».
1980: Субири должен быть срочно прооперирован.Университет Иисуса делает его Почетным докторомтеологии. Опубликована работа «Чувствующий разум».
1982: Опубликована работа «Разум и логос». Субириприсуждается «Премия Рамона и Кахаля», которую онразделил с Севером Очоа.
1983: Опубликован труд «Разум и рассудок». 21сентября Субири скоропостижно умирает.
1984: Опубликована работа Человек и Бог, работа,практически подготовленная для публикации самимСубири.
169
СТИХОТВОРЕНИЯ
1986: Публикация работы «О человеке», изданиеподготовлено для публикации Игнасио Эллакурией.
После этой даты появлялись и другие работыфилософа, полное собрание работ которого все ещенаходится в процессе публикации.
Плодотворная интеллектуальная жизнь Хавьера Субирипроизвела на свет философию, которую можноквалифицировать как систематическую. Фундаментальнойкатегорией этой системы является категория«реальности». С помощью этой категории, котораятрактуется Субири оригинальным образом, он пытаетсядать ответ на великие вопросы, которые всегда волнуютфилософскую рефлексию. На основе этой категории Субириначинает большой диалог со всей философской традицией,получая многочисленные импульсы. (Аристотель, ФомаАквинский, Николай Кузанский, Суарес, Лейбниц,феноменология и т.д.). Он пытается глубже рассмотретьпротиворечия, к которым порой приводит одностороннеерассмотрение проблем, заводящее рефлексию в тупик. Вэтом смысле Субири сочетается брачными узами с великойфилософией, которая стремится рассматриватьнепосредственно сами проблемы, и открывать в них самихвозможные, всегда ограниченные, ответы, к которымчеловек может прийти. Категория «реальности»составляет ось его размышления, с помощью которогоСубири пытался преодолеть апорию реализма-идеализма иэмпиризма-рационализма среди многих других апорий. Наоснове решения основного вопроса о реальности,ставятся другие проблемы: в чем состоит познание(проблема познания); что можно сказать о Боге? Эти тривопроса неизбежно включают в себя проблему человека?Но человек рассматривается как часть реальности, а не
170
СТИХОТВОРЕНИЯ
как ее творец. Верно, что только в отношении кчеловеку проблема реальности предстает со всейясностью, но это не означает, что вся философскаяпроблематика сводится к проблеме человека, как уКанта. И даже если проблема реальности ставится вантропологическом ключе, ответ на вопрос о том, чтотакое человек, может быть получен только на основекатегории реальности, а не наоборот.
Сам Субири подчеркивает, что его мышление в егоинтеллектуальной эволюции проходит два фундаментальныхэтапа: онтологический и строго метафизический. Но естьеще предварительный – феноменологический – этап с 1923по 1931 год, под влиянием Гуссерля. Благодаряфеноменологии, как признает Субири, философияосуществила возврат от психического к самим вещам, итем самым сделала возможным философствование кактаковое. Философия не может быть сведена только ктеории познания или к методологии науки. Но, опираясьна этот феноменологический импульс, Субири идетдальше.
На онтологическом этапе (1932 – 1944, выход в свет«Природы, Истории и Бога») к гуссерлианскомувдохновению присоединяется мощное собственноевдохновение. Вещи не является простыми предметами илиобъективными и идеальными коррелятами сознания, нообладают своей собственной существенной структурой.Таким образом, постепенно он создает философскоеокружение онтологического и метафизического характера.Субири ищет логику реальности. К этому периоду относятсяразмышления о Хайдеггере и Ортеге и Гассете.
С 1944 года начинается строго метафизический этап.Является ли реальность и бытие одним и тем же? Для
171
СТИХОТВОРЕНИЯ
Хайдеггера, который подмечает различие между вещами иих бытием, метафизика или исследование сущегоосновывается на онтологии или исследовании бытия.Субири идет противоположным путем. Бытие основываетсяна реальности и, постольку, онтология основывается наметафизике. Высшая цель философии – изучениереальности как таковой, а не предмета или бытия.
2. Понятие реальности у СубириСогласно Субири, современная философия строится на
четырех ложных субстантивациях: пространства, времени,сознания и бытия. Вещи рассматриваются каксуществующие в пространстве и времени, постигаемыеактами сознания и являющиеся моментами бытия. Все этоследует отвергнуть. Пространство, время, сознание ибытие – это не четыре вместилища вещей, а всего лишьчерты вещей, которые являются реальными в себе и самипо себе.
Кант, следуя Ньютону, но, делая субъективной егопозицию, думал, что вещи находятся в пространстве и вовремени. На самом деле имеет место совсем другое.Реальные вещи являются пространственными и временными.Современная философия, от Декарта до Гуссерля,субстантивировала сознание. Вещи являются содержаниемсознания, как если бы сознание было вместилищем вещей.Но человек не является стратификацией зон, выделяемыхотносительно сознания. Психоаналитическаяконцептуализация человека и его активности,находящейся всегда под воздействием сознания,порождена определенным видением реальности человека.Не существует сознания, бессознательного,сверхсознания как субстанций. На худой конец только
172
СТИХОТВОРЕНИЯ
действия мы можем рассмотреть в качестве ихатрибутивных характеристик. Существуют лишьбессознательные, сознательные и сверхсознательныедействия. Сознание действий не исполняет.
В свою очередь, Хайдеггер осуществил своеобразнымобразом субстантивацию бытия. Реальность стала неболее чем типом бытия. Вещи являются вещами,существующими в и в силу бытия. Но, как говоритСубири, бытие не предшествует реальности. Все реальноесуществует, «бытийствуя», нет реального бытия каксубстанции. Бытие нужно постичь как момент реальности:
«Но эта реальность обладает вторым сложнымтрансцендентальным моментом: соотносительностью(respectividad) или миром. И актуальность всего ужереального в себе самом, в качестве момента мира, естьбытие. Реальность и бытие – два различных моментавсего реального, но не потому, что реальность являетсятипом бытия, как у Канта и Хайдеггера, а именно,наоборот, потому что бытие – это момент или«последующая» актуальность всего реального, момент,который не имеет ничего общего с умозрительнымпостижением (intelección).»224
В противовес этим четырем субстантивациям Субири,особенно в его работе «О сущности», попыталсяпредставить идею реального, которая им предшествует.Философия это ни феноменология, ни онтология, афилософия реального как реального, то есть, реальногов его внутреннем конститутивном развитии. Эта новаяметафизика укореняется на почве реального, потерянногомногими современными мыслителями, но не возвращается
224 Sobre la esencia, p.453.
173
СТИХОТВОРЕНИЯ
при этом к наивному реализму. И именно в силу того,что его способ понимания реальности учитывает самымсущественным образом способ, посредством которогореальность предстает перед субъектом, способнымпостичь реальность, то есть, перед человеком.Реальность не является простой категориейтрансцендентального субъекта, но существует в еепредставлении человеку в чувствующем разуме, которыйможет непосредственно понять ее подлинный смысл.
3. Чувствующий разумВсе современные и античные концепции различными
способами впадают в односторонность, как в том, чтокасается отношения субъекта-объекта, так и в том, чтокасается чувственного и рационального уровнейпознания. Современная постановка вопроса в духекантовского критицизма, которая начинает с вопроса отом, «что я могу знать?» прежде чем познать, чем жеявляется реальное, – искусственна, потому что, преждечем ответить на этот вопрос, необходимо уже находитьсяво всем реальном, познавая его каким-либо способом. Ноэто не означает возвращения к наивному реализму,который идет от бытия к познанию, потому что реальноедается нам только в познании. Античные мыслителисубстантивировали реальность, на основе которойпытались определить природу познания в объективистскойперспективе. Современные мыслители субстантивируютсубъективный момент, сознание225, не принимая во
225 Было бы вполне естественно обнаружить в этой критикесубстантивации сознания верную интуицию Ортеги, который говорит:«Той же самой фразой, тем же самым жестом, которым Декартоткрывает для нас новый мир, он уничтожает его и лишает нас его.
174
СТИХОТВОРЕНИЯ
внимание его относительный, производный илиинтенциональный характер, так что они строят теориюпознания в идеалистическом ключе. Феноменологияоткрыла горизонт или собственно философское поле,подвергнув критике редукционистские предрассудкипсихологизма и позитивизма и проясняя интенциональныйхарактер сознания. Но она оставалась в значительноймере захваченной перспективой рационалистическогопонимания сознания.
В противовес этим односторонним точкам зрениянеобходимо утвердить познание как акутальность обоихмоментов в едином акте умозрительного постижения(inteleccion).
«Умозрительное постижение (inteleccion) означаетдать себе отчет, но дать себе отчет в том, что ужеприсутствует. В неразрывном единстве этих двухмоментов и состоит умозрительное постижение. Греческаяи средневековая философия хотят объяснить присутствиекак воздействие вещи на способность умозрительнопостигать. Современная философия приписываетумозрительное постижение осознанию. Итак, необходимовзять акт умозрительного постижения во внутреннемединстве обоих моментов, но только как ее (реальности–Л. Е.) моментов, а не как определений вещей илисознания. В умозрительном постижении передо мной«предстает» нечто, о чем я уже «отдал» себе отчет.
Он имеет интуицию, видение бытия для себя, но познает его каксубстанциальное бытие, подобно грекам. Эта двойственность ивнутренне противоречие и невыносимое несовпадение с самим собойпородило идеализм и современность, породило Европу. Европа досегодняшнего дня очарована, околдована Грецией». Que esfilosofia?, en Obras Completas, VII, Revista de Occidente, Madrid,1961, p.369.
175
СТИХОТВОРЕНИЯ
Неразрывное единство этих двух моментов состоит,поэтому, в «нахождении». «Нахождение» – это«физический», а не просто интенциональный характерумозрительного постижения. Физическое – это старое иисконное слово для обозначения того, что является чем-то реальным, а не просто понятийным»226.
Столь же постоянным для истории философии былопротиворечие между чувством и рассудком. Разум ссамого начала интерпретировался как высшаяспособность. Чувственное познание рассматривалось какнизшая способность, направленная на всенепосредственное. Это разногласие сменилось системамирационализма и эмпиризма, или компромисснымирешениями, которые пытались уравновесить,гармонизировать обе способности. Но общим по-прежнемубыло то, что даже представители эмпиризма уделялинедостаточно внимания чувственному моменту, особенно втом, что касается его структуры. Это забвение оченьсерьезно, так как чувства – это место первоначальногоопыта вещей.
Поэтому необходимо учитывать все первоначальныеданные человеческого познания (и не только научного) вактуальном единстве субъекта-объекта и структурномединстве чувства и разума.
В чем же состоит познание вещей? Оно состоит ввосприятии (aprehension): в том факте, что я отдаю себеотчет в том, что уже присутствует во мне.
Чтобы очертить этот радикальный факт,проанализируем фундаментальные уровни человеческоговосприятия:
226 Zubiri X. Inteligencia y realidad, p.22.
176
СТИХОТВОРЕНИЯ
— структурный или глубинный уровень, которыйнепосредственно не осознается в своемфункционировании.
— уровень обыденного знания.— высший уровень знания (знание в строгом смысле
этого слова).
3.1. Радикальная структура человеческого восприятия:первоначальное восприятие реальности.
3.1.1. Чувственное восприятие в целом.
Необходимо обратить внимание на собственную природучеловеческого восприятия. И так как в человекевосприятие имеет место как чувственное восприятие икак умозрительное постижение, то мы начнем с первого.Чувственное восприятие представляет собой жизненныйпроцесс ощущения, общий для человека и животных, исостоящий из трех моментов:
момент возбуждения: нечто экзогенное или эндогенноевызывает процесс. Возбуждение не сводится кфизическому возбуждению, но предполагает его.
момент изменения тонуса: возбуждение воздействует насостояние животного, изменяя его жизненный тонус:
момент ответа: изменение тонуса обуславливаетадекватный ответ.
Чувственное познание является единым процессом,составленным внутренним образом из этих трех моментов.Момент возбуждения чувственного процесса состоит ввосприятии возбудителя: это чувственное восприятие,которое состоит в том, чтобы быть впечатлением(impresion), и которое в свою очередь состоит из трехконститутивных моментов:
аффектирование субъекта чувственного восприятия со
177
СТИХОТВОРЕНИЯ
стороны всего ощущаемого; он претерпевает ощущение(цветов, звуков, температуры и т.д.).
момент инаковости (alteridad): дело не в простомпретерпевании, но в том, что аффектирование делает длянас конститутивно присутствующим то, что впечатляет:нечто иное, знак, то, что находится обозначенным.(замеченным перед лицом всего неведомого). Знак неявляется первоначально качеством «чего-то» иного, ноявляется знаком в себе самом, в себе самом «иным» поотношению к субъекту ощущения.
сила навязывания: присутствующий знак навязываетсясубъекту ощущения и возбуждает процесс ощущения.
В то время как античная философия прошла «нацыпочках» мимо ощущения для того, чтобы утвердитьреальную ценность причины, современная философиятяготеет к рассмотрению ощущения в нем самом, нераскрывая существенного момента инаковости ощущения.Ни те, ни другие не учитывают этой структурычувственного восприятия и присущего ему существенногомомента инаковости, (одни забывая о нем радисубстанции, другие – ради сознания и его внутреннихсостояний). Поэтому необходимо проанализировать моментинаковости.
Собственная структура этого момента состоит в том,чтобы быть присутствием иного, поскольку оно являетсяиным:
с его собственным содержанием, простым (односвойство: ощущение), или сложным (совокупностьсвойств: восприятие)
но так же со своим способом делаться присутствующим иоставлять субъекту ощущения впечатление. Этот способсостоит в независимости или автономии по отношению к
178
СТИХОТВОРЕНИЯ
субъекту ощущения: он не отождествляется ссодержанием, потому что одно и то же содержание может«оставаться» независимым в различной форме. Речь идет,поэтому, о формальном измерении, это момент формы.
Содержание и формальность (formalidad) – это дваизмерения инаковости, которые даются в самом ееединстве:
«Чувственное впечатление является впечатлением,которое воздействует на того, кто ощущает, делаяприсутствующим то, что впечатляет, то есть, знак(nota), в формальности независимости с его собственнымсодержанием, как простым (один единственный знак), таки сложным (совокупность знаков). Эти независимые знакив самой своей инаковости с разнообразной силойвоздействуют на того, кто ощущает. И навязанное такимобразом впечатление определяет процесс ощущения:возбуждение, изменение тонуса и ответ».227
3.1.2. Чувственное человеческое восприятие: инаковость реальности.
Существуют различные способы чувственноговосприятия соответственно различным способамформализации. Именно это, прежде всего, отличаетчеловека от животного.
Формализация, которая относится к моментуинаковости во впечатлении, воздействует, бесспорно, навесь процесс ощущения: на возбуждение, но также наизменение жизненного тонуса и ответ. Амплитудаформализации (то есть, большая или меньшаянезависимость, в которой остается впечатление)открывает перед субъектом ощущения большую или меньшую227 Ibid., p.39.
179
СТИХОТВОРЕНИЯ
амплитуду возможных ответов.Есть два фундаментальных способа восприятия в
соответствии с двумя различными типами формализации:восприятие стимула,восприятие реальности.При восприятии стимула воздействующее впечатление
формально остается в качестве стимула; эта формаотличает постижение животного. Животное образует частьэкологического окружения, к которому оно«приговорено», с одной стороны, пищевыми стимулами, сдругой стороны, своей инстинктивной физиологическойпредрасположенностью.
Это означает, что вещи присутствуют для него каквпечатления, подчиненные формальности стимула.Животное ощущает все окружающие его обстоятельства какстимулы. Формальность стимула состоит в обозначаемом,в том, чтобы быть знаком обусловленного ответа. В силусвоей биологического и инстинктивного оснащенияживотное располагает гаммой возможных ответов наопределенные стимулы, которые вступают в действиеавтоматически и однозначно согласно поведенческойсхеме стимул-реакция. В этом состоит приспособлениеживотного к своей среде:
«Формализация, является, как мы видели,независимостью, автономизацией. Все схватываемое вформе простого стимула является независимым отживотного, но только как знак. Это независимость, и,постольку, формализация чистого стимула. Различныеощущаемые качества как чистые стимулы являютсяразличными знаками ответа. Всякий знак является «знаком чего-то»(signo –de). Это «de» является ответом,и само это «de» формально принадлежит способу
180
СТИХОТВОРЕНИЯ
оставаться ощущаемым посредством знаков. … Итак,обозначать значит чувственно обуславливать внутренними формальным образом определенный ответ. И именно впростом восприятии чего-либо в обозначающей инаковостисостоит восприятие стимула».228
Стимул это знак чего-то. Это означает, что онвоспринимается животным как жизненно важный «длянего». Но это не есть нечто чисто субъективное. Онотпечатывается, так как является объективным знаком.
Прогрессивная формализация приводит к тому, что наэволюционной лестнице живых одушевленных существживотное начинает ощущать свои стимулы как «свойство-знак», с каждым разом все более независимый от самогоживотного. Чем дальше продвигается животное поэволюционной лестнице, тем больше оно ощущает стимулкак нечто, что оказывается с каждым разом все большеотделенным от субъекта восприятия. Эта формализациядостигает высшей точки. Стимул, в конечном счете,постепенно предстает столь независимым от животного,столь чуждым ему, что становится полностью отделеннымот него; формализация превращается в гиперформализацию.Человек – это гиперформализованное животное.229
Таким образом, отношение человека к своей средекоренным образом изменяется по сравнению с отношениемживотного к среде своего обитания. Человек не являетсябуквально приписанным к своей ситуации, прежде всегопо отношению к стимулам: он уже не способен даватьавтоматические, инстинктивные ответы на впечатления,потому что они уже не предстают перед ним в форме
228 Ibid., p.52.229 Cf., p.70.
181
СТИХОТВОРЕНИЯ
стимула, то есть, в качестве простого знака ответа.Независимость означает здесь полную дистанцию.Человек, поэтому, соблюдает дистанцию по отношению квещам, которые появляются не в качестве предписанныхему возможных инстинктивных ответов, а как открытые.Гиперформализация означает или включает в себянедостаточную оснащенность инстинктами и,следовательно, необусловленность человека. Вещи, всеощущаемое, на расстоянии и в полной независимости,лишенные обозначающего характера, предстают уже не какзнаки определенного ответа, то есть, не как стимулы, акак являющиеся чем-то «в себе», как реальность иисточник возможностей. Специфически человеческоевпечатление является впечатлением реальности.
В силу недетерминированности и непредписанностидействий, отсутствия готовых ответов, человек, радисвоего физического выживания, должен сделать своим этоприспособление, должен самоопределяться. И поэтомупрежде чем исполнять действие, он должен размышлять.Так как он свободен по отношению к стимулам, то этипоследние, как реальность, предстают перед ним вкачестве возможности (скорее как различныевозможности). Поэтому человек должен помыслить вещь ирефлектировать (мыслить себя: искать внутри себя).Благодаря дистанции по отношению к воспринимаемой вещистановится возможной интериоризация, погружение всамого себя.
Все это указывает на то, что поведенческая схемастимул-реакция уже не функционирует в человеке и чтоего поведение основывается на возможности (реальности)и свободе. Оставаясь свободным по отношению к стимулам(первое измерение свободы: негативная свобода или
182
СТИХОТВОРЕНИЯ
свобода от принуждения) посредством размышления,человек должен выбирать среди возможностей, которыеему предлагает ситуация, то есть, должен решать, имеяв виду нечто (свобода-для, второе измерение свободы:позитивная свобода, или свободная воля). В силугиперформализации человеческий ответ является не чем-то автоматическим, инстинктивным, а свободным: этоволя.
Возвращаясь к нашей теме, мы теперь можем сказать,что человеческая форма чувственного восприятияобладает собственными чертами. Все воспринимаемоевоспринимается как знак, черты которого не принадлежатсубъекту постижения в и для самого процесса ощущения:например, не «тепло (меня) обжигает», как в случае сживотным, но «тепло является обжигающим», оно «от себясамого» горячо. Все постигаемое существует в самомсебе, согласно формальности реальности, как бытие отсебя.
Это не означает, что оно является «вещью в себе» вкантианском смысле, потому что речь идет не о вещи вплане ее постижения, а о ней самой. Реальность,поэтому, является, прежде всего, и в первую очередь,формальностью:
«Автономный знак является столь автономным, что онявляется больше чем знаком, он является автономнойреальностью. Он является не автономией означающего, аавтономией реальности, инаковостью реальности,является altera realitas230
3.1.3. Чувствующее умозрительное постижение
Структура чувственного человеческого восприятия как230 Ibid., p.63
183
СТИХОТВОРЕНИЯ
восприятия реальности открывает нам умозрительныйхарактер самого этого восприятия. Разум не являетсяспособностью, которая воздействует на другуюспособность (чувство), а является исключительнойспособностью человека, которая может действоватьтолько в единстве с чувством: «умозрительно постигать(inteligir) нечто состоит формально в том, чтобывоспринимать нечто как реальное».231
Чувствующий разум (inteligencia sentiente) являетсяединой способностью как результат действия двух сил:чувствовать и умозрительно постигать. Они различны каксилы, но формально не могут быть отделены друг отдруга. Человек чувствует не иначе как под давлениемформальности реальности, постольку, разумно. И он неможет умозрительно постигать (воспринимать реальность)иначе, чем чувственно, через впечатления. Человеческоевосприятие – это восприятие реальности и в нем естьдва неотделимых друг от друга момента:
момент ощущения: впечатление;момент умозрительного восприятия: реальностьСпособность воспринимать является общей
способностью людей и животных. Но восприниматьреальность – это простейший, радикальный иисключительный акт разума. И если умозрительнопостигать означает воспринимать нечто как реальное, точувствовать означает воспринимать нечто посредствомвпечатлений, но это нечто может восприниматься или какчистое ощущение (у животного, для которого способностьчувствовать это просто способность) или какумозрительное ощущение(sentir intelectivo) (у человека,
231 Ibid., p.77.
184
СТИХОТВОРЕНИЯ
разумного животного).«Человек это гиперформализованное животное.
Способность к автономному существованию, в которойсостоит формализация, у человека превращается вгиперформализацию, то есть, превращается в знакреальности. В результате этого перечень возможныхадекватных ответов на стимул столь велик, что ответоказывается практически необусловленным. Это означает,что человеку его ощущающие структуры уже необеспечивают адекватного ответа. То есть, единствовозбуждения, изменения тонуса и ответа было бынарушено, если бы человек не смог постичь стимулыновым способом. Когда стимулы являются недостаточнымидля адекватного ответа, человек приостанавливает, таксказать, свой ответ, и, не покидая, а скорееконсервируя стимул, воспринимает его в том, каким онявляется от себя, как нечто существующее от себя, какстимулирующая реальность. То есть человек постигаетстимул, но не стимулирующим образом: таковорадикальное появление умозрительного постижения.(inteleccion) Умозрительное постижение возникаетформально и определенно в момент преодолениястимуляции, в момент восприятия чего-либо какреального, замещая чистое чувство»232.
Отсутствие противостояния, более того единствочувства и умозрения объясняется тем, что самаформальность человеческого чувства, реальность,содержит в себе или является актом умозрительногопостижения. Чувство и умозрительное постижениеявляются двумя моментами одного и того же акта:
232 Ibid.,p.78.
185
СТИХОТВОРЕНИЯ
«Чувствовать значит чувствовать реальность иумозрительно постигать значит умозрительно постигатьреальное во впечатлении»233
В общем, человек чувствует разумным способом иразмышляет чувственно. Он является животнымреальности. Его животность говорит нам о егофизическом внутримировом характере. Но егоформальность реальности указывает нам на разум, как навидовое отличие человека.
3.1.4. Структура чувствующего разума3.1.4.1. Модальная структура чувствующего разума
Впечатление реальности реализуется посредствомчувств, лучше сказать, ощущений, которых не пять,согласно Субири, а одиннадцать. Каждому из этихощущений соответствует определенный способчувствования вещи (умозрительное ощущение) иопределенный акт размышления (чувствующее умозрение):
ЧУВСТВО УМОЗРИТЕЛЬНОЕОЩУЩЕНИЕ
ЧУВСТВУЮЩЕЕУМОЗРЕНИЕ
Зрениенаходитьсявпереди – передомной
Проницательность
Слух отправка –сообщение Выслушивание
Обоняние след Выслеживание
Вкусспособность кнаслаждениюреальностью
то, что даетнаслаждение
233 Ibid., p.81.
186
СТИХОТВОРЕНИЯ
Вестибулярная илабиринтнаячувствительность
реальность какцентрированноеположение
Ориентация
Контакт-сжатие голое присутствие Ощупывание
Тепло-холод
реальность,вызывающаяощущениетемпературы
Приспособление ктемпературе
Боль–удовольствие
реальностьвоздействующейсилы
бытьзатронутым
Кинестезия
реальность понаправлению к –направляющееприсутствие
Динамическоенапряжение
Покой внутренний мир –моя реальность
Интимная связь совсем реальным
Эти чувствования, которые информируют нас оразличных измерениях всего воспринимаемого какреальности, не являются хаотически перемешанными, но«покрывают» полностью или частично друг друга какструктурные моменты одного и того же чувствующегоумозрительного постижения (inteleccion sentiente).Таким образом, чувствующее умозрительное постижениеявляется модально структурированным: вещь постигаетсякак «находящаяся передо мной», в ее «голойреальности», в ее «направлении» и т.д. Речь идет не отом, чтобы постепенно воспринимать одну и ту жереальную вещь последовательно, посредством этихспособов представления, потому что сами способыпредставления уже образуют структурированные моменты
187
СТИХОТВОРЕНИЯ
любого единого акта впечатлительного восприятияреальности.
Эти способы чувствующего представления одновременнообразуют внутреннюю и формальную границу нашегоумозрительного постижения, именно потому, что этоумозрительное постижение является чувствующим: оно ужепомещает нас в саму реальность, но его границыявляются корнем любой возможности и любого усилияпоследующего умозрительного постижения реальности.
3.1.4.2. Трансцендентальная структура чувствующего умозрительного
постиженияТак как всякое человеческое впечатление является
таковым «от реальности», впечатление реальности вотличие от его конкретного содержания являетсянеспецифическим. Поскольку впечатление есть «отреальности» оно переходит границы всякого содержания:является трансцендентальным. Оно не являетсятрансцендентным в смысле находиться «по ту сторонувпечатления». Именно собственная трансцендентальностьчувствующего умозрительного постижения открываетвосприятие всего воспринимаемого как поля реальности,поскольку оно относит одни вещи к другим (всегдавоспринимаемым или в восприятии) в той степени, вкакой они являются реальными, реальностью. Вещиразличаются своим содержанием. Но в силу формальностиреальности они совпадают: все воспринимаемое имеетхарактер реальности, который выходит за пределысодержания и связывает все воспринимаемое:
«Этот внутренне присущий восприятию «выход запределы» является именно трансцендентальностью.Впечатление реальности является не впечатлением обо всем
188
СТИХОТВОРЕНИЯ
трансцендентном, а трансцендентальным впечатлением.«Транс», постольку, означает находиться не вне самоговосприятия, а находиться «в восприятии», но «выходя запределы» его определенного содержания. Говоря другимисловами, воспринимаемое во впечатлении реальности,является, будучи реальным и поскольку оно являетсяреальностью, чем-то «большим», чем оно является какцветовое, звучащее, теплое и т.д.»234
Это «большее» является не бытием (античная исредневековая философия) или объектом интеллекта (Канти идеализм), а общностью всего понимаемого вовпечатлении реальности.
В силу этой взаимной соотнесенности всеговоспринимаемого как «в себе существующего» (какреального), воспринимаемое предстает как поле: связивещей как реальных и составляют поле реальности. Такимобразом, среда животного превращается у человека вмир: совокупность всего реального как реального. Полереальности – есть актуально воспринимаемый мир.
3.1.5. Реальная истина
В свете этого фундаментального окруженияпервоначального впечатления реальности ставится вопрособ истине на ее самом простейшем и радикальном уровне:то, что Субири называет реальной истиной. Онаосновывается на акутальности и актуализации реальностив чувствующем умозрительном постижении, которое ничегоне добавляет к реальности, но лишь подтверждает ее какреальность. Радикальная форма истины в умозрительномпостижении, реальная истина состоит, поэтому, вподтверждении. Она не противостоит ошибке, потому что234 Ibid., p.116.
189
СТИХОТВОРЕНИЯ
еще не является утверждением. И она не отождествляетсяс реальностью, потому что она является формальностью,под давлением которой вещь воспринимается, в то времякак истина есть свойство умозрительного постижения, втой мере, в какой в нем присутствует все реальное. Ноименно в силу этого она является реальной истиной:сама реальность присутствует в этой истине. Всереальное «делается истинным», говорит Субири, то есть,производит истину.
Реальность предстает перед чувствующим разумом втрех измерениях:
тотальности: реальное – это система знаков,систематическое целое.
когерентности: когерентная система знаков.длительности: сохраняющаяся система знаков.И реальность, которая делает истинным,
подтверждается в качестве реальной истины вчувствующем разуме как:
многоообразие знаков, что соответствует тотальности.Такое многоообразие подтверждается как проявление.
что (que) всего воспринимаемого (когерентность),которая подтверждается как прочность.
стабильность всего постигаемого (длительность),которая подтверждается как констатация.
* * *
До сих пор речь шла об анализе первоначальноговпечатления реальности, которое образует базовую ифундаментальную структуру человеческого познания, какединства чувства и умозрительного постижения ввосприятии. Эта радикальная структура обычно«перекрывается» обычным каскадом знаний, которые
190
СТИХОТВОРЕНИЯ
привлекают внимание. В силу сложности человеческогопознания, кажется почти нормальным то, что непринимается во внимание фундаментальное единство этойбазовой структуры, на которую опирается весьпознавательный процесс. В этом процессе вниманиенаправляется непосредственно на содержание (реализм)или на то, чтобы «дать себе отчет» (идеализм). Но то,что делает возможным все это, то есть, базовым ифундаментальным условием является характерформальности восприятия воспринимаемой реальности, и,поскольку он не является познанным содержанием, о немобычно забывают. В истории философии внимание кнаучному уровню познания и, постольку, к его высшимпроцессам, породило отсутствие интереса к чувству иего структуре, которая сводилась к моменту постиженияконкретного и изменяющегося, и постольку, непредставляющего значительного интереса. В этом состоитпозиция рационализма и идеализма. Или этот моментрассматривался как момент безрассудочный, как это былов случае эмпиризма.235 Ни те, ни другие не принимали вовнимание внутреннюю формальность этого моментавосприятия, который заставляет проявиться высший, т.е.разумный характер человеческого познания, но какмомент самого чувства.
235 Даже те, кто отстаивают приоритет чувства, подобно эмпиристам,делают это таким способом, что не известно, что делать с этим.Поэтому они становятся скептиками. Это происходит потому, что ониограничиваются подчеркиванием хронологического первенстваощущения, но не анализируют его адекватно: они останавливаютсятолько на воздействии, и, прежде всего, на содержании. Но непринимают во внимание формальность, а в крайних случаях (как уБеркли и Юма) даже момент инаковости как таковой. Отсюдазакмыкание себя в сфере сознания.
191
СТИХОТВОРЕНИЯ
На этой базовой и неосознаваемой структуреосновывается и уровень обыденного знания, и высшийуровень знания. Речь идет о последующих способахумозрительного постижения.
3.2.Последующие способы умозрительного постиженияПервоначальное восприятие реальности представляет
нам человека как животное реальностей, укорененное « вреальности». Но этот радикальный и непреложный факт,бесспорно, является недостаточным и требуетпоследующих способов умозрительного постижения. Во-первых, потому что сам характер «от реальности» вовпечатлении отсылает к самой вещи: он ведет человека квопрошанию реально воспринимаемого. Кроме того, во-вторых, формальный характер «от реальности» всеговоспринимаемого не дает в первоначальном восприятиивсего богатства своего содержания. Оно остаетсяограниченным модальной структурой и, постольку,требует последующего прояснения своего содержания.
3.2.1. «Полевое» умозрительное постижение: структура обыденного уровня познания
Структурный базовый уровень познания состоит ввосприятии чего-либо как реального. Но человеческоепознание продвигается, побуждаемое самой силойреальности, к утверждению того, чем вещь является вреальности, того, в чем вещь состоит. Восприятие,постольку, предполагает второй уровень, которыйобогащает вещь не в ее характере реальности, а в том,что касается ее содержания.
Как же можно продвигаться значительно дальшепервоначального восприятия реальности в том, чтокасается содержания, если то, что нам дается от вещи,
192
СТИХОТВОРЕНИЯ
ее знаки, кажется, полностью нам даны в этом первоммоменте?
3.2.1.1. Соотносительная структура обыденного уровня познания
Человек воспринимает реальную вещь и пытается вдальнейшем определить ее содержание относительно,начиная с других уже познанных вещей, которыепоявляются в поле реальности всего воспринимаемого.
Мы уже говорили, что реальность есть нечтотрансцендентальное, в силу чего различные вещисоотносятся друг с другом. Поэтому познание содержанияновой реальности определяется, прежде всего, неотносительно самого себя, а относительно всех другихвещей поля, уже познанных и составляющих принципыумопостигаемости (inteligibilidad) всего воспринимаемого.
Обыденное познание действует соотносительно,располагая вещь в поле реальности, начиная с вещей ужепознанных. Это обращение к другим вещам поля содержитв себе момент удаления или дистанции по отношению ксамой вещи: это момент «кажимости»: то, чем вещькажется являющейся или «могла бы быть». Потом оновозвращается к вещи и утверждает то, чем она являетсяв реальности: в поле реальности среди других вещей иисходя из них. Таким ситуативным и соотносительнымобразом вещь утверждается:
в ее «этом»: простое обозначение или «воспринятоеизвне»;
в ее «как»: воссоздание знаков вещи или«измышление» (которое является не «вымысломреальности», а «реальностью в вымысле», основойметафор и художественного творчества),
в ее «что»: познанная вещь или «понятие». Понятие
193
СТИХОТВОРЕНИЯ
является абстрактным, но процесс абстрагирования, хотябы как существенная актуализация (интуиция сущности),является плодом полевого исследования, и, постольку,соотносительным: понятие определяет вещь и ее знаки,исходя из других уже познанных вещей. Определятьзначит располагать в поле реальности, и дефиницияявляется ничем иным как сконструированным понятием.Все это подтверждается, если иметь в виду, чтоаристотелевское и схоластическое определение отвечаютлогике совокупностей, которые являются именно видами иродами, ближайшим родом и видовым различием. Вместе сэтим устраняются эссенциалистские претензииклассической схоластики, но не дается основания дляноминализма. Мы познаем реальность, реальное в егоструктуре, и понятие является не простым произвольнымсимволом, простым именем, а диктуется самойреальностью.
Утверждение образует суждение. Суждение может иметьразличные формы и разнообразные способы.
Формы суждения:позициональное утверждение: простое обозначение
(«огонь!», «льет дождь!»). Соответствует восприятию.пропозициональное утверждение: фраза (например,
пословица), которая не обладает в себе характеромреальности, но предполагает субъекта, ее реализующего.Соответствует вымыслу.
предикативное суждение, строго соединительноеутверждение (А есть В), которое соответствует понятиюи предполагает определение.
Способы суждения: утверждение о реальности илисуждение не всегда обладает утвердительной функцией впозитивном смысле. Оно может выражать незнание (момент
194
СТИХОТВОРЕНИЯ
представления в своем воображении или кажимостиактуализируется как недетерминированность),предположение (указание), сомнение (двусмысленность),мнение (предпочтение), допустимость (очевидность),убеждение (действенность).
3.2.1.2.Истина сужденияНа уровне утверждения, на котором мы сейчас
находимся, истина суждения состоит в соответствии:воспринимаемое реальное соответствует используемымкритериям или принципам умопостигаемости, или этипоследние соответствуют реальному. Речь идет осоответствии между воспринимаемой реальностью иутвердительным умозрительным постижением (inteleccionafirmativa), которое утверждает (согласно разнообразиюформ и способов) то, чем эта реальная вещь является вреальности: этой вещью, соотносительно с другимивещами и исходя из них.
Движение идет от первоначального восприятия вещикак реальной (реальная истина) через то, чем вещь всвоем содержании кажется являющейся (полевоеисследование) до утверждения того, чем вещь является вреальности.
В отличие от того, что происходит с реальнойистиной, здесь истина не является прочной и возможнаошибка по причине динамического или поисковогохарактера утверждения. К утверждению того, чем вещьявляется в реальности, приходят от кажимости. Поэтомук нему можно не придти. Истина как соответствиесостоит в том, что вещь лежит в основе кажимости:нечто кажется такой вещью, потому что является ею.Ошибка состоит, напротив, в том, что кажимость лежит воснове бытия. Тогда имеет место не соответствие, а
195
СТИХОТВОРЕНИЯ
деформация реального как такового.Истина как соответствие, с другой стороны, не
тождественна истине как адекватности. Истина сужденияникогда не является полностью адекватной: нет полногосоответствия между утверждением и реальным, но толькоболее или менее частичное, приблизительноесоответствие. Всегда можно сказать больше и лучше овоспринимаемом реальном. Эта отсутствие полногосоответствия объясняется соотносительным характеромсамого действия человеческого познания. Адекватность –это скорее идеал, к которому любое соответствиестремится, никогда не достигая его полностью. Поэтомусоответствие не тождественно адекватности. Суждение«этот листок белый» может быть соответствующим, нонедостаточно адекватным.
«Для того, чтобы оно было адекватным, было бынеобходимо сказать не только, что листок «белый», но ив «какой степени белый» и так далее до бесконечности.Просто сказать о листке, что он «белый», не выражаетадекватно белого цвета этого листка. Соответствие неесть адекватность».236
Очевиден структурно приблизительный характервсякого истинного суждения и всякой «двойственной»истины» (так Субири называет истину суждения).
«Постепенное приближение ко всему реальному естьприближение, каждым моментом которого являетсясоответствие. Поэтому любая двойственная истинаявляется внутренне и структурно приблизительной внутриреальности, приближающейся к тому, чтобы стать
236 Intelegencia y logos, p.320.
196
СТИХОТВОРЕНИЯ
адекватной истиной».237
Нет места ни для догматизма, ни для скептицизма. Мыне можем быть скептиками, потому что находимся вреальности и самое реальное нам диктует, нам говорит,чем является. Человеческий логос происходит отпредварительного слушания, и истина является здесьвердиктом (произнесенной истиной). Но догматизм тоженевозможен, потому что реальность мы постигаемотносительным, приблизительным способом, и никогда непостигаем ее до конца. Кроме того и потому, чтовозможны как утверждения незнания, сомнения и т.д.,так и достоверные утверждения. Но так как познаниеокружающей реальности и ее многообразного содержаниязависит от человеческой возможности ответа, и,постольку, от выживания, ясно, что человек,индивидуально и коллективно, располагает обычнодостаточным числом достоверных, а также доказуемыхмнений, которые позволяют ему находится с истиной вреальности, то есть, соответствуя ей, соответствуятому, чем она является, и соответственно действуя.
3.2.1.3. Утверждение и язык. Познание иобщество
На этом уровне познания встает вопрос олингвистическом, и постольку, интерсубъективном исоциальном посредничестве.
Когда мы говорим, что человек познаетсоотносительно вещи, то встает вопрос о том, как онначинает познавать изначально, то есть, каким образомон приобретает первые принципы умопостигаемости, какесли бы он рождался ничем не обусловленным и без
237 Ibid., p.324.
197
СТИХОТВОРЕНИЯ
предварительного оснащения. Очевидным ответом на этотвопрос является социальный характер познания, которыйвыражается в первую очередь в языке. Человеческийиндивид, который появляется в мире с очень высокойстепенью недетерминированности, получает свои первыедетерминации со стороны исторически обусловленногосемейного, социального, языкового, культурногоконтекста. Все это предоставляет человеку начальныйбагаж сборных ответов на реальность, который позволяетему расположиться в ней осмысленно и интерпретироватьее правильно, согласно определенным образцам. Языковоеи социальное посредничество образует его первую икрайне необходимую детерминацию, которая одновременноявляется и допускающей возможности, и ограничивающей.Принимая за основу это посредничество, ужесоциализированный, индивид может выбирать своиинтерпретации реальности, свои ответы, свои точкизрения. Он может отбрасывать одни ответы и приниматьдругие или даже изобретать и предлагать иные новыеответы, которые кажутся ему соответствующимиреальности. В этой форме индивид не только формируетсяобществом и его знаниями, но и формирует и изменяетих.
Поэтому, оказывается, что если на этом уровнепознания реальности человек говорит вещи (логос, языккак место умозрительного постижения), то это потомучто, предварительно, вещи говорят о себе отдельномучеловеку: культурная и языковая социализация вооружаетчеловека изначальным багажом знаний о вещах, с которымон начинает движение к собственному познаниюреальности, себя, других людей, мира.
Эта первоначальная социализация располагает
198
СТИХОТВОРЕНИЯ
человека не просто в поле реальности, а в мире какцелостности. Его культура предлагает ему глобальныйобраз мира, который является изначально его миром илилучше сказать, миром, обладающим прочным составом,придающим ему характер чего-то предварительного поотношению к самому индивиду. Эта внутримироваяцелостность образует символический универсум, которыйчерез посредство определенных институтов (семьи,самого языка, разделения труда, политических структури т.д.) делается присутствующим в обыденной жизни впопулярной форме: моральных и гражданских норм,пословиц, народной мудрости и т.п., обеспечиваялегитимность, уверенность и смысл.
Символические универсумы, бесспорно, принадлежат вкачестве таковых к высшему уровню познания, которыйпытается ответить на вопрос о том, чем являются вещи вреальности, в мире, то есть, по ту сторону восприятия,в самих себе. Это проблема умозрительного постиженияпосредством рассудка, рационального уровня познания.
3.2.2. Рациональный уровень познания
По причине силы реальности в ее характере«существования в себе», который отсылает нас к нейсамой, человеческое мышление постоянно остаетсянеудовлетворенным познанием, приобретаемым вповседневной жизни. Обыденное знание все болеепроявляет свою ограниченность, недостаточность,неадекватность, несмотря на частично возможноесоответствие реальности. Эти же самые достиженияпознания побуждают соответственно к более глубокому,более совершенному познанию, которое, в конце концов,скажет нам, чем являются вещи не в полевом
199
СТИХОТВОРЕНИЯ
исследовании, а сами по себе, в реальности всегореального, то есть, в мире, по ту сторону восприятия.
3.2.2.1. Умозрительное постижение в рассудке
Этот уровень познания состоит в поиске реальности,побуждаемой самой силой реальности и направляемойрассудком. Что такое рассудок? Рассудок этоумозрительное постижение в глубине (поиск глубочайшейреальности) и измеряющее умозрительное постижениереального как такового в глубине, то есть, поискоснований, принципов реального. Он является,следовательно, умозрительным постижением в поиске, и,поэтому, динамическим, имеющим направленность инезавершенным. Его незавершенность говорит нам о строгоисторическом характере рационального человеческогопознания:
«Незавершенность означает, что, даже будучиистиной, она является истиной, которая в силу своегособственного внутреннего характера призвана бытьпреодоленной, а не быть с необходимостью уничтоженной.Но всегда оказывается, что все преодоленное, именно всилу своего способного к преодолению и превосходящегохарактера, является формально незавершенным»238.
Этот внутренне присущий рассудку проблематизм указываетна проблематичный характер самой реальности:
«Рассудок – это умозрительное постижение, в которомглубочайшая реальность актуализируется проблематичнымобразом, и которое поэтому бросает нас косновополагающему и каноническому исследованию
238 Inteligencia y razón, p.63
200
СТИХОТВОРЕНИЯ
постигать в глубине, в основаниях, в поиске.»239
Такая форма умозрительного постижения как рассудокобусловлена, поэтому, самой реальностью. Носодержание, разыскиваемое рационально, не являетсянавязанным; отсюда проблемный характер самого поиска.Поэтому он является, говорит Субири, рациональнымтворением, то есть, свободным по самой своей сущности.Это свободное творчество но не реальности, а еефундаментального содержания и на основе того, чтореальность нам предлагает от себя.
Это означает, что, исходя из того, что нампредлагает реальность, интерпретируя данные, которымимы располагаем, мы должны конструировать модели,гипотезы или постулаты о реальности в глубине, которыепытаются дать ясный отчет об этих же самых данных.
Модели реальности осуществляются, на основе ужевоспринятых умом знаков реальности, свободномодифицируя их содержание. Например, корпускулярнаямодель реальности исходит из полевого умозрительногопостижения тела. Модель состоит в реализации.
Гипотезы исходят из базовой структуры ужепостигнутого реального в плане свойств.Предполагается, что структуры реального в восприятии иреального в глубине являются подобными. Например,структура вращения тел вокруг своей оси (звезд,планет, спутников) дает повод мыслить подобным жеобразом субатомную субстанцию: «спин». Гипотезыпорождаются уподоблением и состоят в конструировании.
Постулирование состоит в полном воссозданиисодержания в его двойственном лике знаков и базовой
239 Ibíd., p. 65.
201
СТИХОТВОРЕНИЯ
структуры. Это полное воссоздание может иметьэстетическую конечную цель (творчество радитворчества: например, новелла) или теоретическую, какв случае научных постулатов. Таким, например, былспособ работы Галилео Галилея, который постулировалматематический характер любой космической реальности.
Рациональное постижение реальности в глубинесостоит, поэтому, в рациональном конструкте, которыйвыдвигает то, чем могла бы быть эта реальность по тусторону восприятия, принимая все, что в восприятии онанам предлагает. Но свободное творчество не означаетпроизвольного творчества: творческие возможностиограничены: ограничены тем, что сама реальность нампредлагает, они являются ограниченными указаниями ивозможностями. Итак, существуют различные возможностиосмысления реальности, среди которых необходимовыбирать соответственно своей собственнойментальности: научной, религиозной, мифологической,философской и т.д. Но это не означает, что этиментальности с необходимостью взаимно исключают другдруга.
Несмотря на то, что до сих пор мы неопределенноговорили о познании и уровнях познания, для Субиритолько рациональное умозрительное постижение являетсязнанием в строгом смысле этого слова.
«Познание –это умозрительное постижение в рассудке.…Познать зеленый цвет не значит просто увидеть его илиумозрительно постичь, что он является хорошоопределенным цветом среди других цветов, но значитумозрительно постичь само основание зеленого вреальности, постичь, например, что он является
202
СТИХОТВОРЕНИЯ
электромагнитной волной или фотоном с определеннойчастотой. Только умозрительно постигнув его, такимобразом, мы реально знаем, чем является реальныйзеленый цвет: обладаем умозрительным постижениемзеленого цвета, но в основании. Основанием зеленогоявляется его реальное основание».240
3.2.2.2. Структура умозрительного постижения в рассудке.
Этот уровень строгого познания обладаетопределенной структурой, которая состоит из трехмоментов:
предметности: реальная вещь, которую нужноосмыслить, явно положена или опирается на мир ипревращается в предмет. Будучи актуализированной, вкачестве предмета, реальная вещь направляет нас кумозрительному поиску своего глубокого содержания: вэтом состоит проблема метода.
метода: в самой реальности открывается путь внаправлении ее глубинной реальности. Для этогонеобходима система отнесения, которая не может бытьчем-то иным, кроме самой реальности какактуализированной в восприятии: полевая реальность(ощущаемый мир). Исходя из нее, набрасываетсявозможное основание, или то, что могло бы быть, котороесодержит рациональную конструкцию, соответствующуюразличным возможностям: в соответствии, противоречии,разнообразии относительно системы отнесения, и т.п.
От этого наброска необходимо вернуться креальности, для того чтобы увидеть, принимает она иливновь отвергает наш набросок: необходимо прибегнуть к
240 Ibid., p.162.
203
СТИХОТВОРЕНИЯ
опыту, который состоит в физическом испытанииреальности и имеет различные формы:
очевидность: опыт подтверждает набросоккатегорическим образом.
осуществимость: в отличие от очевидности, набросокне подтверждается непосредственно опытом, имеютсятрудности. Трудное является не очевидным, ноосуществимым: для того, чтобы проверитьосуществимость, необходимо прибегнуть к сложному имногообразному испытанию реальности, которое принимаетразличные формы в соответствии с рассматриваемойреальностью:
Эксперимент: манипуляция, вызов к реальности.Действует в физической реальности.
Взаимное проникновение: в случае человеческойреальности имеет место проверка «изнутри», чтобыреальность показывала из самой себя. Может быть путемэмпатии, диалога, встречи и пр.
Подтверждение: для математической реальности. Расположение: проверка собственной реальности из
самого себя. Дело в том, чтобы поставить себя внабросок возможностей того, кем я являюсь, и старатьсявести себя согласно этому наброску.
- Рациональная истина: «В опыте умозрительноепостижение находит, что реальность совпадает или несовпадает с тем наброском возможностей. Эта встречаесть истина рационального умозрительного постижения.Противоположное, это есть ошибка.»241
Собственный характер рациональной истины — встреча,и состоит в верификации. В верификации, которая и
241 Там же, p. 258.
204
СТИХОТВОРЕНИЯ
может быть «фальсификацией», реальность делает насправыми или нет: «Верифицировать, это означает найтиреальное, — это выполнение того, что мы обрисовали отом, что реальность могла бы быть: в такой встречи и втаком выполнении делается актуальным (facere) тореальное в умозрительном постижении (verum). И в этомсостоит «верификация».»242
Верификация всегда динамична, и поэтому всегдаиспытание, сопоставление. Никогда является полной,т.к. ничто можно проверить до конца, хотя есть ступениверификации:
То, что рациональное: соответствие почтисовершенное.
То, что разумное: не совершенное соответствие. То, что опровергаемое: отрицательный опыт, в
котором реальность исключает набросок. Останавливающий опыт: когда невозможно ни
проверить, ни отвергать набросок.И все это говорит снова о том, что человеческий
разум существенно исторический, который, в своихразличных испытаниях к реальности, составляетпрогрессивно систему науки, которая состоит именно втом, чтобы быть логико-историческим осуществлениемреальности, понятой в качестве проблемы.
3.2.2.3. Возможные способы рационального знания
Субири не ограничивает рациональное познание кобласти естественной науки. Существуют различныевозможности рационального знания. Это правда, чтонаучное знание является одним из важнейших: его242 Там же, р. 292.
205
СТИХОТВОРЕНИЯ
предмет — позитивный факт, определенный системойпредыдущих понятий. Позитивная наука (естественная игуманитарная) старается предлагать содержательнойпорядок реальности: реальное в его фактическомсодержании и структуре.
Но тоже существует метафизическое знание,занимающееся порядком реальности в качествереальности, т.е. трансцендентальным порядком.Попытается открыть, какая структура реальности кактакова. Имеет более толкующий характер, чем позитивнаянаука и ее верификация меньше непосредственной. Но этоне уменьшает ее важность, т.к. ее предмет, хоть именьше точный, более основной и значимый длячеловеческой жизни, ведь занимается открытием смыслареальности в целом и окончательно.
Существуют и другие познавательные подходы:мифический, занимающийся похожими проблемамиметафизики, но посредством символической речи;художественный, являющийся символическим и творческимдоступом к реальности в ее эстетическом смысле и сточки зрения чувств.
Наконец, есть и религиозный подход к реальности,связан с проблемой реальности — основание.
4. Проблема человекаСвязано с проблемой реальности и чувствующего
умозрительного постижения как восприятия реальности,появляется ясно и проблема человека. Человек —животное реальности, гиперформализированное животное,выделяется над остальными животными, несмотря на то,что разделяет с ними так же проблему выживания. Воосновном, эта проблема решается одинаковым образом у
206
СТИХОТВОРЕНИЯ
всех живых существ: процессом возбуждения, изменениятонуса и ответа. Но в случае человека уже самовозбуждение является специфическим: это впечатлениереальности и не только лишь стимул. Впечатлениереальности представляет собой, что последняя стоитперед человеком как источник возможностей, в силекоторого человеческий ответ не находится автоматическиготов его инстинктами. Он сам должен искать и найтиответ размышлением и свободным выбором.
Исходя из этого, можно понять, что человек, потомуживотное реальности, является и личностью (личнымживотным), что он структурально нравственен иобщественная реальность собственным и уникальнымобразом.
4.1. Человек — «личное животное»Человек физически позвоночное животное, теплой
крови, живородящее, млекопитающее, живущее в окруженииотчасти враждебном, отчасти благодетельном. В немчеловек должен решать его первичную проблему:собственного выживания. Но характерная человекугиперформализация делает так, чтобы, в отличие отостальных животных, которые совершенно прилаженные кокружению стимулами и инстинктивными ответами, человекнаходится не прилаженным к ситуации и, следовательно,не ей определенным. Стимулы у него не специфические,благодаря их характеру реальности и источникавозможностей; и, в свою очередь, тоже совокупностьинстинктивных ответов очень не определенная. Такаянеопределенность причиняет, по необходимостивыживания, проявление мышления: человек долженразмышлять о ситуации прежде тем, чтобы действовать.
Обратим внимание на то, как инстинктивная
207
СТИХОТВОРЕНИЯ
неопределенность, благодаря которой человек освобожденот детерминизма стимулов, является причиной теории(«theorein», видеть), и необходимости того, чтобыдумать о вещах самых по себе. И это, несомненныйисточник философского удивления, имеет, прежде всего,практического смысла: речь идет о том, чтобы смотретькакие возможности предлагают те вещи, среди которыхчеловек неизбежно должен выбрать. Ответ уже нетавтоматического механизма инстинктов, побужденногостимулами, но вытекает из разумного характера человекаи из его воли. Человек, животное реальности, поэтомуявляется и чувствующим разумом и стремящей волей. И изэтого объясняются существенные черты человека:
Само владение: Если в впечатлении реальности, онапоявляется как «своей», сам человек, размышляющий оней по отношению с самым собой, должен и думать о себеи решать, кем он хочет быть. Именно потому, что он неопределенный, должен самоопределиться, т.е. долженрадикально делать себя. Он не развивает просто то, чемон уже является с рождения (как это делают остальныеживотные), но ему понадобится создать свою реальность,реализоваться, придать себе человеческую форму.Человеческая реальность открыта и, поэтому, каждомучеловеку нужно придавать себе форму, конкретноечеловеческое содержание.
Именно поэтому, человек, это «автос», «свой»: он непросто лишь часть окружения, или член какого-то рода.Человек, в силе его самых биологических условий, ипринужденный универсальной проблемой выживания, живетпо отношению с самим собой: является само владением,или, как говорит Субири, «свойсвенностью» («suidad»).
«Свойсвенность, это означает иметь структуру
208
СТИХОТВОРЕНИЯ
закрытости и целостности и, вместе с тем, полноговладения самым собой, в том смысле, чтобы принадлежатьсебе в области реальности.»243
Таким образом, естественный закон рода, становитсязаконом самого себя, того существа «своего», в которомсостоит человек. Потому что не определено, кем онбудет в реальности, сам человек должен будетопределить себя в течении своей жизни.
Неопределенность, разумность, самоопределение, самовладение, самореализация составляют структуру живойреальности, которая представляет собой средифизической и биологической природы особый характер.Вытекает из самого эволюционного процесса, ноприобретает в нем отличающие черты, не сводящие книжним ступеням эволюции.
- Личностность (personeidad) и личность. –Человеческийхарактер появляется, таким образом, в лонеестественной реальности как носительницы своеобразнойи новой ценности, подобно тому что происходит споявлением жизни по отношению к просто физическойреальности, и жизни животного по отношению крастительной жизни. Речь идет о новой ценности, высшейи несводимой к другим, каким бы ни было объяснение,которое дается ее естественному возникновению.
В этом своеобразном характере мы можем выделитьпоявление индивидуального характера, который Субириназывает «личностностью» (personeidad), именно потому,что он указывает на структурное измерение
243 Sobre el hombre, p. 117. (В дальнейшем, SH)
209
СТИХОТВОРЕНИЯ
человеческого существа. «Personeidad неизбежноявляется характером существующей реальности в тоймере, в какой эта реальность является своей».244
«Personeidad» как личностный характер охватываетвсе отличающие человеческое существо свойства,указанные прежде. И процесс (само)реализации, вкотором, как мы тоже указывали, состоит человеческаяжизнь, является ничем иным как конкретизацией этой«личностности», которая постепенно приобретаетсобственные модуляции до тех пор пока не придаст себеформу определенной индивидуальности.
«Личностностью (personeidad) являются и всегдаодной и той же; индивидуальность (personalidad)постепенно формируется на протяжении всякогопсихоорганического процесса, начиная с моментаобладания разумом у человеческого эмбриона до моментаего смерти».245
Личностность (personeidad) и индивидуальность(personalidad) – два момента единой реальности:конкретной человеческой личности. Человек, животноереальности, будучи им, является личностным животным.
- Относительно абсолютный характер личности. – Личныйхарактер придает человеческому существу абсолютный, вопределенном смысле, характер. Как говорит Субири,человек есть относительно абсолютное существо. Онявляется абсолютным (абсолютным, свободным, непривязанным, относящимся к самому себе), потому чтоявляется своим относительно любой возможнойреальности; и он – относителен, потому что этот способ
244 El hombre y Dios, p.49. (В дальнейшем, HD)245 HD, pp. 50-51.
210
СТИХОТВОРЕНИЯ
абсолютного внедрения носит приобретенный характер. Вкаждом из своих действий личность постепенно конкретноопределяет способ, в соответствии с которым еереальность является относительно абсолютной. Реальнаяпостигаемая вещь как таковая требует того, чтобыличность определила относительно нее конкретный способбыть абсолютной.
В этом состоит основание серьезности всякогодействия, беспокойство жизни, которая является недвижением жизни как течения, а движением, не знающимконкретного способа быть абсолютным. «Беспокойство –это проблемный характер абсолюта».246 Этот«относительно абсолютный» характер, который был бынемедленно отвергнут с эмпирической точки зрения,является, как это ни парадоксально, единственновозможным фундаментом для того, чтобы говорить, оценности человека не только как «самого совершенного»из всех существ мира, но и как обладающегодостоинством, свойственным любому человеку, каждому извсех людей. Именно оно делает из человека субъектанеотчуждаемых прав, или, в том же самом смысле, цельюдля себя самого.
4.2. Человек, моральная реальностьМоральное измерение также объясняется на основе
этого положения человека как чувствующего разума иживотного реальностей. Субири структурно проясняетморальное измерение человека, начиная с проблемыоправдания.
4.2.1. Проблема оправдания: мораль как структура
246 Cf. Ferraz, Zubiri, el realismo radical, Madrid, Cincel, 1988, p.184.
211
СТИХОТВОРЕНИЯ
Неспециализированность реальности и разума делаютиз человека животное неупорядоченное. Он остаетсясвободным-от стимулов (первое измерение свободы), новынужденным делать себя соответствующим ситуации. Этоприспособление не является в нем простым состязанием.Он должен осуществить его, выбирая среди возможностей,предлагаемых ему ситуацией. Человеческое существодолжно оправдать (‘facere iustum’) свои действия всилу своей необусловленности и своей структурыразумного животного. Оправдание человеческих действийне является, как мы видели, чем-то внешним поотношению к ним самим, но сами действия должныполучить внутреннее оправдание.
Являются ли все возможности, которые предлагает таили иная ситуация, безразличными, так что толькочеловеческая свобода оправдывает ту, которая пускаетсяв ход? Нет. Человек должен выбирать, потому что он самявляется необусловленным и должен самоопределиться,должен придать реальность самому себе:
«Человек видит себя укорененным в кругевозможностей в силу своей собственной реальности, длятого, чтобы дать адекватный ответ. Человексталкивается с неумолимой необходимостью реализоватьсяи поэтому видит себя привязанным к этому окружениюирреальности чистых возможностей».247
То есть, речь идет не о любой возможности, а о том,что человек должен выбирать, исходя из определеннойточки зрения, в силу своего собственного жизненногопроекта, набросок которого он должен сделать для того,
247 SH. p.351.
212
СТИХОТВОРЕНИЯ
чтобы наделить самого себя реальностью, то есть,самоопределиться. Его свобода – это не только свобода-от (стимулов), но и свобода-для (второе измерениесвободы). Только подобным образом одни возможностиявляются более предпочтительными, чем другие.
Оправданию, в конечном счете, подлежат не столькоизолированные действия, сколько направление, в которомчеловек постепенно наделяет себя реальностью,осуществляя свой личный образ, определяя моральнуюиндивидуальность посредством своих действий: подобнымобразом все моральное приобретает свое собственноезначение.
4.2.2. Моральная реальность
Таким образом, человеческое существо, прежде чембыть морально добрым или злым, является структурноморальным; его доброе или злое бытие основывается натом, что «конститутивно он не имеет другого средства,чем колебаться между добром и злом».248 Проблема воли ипроблема целей и средств формально зависит от этогорадикального факта возможности и вытекает из этогофакта.
Обладать моралью значит с необходимостьюсталкиваться с реальностью как источником возможностейи с необходимостью выбора между ними, присваиваякакую-либо из них. Существо морального конституируетсяокружением присвоения(apropiacion):
«Существо морального коституируется системойсвойств, которыми человек обладает в силу присвоения.
248 SH. p.365.
213
СТИХОТВОРЕНИЯ
Моральное – это присвоенные свойства».249
Посредством «присвоения» возможностей, предложенныхреальностью, делая их своими, человеческое существопостепенно делает своей свою собственную реальность,постепенно осуществляет себя:
«Жизнь состоит во владении собой и самоопределении:присвоение состоит просто в том, чтобы брать своюсобственную реальность как нечто, что я удвоенноприсваиваю. Именно в этом, в конечном счете, состоитформальный корень морального действия. Моральное кактаковое – это моя собственная реальность каквозможность, которую я способен присвоить для менясамого».250
И эта реальность, уже не естественная,соответствующая темпераменту, а присвоенная, являетсяморальным характером, который достигаетсясамообладанием и самоопределением. (на индивидуальномуровне). В области социальной жизни это присвоениесоставляют обычаи и привычки, или, в более глубокомсмысле, орбита культуры, которая определяетиндивидуальность народа.
Исходя из этой же структурной перспективы, Субирираскрывает характер «блага» реальности в егоприсваиваемом бытии:
«Реальность как присваиваемая человеком и есть то,что формально образует благо. Реальность являетсяблагой постольку, поскольку она предлагает некоторыевозможности, которые присваиваются человеком, и ониестественно являются ею, потому что человек реально
249 SH. p.374.250 SH. p.376.
214
СТИХОТВОРЕНИЯ
обладает ими. И человек реально обладает ими, потомучто физическая реальность ему реально предлагает этивозможности, которые, в силу их содержания, были быирреальными, но которые в силу факта их предложенияявляются реальностью. Сама реальность как реальность,присваиваемая в реальностях, которые предлагает, иесть то, что формально образует благо».251
До сих пор мы говорили о том, что своеобразныйспособ нахождения человека в реальности дан человеку.Этот способ предлагается человеку как совокупностьвозможностей, между которыми он должен выбирать длятого, чтобы постепенно творить свою жизнь, вырисовываяее характер, и именно это определяет сферу морального.Но, как мы уже отмечали, человек должен выбирать иприсваивать себе возможности для чего-то. Ради чего жесуществуют эти возможности? Ясно, что человеческоесущество должно постепенно устанавливать связи междуэтими возможностями и самим собой. Из-за собственнойнеопределенности человек постоянно находится «надсобой», решая кем быть, и поэтому воспринимаяреальность формально, с точки зрения добра, которыечеловек может сделать своими.
Но это происходит в конкретной ситуации, в которойон обнаруживает себя в каждый момент: осуществитьсязначит дать в каждый момент возможное наилучшеерешение проблеме, которую ситуация ставит перед ним вфункции от самой реальности и реализации. В результатеразрешения некоторым образом собственной ситуации, спомощью этих ответов человек постепенно вырисовываетфигуру того, кем он собирается быть, эффективно
251 SH. p. 381.
215
СТИХОТВОРЕНИЯ
определяя свое бытие, свой способ быть действительночеловеком:
«Именно это этимологически обозначает слово perfacere-perficere. Человек определяет некоторое совершенство. Иименно совершенство человека является в его образеполной формой человеческой реальности. Это та точказрения, основываясь на которой, человек разрешает всеситуации своей жизни, и это то положение, в которомчеловек остается спроектированным самим собой в форменекоторой полноты самого себя, в плане совершенства.
Находиться в полной форме и есть то, что грекиназывали eu prattein, eudaimon, а римляне beatitudo(от beo, преисполнять), то есть, блаженство. Именноконкретную форму, посредством которой человекпроектирует самого себя как животное реальностей, какисточник возможностей, следует называть счастьем,блаженством».252
Человек появляется, согласно этому взгляду, какморальный человек, как «способное к счастью» существо,находящееся в конститутивном поиске счастья, котороеявляется ничем иным как полнотой или совершенством,преследуемыми в каждой ситуации, в силунеобусловленности, с которой она начинается. В этомсмысле, счастье оказывается радикальным благом, так какявляется уже всегда присвоенной возможностью,относительно которой определяются все остальныевозможности. Но эта возможность не обладает в силуэтого уже определенным содержанием. Счастье постепенноопределяется в каждом акте жизни, но, одновременно,являясь соединением реальности и ирреальности в
252 SH. pp.390-391.
216
СТИХОТВОРЕНИЯ
человеке, является идеалом, чем-то проектируемым.«Человек как способный реализоваться является своим
собственным благом, своим счастьем. В планесодержания, эта возможность является ирреальной, нокак возможность, которой человек владеет, она являетсясовершенно реальной. ‹…› Человек является реальностью,которая для того, чтобы быть реально тем, чем онаявляется, противостоит себе самой в форме идеала. Тоесть, человек не является совокупностью двух вещей:реальности и идеала, а напротив: является реальностью,которая не может быть реальной иначе как именноявляясь идеалом. Противоречие есть не между реальным иидеальным, а между чисто реальным и «реальноидеальным». Человек является животным идеалов в силутого и для того, чтобы быть животным реальностей».253
Отметим также, что эта связь дается в конкретной,скоротечной и изменяющейся ситуации, и что содержаниеэтого счастья может познаваться или представлятьсяразличными способами, в зависимости от многочисленныхфакторов. Конститутивное устремление человека ксчастью, рассмотренное таким образом конкретно,состоит в стремлении найти возможный наилучший выходиз каждой ситуации; то есть, в стремлении к«совершенствованию» каждой ситуации. Естественно, чтоесли ситуация является в целом неблагоприятной и всевыходы закрыты, тогда может произойти так, что человекисполняет сам по себе плохой акт самоубийства, subratione boni, и возможно как наилучшее благо, возможноевнутри его конкретной неблагоприятной ситуации»254
253 SH. p.393.254 Cf. J.L.L. Aranguren, Ética, p.154.
217
СТИХОТВОРЕНИЯ
Как разновидность совершенства, счастье такжеявляется непредопределенным, является проблемой, ночеловек обладает им как присвоенным или конститутивновыбранным. От этой возможности возможностей зависит,согласно Субири, характер уже конкретно добрый илиплохой всех остальных возможностей. Они являютсядобрыми или плохими постольку, поскольку появляютсякак позитивные или негативные возможности в планесчастья. И в этом же самом смысле определяетсяпроблема долга. Долг появляется не как одна средимногих других возможностей, но как та возможность,которая должна быть неумолимо присвоена для достижениясчастья. Как говорит Субири: «То, в чем реальностьспособна быть присвоенной, это в характере блага. А то,в чем она должна присваиваться, составляет характердолга».
Поэтому, в то время как человеческое существовсегда уже является связанным со счастьем,относительно возникающих или присваиваемыхвозможностей, он является не привязанным, а обязанным:
«Обязательство есть форма, в которой долг владеетчеловеком. Человек обнаруживает себя обязанным, потомучто все остальные возможности присваиваются им в планесчастья, которое является возможностью всехвозможностей. И эту возможность человек не обязанвзять на себя, а связан с ней. Счастье не являетсяобязанностью; то, чем является долг – это всеостальные возможности в плане счастья. Обязательство –это форма владения возможностями в плане счастья».255
Обусловленность конкретных, множественных
255 SH., p. 415.
218
СТИХОТВОРЕНИЯ
обязанностей зависит, в свою очередь, от того, чторассматривается, счастье или человеческоесовершенство.
Наконец, моральную ответственность человека Субиривидит в том факте, что он должен отвечать наконкретные ситуации посредством возможностей и чтоименно в этих ответах человек постепенно рисует свойсобственный моральный образ. Человеческие действияявляются не определенными (отвечающими на скоротечныеситуации), а определяющими, постепенно устанавливающимисвою индивидуальность. Только со смертью возможностьопределения превращается в нечто определенное:полностью определяется конкретный, позитивный илинегативный, образ его счастья.
Субири, в конце концов, подчеркивает, что этаморальная структура человека наполняется и реализуетсяконкретно в зависимости от общества и культуры, вкоторой каждый человек появляется, потому что отобщества и культуры он получает первоначальную системуценностей (как образ человека или счастья , так иобраз способных к присвоению и присваиваемыхвозможностей: критерии блага и систему обязанностей).И только на этой почве возникает автономное моральноесознание, ответственность и очертания его моральнойиндивидуальности за счет присвоения возможностей какдобродетелей или пороков, всегда в зависимости от егоидеи счастья или совершенства его морального облика.
4.3. Человек, социальная реальностьЧеловеческое существо должно, поэтому, делать
самого себя, осуществляться, выбирая среди техвозможностей, которые ему предлагает ситуация. Такимобразом, приобретается личный облик или
219
СТИХОТВОРЕНИЯ
индивидуальность, которая придает ему уникальныйхарактер, несводимый к простому представителю вида:все человеческие индивиды, в отличие от того, чтопроисходит со всеми остальными животными видами – укоторых вид «наполняет», так сказать, количественноотдельного индивида – качественно отличаются в томсмысле, что обладают собственной и неповторимойидентичностью.
Но это не делает из человека как индивида нечтосамодостаточное, замкнутое на самом себе и толькоакцидентально связанное со всеми другими человеческимисуществами. Напротив, процесс, в силу которого онпостепенно наделяет самого себя личной идентичностьюявляется процессом, который происходит в человеческойситуации, то есть, человек ab initio окружен иопределяется другими человеческими существами. Всамообладание, характеризующее человеческое существо,конститутивно вторгается самообладание, которымобладают остальные люди: человеческая ситуацияявляется ситуацией совместного существования,сосуществования(convivencia).256
Именно в силу его гиперформализованного инеобусловленного характера, который включает заметнуюбедность инстинктами, человеческое существо появляетсяв мире значительно более нуждающимся, чем всеостальные животные виды. И эта нужда может быть
256 Cf. X.Zubiri, «El hombre, realidad social», в Sobre el hombre,Alianza-Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1986, p.223-224. В дальнейшем эта работа будет цитироваться как HRS иномер страницы. В этом же самом тексте Субири говорит: «Сама мояжизнь, мое собственное определение и самообладанием являетсясамообладанием в образе позитивно сосуществующего. То есть,формальную часть моей жизни составляет, в том или ином смысле,жизнь всех остальных. Так что во мне самом в известной степениприсутствуют уже все остальные». (HRS 224).
220
СТИХОТВОРЕНИЯ
преодолена только благодаря присутствию всех остальныхсуществ, которые начинают завершать или определять этунеобусловленность. Когда говорят, что человеческоесущество для того, чтобы реализовать себя, должновыбирать между возможностями, то в первую очередьговорят, что ему предлагаются человеческиреализованные возможности, которые, определяянекоторую первую и частичную завершенность егонеспециализированной открытости, делают жизнеспособнойего жизнь.
Это радикальное условие человеческого существа, всилу которого все остальные существа являютсявключенными в меня, воздействуя и изменяя мою жизнь,но в той форме, что я не сводим ко всем остальным, чтомоя жизнь является моей жизнью, а не жизнью других,Субири называет «соотнесенностью со всемиостальными»(version a los demas). Отсюда возникаетпостановка проблемы «другого»: кем являются остальныеи в какой форме другие воздействуют на мою жизнь иизменяют ее.
4.3.1. Соотнесенность с другимии феномен сосуществования
Исторические ответы очерчивают социальный характерчеловека сопутствующими явлениями: человек живет вполисе, потому что он является естественно социальным;но в чем состоит эта социальная природа и какойструктурой обладает? Общество образуется в результатесогласия свободных воль; но что в человеке делаетвозможным это согласие? и, прежде всего, какчеловеческое существо становится свободным существом испособным приходить к согласию? Прежде всякого
221
СТИХОТВОРЕНИЯ
соглашения уже существует человеческая способность ктому, чтобы жить в обществе, которая не объясняется.Индивиды являются функциями или частямипредварительного социального целого, которое оказываетна них давление; но, учитывая то, что принуждение неявляется тотальным, что же в человеческом существепозволяет обществу оказывать на него давление,придавая ему облик? Потому что одного принуждениянедостаточно: если оказывается давление на животных,то это не производит человеческого общества.Принуждение должно обладать формальным характером,который делает из него человеческое принуждение, длятого, чтобы стало возможным человеческое общество.
Все эти ответы исходят от уже конституированного вкачестве субстантивной реальности человеческогосущества, на которую потом накладывается связь иобщество (в случае социологизма, обществорассматривается как субстантивная реальность, но этометодологическая абстракция). И именно в этом состоитвопрос: социальное должно находиться уже с самогоначала в самой конституции человеческого индивида.Этот приоритет других в очертании индивидуальногобытия является соотнесенностью со всеми остальными:
«Прежде чем существовать с другими, другие ужевторглись в мою жизнь. Это неизбежный и радикальныйфакт. Речь идет не просто о предпочтениях: ребенокобнаруживает, что все остальные вмешиваются в егожизнь…Я принимаю себя в силу утверждения как некоторойконстатации факта, что все мы, люди,. являемсясоотнесенными со всеми остальными, и именно всеостальные люди являются теми, кто в той или другойформе вмешиваются и входят в мою жизнь. Из этого
222
СТИХОТВОРЕНИЯ
необходимо исходить». (HRS, 234).Эта первоначальная соотнесенность человеческого
индивида со всеми остальными вытекает из егоприрожденной потребности, из его явной нужды в помощи,которая может придти только от всех остальных и безкоторой человеческая жизнеспособность индивиданевозможна.257
Но эта помощь, которая в некотором смысле требуетсядля всякого проекта жизнеспособности животного, даетсяв человеческом существе совершенно в своеобразнойформе: все другие не просто находятся,покровительствуя, в ожидании того, когда человексможет оценить себя сам (когда он произведет полное«восстановление» своих инстинктов); а придают очертаниежизни человеческого индивида, то есть, сохраняютприсущую человеку открытость и необусловленность(негативной стороной которой является бедностьинстинктами) посредством закрытости, которая придаетчеловеческий смысл этой неспециализированности:
«На ребенка воздействует все: вещи доставляют емуболь, наслаждение, удовлетворение, беспокойство.… Ноесть некоторые вещи, которые воздействуют на негоглубже, чем другие. Все остальные вещи воздействуют нанего в той форме, что приводят его в некотороесостояние: холода, тепла, благосклонности.…Но ребеноксталкивается с тем, что есть вещи, благодаря которым
257 Говоря другими словами, необходимым «средством» для выживаниялюбого живого существа является, в случае с человеком,человеческое окружение: «По тем же самым причинам, что и остальныеживотные, человек является биологически соотнесенным с биотическичеловеческой средой» (HRS 235). Встреча с другими вытекает изнеотъемлемо присущей человеку необходимости, вынуждающей егоискать других; но таким образом, что само нахождение их зависит оттого, что другие прибегают на помощь и проникают в его собственнуюжизнь.
223
СТИХОТВОРЕНИЯ
он приближается к или избегает вещей, приносящих емуудовольствие или страдание: есть некоторые вещи какпосредники других вещей. Эти же вещи не толькоприближают его или удаляют от других вещей, но в силусосуществования, которое приходит к ребенку от всехостальных, психобиологически придают очертанияребенку, придают очертания его собственной жизни. Онине ограничиваются тем, что вызывают состояния, онинаправляют его шаги. Такова реальная и специфическаяформа, в которой все остальные находятся в реальностиребенка, в его жизни: придавая ей форму. Они являютсядругими как другими некоторым образом. Другие нетолько не аналогичны мне, но реальность прямопротивоположна: остальные оставляют на мне отпечатоктого, чем они являются, вынуждают меня быть подобнымиим». (HRS. 237)
Социальное измерение человека означает, поэтому, вего радикальной сущности, формирующую инкрустациюдругих в жизни ребенка (соотнесенность со всемиостальными) до того, как ребенок приобретет осознаниесамого себя и других. В силу соотнесенности со всемиостальными человеческий индивид остается внутри всегочеловеческого в целом и в ситуации сосуществования, иэто нахождение состоит в связывании, которое приходит кнему от всех остальных относительно его собственнойреализации.
Это неотчуждаемое присутствие всех остальных людейявляется чем-то чрезвычайно конкретным: индивидостается неразрывно связанным с универсумом лиц,вещей, привычек и т.д., которые составляют то, чторазговорная речь обозначает как детскую родину илиродную землю, и что Субири называет жилищем (HRS,
224
СТИХОТВОРЕНИЯ
254-255): земля, страна, собственный культурныйуниверсум и т.д. Связь человека со своим жилищемпроявляется, например, в негативном феномененостальгии, в котором переживается отсутствие всехостальных, отсутствие чего-то из своего жилища, но нетолько как утрата, но как тоска: поэтому ностальгиясопровождается позитивным явлением тоски по чему-то.
4.3.2. Тип реальности «связанности»
Сосуществовать радикально означает бытьсвязанным.258 Но каким типом реальности или сущностиобладает эта связь? Она не обладает, конечно,приписываемой ей Дюркгеймом субстантивностью, потомучто только конкретные индивиды обладают субстантивнойреальностью. Субири объясняет это следующим образом –поначалу не вполне ясным:
«Индивиды являются субстратом всего социального, носамо социальное является просто и чисто некоторымединством связи всех людей как формой реальности. Мояреальность как реальность, является реальностью,которая вызвана всеми остальными людьми какреальность. Именно это придает физический и реальныйхарактер обществу, не придавая ему характерсубстанции. Это воздействие со стороны всех остальныхявляется реальным и физическим способом, привычкой,некоторым hexis…Формальное ядро человеческого обществасоставляет обычай, «энтитативный»( от испанского словаentidad – сущность) обычай моей реальностиотносительно других как реального.» (HRS, 259)
258 «Связанность», согласно Субири, не есть договор или социальноедавление, являющиеся вторичными явлениями; люди могутустанавливать договоры или оказываться под давлением обществаименно потому, что они уже находятся в состоянии «связанности».
225
СТИХОТВОРЕНИЯ
Связь как обычай есть нечто большое чем простойнавык или привычка: речь идет о подлинном внутреннемстроении индивида под действием других однородныхчеловеку факторов (всех остальных), которыесубстантивно воздействует на него».259В силу своейпервоначальной недостаточности, человек соотнесен совсеми остальными, находясь под их воздействием; и этобытие под воздействием, условие sine qua nonчеловеческой жизнеспособности, есть связанность,формой реальности которой является «обычайинаковости»(habitud de alteridad), соотнесенность с другимиэнтитативно присуща самой его форме реальногосущества.
4.3.3. Содержание связанности
Человек, ab initio принявший форму в силувмешательства других в его жизнь, остается связанным,под энтитативным воздействием этого вмешательства в259 Субири использует греческое слово hexis, которое выражает нечисто естетственное измерение человека, но приобретенное, но вформе, которая оказывает на него решительное воздействие и придаетему форму как «вторая природа». Так как прирожденная природаявляется в нем недостаточной, человеческое существо должен обрести«вторую природу» (ethos), наиболее решающей и глубокой чертойкоторой является hexis, которое Субири переводит как обычай(habitud), значительно отличающийся от простых привычек илипериферических навыков. В процитированном тексте, таким образом,он объясняет энтитативный характер обычая «Обычай является непросто способом поведения или манерой вести себя, последниеявляются оперативными навыками, навыками, которые могутпревратиться в привычку. Но есть навыки другого типа; например,когда мы говорим, что двери присуща кривизна. Этот навык неявляется навыком оперативного плана, потому что не состоит в том,чтобы делать вещи определенным образом, но является чем-то, чтопридает форму реальности двери, а не только ее способу двигатьсебя; он придает форму способу ее движения, но как следствиевнутреннего строения, которым обладает материал двери. Чтоявлялось бы необходимым для того, чтобы эта кривизна двери была бысоциальным феноменом? Необходимо было бы, чтобы эта дверь отдаласебе отчет в том, что она имеет эту кривизну в силу воздействиядругих, однородных ей факторов, которые воздействуют на нее в том,что она имеет от субстантивной реальности. Именно это происходитформально в человеческом обществе.» (HRS, 259).
226
СТИХОТВОРЕНИЯ
«обычае инаковости»(habitud de alteridad). Вопростеперь состоит в том, что же он получает вместе с этимобычаем. Здесь Субири различает два уровня:
уровень «человеческого» как такового: человеческоесущество приобретает формы человечески, располагаясь вобласти специфически человеческого.260На этом уровнеиндивид получает конкретный человеческий навык в формементальности или умственной форме, которая определяетвесь способ его жизни:
«Социальный дух ни мыслит, ни рассуждает261; онявляется просто образом умозрительного действия идействия размышления. И поэтому ментальность неявляется актом мышления; она является тем способомразмышления и способом умозрительного постижения,которым обладает каждый человек, и которыйпроизводится именно как способ всех остальных. В этомсостоит формальный момент hexis. Именно действие винтеллектуальном плане образует ментальность.Ментальность – это те способы размышления и понимания,которыми обладает каждый из умов, поскольку ониформально приняты всеми остальными». (HRS, 263)
Ментальность расширяется и наполняется конкретнымсодержанием. Тогда обычай выступает как традиция.Традиция не является первоначально простой передачейвещей (законов, институтов, обрядов…), которые260 Это приобретение формы не должно пониматься как нечто простоданное. Без этого первоначального вмешательства индивид неявляется человечески жизнеспособным; но он мог бы продолжатьсуществовать на внечеловеческом уровне, если бы это вмешательствореализовали бы не человеческие животные. Подумайте, например овсем известным случаях «детей-волков», которые будучи похищеннымиили потерянными, были воспитаны волками. Они выжили, но ихневозможно научить говорить или вести себя как человеческиесущества.261 Здесь Субири критически относится к идее объективного духаГегеля.
227
СТИХОТВОРЕНИЯ
происходят от прошлого. Прежде всего, традицияобладает конститутивным измерением, которое состоит втом, чтобы дать или вручить человечески обусловленноедействие. На основе этого радикального уровняпоявляются продолжающееся измерение (традиция приходитиз прошлого и передается более старыми людьми, чем те,кто принимает ее) и проспективное измерение, котороеуже позволяет на основе всего полученного подходить кновым ситуациям:
«Любая традиция проспективна, не в силу содержаниятрадиции, но в силу самой форме tradere, потому что тот,кому она передается, конститутивно отличен в своихситуациях. Именно сама традиция отвечает в силу своейсобственной реальности на то, что человек просит унее».
Хотя Субири не говорит об этом явно, ментальность итрадиция составляют в единстве сферу культуры.
Уровень опыта других и уровни социальности человека:На основе рассмотрения первоначального вторжения
всех остальных в жизнь ребенка, и не раньше, ставитсяпроблема другого и ее прогрессирующее обнаружение.Последнее можно осуществить тремя шагами.
Во-первых, другие появляются в сфере индивидаформально не как «другие», но как «мои»: онипоявляются как имеющие существенное отношение ко мне имоим нуждам, как «моя мать», «мой отец» и т.п., каксоставляющие части меня. Ребенок экспериментирует надсамим собой в окружении «жизненного мы» и живет,несмотря на интимность, в публичном мире, очерченномэтими другими, которые являются моими. Говоря «я»,ребенок в действительности говорит мы, относя это мы кконкретным персонажам, которые ближайшим образом
228
СТИХОТВОРЕНИЯ
придают форму его жизни.Начиная с опыта себя (и всех других как моих)
происходит постепенное усложнение восприятия других втой форме, что «мое» возвращается к «я»: другиеявляются другими как я (или, лучше сказать, я являюсь какдругие) в однородной манере, в ситуации равенства.
И отсюда он присоединяется к радикальной«инаковости» (alteridad) в той форме, что другойпоявляется как иной, чем я. Другой появляется как свойсобственный, наделенный собственной идентичностью,интимностью, в которую я не могу просто так войти.Этот третий и основной уровень является уровнем, накотором дана индивидуальная полнота реальностидругого. Здесь другой и любой другой является«каждым», внутренне определенным, неповторимым инесводимым к чему-либо другому индивидом: личностныминдивидом. Здесь, в отличие от предыдущего уровня янам дано не как равное любому другому, а как строгоотличное.
Синтезируя сказанное, «инаковость» дается на трехуровнях:
другой как мой;другой как ego, другой как я;другой как другое ego, отличное от моего ego.«Если бы человек был просто животным, которое
ощущает, то он бы обладал чисто биологическим родствомс другими животными, которые вторгаются в его жизнь.Только постольку, поскольку осознается это положение,открывается реальность человеческого, внешняя поотношению ко мне, которая придает вещам более илименее публичный характер в отличие от всего частного,и определяет и изменяет человека через последующие
229
СТИХОТВОРЕНИЯ
шаги: другие как мои составные части, другие какдругие, которые являются ими как я, как другие,которые являются другими, нежели я.
Животное реальностей, открытое всем остальным,разбивается на монады «каждого». В силу этогоположения животного реальностей, человек являетсямонадой, окончательно обращенной ко всем остальным. Иво все остальные структуры вторгается другое в этойтройной форме инаковости (alteridad). Только в светеэтой перспективы можно полноценно осмыслить проблемусосуществования и общества». (HRS, 243-244)
4.3.4. Появление личности на основе социального
Мы видели, в чем состоит социальное измерениечеловека, как на его основе дается опыт других, какконкретно структурируется сосуществование в егоразнообразных измерениях. Речь сейчас идет о том,чтобы рассмотреть, как человеческий индивид приходит кполному личному владению собой, на основе тогосоциального измерения, которое ему предшествует иобосновывает его. Потому что вопрос состоит в том, чтона основе его первоначальной потребности и тотальнойзависимости от человеческого окружения, в котором онвозникает, человек становится неотчуждаемым существом,хозяином самого себя, несводимым к другому или, какговорит Субири, к «каждому».
Неповторимый характер личности состоит в некоторойкачественной внутренней определенности, котораябесспорно, первоначально происходит от всех остальных.Этот явный парадокс объясняется тем, что человеческаяжизнь делается своей (единственной, своей,неотчуждаемой, личной) посредством присвоения жизни всех
230
СТИХОТВОРЕНИЯ
остальных, так как жизни всех остальных позволяют мнесделать мою собственную жизнь, то есть, являются моимивозможностями.
«Инаковость (alteridad) как источник моейсобственной жизни является ничем иным как инымижизнями, жизнями других, в той мере, в какой онипозволяют мне сделать мою собственную жизнь, то есть,поскольку являются моими возможностями».(HRS, 306)
Форма, которую другие отпечатывают на мне, приводитк тому, что их жизни конституируются как возможностимоей собственной жизни.
Помогая мне и проникая в мою жизнь, другие вручаютмне возможности в двух смыслах:
негативном: они являются ограниченными иконкретными (этими, а не иными) возможностями иочерчивают сферу, опираясь на которую и относительнокоторой приобретает позитивный смысл бытие каждого.Моя индивидуальность конкретно обусловлена культурой,семьей и т.д., в которой я родился. Я принадлежу кнекоторому социальному телу. Возможности моейиндивидуальной формы не безграничны, но обусловленымоей включенностью в конкретное социальное тело.
позитивном: хотя и являясь ограниченными, ониреально облегчают мне жизнь, потому что, укореняя изакрывая мою неспециализированную открытость,стабилизируют посредством конкретной системы ответов(привычек, форм жизни, институтов и т.д.) среду моегообитания, и освобождают меня для новых ответов.Ограничивающие возможности открывают для меня высшиевозможности:
«И в этом втором смысле, в смысле освобождения,социальное тело постепенно облегчает позитивным
231
СТИХОТВОРЕНИЯ
образом жизнь каждого существа…Система возможностейвсех остальных людей освобождает возможности каждого,которые таким образом полностью превосходят те,которыми он обладал, если бы не был связан с чем-тобольшим, чем с его индивидуальными возможностями».(HRS, 309)
Социальная реальность и общество, в противовестому, что обычно думают, не только ограничиваетиндивида, но также и, прежде всего, облегчаетпоявление новых возможностей:
«В своем измерении проявляющего возможности,общество постепенно устанавливает ряд приобретений,которые могут передаваться другим в форме обычаев,способов жизни и мышления. В качестве социального телачеловек оказывается включенным в общество, и то, чемобладает человек в этом включении, которое являетсяприсвоением возможностей всех остальных жизней каквозможностей своей собственной жизни, – это то, чточеловек может в этом теле значительно больше того, чтоон мог бы иметь только благодаря его телу…Человек какживотное реальностей является чем-то большим, потомучто он находится в социальном теле, энтитативноопределенной системе возможностей, которые делают егоустойчивым и освобождают для высших планов». (HRS,310)
Социальное тело является системой возможностей длятого, чтобы быть самим собой со всеми остальными исреди всех остальных.
Нам, конечно, могут возразить, что социальнаясистема облегчает появление возможностей, но так же иограничивает их. И не только потому что возможностибыли бы ограничивающими (это является неизбежным), но
232
СТИХОТВОРЕНИЯ
также потому что социальное навязывается частозначительно сильнее терпимого. Верно, что социальноенавязывается. То, что это навязывание может идтизначительно больше допустимого – это этический вопрос(социальной этики). Но для того, чтобы иметьвозможность продолжать исследование этого вопросадальше, необходимо указать прежде на структурнопринуждающий характер социального.
4.3.5. Принуждающий характер всего социального
Принуждающий характер социального не состоит вспособности тянуть за собой, как если бы социальноебыло бы субстантивной реальностью (в стиле Дюркгеймаили Гегеля). Когда конкретное общество (со своимиинститутами, обычаями, управляющими и т.п.)навязывается, вовлекая человека, то существуютсоциальные силы, которые навязываются значительносильнее допустимого. Но это вовлечение человека недается неизбежным образом, потому что всегда остаетсявозможность сказать, что он не подчинится этомудавлению, будь то героическим образом или внутренне.
Структурно принуждающий характер обществаопределяется не его конкретными социальнымиустановлениями, а самой социальной реальностью. Тоесть, тем, что человек является социальным. И дажетогда, когда индивид сопротивляется конкретнымсоциальным установлениям (например, когда онотвергает, или восстает или реформирует общество), оннеизбежно действует в социальной форме, согласноконкретному способу «инаковости».
233
СТИХОТВОРЕНИЯ
А так как социальное дано как система возможностей,то оказывается, что многие из этих возможностей ужеприняты и присвоены другими; так что они предлагаютсямне не как чистые возможности, а как силы, которыедоминируют и навязываются в качестве волевых исходныхактов в моей собственной жизни.262Сила навязываниявытекает в основном не из того, что действия этих силбыли бы неизбежными, а из того, что человек не можетне вести себя так, чтобы занять определенную позициюпо отношению к ним (будь то противостояние им илипродолжение их).
Сила или доминирующий характер, которым обладаетчеловеческое социальное действие (ментальность итрадиция) выражается в безличном «se».( частица,выражающая безличную форму глагола в испанском языке-прим. перев.). Власть социальной реальности безлична(это возможности, осуществленные как обычаи, привычки,институты и т.п.). Но это безличное «se» не являетсяпросто признаком неточности или неподлинности, каксчитает Хайдеггер. В реальности человеческое существоопределяет свой личный характер (подлинный илинеподлинный) в связи с этим неизбежным «se».Неподлинный способ существования состоит не в том,чтобы делать вещи так, как это делают все остальные, аподлинность не состоит в том, чтобы делать их вманере, присущей исключительно мне. Подлинностьсостоит в том, чтобы делать их по личным основаниям(хотя бы так делали и все другие), а неподлинность втом, чтобы делать их просто потому, что так делается.
«Человек начинает обладать собственным262 Исходные волевые акты являются направлениями, которые приходятко мне из вне и приглашают меня (отсюда инициирующий характер)следовать в этом направлении.
234
СТИХОТВОРЕНИЯ
существованием, когда то, что он делает, он делает непотому, что другие делают это, а по своим собственнымвнутренним причинам. Именно здесь формально дается егособственное качество».(HRS, 320)263
Но помимо действия, имеются все остальные люди. И вэтом измерении также проявляется принуждающий характерсоциальной реальности.
В сообществе всех остальных со мной (жизненноесообщество, мои родители, мои братья и т.д.)социальное навязывается как своеобразная формаприручения со стороны всех остальных; приручение,которое значительно увеличивает жизнеспособностьчеловеческой жизни и ориентирует в планеперсонализации: это образование. Несомненно, чтообразование является социальным установлением, котороевластвует над индивидом.
«Человек, как животное, приручаемо всемиостальными; но он является единственным домашнимживотным, жизнеспособность которого гигантскиувеличилась в результате приручения. Все остальныедомашние животные обладают, как правило, меньшейжизнеспособностью, чем дикие животные. И увеличениевозможностей человека обязано собой не толькобиологическим причинам, но тем, что для него то, чтоявляется для животных чистым приручением, приобретаетспециальный характер. Инаковость, в которой люди263 Это указывает на то, что как оппозиционное поведение илисистематическое противостояние, так и систематическое поглощениепротивоположным образом проявляют нечто сходное: некотороенезрелое, недостаточно развитое я, которое совершает то, что оносовершает не по личным причинам (поступили бы так или не поступилибы все остальные ), но только потому, что все остальные такпоступают.
© Хосе М. Вегас, 2001
235
СТИХОТВОРЕНИЯ
живут, является инаковостью в форме реальности. Этимувеличением возможностей одомашнивания какконфигурации реальности является образование. Животныхневозможно обучать, их можно только одомашнить.Человек является единственным существом, котороедолжно быть приручено для увеличения его возможностей,и это увеличение возможностей в процессе прирученияявляется образованием». (HRS, 321.)
Приручение животного состоит в адаптации животногок человеческой среде. Из среды своего обитания человекделает собственную среду животного, соответственнонуждам человека и таким способом, что животноеделается, таким образом, зависимым от человека.Образование же индивида является educere, что означаетзаставлять выходить и возвышать. Благодаря образованиюиндивид извлекает из себя свои собственные возможностии восходит к индивидуальной автономии и независимости.Поэтому, говорить об одомашнивании, как делает Субири,не очень правильно – так как образование и приручениеобладают противоположными направлениями – и этовыражение имеет, скорее, метафорическую ценность длятого, чтобы сделать более очевидным принудительный иодновременно увеличивающий возможности характерсоциального. Следует скорее говорить о социализации,чем о приручении.
В функциональной общности (я среди других), вкоторой господствует организация, индивид вынуждензаниматься определенным делом, в силу которого индивидиграет определенную роль в обществе, в котором живет.
Наконец, в персональной общности, власть всехостальных личностей, с которыми я сосуществую,выражается в согласии.
236
СТИХОТВОРЕНИЯ
В заключение всего сказанного:«Все это образует жизнь каждого. Жизнь каждого
среди всех остальных не является с необходимостьюколебанием между жизнью ради всех остальных или жизньюради самого себя. Такая постановка вопроса вторична,она является вопросом морали, потому что в своейоснове чем больше человек живет для себя самого, тембольше он живет для всех остальных и соответственно изкожи лезть для других – это способ жить для себя.«Другой» как «другой» уже находится в моем способедействовать и не состоит в простом арифметическоммножестве; эго как эго разбито на монады в этой формебыть каждым. Для себя или для других – этовторостепенный вопрос; верным является то, что янеизбежно сосуществую со всеми остальными во мне. Это«во» является конститутивно тем, что составляетфундаментальную форму, посредством которой каждыйживет среди всех остальных. Для того, чтобы любитьвсех остальных, я должен их любить во мне самом, хотяи не для самого себя.. Это «во» выражает единство всехмонад универсума.
Лейбниц думал, что каждая монада отражает со своейточки зрения все остальные монады и чтомонадологический характер состоит в закрытости. Но ясчитаю, что монадологический характер являетсясовершенно противоположным: единственная возможностьтого, чтобы все остальные существовали для меня,состоит в отношении инаковости, и то, что во мне естьот монады – это характер инаковости как инаковости,который как таковой является силой, облегчающейпроявление возможностей моей собственной реальности.Когда я принимаю или отвергаю эту силу, делая свою
237
СТИХОТВОРЕНИЯ
собственную жизнь и развиваясь, я превращаюсь вдругого, ожидая всех остальных, и сила и возможность,которые исходят из моей жизни неизбежно отражаются насоциальном теле, в результате чего оно постепенноконститутивно изменяется в силу того, что делаеткаждый человек. Потому что социальное тело не обладаетсубстантивностью, его изменения носят особый характер:все люди одного общества вместе образуют социальноетело, но образуют его на основе всех своих перемен входе истории». (HRS, 323).
5. Человек и БогПроблема Бога ставится в связи с человеком как
животным реальности. Но это не означает, что Субириредуцирует вопрос о Боге к субъективным нуждамчеловека или к моральному делу. Он исходит из человекакак своеобразной формы реальности.
Анализ формы реальности, которую представляет собойчеловек, открывает в ней religacion. (онтологическая связьчеловека с Богом). Потому что человек не являетсявещью подобно всем остальным вещам. Будучи строголичностной реальностью, противостоящей всемуостальному миру, действия человека не исчерпываются втом, чем они являются – всегда и только действиями надопределенными вещами, но человек постепенно занимаетнекоторую позицию относительно последнего основания. Вэтом смысле, мы можем говорить, что его действия,хочет он того или нет, являются актуализациейабсолютного характера человеческой реальности. Этопоследнее основание или абсолютный характерчеловеческой реальности не является просто чем-то, вчем человек находится, но чем-то, в чем человек должен
238
СТИХОТВОРЕНИЯ
находиться для того, чтобы иметь возможность быть тем,что он есть в каждом из его актов. В силу этогопоследнее основание обладает обосновывающимхарактером. Этот обосновывающий характер делает так,чтобы человек был реальностью, связанной с последнимоснованием. То, что связывает человека есть последнееоснование или божественность.
Чем же является последнее основание илибожественность, которая выявляет человека вreligacion? Второй шаг в движении к Богу состоит втом, чтобы увидеть, что характер последнего основанияили божественности основывается на сущностносуществующей и отличной от мира реальности, отличной втом смысле, что она божественно является реальнымфундаментом мира. Божественность отсылает нас кбожественной реальности или первопричине мира. Этотрансцендентно абсолютная реальность, котораяобосновывает мир – материальную реальность и человека– как реальность.
Но мы пока знаем божественную реальность только вплане ее функции быть фундаментом мира. Третий шагбудет состоять в том, чтобы показать, что божественнаяреальность является личностной и свободнойреальностью. Так как она является абсолютно абсолютнойреальностью она принадлежит только самой себе; или,что означает то же самое, является личностью. Отсюдаследует, что быть фундаментом мира она вынуждена невнутренней необходимостью, а по своему дару. Этутрансцендентную личностную свободную причину мира мыназываем Богом.
Мы уже знаем о трех ступенях, которые Субириразличает в разумном открытии Бога и которые
239
СТИХОТВОРЕНИЯ
отражаются в трех выражениях: божественность,божественная реальность, Бог. Каждая последующаяступень опирается на предыдущую и ведет к последующей,исходя из себя самой. В первом шаге, которые являетсяне доказательным, а показательным, вписаны всерассуждения двух последующих шагов. Поэтомурассуждение не было бы для Субири первым путеминтеллектуального восхождения к Богу.
Как же интеллектуально возможен атеизм? Человекполучает только понятия о вещах.. А вещи не дают намрепрезентативных понятий о Боге, хотя они позволяютнам выбрать различные пути, благодаря которым мырасполагаем себя относительно Него. Нужно различатьвозможные и невозможные пути. Он называет возможнымите пути, которые , придя к своему завершению, приводятк реальности Бога. Невозможными являются те пути, покоторым мы никогда не пришли бы к обнаружениюреальности Бога.
Таким образом, при умозрительном постиженииреальности Бога есть различные возможности познанияБога. Разнообразие религий вписано внутри этихвозможностей. Одна из них состояла бы в том, что Богличностно дарит себя миру. Именно такова основахристианства. Личный Бог, который появляется вчеловеке как абсолютно абсолютная реальность, так чтобез Бога человек был бы лишен реальности, нам данличностно. Согласно Субири, христианство синтезируетпутем высшей интеграции все самое позитивное, чтоимеется во всех остальных религиях, укоренившись вабсолютной реальности Христа, в котором человек –открытая сущность – входит в Бога.
240
СТИХОТВОРЕНИЯ
SUMMARY
The article dedicates to the great attempt ofHavier Zubiri (1898-1983) to achieve «a newphilosophical synthesis on the peak of contemporaryepoch». The conception of «Radical realism» of Zubirimakes its author one of central figures in the historyof European mentality, in spite of his important rolein this process is not yet generally acknowledged.
241
СТИХОТВОРЕНИЯ
III . ПЕРЕВОДЫ. КОММЕНТАРИИ. ПУБЛИКАЦИИ
ФРАНСИСКО ДЕ КЕВЕДО
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ДЛЯ СМЕРТИ
Не по душе – и не хочу владеть,Не страшно потерять то, чем владею.Шут иль король? Что мне с судьбой моеюДано, – то было, есть и будет впредь.
Меня не завлечет желаний сеть,В час смерти – улыбнусь иль побледнею?Нить спряли Парки. Что дрожать над нею?!Ведь все равно мне должно умереть.
Одно желание: не знать желаний.Чин, ордена и злато с серебром–Все смерть возьмет, не протянув и длани.
Души богатство чту своим добром;
242
СТИХОТВОРЕНИЯ
О ДЕЛИКАТНОСТИ,С КОТОРОЙ ПРИХОДИТ СМЕРТЬПротяжным гулом, не известным прежде,Наполнил сердце день последний мой;И час предсмертный, черный, ледяной,Тяжелым ужасом осел на вежды.
Но что с того, что траурны одеждыНесущей мир и сладостный покой?!Смерть, осеняющая милостивой тьмой,Должна вселять не трепет, а надежду.
О, страх слепой, она лишит цепейНаш дух, в ничтожную тщету влюбленный,В невежестве проведший столько дней!
Так пусть придет, меня не удрученнымНайдя, но радостно открытым ей:Да смолкнет жизнь моя, но обновленной.
244
СТИХОТВОРЕНИЯ
УЛОВКАМ ХИТРОУМНЫМ НЕСТЬ ЧИСЛА,НО ВЕДЬ И СМЕРТЬ ИСКУСНА
Подруга-Смерть, ты убиваешь времяСо мной, а не меня, и понапрасну;Отправься лучше к тем очам прекраснымВ которых и любовь моя, и бремя.
А, впрочем, если б знала ты, что с темиСлучается, кто к ним стремитсявластно...К ним даже Смерти подступать опасно:Вдруг станешь ты – неведомое племя?
Я в пламени рожденная горсть праха,Которая притулилась у края,Пока любви не отпылает плаха.
О, Смерть, вернись. Моя мольбанемаяДа будет впредь избавлена от страха:Несправедливо отвергать, не зная.
246
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПСАЛОМ XIIIКогда бы знал цветущий Карфаген,Что миг один – и он зола и тлен,И больше не поднимется вовеки!Когда б страшилась Троя перемен,Предчувствуя паденье грозных стен,Едва нахлынут яростные греки!Как потешался ИерусалимНад предсказаньями грядущих бед,И до последней горестной минутыВ несокрушимость собственных победНадменно верил венценосный Рим,А вместе с ним все цезари и бруты!Давно ли наводил Сагунто страх?А нынче в поле ветер кружит прах –Не сыщешь человеческих жилищСреди пустых холодных пепелищ.Уснули в хрупкой урне Крез и Красс.И Дарий, успокоившись, угас.Спит Александр – ни славы, ни хулы –И только кости царские белы.Взойдет ли солнце, встанет ли луна –Одна судьба живущим суждена.Но, злого рока ведая коварство,
248
СТИХОТВОРЕНИЯ
Я все о том же речь свою веду:Бок о бок с нами погибают царства,А наши жизни точно дни в году,Так много их у каждого в запасе –Жизнь в долгом сне и жизнь в коротком часе,За каждый миг земного бытияСвою судьбу благославляю я.Хотя живым с натяжкой назван тот,Кто рад бы жить, да знает, что умрет.
(Пер. Н. Ванханен)
249
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПСАЛОМ XVПусть бисер гордо попирает скрягаИ золоту свое пристрастие дарит,Пусть алчно над добром трясется скаред,Всю жизнь страшась ошибочногошага.
Пускай его томит к наживе тяга,Пусть свой венец он в платинуоправит,Пусть скупостью житье себе отравитИсчахший над богатствами бедняга.
Пускай ваятель не оставит втунеМечты с Девкалионом побороться,Кисть воскресит умерших накануне...
А мне в лачуге кончить дни придется –Пускай не заглянуть туда Фортуне,Зато и Смерть не больно
250
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПСАЛОМ XXVIО, сколько дней мной прожито бездарно,Ночей бездонных утекло бесследно...И после стольких сетований тщетных,Предательств стольких, вкрадчиво-коварных,
Возвратов на круги своя угарных,Влюбленностей, погасших безответно,О будущем раздумий беспросветных,Прозрений стольких, горьких и кошмарных,
Окинув полустершиеся датыУсталым взором, бытия на склоне,Я обнаружил лишь одни утраты.
На многоцветном мирозданья лонеПочудилось дыхание расплаты:Неутешительный итог пустой ладони.
(Пер. Вс. Багно)
252
В. Е. Багно
«И ПРАХОМ СТАНУ, ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЕННЫМ...»
Судьба гениального испанского писателя эпохибарокко Франсиско де Кеведо (1580-1645) напоминаетсудьбу Пушкина, Чаадаева и Салтыкова-Щедрина вместевзятых. Острый язык, нестандартный склад ума инеравнодушное сердце привели к тому, чтосоотечественники и современники обвиняли его ваморализме, издевательстве над святынями, презрении кродине, сочли его «мастером заблуждений, докторомбесстыдства, лиценциатом шутовства, бакалавромгнусностей, профессором пороков и протодьяволом средичеловеков», подвергали его остракизму, травили исажали в тюрьму. При этом нелишне заметить, что слава,которой он пользовался за свой острый и злой язык, по-видимому, тревожила его, однако не столько пугала,сколько удручала односторонним, а, значит, ложнымпредставлением, которое создавала о его творческом ичеловеческом облике. Например, в 1612 году, посылаяТомасу Тамайо де Варгасу свое первоенеостоицистическое произведение, Кеведо писал: «Я,ветреный и ничтожный, затрагиваю здесь серьезнейшиетемы, и меня не может не беспокоить то обстоятельство,что из-за меня сами они оказываются под ударом, и чтов отношении к ним может сказаться моя плохаярепутация.»1
Нельзя сводить к голой и близорукой (несмотря
11 Quevedo F. de. Epistolario completo. Ed. De L. AstranaMarin. Madrid, 1946. P. 15.
«И СТАНУ ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЁННЫМ…»
на, казалось бы, точный прогноз грядущего упадкаИспании) политике изумительный псалом XVII, «Сонет, вкотором говорится, что все вокруг напоминает осмерти»:
Я видел стены родины моей:Когда-то неприступныетвердыни,Они обрушились и пали ныне,Устав от смены быстротечныхдней.
Я видел в поле: солнце пьетручей,Освобожденный им от зимнейстыни,Меж тем как стадо среди гор,в теснине,Напрасно ищет солнечныхлучей.
254
«И СТАНУ ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЁННЫМ…»В свой дом вошел я: тенью
обветшалойМинувшего мое жилище стало;И шпага, отслужив, сдалась в войне
Со старостью; и посох мойпогнулся;И все, чего бы взгляд мой никоснулся,О смерти властно говориломне.
(Пер. А. Косс)
В сущности, этой же теме – трагизма человеческогосуществования – посвящена вся философская лирикаКеведо, если согласиться с тем, что поэт ставит знакравенства между собой и родиной, не отделяет себя отнее, в то время как Испания пыталась отделить его отсебя.
Воспользовавшись замечательной фразой Мигеля деУнамуно: «У меня болит Испания», можно перефразироватьее, при этом выйдя, максимально обострив разговор, иззадаваемого ею русла во встречное: «У меня болитКеведо», – должна была бы сказать Испания. Так же, какона должна была бы сказать: «У меня болит Гойя» и «Уменя болит Лорка». Так же, как и Россия могла бысказать: «У меня Пушкин»; «У меня болит Блок»; «У меняболит Цветаева».
Уникален, даже на фоне испанской литературы,бережно хранящей и развивающей традиции Сенеки, своеговеликого сына, уроженца Кордовы, неостоицистическийпессимизм Кеведо, бескомпромиссный и всеобъемлющий, но
255
«И СТАНУ ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЁННЫМ…»
при этом равноудаленный как от цинизма, так и ототчаяния:
И тут меня сравненьеповелоПо грани упования истраха:Когда умру – я станугорсткой праха,Пока живу – я хрупкоестекло.
(Пер. Д. Шнеерсона)
Философская лирика Кеведо удивительна помногообразию оттенков в передаче того мужественногоосознания беспощадности судьбы и обреченностичеловека, унаследованного испанским писателем у стольлюбимых им Сенеки и Эпиктета, но также усвоенного изне менее ценимой им «Книги Иова»:
Вчера, сегодня, завтра...Та триада,Что из пеленок саван мнесметалаВ тягучей повседневностираспада.
(Пер. А. Гелескула)
Когда читаешь философскую и любовную лирику Кеведо,не знаешь, чему поражаться больше: многообразию(языковом богатству и поэтической фантазии) воднообразии почти маниакальной небрежности темебренности бытия и иллюзорности счастья, илиоднообразию (высокой преданности прекрасным мгновениям
256
«И СТАНУ ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЁННЫМ…»
быстротечной жизни) в многообразии оттенков одних итех же, казалось бы, горьких и безотрадных сетований ипереживаний.
Своеобразие философской лирики Кеведо состоит,согласно одному из лучших знатоков его творчества,Хосе Мануэлю Блекуа, в «тембре его голоса,неподдельном и искреннем в своем трагизме на пределевозможного, ибо только великие поэты способны наделитьнеповторимой интонацией идеи, хоженые -перехоженые сантичности и укорененные в христианскую аскетику.2
Тоска, горечь и боль Кеведо – экзистенциальны, втом числе тогда, когда они выступают в обрамлениибессмертной петраркистской риторики в любовныхсонетах, посвященных Лиси, Флоральбе или Аминте,3
многие из которых по праву входят в сокровищницуиспанской или даже мировой поэзии, как, например,сонет «Любовь неизменна за чертой смерти» – впоразительном переводе Анатолия Гелескула:
22 Blecua J.M. Introducción // Quevedo F. de. Poesíaoriginal completa. Barcelona, 1990. P. XIII.
33 Подробнее см.: Alonso D. El desgarrón afectivo en lapoesía de Quevedo // Historia y crítica de laliteratura española. Vol. 3. Siglos de Oro: Barocco.Barcelona, 1983. P. 599.
© В.Е. Багно, 2001
257
«И СТАНУ ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЁННЫМ…»
Последний мрак, прозреньезнаменуя,Под веками сомкнется смертноймглою,Пробьет мой час и, встреченныйхвалою,Отпустит душу, пленницуземную.
Но и черту последнюю минуя,Здесь отпылав, туда возьмубылое,И прежний жар, не тронутыйзолою,Преодолеет реку ледяную.
И та душа, что Бог обрекневоле,Та кровь, что полыхала вкаждой вене,Тот разум, что железом жегкаленым,
Утратят жизнь, но не утратятболи,Покинут мир, но не найдутзабвенья,И прахом стану – прахом, новлюбленным.
В отличие от любви Сан Хуана де ла Крус,гениального поэта-мистика, поэта-однолюба, любовь
258
«И СТАНУ ПРАХОМ, НО ВЛЮБЛЁННЫМ…»
Кеведо была многоцветна. Менее всего было в ней любвик его ветреным современницам. А более всего, наряду слюбовью-страданием, любовью-стыдом, любовью-ненавистьюк отчизне, в ней было неосознаваемой и неформулируемойлюбви к родному языку. Из всех – единственнойвзаимной.
SUMMARY
This introduction to several new Russiantranslations of poems of Francisco de Quevedo(1580-1645) explains philosophical motives of hispoetry.
ПРИМЕЧАНИЯ
259
ФРАНСИСКО СУАРЕС
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
ВВЕДЕНИЕ264
1. Чтобы определить предмет этой науки, необходимообозначить то, что сказано о других физических науках,и последовательно продолжить в соответствии с этим.Действительно, мы говорим, что разделение физическихнаук нужно проводить, следуя делению природных сущих(entis naturalis),265 которое заключается в их видах(species), в видах, повторяю, которые достаточноабстрактны, чтобы учреждать различные науки. Такженужно сказать, что физике принадлежит познание всех
264 Перевод фрагмента «Введения» («Prooemium»),включающего 18 из 35 пунктов, выполнен Д.В. Шмонинымпо изданию: Suarez F. Commentaria una cumquaestionibus in libros Aristotelis De Anima: En 3vols. Vol. 1. Madrid, 1978. В качестве комментариев кпереводу автор предлагает следующую ниже статью:«Наука о душе (Метафизика познания ФрансискоСуареса)». В настоящих концевых примечаниях делаютсялишь самые необходимые и краткие ссылки, в частности,касающиеся малоизвестных имен, которые упоминаютсяСуаресом.
265 В русском издании «О душе» Аристотеля (пер.П.С. Попова, сверенный М.И. Иткиным. – Аристотель. Одуше // Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1976-1983.Т. 1) используется выражение «естественное сущее».
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
чувственных субстанций, являющихся субъектамиколичественности и изменчивости. Так, средичувственных субстанций существуют некоторыенеодушевленные (inanimes), другие – имеющие душу, однивозникшие (generabiles), другие – нет.
Обо всех этих субстанциях должно говориться вфизике как о ее собственном предмете; зато об ихчастях, основаниях, акциденциях и изменениях как отом, что затрагивается для наилучшего познания еепредмета.
2. В ходе развития (in processu) физических наукуже изучено природное бытие как таковое, так жерассмотрено в книгах «О небе» бытие невозникшее (enteingenerabile); наконец, обсуждено возникшее бытие,наука о котором включает познание созданных сущих, неимеющих души. Остается закончить весь цикл физикитрактатом о природных сущих, обладающих жизнью. Таковозавершение этой науки. Ее предметом будет, такимобразом, живое (vivens) или природное одушевленноесущее (ens naturale animatum). Таким было мнениеСимпликия и Филопона, не требующее доказательства.Достаточно лишь его присоединить к тому, чтопредставлено выше.
3. К этому необходимо добавить, что одушевленноесущее сохраняет такое же отношение к этой науке, какоеприродное сущее имеет к науке физике, а телонесотворенное к книгам «О небе» и «Об уничтожении», хотятак же как и в упомянутых науках рассматриваютсяпретерпевания (passiones) предмета, имеющего душу; икак там трактуется о частях, и основаниях, и томуподобном, в отношении к их основополагающим предметам,так же и в этой науке. Таков предмет этой науки.
261
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
4. Для того, чтобы понять направление, которомуследует Аристотель, нужно принять во внимание 1-езамечание, что Аристотелем в книгах «Метерологики»выполнен трактат «О смешениях» («De Mixtis»), которыйначинает трактовать в этой книге о живых сущих; на этуже тему следует разговор в книгах, названных «Малымифизическими сочинениями» («Parva Naturalia») и в «Овозникновении животных», «О частях животных», «Историиживотных», и в 50 сочинениях, которые, согласноПлинию, книга 8, глава 16, написаны о животных; о нихобо всех составляется общая наука о живых существах,одна из частей которой есть эти книги «О душе», адругая – книги «Малых физических сочинений», и т.д. Вгреческих списках все эти книги располагаются вместе,и это дает понять, что все они объединяются в однойединой науке, как замечает Нифо266 в прологе и в 6книге «Метафизики», рассуждение 3, вывод 4. Так,невозможно вообразить себе, чтобы различны были наукао части, сколь бы самостоятельной она ни была, и наукао целом; такое необычно, и никогда не встречалось внауках просто потому, что невозможно. Целое непознают, не познав его частей; таким образом,познавать части – значить начать познание целого.Поэтому сказано, что предмет физики есть природноебытие, и что познание оснований природного бытия естьпознание самого природного бытия.
5. Из сказанного вытекает 2-е [замечание, состоящеев том], что данные книги «О душе» не учреждают сами посебе некую науку, но начинают науку о живых сущих.Ясно, что живое сущее есть предмет познания,266 Niphus, Augustinus или Аугусто Нифо, один изпредставителей Падуанской школы (XV-XVI вв.).
262
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
содержащийся внутри общего предмета физики. Тем самым,должна быть другая наука, которая берет его (живоесущее. – Д.Ш.) как главный предмет; эта наука должнатрактовать о душе, она является единой наукой об обоихпредметах, ее предмет есть живое сущее и душа какпреимущественный предмет.
6. 3-е замечание [состоит] в том, что одно делоговорить о науке в ее целостности, и другое – онекоторой ее части, или о книгах, в которых Аристотельначинает упомянутую науку, и, хотя предмет ее един,может браться часть его, которая была бы частичнымпредметом, как и следует в «Физике»; в ней предметвсей науки есть природа. Но если мы рассмотримизолированно первую книгу, ее предмет есть основаниеприродного сущего, предмет второй книги – природа. Тоже происходит в нашем случае, когда полагается всянаука сама по себе, ее предмет – одушевленное тело, ноесли принимается во внимание замысел Аристотеля, онатрактует о формальном принципе одушевленного сущего,то есть о душе.
Доказательство этого находится в словах самогоАристотеля. Действительно, он говорит в начале первойкниги «О душе»: «Было бы правильно отвестиисследованию о душе одно из первых мест». И в начале«О чувстве и чувственном»: «Что касается души, то онаопределяется в первую очередь тем, что она есть душасама по себе».267 И со всем основанием продолжает такжеАристотель, согласовывая метод, который предлагает в«Физике», по которому следует в науках от принципов ксоставным частям. Поэтому, здесь он определяет впервую очередь душу, затем дает ее разделение, потом267 Aristoteles. De sensu et sensibili. 436a.
263
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
ее свойства; о теле и об устройстве живого существа,однако, он нигде не говорит, включая место в книге 3«Физики», 54, где ему представляется случайрассмотреть орган движения, это он оставляет для книгиОб общем движении животных, что отмечают Филопон, Св.Фома и Комментатор. ‹...›
7. Сообразно этому объяснению, во-первых, могутсовмещаться различные мнения, которые существуют наэтот счет. Действительно, некоторые говорят, чтопредмет этой науки есть одушевленное тело (corpusanimatum). Так рассуждают Явелий268 в 1 вопросе,Иандун269 в 3 вопросе. Они принимают во вниманиепредмет всей науки, равно как и Венето270, которыйподдерживает мнение, что общий предмет, о которомтрактует [эта наука], – одушевленное тело, но частныйи формальный ее предмет – душа. Другие утверждают, чтопредмет есть душа, как св. Фома в книге 3, текст 25, ив «О чувстве и чувственном», в начале; Альберт Великий,в трактате 1, главе 1, и в других местах, говорятименно об этих книгах, а не о науке во всей еецелостности.
8. Во-вторых, выводится связь, которую сохраняетэта часть со всей остальной физикой. Так, если мыговорим обо всей физике, то она, как наука о живыхсуществах, будет четвертой. В самом деле, ейпредшествуют три науки, представленные здесь, пооснованиям, разобранным ранее. Но, сравнивая междусобой части о живых сущих, отметим, что эта часть одуше есть первая, потому что она доставляет познание268 Iavelli (Chrysostomus Iavellus, ум. ок. 1538).269 Iandunus (Ioannes de Ianduno, ум. ок. 1328).270 Venetus (Nicoletti di Udine, Paulo, ум. 1428).
264
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
принципа живых существ, которым является душа. Так,Аммоний, Теофраст, св. Фома, «О чувстве и чувственном»,текст 1, Темистий271, «О душе», 1, глава 1, Авиценна,«Физика», 1, во введении, Альберт, в комментарии на этоместо и в «Сумме человека» («Summa ab homine»); илидругие, думают, что должен следовать трактат «Орастениях и животных» («De plantis et animalibus»), дляследования нашего познания от вещей составных к ихчастям. Так считают Александр, Аверроэс, Нифо, но ониошибаются, поскольку во всем познании выделяется то,что следует от частей к познанию целого; итак, таковопознание, которое обнаруживается в этой науке. И этометод, которому учит Аристотель в книге 1 «Физики»272 ито же самое далее, в главе 3, текст 55273; в книге11 «Оживотных» говорится: «Будем изучать его, – то естьодушевленное сущее, – где будем трактовать о функцияхи действиях души или тела.»274
Другие полагают, что этим книгам предшествуют книги«О частях животных», поскольку они выражают строениетела, которое подводит к определению души. Это мнениеимеет свою вероятность, и такой порядок не был быплох; однако предпочтительно то, что мы представили,уже привычно определять части через их взаимосвязь, тоесть одну через другую, и наоборот. Так, одна зависитв ее познании от другой, и наоборот, как материя отформы и последняя от первой. Так, познание душизависит от определенного познания органического тела,а органическое тело не может познаваться без души.271 Themistius (ок. 320-390)272 Аристотель. Физика. 184а 10-16.273 Аристотель. Указ. соч. 433в.274 Aristoteles. De animalibus. 641a.
265
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
Поэтому лучше всего, чтобы первым шло познание души,как более превосходное (principalior), также посколькуоб определенном теле может иметься некоторое познание,как говорилось выше и будет сказано ниже; более того,все, что касается познания чтойности (quidditas) души,не нуждается в точном познании органов, достаточно[познания] лишь в некоторой степени.
Потому эта часть есть первая в данной науке; и хотядля Аристотеля она не является первоначальной(ultima), для нас она именно такова, поскольку в неймы трактуем о познании души в ее сущности и освойствах, которые из нее следуют. И благодаря этомумы почти достигнем познания всего живого существа, сдобавлением того, что мы могли бы еще сказать оматерии и ее организации (dispositio). Поэтому нестанем задерживаться далее на физике, поспешив,насколько возможно, начать метафизику.
9. Помимо прочего следует заметить, что, хотя этанаука объясняется как единая, [ее понимают] не какпоследний вид, а как подчиненный (subalternus) род, вкоторый включаются три науки, различные по виду: однао живых и растущих, другая о чувствующих, третья очеловеке. Эти три предмета в действительности различныкак познаваемые объекты, в соответствии со степеньюабстракции, необходимой для науки, как было сказано вдругом месте. Поэтому, хотя мы трактуем здесь о душе вобщем виде, однако, в ходе рассуждения говорим о трехклассах души, из чего начинается в этих книгахтройственная (triplex) наука, которая, в целяхкраткости, не была разделена Аристотелем, хотя ондополнил различные части разделами этих наук.Действительно, среди его трудов обнаруживается другое
266
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
сочинение, включающее [учение] о растениях, хотяАлександр говорит в [трактате] «О чувстве ичувственном», глава «О запахах», что это сочинениеТеофраста. Также Аристотель написал много трактатов оживотных, как уже было сказано; напротив, о человекене сохранилась ни одна специальная работа; возможно,однако, она была написана или пропущена по инымпричинам. Альберт Великий был тем, кто написал [такоесочинение].
10. Принадлежит ли наука о живых существах кфизике. – На этот счет имеются сомнения. В самом деле,кажется, что наука о живых существах не принадлежит кфизике. Во-первых, поскольку любой уровень абстракцииот материи к бытию принадлежит метафизике, таков иуровень абстракции, соответствующий жизни, посколькуон является общим для ангелов и для Бога.
Во-вторых, живые существа как таковые не сутьприродные сущие, следовательно, они не принадлежат кфизике. Истинность предшествующего высказыванияочевидна, так как природные сущие создаются природой,а живые существа душой, которая не является природой.Действия души возвышаются над действиями природы.
В третьих, имея в виду рациональную душу,необходимо сделать вывод: она нематериальна, как япоказываю, следовательно, принадлежит метафизике.Действительно, вещи, которые абстрагируются по способубытия из материи, относятся к метафизике, чьясобственная роль состоит в определении через форму,как говорит Аристотель во Введении.275 Поэтому, в книге1 «О частях животных», глава 1,276 кажется, он говорит,275 Аристотель. О душе. 403в.276 Aristoteles. De partibus animalium. 641а.
267
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
что рациональная душа не является природой, и что еепознание принадлежит метафизике.
11. Для решения этого вопроса нужно принять вовнимание, что мы называем живыми существами все тесущие, которые сами по себе являются принципами длясобственных действий, относящихся к их совершенству.Итак, среди действий имеются материальные, которыереализуются посредством тела как инструмента; таковыдействия чувств. Имеются другие, абсолютно духовные,не имеющие ничего, связанного с материей, таковопознание ангела. Кроме того, с необходимостью[существует] действие, определенно промежуточное,которое само по себе нематериально и реализуется безпомощи тела, но, помимо прочего, имеет некоторуюзависимость от тела, в котором пребывает; и таковопонятие человека. Итак, все сущее, которое само посебе является причиной какого-либо из описанных видовдействия, на полном основании сказывается живым.
Но между ними существуют различия: те, которыеживут первым указанным способом, являются полностьюматериальными; живущие вторым способом суть полностьюдуховные; принадлежащие к третьему роду, являютсяпромежуточными между духовными и материальными. Такимобразом, что касается живых существ первого рода,бесспорно, что они включаются в предмет физики;следовательно, обе их причины, то есть материя иформа, их действия и движение не могут принадлежатьдругим наукам. Так учит Аристотель в книге 1 «О частяхживотных», глава 1, и в книге 2 «Физики», текст 26.277
Эти живые существа (viventia) являются, кактаковые, сущими в собственном смысле, их душа есть277 Аристотель. Физика. 194а.
268
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
природа, как сказано в книге 2 «Физики», в начале, тоже Философ утверждает в книге 1 «О частях животных»,глава 1. Так, он говорит, что физик должен скореетрактовать о душе, чем о материи, так как материяимеет свое естественное бытие благодаря душе.Остается, однако, вопрос о человеке, в котором душаявляется не природой, а сверхприродой (non essenaturam, sed supra naturam), как это рассматриваетАльберт Великий в книге «О происхождении души», глава4. Ясно, на самом деле, что всякая форма, являющаясявнутренним принципом материальных действий, может бытьназвана природой и действительно является [таковой].Что касается живых существ второго рода, то ониопределенно находятся за пределами физики и предметаее познания. Поэтому, когда мы говорим, что живыесущества суть предмет этой науки, то имеем в видуматериальное живое существо, которое являетсяприродным сущим, таким же образом, когда мы говорим,что невозникшее бытие есть предмет книг «О небе», топодразумеваем бытие естественное и невозникшее.
12. Что касается человека, то неясно, какой наукеон принадлежит из-за трудности, касающейсярациональной души. Эту проблему решают обычно,используя следующее различение: В рациональной душеданы две вещи.
Первая [заключается] в том, что рациональная душаесть духовная сущность, независимая в своем бытии отматерии, мыслящая и волящая.
Вторая [заключается] в том, что форма тела естьпричина материальных действий, осуществляющая познаниес помощью чувств.
Если [по отношению] к ней полагаются предикаты,
269
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
которые относятся к первому аспекту души, то такоепознание включается в метафизику, как это доказываетприведенный аргумент; но если берутся предикаты,относящиеся ко второму [аспекту], то это относится кфизике. Так следует из Аристотеля, книга 3.278 То жевыводится из книги 6 «Метафизики», текст 1; изкомментариев св. Фомы и Альберта на тот же текст, из«Физики», книга 2, текст 26.279 Смотри так же Филопона.Это различение можно найти, кажется, у Авиценны, «Одуше»; его Каэтан пространно излагает всоответствующем месте. Это различение приемлемо и дляменя. Так, одна и та же вещь может принадлежать, поразличным основаниям, и к метафизике, и к другойнауке. ‹…› Думаю, однако, в общем можно сказать, чтоисследование рациональной души является предметомфизики.
13. Объяснение доктрины Аристотеля, согласнокоторой диалектика определяет посредством формы,физика с помощью материи. – Для ее доказательства вэтом «Введении» нужно представить доктрину Аристотеля;причем более подробно 2 книгу «Физики», где Философполагает в природном сущем ни одну лишь материю, и ниодну лишь форму, но только обе вместе. Материя естьнечто незавершенное и непознаваемое безупорядоченности формой. То же касается и формы.
Равным образом обе принадлежат к сущности вещи:материя как первое подлежащее сущности, форма же какзавершение (complens) сущности. Так, если одна из двухне познана, останется непознанной и сущность; однакоиз этих двух Философ первой полагает форму, поскольку278 Аристотель. О душе. 427а.279 Аристотель. Физика 194а.
270
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
она превосходнее (principaliter) материи.Поэтому Аверроэс, книга 2 «Физики», текст 26,
замечает, что Философ в первую очередь рассматриваетформу, а материю в связи с формой; и там же, текст 16,он (Аверроэс. – Д.Ш.) говорит, что имеет одностороннеепредставление о вещах тот, кто принимает во вниманиепри определении только материю; и так же тот, ктоучитывает форму, оставляя без внимания материю. [То жеполагают] Темистий, Филопон и другие. Альберт, в книге1, трактат 1, глава 7, говорит, что ни один автор нерассматривает материю саму по себе, но только всоотношении с формой. Вместе с тем, он улавливаетсмысл различения, которое делает Аристотель междуспособами определения в физике и в диалектике; так,диалектик, – говорит он, – дает определениепосредством формы, а физик посредством материи. Говоряэто, Аристотель не думает, что физик не рассматриваетформу, если не дал ей определение, но ясно выражаетпротивоположное [мнение], согласно сказанному и всоответствии с собственной природой вещей. Этофизическое определение таково: человек состоит из телаи души. Также он не думает, что диалектик ничего неопределяет посредством материи, так Аристотель, вкниге 1 «Второй аналитики», дает определениедоказательства с помощью материи. Истинный вывод изэтого выражения сделан на основании того, чтоАристотель имеет неизменный обычай всюду называтьдиалектическими вероятностные и общие аргументы,согласно [текстам] «О возникновении животных», 2,последняя глава, «О небе», 2, и «Метафизика», 12, ичасто в других местах. То же самое утверждаетКомментатор, «О небе», 2, текст 60, «Метафизика», 12,
271
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
текст 4. Так, он называет диалектическими определенияобщих вещей, таких как польза вещи или ее конечнаяцель, которые существуют лишь в виде общих понятий, иговорит о них, что они даны посредством формы.Напротив, физическими определениями называются те, вкоторых выражается природа вещи как единства материи иформы, про которые (определения.- Д.Ш.) говорится, чтоони даны посредством материи. Это показывает Альберт,книга 1, трактат 1, в конце, и св. Фома в комментариина этот отрывок, текст 16.
Другое объяснение может заключаться в том, чтоопределение через род и видовое отличие называетсяопределением посредством формы (definitio per formam),но вследствие этого как род, так и видовое отличиеимеют характер формы по отношению к определяемому:род, поскольку это высшее понятие [для определяемого],и видовое отличие, поскольку оно конституирует его. Иэто определение называется диалектическим илиметафизическим, потому что данным двум наукам(диалектике и метафизике. – Д.Ш.), присуще трактоватьо родах и видовых отличиях; напротив, определение,которое дается посредством физических свойств,сказывается как даваемое посредством материи,поскольку включает ее саму по себе. Это определение,которое обычно называется физическим, так какфизическое есть единственное, что постоянно даетопределение этим способом со свойствами, хотя иногдаможет давать определение через род и видовое отличие.И другие писатели, в подражание физику, могут даватьопределение через материю и форму.
Как бы там ни было, мы полагаем, согласно нашемузамыслу, что каждое сущее, определяемое в соответствии
272
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
с его собственной физической материей, принадлежит совсей истинностью к ведению физики. Также мы должны[признать], что каждое сущее, которое фиксируется(constans) своими собственными материей и формой,полностью принадлежит предмету физики обеими частями,так что физик не может изучать одно в отрыве отдругого.
14. Однако доказано то, к чему мы стремились, чточеловек есть просто природное сущее, котороеопределяется истинной материей и формой, включенной впредмет физики; следовательно, то же [следует сказать]о рациональной душе, являющейся формой самого человекакак мыслящего сущего.
Утверждается, что рациональная душа по сути естьформа физического тела; следовательно, она должна бытьс необходимостью определена телом и материей;следовательно, ее определение и сущность принадлежатфизике; следовательно, также, что свойства, которыеберут в ней начало, должны быть рассмотрены физикой.
Кроме этого, душа обладает всеми своими свойствамис некоторой зависимостью от тела, как будет объясненопозднее.
Кроме того, рациональная душа в абсолютном смысле(absolute) является природой, а человек – природнымсущим. Антецедент очевиден, поскольку она (разумнаядуша. – Д.Ш.) является внутренним принципом действийматериального сущего, в котором обнаруживается. Этофизические действия (operationes sensitivae), хотя иособым образом, по которому они реализуются человеком,являются, в некотором смысле, следствиями разумнойдуши как таковой.
Кроме того, смех и его проявления (ridere et
273
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
huiusmodi passiones) материальны, и, тем не менее,следуют из рациональной души как таковой, так каккасаются только человека.
Кроме того, действия познания зависят собственнымобразом (suo modo) от чувств и от тела. Поэтому, св.Августин говорит в книге «Против юлиан», книга 5:«Душа без всякого сомнения есть природа».280
Кроме того, каждая вещь непосредственно принадлежиттой науке, которая исследует ее до самых последнихвидовых различий; итак, физике принадлежит изучениерациональной души в ее последних видовых различиях, аметафизике, напротив, лишь в общих предикатах;следовательно, взятая абсолютно, она относится кфизике, и, в некотором смысле, [также относится] кметафизике. Большая посылка очевидна, посколькупоследнее видовое отличие есть то, что конституируетвещь; следовательно, ее познание есть познание вещисогласно ее собственному понятию.
И по индукции выводится, поскольку материя, взятаяабсолютно, есть предмет изучения физики, хотя в то жевремя, о ее общих предикатах трактует метафизика.Меньшая посылка ясна из сказанного.
15. Ошибаются, стало быть, те, которые утверждают,что рациональная душа относится к физике, в то времякак она является принципом растительной жизни(principium vegetandi) и чувственного познания, и кметафизике, когда она является принципом мышления. Изсказанного ясно, и будет подробно доказываться далее,что душа, как принцип познания (principiumintelligendi), есть душа тела (anima corporis), и чтоблагодаря ей конституируется человек в его280 «Anima sine dubio est natura».
274
КОММЕНТАРИИ НА КНИГИ АРИСТОТЕЛЯ «О ДУШЕ»
человеческом бытии; следовательно, как таковая онатакже включается в физику и имеет отношение к материи.
Ошибаются также те, которые говорят, чтоматериальная потенция души принадлежит физике, апознание и воля – нет, хотя рассмотрение свойствделает обязательным рассмотрение сущности; итак,рациональная душа как таковая включена в предметфизики, следовательно [в него включены] также познаниеи воля, которые берут начало в душе, в той мере, вкакой она является рациональной.
16. Вывод. – Тем самым, рациональная душа, взятаяисключительно со всеми своими свойствами, являетсяпредметом физики и, в некотором смысле, метафизики.
17. Скажут: то же самое происходит со всеми прочимивещами. – Отвечаю: я допускаю это. Но есть отличие, ионо [заключается] в том, что остальные материальныевещи представляют только лишь различие в общихпредикатах с духовными вещами, в то время как человекпредставляет, кроме того, другое отличие, котороеявляется общим с ангелами, то есть бытие духовное(esse intellectivum). Кроме того, рациональная душаобнаруживает отличие, хотя и по аналогии, в отношениидуховной субстанции. И поэтому человек и его душаотносятся к метафизике по большему числу предикатов,чем прочие вещи.
18. К этому остается добавить ответ на третийпункт: так, хотя душа может существовать без тела, онане может быть без отношения к телу. И это естьсущественное основание, чтобы она изучалась физикой.‹…›
ПРИМЕЧАНИЯ
275
Д.В. Шмонин
НАУКА О ДУШЕ (МЕТАФИЗИКА ПОЗНАНИЯ ФРАНСИСКО СУАРЕСА)
Теория познания в философии Суареса не «встроена» вонтологию, как это может показаться при первом взглядена содержание его «Метафизических рассуждений». Болееосновательное знакомство с этим и другимипроизведениями Суареса позволяет обнаружить логикумысли философа. Поскольку метафизика имеет своимпредметом бытие (в самом широком плане, включая Бога),она познает бытие. Следовательно, полагает философ,онтологический порядок нуждается в серьезномгносеологическом основании, что означает необходимостьвключения в метафизику раздела, который в соответствиис традицией носит название учения о душе.
Действительно, учение о душе представляет собойфундаментальный раздел метафизики Суареса.281 Если281Может возникнуть вопрос о корректности использованияпонятия «метафизика» в таком контексте. Ясно, что этопонятие давно утратило строгий смысл «науки о сущемкак таковом». Мы стали свидетелями неоднозначногопроцесса, который можно назвать, используя выражениеЮ.В. Перова, «умножением метафизик». (См.: Перов Ю.В.Историчность и историческая реальность. СПб., 2000.С. 86.) Словосочетание «метафизика познания», однако,кажется вполне уместным, в том числе применительно кСуаресу, который относит познание к главнымспособностям рациональной души, а последнюю, хотя ине полностью, включает в предмет метафизики.
НАУКА О ДУШЕ
очертить его содержание, то в этот раздел войдут,помимо теории познания, начала антропологии ипсихологии. Прилагательное «фундаментальный», приэтом, следует понимать как в общем, так и в буквальномсмысле: во-первых, учение «о душе» изучает всеосновные проблемы, связанные с познавательнойдеятельностью человека, то есть с познанием бытия; во-вторых, онтологический порядок вещей, по мнениюСуареса, нуждается в предварительном гносеологическомпорядке; в третьих, наконец, с точки зренияхронологии, «наука о душе» была исследована Суаресомзадолго до приведения им в систему собственного ученияо бытии.
I.
«Метафизика познания» Суареса изложена им в«Комментариях на книги Аристотеля «О душе» ».282 Этоодна из важнейших работ испанского философа, которую,без сомнения, следует поставить в один ряд с«Метафизическими рассуждениями». Она сложилась изматериалов лекционного курса философии Аристотеля,прочитанного Суаресом в 1572 году в Сеговии. Будущемупрославленному иезуиту в тот момент было околодвадцати пяти лет. Материалы, представлявшие собойкомментарии на корпус аристотелевских сочинений оприроде, включая книги «Физики» и «О душе», оставалисьнезавершенными и неизданными в течение всей жизниСуареса. Это не значит, тем не менее, что мы имеемдело с «ранней редакцией» или «первым опытом»,282 Полное название в оригинале выглядит так:«Francisci Suarez Societatis Iesu commentaria una cumquaestionibus in libros Aristotelis De Anima».
277
НАУКА О ДУШЕ
отвергнутым самим автором и представляющим интересисключительно для его биографов. Незадолго до смертиСуарес начал переработку рукописи, стремясь превратитьее в законченное систематическое произведение,подобное «Метафизическим рассуждениям». Серьезность, скоторой Суарес отнесся к этой работе, понятна:«Комментарии на книги «О душе» » должны были сыгратьроль основания его философско-теологической системы.
Суарес предполагал, не внося принципиальныхизменений в текст, уточнить его содержание иструктуру. Первоначальная структура была традиционной:текст делился на рассуждения, рассуждения на вопросы,вопросы на пункты. «Комментарии на книги «О душе» »включали четырнадцать рассуждений. Суарес собиралсязаменить рассуждения книгами, а вопросы главами, что, содной стороны, более соответствовало структурепроизведения, которому были посвящены комментарии, тоесть аристотелевскому трактату «О душе», а с другойстороны, видимо, казалось Суаресу более современным.Не следует, на наш взгляд, говорить о прямомвоздействии некоего «духа нового времени», или «новыхвеяний в философской литературе» на пожилогопрофессора-иезуита (хотя, как известно, иезуиты оченьчутко относились ко всему новому). Очевидным являетсято, однако, что Суарес видел свою задачу вопределенной «адаптации» текста, в его приближении кчитателю первой четверти XVII века. Одновременно онстремился придать завершенный вид учению, которое, какмы заметили выше, должно было стать основополагающимдля всей его системы.
Философ отдавал себе отчет в трудности этой работы,а также в том, что ему вряд ли удастся выполнить
278
НАУКА О ДУШЕ
намеченное полностью: «Я вижу, что уже слишком стар, –писал Суарес в январе 1617 года, – чтобы иметьвозможность закончить труды, которые начал, и оставитьзавершенной философию, которая согласовывалась бы смоей теологией».283
Суарес успел исправить лишь первое рассуждение,превратив четыре его вопроса в двенадцать глав первойкниги. Остальной текст был подготовлен к печати послеего смерти. При этом, разумеется, содержательнойправки не было. Редактура затронула в основном внешнююсторону: был завершен перевод рассуждений и вопросовсоответственно в книги (всего их получилось шесть) иглавы.284 В таком виде «Комментарии на книги «О душе» »вышли в свет в 1621 г., а затем выдержали несколькостереотипных изданий (Мюнхен, 1622; Лион, 1635; Париж,1856 – как 3 том 28-томного собрания сочиненийСуареса), которые не подвергались критическомуисследованию в течение трех столетий.
Лишь в семидесятые годы ХХ века испанскими ученымибыла начата работа по исследованию всех редакций и283 Отрывок из письма от 10 января 1617 г.,адресованного генералу ордена иезуитов (1615-1646)отцу Муцию Вителлески (Vitelleschi), цитируется по:Suarez F. Commentaria una cum quaestionibus in librosAristotelis De Anima: En 3 vols. Vol. 1. Madrid,1978. P. XL. Nota 11. Напомним, что умер Суарес 25сентября 1617 г.
284 Редактором первого издания был иезуит отецБальтасар Альварес, который механически совместилисправленные и не исправленные автором главы. Приэтом остался неучтенным ранний вариант подготовленныхСуаресом к печати глав.
279
НАУКА О ДУШЕ
списков «О душе», завершившаяся публикацией новоготрехтомного издания, первый том которого вышел в светв 1978, второй в 1981, третий в 1991 году. В этомиздании текст «О душе» предстает в ранней, ноаутентичной редакции, которая учитывает все имеющиесярукописи этого произведения Суареса. 285
Схема рассуждений такова: 1-е. «О сущности души вобщем»; 2-е. «О сущности трех видов души в частности»;3-е. «О способности души в общем»; 4-е. «О способностирастительной души»; 5-е. «О познавательной способностив общем»; 6-е. «О чувствах в общем»; 7-е «О внешнихчувствах в частности»; 8-е «О внутренних чувствах»; 9-е. «О способности разума»; 10-е. «О способностяхжелания в общем»; 11-е. «О чувственном желании»; 12-е«О разумном желании, или о воле»; 13-е. «О способностик движению»; 14-е «Об отделенной душе».285 Редактором книги и руководителем исследования сталдоктор философии Сальвадор Кастельоте. В ходеподготовки «О душе» к новому изданию им была нетолько критически пересмотрена редакция Б. Альвареса,но также учтены манускрипты, хранящиеся в библиотекахСаламанки и Павии. Работа действительно была сложнойи кропотливой. Во-первых, возникали сомнения поповоду отредактированных двенадцати глав (посколькутекст рукописи Суареса не сохранился). Во-вторых,сравнение редакции 1621 г. с рукописными списками изСаламанки и Павии показали отсутствие идентичности.С. Кастельоте обнаружил, что пунктуальность издания,которым пользовались три с половиной столетия,невелика. (Это лишний раз подтвердило необходимостьнового издания, которое имело бы критический аппарати параллельный испанский текст.)
280
НАУКА О ДУШЕ
Итак, в 14 рассуждениях «De anima» последовательнорассматриваются: природа человеческой души, ееатрибуты, способности, действия, статус души вчеловеке. Суарес дает объяснение того, что такое душа.Душа является субстанциальной формой человеческогобытия, организующим принципом действия всехспособностей, в том числе познавательных, средикоторых он выделяет чувственные (ощущающие) и разумные(рациональные). То, что это разные способности, Суаресобъясняет наличием соответствующих им самостоятельныхсил души. Подводя итог схоластической традиции, Суарессводит общее чувство, воображение (фантазию), память иоценку к единой способности или силе внутреннего чувства.Рассматривая интеллектуальный уровень познания, Суаресделает различие между адекватным объектом ума «кактакового», включающим в себя все, что может бытьпознано (сущее как таковое), и тем, что может познатьконечный разум конкретного человека (в основном,чувственные или материальные вещи). И, может быть,наиболее ценно для нас то, что автор «De anima» нетолько допускает возможность непосредственногоинтеллектуального познания единичной вещи, но инастаивает на необходимости такого познания.
II.
Как известно, греческий трактат, комментариями накоторый является произведение Суареса, посвящен душе,а не человеку. Другими словами, Аристотель сознательноограничил предмет изучения, оставив «за скобками» какфизико-биологическую, так и этико-социальную сторонычеловеческой жизни. Этим вопросам он посвятил другиеспециализированные трактаты, в которых рассмотрел все:
281
НАУКА О ДУШЕ
от «частей животных» до добродетели и государственногоустройства.
Схоластика была обязана учитывать христианскуютрадицию с ее требованием спасения человека какцелостного существа. Тем не менее, средневековыетрактаты «De anima» в основном сводились к изучению«разумной души» как уникальной формы человеческоготела. В «Сумме теологии» Аквината (I. 75), например,проводится мысль о том, что природа человека должнабыть познаваема с точки зрения души, без акцента натело и связь между телом и душой.286 Душа оформляеттело, придает ему актуальное существование, содержитего, движет им. Тело – лишь одежда человека, душасоставляет его природу.
Суареса не устраивает подобный подход. В самомделе, если тело имеет сугубо подчиненный характер,являясь лишь «материальной» одеждой человека, то можноли «списывать» на тело «все грехи», назначать егоответственным за болезни, физические недостаткичеловека и прочее, как это делал Фома?287 И велика ли вэтом случае ценность сотворенного Богом материальногомира, центральное положение в котором занимает286 См. об этом: Жильсон Э. Томизм. Введение в философиюФомы Аквинского // Жильсон Э. Избранное. Т. 1. М.;СПб., 1999. С. 236-247.
287 Имеется в виду, в частности, высказывание Фомы отом, что все очевидные недостатки в человеческом телеследуют из материи: «...et si aliquis defectus indispositione humani corporis esse videtur,considerandum est quod talis defectus sequitur ex,necessitate materiae.» (Thomas Aquinas. Summatheologiae. I. 91. 3.)
282
НАУКА О ДУШЕ
человек?Заметим сразу, что, по мнению Суареса, материальный
мир имеет самостоятельность, способность ксамосохранению, активной деятельности иответственности за нее.
Что касается материи, то она является субстанцией,которая отвечает за физическую сторону жизни человека.Тело для Суареса – не платье, которое можно переменитьили просто снять, но «младший партнер» души,подчиненный, но обладающий определеннойсамостоятельностью. Можно сказать, что человек вучении Суареса превращается в некое взаимодополняющееединство души и тела, которое только в этом единствепредназначено к жизни и спасению.
Итак, что же такое душа? Чтобы ответить на этотвопрос, Суарес рассматривает точки зрения древнихфилософов.288 Общий недостаток их мнений, говорит он,заключался в том, что эти мыслители, говоря об атомахи элементах, не могли понять, что душа есть истинныйакт и субстанциальная форма живого существа.289 Первым, ктоесли и не раскрыл тайну души, то сделал существенныйшаг к ее объяснению, был Аристотель. Он показал, чтодуша не может иметь материально-телесной природы и неможет быть акциденцией. Душа – это субстанциальнаяформа, она не является материальной вещью, нонаходится, пребывает, существует в живом теле.290 288 Имеются в виду Гераклит, Демокрит, Анаксагор,Сократ и др.
289 «...non potuerunt cognoscere animam esse verumactum et formam substantialem viventis.» (Suarez F. Deanima. I.1.4.)
290 Suarez F. Op. cit. I.1.5; см. также: Аристотель.
283
НАУКА О ДУШЕ
Душа, стало быть, есть то, посредством чего живоесущество конституируется, и сохраняется в своемодушевленном бытии.291 (Подобную роль не может игратьматерия, поскольку она является общим субстратом длявсех природных вещей.)292
Всякая субстанция, имеющая акциденции, управляетими, упорядочивает их. Следовательно, организацияматерии является необходимой функцией субстанциальнойформы. Душа, по своей субстанциальной природе,следовательно, имеет склонность к организации иупорядочиванию тела.293
Однако, не смотря на свою «ведущую роль» в живом«композитуме» (compositum), душа – лишь часть (pars)его существа. Как любая часть целого, она должнапринадлежать целому и согласовываться с другимичастями этого целого. Поэтому, Суарес не толькополагает необходимым для души иметь тело – в этом небыло бы ничего отличного от традиции, например, отточки зрения Фомы, – но и указывает на активный,самостоятельный характер тела в этом объединении.294
III.
Органическое тело («corpus organicum»), согласноСуаресу, может пониматься в двух смыслах:
Во-первых, как материя, организованная определеннойформой. В этом случае о теле говорится, что ононаходится в потенции по отношению к жизни; душа
Физика. 189в-191а; О душе. 414а.291 Suarez F. Op. cit. I.1.7.292 Ibid. I.1.8.293 Ibid. I.3.4.294 Ibid.
284
НАУКА О ДУШЕ
сообщает ему жизнь, точнее, «субстанциальное бытиеживого существа».295
Во-вторых, как целое, обладающее качествамисубстанции, живое существо (vivens); в этом смыслетело означает то же, что и «compositum», единствоматерии и субстанциальной формы, а эта форма и естьдуша.
Итак, в первом случае перед нами предстает фрагментматерии, потенциально готовый к воздействию со стороныформы. Это «строительный материал», материальнаяпричина («то, из чего»). Во втором случае акцентделается на единстве души и тела, заключающемся вбытии живого существа.296
Стало быть, выражение души через тело (как этосделал Аристотель) вполне допустимо. Душу следуетопределить как форму и первый акт (forma et actusprimus) живого существа,297 а органическое тело какимеющее жизненную потенцию (potentia vitam habentis).Душа – это первый принцип, посредством которого живоесущество как составная субстанция получает все свои295 Ibid. I.3.8.296 Ср. с мыслью Аристотеля во второй книге «О душе»(412b) о единстве души и тела, похожем на единствовоска и отпечатка на нем, а также с определениемдуши, которое помещается там же: «Душа... есть сутьбытия и форма (logos)... естественного тела, котороев самом себе имеет начало движения и покоя.»(Аристотель. О душе. 412.b.15. // Аристотель. Соч.: В4 т. М., 1976-1983. Т.1. С. 395.)
297 Ср. с еще одним аристотелевским определением: «Душаесть первая энтелехия естественного тела»(Аристотель. Там же.)
285
НАУКА О ДУШЕ
способности, в первую очередь – способности жить идействовать,298 а тело – своеобразный инструментдуши.299
По поводу того, что представляют собой душа, тело иживое существо в целом, следует, на наш взгляд,сделать одно замечание, связанное с пониманиемСуаресом иерархических отношений между душой и телом.
Душа как форма тела и как субстанция должнапредшествовать телу и в смысле совершенства и в смыслепричинных связей. Понятно, что физическое тело менеесовершенно, чем душа. Оно делимо, имеет части,включает в себя акциденции. Тем не менее, бываютслучаи, когда акциденции могут предшествоватьсубстанции. Это верно в отношении тела какматериальной причины. Дело в том, что «материал»должен присутствовать до того, как с ним начнутпроизводить какие-то операции; другими словами, тело,в которое душа «вдыхает жизнь», обязано быть готовым квосприятию этого воздействия, то есть, обладатьопределенными акциденциями, способными к такомувосприятию. Акциденции подчинены душе, но имеютсамостоятельную роль, заключающуюся в подготовке тела,предназначенного душе, к актуальному существованию вкачестве композитума.
Такая логика характерна для Суареса: он подвергаетсомнению то, что представляется ему не вполнеубедительным, вне зависимости от принадлежности мненийтем или иным авторитетам. В данном случае мы видим,как, согласно Суаресу, умаляется абсолютноепревосходство субстанции перед ее акциденциями,298 Suarez. F. Op. cit. I.4.10.299 Ibid. I.4.11.
286
НАУКА О ДУШЕ
поскольку это не соответствует собственнымсоображениям Суареса. Индивидуальное тело, носительжизни, часть целого, не может быть совершенноподчинено душе. С точки зрения цели телесноорганизованный индивид, compositum, также обладаетпревосходством, поскольку именно в его становлениизаключается causa finalis души. Кроме того, живойиндивид, уступающий душе в порядке совершенства,оказывается на первом месте в порядке познания.
Эти соображения созвучны мыслям Суареса о жизненномпреимуществе индивидуального по сравнению суниверсальным. Индивидуальное существует реально, в товремя как универсальное проявляется в индивидуальном,являясь, по большому счету, результатом мысленныхабстракций. Такая установка делает не толькодопустимым, но и необходимым изучение многообразного,реального мира индивидуальных вещей во всех егопроявлениях. Суарес не может ограничиться тем, чтопринято называть «умозрительным эмпиризмомсхоластики». Философ настаивает на исследованиибиологической, психической природы человека. И в этомсмысле человек оказывается «в фокусе» наук, какфизических, так и метафизических. Именно здесь, «междуфизикой и метафизикой», а точнее, и в физике, и вметафизике, находится место, предназначенное науке одуше.
IV.
Душа имеет – в этом вопросе Суарес выступает кактрадиционно мыслящий схоластик – познавательнуюспособность двух видов: чувственного и разумного.Столь же традиционным выглядит обращение Суареса к
287
НАУКА О ДУШЕ
доктрине интенциональности.300 Двум способностям душисоответствуют чувственные и разумные интенциональныевиды (specie intentionalis), выполняющие репрезентативнуюфункцию. Интенциональные виды суть «идеальныезаместители» познаваемых вещей, имеющие акцидентальныйстатус свойства познавательной способностичеловеческого ума.301
Термин «intentio» объясняется Суаресомэтимологически, исходя из анализа значений глагола«intendere». Среди этих значений философ выделяет два:«склоняться», «иметь тенденцию (к чему-либо)».302
«Intentio», отглагольное существительное, означаетвнимание, интерес разума к некоему предмету. Этоинтеллектуальная интенция (intentio intellectualis).Можно сказать, что это желание того, к чему стремится(имеет тенденцию) познающая душа. Предмет познания,таким образом, может быть не только удаленным от насфизически реальным объектом, но даже и не существующимреально. Так, познание некоторой розы, когда ононаправляется на эту розу и «включается» в нее,называется объективным, даже если упомянутой розы несуществует.303
Познание, по мнению Суареса, есть сложный процесс300 Ibid. V.1.3.301 Ibid.302 «Латинско-русский словарь» предлагает 16 значенийэтого слова. Среди них: направлять, устремлять,стремиться, клониться, относиться и т.д. (ДворецкийИ.Х. Латинско-русский словарь. М., 1986. С. 412.
303 «...Scientia etiam rosae ad ipsam rosam terminaridicitur objective, quamvis ipsa rosam nonexistat...» (Suarez F. De anima. V. 5.23.)
288
НАУКА О ДУШЕ
чувственного и интеллектуального «освоения» предметадушой, интенциональное продуцирование в душе живогообраза предмета. Формальный вид – это то, чтопознается нами об объекте. Причем интенциональные видыназываются видами (specie) за их «представительскую»(репрезентативную) форму, а интенциональными,поскольку они служат связующими звеньями между душой иобъектами внешнего мира, но сами не являются реальнымиобъектами.304 Для того, чтобы процесс познаниясостоялся и был успешным, необходимо (и достаточно),чтобы объект либо сам по себе, либо через объективныйинтенциональный вид стал причиной рождения формальногоинтенционального вида, посредством которого этотобъект и познается. Видам присуще интенциональноебытие, благодаря которому познание стремится кпознаваемому предмету (это Суарес называеттенденцией),305 приближается к нему (апроксимация306) исхватывает его (апрегензия307). В интенциональностиСуарес видит гарантию возможности познания,способность установить связь между душой и познаваемымпредметом.
Интенциональные виды являются своеобразнымиинструментами познания (quasi instrumenta),посредством которых познаваемая вещь (объект, предмет,304 «Vocant species intentionales, species quidem guiasunt formae repraesentantes: intentionales vero nonquia entia real non sint, sed quia notionidiserviunt quae intentio dici solet» (Ibid. V.1.3.)
305 От tendo, tendere (лат.) – стремиться, питатьсклонность, прилагать усилие.
306 От approximo (лат.) – приближаться.307 От apprehendo (лат.) – схватывать, ловить.
289
НАУКА О ДУШЕ
entis realis) соотносится, соединяется спознавательной возможностью души.308
В соответствии с традицией, идущей от Аристотеля,Суарес в качестве высшего (но не преимущественного длячеловеческой души) рода знания выделяет знание обобщем – универсальном. Это знание являетсяинтеллектуальным по определению, по сущности. Тем неменее, самостоятельным и значимым является для Суаресадругой род знания – чувственное и рациональное знаниео единичном. Причем Суарес подчеркиваетсамостоятельность и важность знания о единичном. Болеетого, он показывает важность чувственного познания.309
Все познание, по Суаресу, в сущности, представляетсобой один интенциональный акт, относящийся как кобласти чувственного, так и к областиинтеллектуального. Познание, говорит Суарес, есть нечто иное, как установление формального308 «Species sunt quasi instrumenta quaedam, per quiascommuniter objectum cognoscible unitur potentiae,ideo necessarium est perfecte illas cognoscere. Etprimo supponendum est hujusmodi species esse entiarealis.» (Suarez F. Op. cit. V.2.1.)
309 Суарес, однако, обращает внимание на то, что естьодно существенное различие между интеллектуальным ичувственным познанием: чувственное познание по своейприроде простое и непосредственное. Оно в общемсостоит в интенциональном представлении объекта,которое одновременно есть и механизм, и акт, ирезультат «схватывания». Интеллектуальное познаниепонимается Суаресом как сложное, составное,использующее абстракции. (Suarez. F. Op. cit. VI. Desensibus in communi.)
290
НАУКА О ДУШЕ
интенционального соответствия между способностьюпознания и объектом.310 Это акт уподобления илисопоставления (ассимиляции – assimulatio, assimilatio)познавательной способности с вещами, которыепознаются.311 Еще более точным будет термин«соединение» (conjunctio). Другими словами, познаниеимеет место именно благодаря этому соединению.Ассимиляция носит интенциональный характер ипредставляет собой «мост» между способностью души кпознанию и познаваемой вещью. Соединение (в смысле«совокупного пребывания» – communiter)312 субъекта иобъекта познания является, интенциональным, а нереальным. Кроме того, подчеркивает Суарес, этосоединение не имеет субстанциального характера, оноаналогично тому, как акциденция соединяется ссубстанцией – носительницей многих свойств. В то жевремя, интенциональные виды качественно отличны отпознавательной способности души, в которой онипребывают (формируются), и от самого акта познания(distinctum ab actu). Интенциональные виды также нетождественны объектам, которые представляют. Объектявляется субъекту посредством интенциональных видов, иэто представление есть repraesentatio313 или vicaria.314
То есть, в душе – благодаря интенциональным видам –возникают образы, которые «наглядно представляют»310 Ibid. V.1.5.311 «Cognitio sit per intentionalem assimilationemcognoscentis ad rem cognitam» (Ibid. IV. 12.)
312 Ibid. II. 1.313 Наглядное представление, изображение, имеющеенепосредственный характер (лат.).
314 Заместительница (лат.)
291
НАУКА О ДУШЕ
познаваемый предмет и являются его «заместителями» внашем сознании.
V.
Как мы уже заметили, в познавательной способностиума философ выделяет две ступени –чувственную иразумную. Познание первого рода, чувственное,«включается» тогда, когда душа испытывает воздействиевещей чувственного мира. Результатами работы внешнихчувств, вступающих в соприкосновение с предметами,являются чувственные интенциональные виды. Важным, снашей точки зрения, здесь является то, что чувственнаяступень для Суареса имеет самостоятельное значение, ихотя она, разумеется, не исчерпывает познание, тем неменее, является «познанием по природе», а не каким-либо подготовительным или предварительным его этапом.
Сложный акт, каким для Суареса является познание,не ограничивается формированием представления.Представление, точнее, образ, результат воображения, –лишь посредник (medium quo), знак (signum quo),упорядочивающий процесс познания.
Далее разум с помощью логической операцииабстрагирования переводит чувственные образы винтеллектуальные формы, соответствующиесозерцательному, собственно интеллектуальномупознанию. Эти два уровня, чувственный и разумный,имеют разные функции, но составляют единую способностьчеловеческой души и не имеют четкой внутреннейграницы. В отрицании реальности различия двух уровнейпознания Суарес следует скорее Дунсу Скоту, чем ФомеАквинскому. Активный, действенный характер внешнихчувств дополняется созерцательно-спекулятивным
292
НАУКА О ДУШЕ
характером разума. Разум, однако, также действуетактивно, продуцируя интеллигибельные виды, ненуждающиеся для своего создания в импульсах со сторонычувств. В общем виде «порядок познания» выглядит так:познаваемый предмет – внешнее чувство – чувственныйинтенциональный вид – интеллектуальный интенциональныйвид. Хотя в зависимости от того, к какому классу бытияпринадлежит познаваемый предмет (единичнаяматериальная вещь, нематериальная сущность, сущееразума и т.д.) эта схема может частично меняться.
По Суаресу, чувственное и рациональное впознавательной способности души вытекают из единствасамой души, причем чувственная ступень, как правило,предшествует интеллектуальной ступени. Тем не менее,доступными чувствам оказываются лишь некоторыеакциденции, точнее, внешние свойства вещей. Сущностидоступны лишь разумной части души. Не удивительно, чтодля Суареса осмысление разумной души, то естьспособности мышления или рационального познания,является главной темой его «метафизики познания».
VI.
Прежде чем следовать Суаресу, который посвящаетразумной душе и интеллектуальному познанию Храссуждение, рассмотрим вопрос наименований, которыефилософ использует, учитывая схоластическую традицию иразличные нюансы, связанные с собственнымипредставлениями.315 Это необходимо для исключениявозможной путаницы, в первую очередь в вопросе, на315 Для этого нам придется свести воедино мысли изразличных фрагментов, в первую очередь из разделовIX. 8. 1-2 и IX. 10. 7.
293
НАУКА О ДУШЕ
который указывает сам Суарес: разные названияприменяются к различным аспектам и проявлениямединственной способности разума, а не многих«разумов».
Итак, в первую очередь следует сказать об активноми пассивном разуме, которые представляют собой некуюдвуединую, двунаправленную способность действовать ивоспринимать. Активный (agens) разум получает своеназвание от глагола «действовать» (agere) и имеетсоответствующую функцию – продуцироватьинтенциональные виды. Продуцирование нельзя назватьпознанием: это лишь предварительная работа с «черновымматериалом», поэтому активный разум называется разумомусловно, поскольку без него невозможна работапассивного разума. Пассивный (passivus) разум естьспособность восприятия (potentia receptiva), егофункция – рациональное познание вещей посредствоминтенциональных видов, подготовленных активнымразумом. «Пассивным» он называется, как разум сам посебе («в чистом виде»), лишенный любых видов исостояний, но имеющий способность познавать все это.
Познание, с точки зрения Суареса, есть выражениежизненной природы мыслящего существа. Поэтому действиепассивного разума имеет имманентный, жизненныйхарактер. Пассивный разум познает свободно, «пособственной природе».316 316 Активный разум, напротив, производя техническуюработу, действует, определенный внешнимвоздействием. Он не может «отказаться» отпродуцирования интенциональных видов. Здесьприсутствует некоторое несоответствие нашимпривычным представлениям об «активном» и
294
НАУКА О ДУШЕ
Ratio – понятие, которое, во-первых, означает разумкак простое, непосредственное, интуитивноеинтеллектуальное познание.317 Такой разум посредствомпростой интуиции познает (cognoscit simplici intuitu),например, «первые принципы в естественном свете» иделает дедуктивные выводы из них
Поскольку ratio рассматривает, с одной стороны, вещибожественные и вечные, а с другой, сотворенные ичеловеческие, Суарес говорит о познании-созерцании(ratio superior) и о познании-оценке наших действийпосредством познанных первых принципов (ratio inferior).318
Весьма часто мы употребляем еще одно понятие –mens. Оно подчеркивает достоинство (dignitas) нашегоразума и используется для обозначения егоинтеллектуальной способности, силы, возможности(potentia intellectiva).
Помимо этого, в разуме различают две сферы иличасти – сферу знания (pars scientifica) и сферу мнения(pars opinativa). Первая созерцает необходимое, втораяимеет своим предметом случайное. И вновь Суаресподчеркивает: речь идет о единой способности разума,имеющей различие лишь в объектах.«пассивном». У Суареса, что, в общем, вполне в руслетрадиции, именно пассивный, созерцательный разумимеет творческий, познавательный, свободныйхарактер, а активный лишен творческой природы.
317 Такой разум присущ человеку лишь в редких случаях;вообще же этот вид разума характерен для ангелов.(Vide: Suarez. F. Op. cit. IX. 10. 7.)
318 Пример Суареса: Познав истину о благости Христа, мырассудочным путем приходим к выводу о невозможноститого, чтобы в нас царствовал грех. (Ibid.)
295
НАУКА О ДУШЕ
Intellectus adeptus – еще одно «имя разума», котороеиспользуют для обозначения его во всей полноте, когдаон достигает возможных пределов. Если такое состояниедоступно человеческому разуму, то это разум святых иблаженных.319
О практическом и спекулятивном разуме Суарес такжеговорит, как о различных сторонах единого целого,различающихся акцидентально. Предмет спекулятивногоразума и, соответственно, «теоретических наук»,составляют наиболее общие принципы и понятия. Высшейнаукой такого рода является метафизика, предметкоторой, как нам известно, – сущее как таковое.Практический разум, напротив, сосредоточен на познанииединичного. Предметом «практических» наук являетсяжизненный мир индивидуальных вещей, пребывающих впостоянном движении. Действие, движение, изменение –характерные черты материальных единичных сущих, а ихизучение относится к ведению практического разума.320
Среди понятий, обозначающих те или иные стороныразумной души, Суарес отмечает и память (memoria).Разумеется, такое наименование имеет ограниченныйхарактер, ведь разум совпадает с памятью в ее наиболеестрогом и совершенном смысле.321 В этом значении памятьопределяется как способность, которая познает прошлое
319 Vide: Ibid.320 Если в сферу действия практического разума попадаютуниверсальные вещи, то это происходит лишь «черезпризму единичного». Vide: Ibid. IX. 9. 4.
321 Память относится не только к сфере разума, но и ксфере чувств, поэтому уточним, что Суарес имеет ввиду разумную, а не чувственную память.
296
НАУКА О ДУШЕ
как таковое.322
Понятие «первичный разум», «разум в первичном действии»(«intellectus in actu primo») используется дляобозначения познания каких-либо (определенных) видов впервый раз. Соответственно, «вторичный разум»(«intellectus in actu secundo») – это «обычная» работа разумас уже известными видами.
Заметим, что список наименований, применяемых кразумной душе в различных ее качествах и проявлениях,приведенный и кратко разобранный нами, далеко неполон. Мы не можем останавливаться на этом болееподробно (поскольку и так едва ли не превзошли Суаресав пространности «экспликаций»), ограничимся лишь ихперечислением: познавательная сила (intelligentia),рассуждение (discursus), внимание (attentio), познание(cognitio), обсуждение (consultatio), знание(sapientia), разумное суждение (rectum iudicium),внутренняя речь (interior locutio), сознание(conscientia).323
322 Разум («разумная память») делает это гораздосовершеннее, чем чувство, которое способно познаватьпрошлое лишь физически, материально (память о горечивыпитого утром лекарства, боли в суставах послетяжелой работы). Разум, помимо этого, способенпознавать прошлое формально, по сути, не толькосохраняя впечатления о прошедшем, образы минувшего,но и осмысливая «прошлое как таковое», то есть,постигая сущность времени. (Vide: Suarez. F. Op. cit.IX. 10. 5.)
323 Vide: Ibid. IX. 10. 9-10.
297
НАУКА О ДУШЕ
VII.
Отталкиваясь от текста 3 книги Аристотеля,324 Суаресначинает подробное рассмотрение этой темы с вопроса отом, имеет ли разумная душа (разум, рассудок, ум,интеллект) собственный адекватный объект.
Как обычно, рассмотрение авторитетных мнений, средикоторых суждения Аквината, Дунса Скота, Каэтана ипрочих, подготавливают почву для собственных сужденийСуареса. Так, Фома полагает адекватным предметомразума человека «чтойности» материальных вещей, а ДунсСкот – «сущее как истинное» («ens inquantum verum»).325
Наш разум, говорит Суарес, может познать все то,что имеет какую-либо сущность, включая данное врезультате опыта и индукции, то есть материальныевещи, их свойства и вообще все, что с ними связано.Но, кроме того, разум способен познавать и то, что несообщается нам чувствами. Другими словами, все, чтообладает сущностью, является умопостигаемым;следовательно, предметом разума могут быть Бог, ангелыи другие духовные сущности.326
324 Суарес сводит мысли Аристотеля о рациональномпознании к двадцати двум тезисам, которые помещаютсяв начале IX рассуждения «О способности разума» («Depotentia intellectiva») и предшествуют собственнымразмышлениям Суареса.
325 Vide: Ibid. IX.1.3.326 Здесь Суарес делает оговорку: Бог, ангелы и другиенематериальные субстанции могут познаватьсяотделенной душой, не связанной с телом, что вызываетопределенные аналогии с платоническими понятиями одуше.
298
НАУКА О ДУШЕ
Адекватный предмет человеческого разума «самого посебе» («secundum se») есть сущее как таковое (ens utsic), то есть все то, что существует реально иливоспринимается душой как могущее существовать реальнои, следовательно, к чему может быть примененаинтеллектуальная способность познания, включая нетолько реально существующее, но и так называемые«сущие разума», которые познаются разумом, хотя ипредставляют собой маргинальный объектинтеллектуального познания. Их необходимо включать впредмет познания, потому что они мыслятся всегда всвязи с реально существующими вещами.327
Далее следует уточнение: соразмерный илипропорциональный предмет человеческого разума в егоестественном положении, по мнению Суареса, есть не чтоиное, как чувственная материальная вещь. Дело в том,что наша душа, согласно своей природе, должнанаходиться в теле, формой которого она, как известно,является, и рассчитывать на его возможности. Крометого, природа души человека такова, что ей свойственнопознавать посредством видов, полученных чувствами.Чувства формируют виды вещей чувственных, физических,реальных. Наш разум нематериален, поэтому, казалосьбы, не может иметь в качестве соразмерного предметаматериальные объекты. Но это не так: разум есть преждевсего способность души, а душа есть форма тела,следовательно, посредством тела разум получаетвозможность познавать материальные вещи и, что неменее важно, из сущности, формы, которые имеют327 В качестве примера традиционно упоминаетсяаристотелевская «лишенность», которая всегда есть«лишенность чего-то» или «по отношению к чему-то».
299
НАУКА О ДУШЕ
духовный характер.Одно обстоятельство, однако, вызывает сомнение. В
качестве адекватного предмета «разумной души»определено сущее во всех его проявлениях. В то жевремя, соразмерным предметом, с учетом особенностейчеловеческого разума в отличие от разума ангелов илиБожественного ума, назван мир реальных вещей. Но утех, кто знаком с «Метафизическими рассуждениями»,может возникнуть справедливый вопрос: не совпадают ли,в трактовке Суареса, предметы метафизики как науки иразумной деятельности человека в целом? В самом деле,метафизика представляет собой один из способовприменения интеллектуальной способности и,следовательно, предмет метафизики не может бытьадекватным для разума в целом, как не могут бытьтождественными вид и род, которому этот видпринадлежит.328 Кроме того, если речь идет о сущем кактаковом в смысле его непосредственного целостноговосприятия, «схватывания в целом» «совокупнойреальности», то такая способность недоступна человеку:328 Вопрос, возникающий попутно: не совпадают липредметы разума и воли? Это возможно, поскольку всето, что желает или может желать воля, должно бытьпознано разумом. Но, в то же время, если бы это былотак, то была ли бы нужда в двух различныхспособностях человеческой души? И тогда то, чточеловеку давалось бы в мышлении, он одновременнодолжен был бы воспринимать как объект желания,стремления, воли. Поэтому, говорит Суарес, предметыволи и разума различны, и, стало быть, адекватныйпредмет «разумной души» не дается нам сразу, безразмышлений.
300
НАУКА О ДУШЕ
это, как известно, привилегия ангелов. Пояснения Суареса таковы: одно дело, говорит
философ, сущее как предмет метафизики. В этом случаемы имеем дело с «общими», основополагающими вещами,своего рода производными от чувственного мира,составляющими «принципиальную схему» бытия.Материально-телесные аспекты при этом выносятся заскобки. Сущее как предмет «разумной души» охватывает«всю совокупную реальность», включая не только (и нестолько) неизменные сущности, но и многообразиефизического мира. Что же касается привилегии ангеловкак существ высшего порядка познавать болеесовершенное и универсальное, чем человеческий разум,то здесь ответ Суареса таков: предмет один и тот же,но от различий, данных Богом и природой, зависит«качество познания». Ангелам доступно то, чтонедоступно человеку, но предмет – сущее как таковое –один и тот же.
Однако, как нам известно, сущее подразделяется народы и виды. Сам Суарес уточняет те «частности»,которые могут познаваться интеллектуально. К нимотносятся: материальные и нематериальные сущие, то,что занимает промежуточное положение междуматериальными и нематериальными предметами, то есть,сама человеческая душа, заключенная в теле, а такжето, что находится в нашей душе (содержание сознания).
Существует, однако, другое основание для делениясущего на роды и виды. Суарес не говорит о нем, новоспринимает это как само собой разумеющееся,укорененное в традиции. Бытие имеет три уровняединства: универсальное, индивидуальное и формальное.В точке пересечения двух представленных типов деления
301
НАУКА О ДУШЕ
можно обнаружить соразмерный и приоритетный предметпознания разумной души – индивидуальное сущее,единичную материальную вещь.
VIII.
Обратимся к проблеме познания единичныхматериальных вещей. Во-первых, поскольку этосоставляет наш главный интерес. Во-вторых, посколькусам Суарес предлагает такой порядок, считая, чтоматериальные сущие составляют преимущественный предметразумной души человека (не по достоинству, но посоразмерности познаваемого и познающего).
Проблема познания чувственного мира, говоритСуарес, рассматривалась еще Аристотелем. При этом рольспособности, познающей индивидуальные материальныевещи, отводилась чувствам, а разум «специализировался»на универсальных вещах (или понятиях). Схоластическаятрадиция, следовавшая в этом пункте понимаемомуопределенным образом Аристотелю, склонялась к мнению онедоступности материальных единичных сущих разумномупознанию. В самом деле, разум познает все посредствомвидов, а индивиду не соответствует никакой вид,следовательно, надо полагать, его познание per speciesневозможно.
Суарес рассматривает традиционные суждения,комментирует их и не соглашается с ними, выдвигаясобственный тезис: Разум познает единичное, формируя егособственное и отличное от других понятие.329
Аргументы Суареса разнообразны, но начинает он с329 Intellectus cognoscit singulare formando propriumconceptum et distinctum illius. (Suarez F. De anima.IX.3.3.)
302
НАУКА О ДУШЕ
логики. Действительно, разум формирует высказывания сединичным и общим понятиями. Следовательно, он долженбыть способен познать оба термина. Как же можноутверждать («как делают некоторые»), удивляетсяСуарес, что по поводу высказываний вида: «Petrus esthomo» говорят, будто в разуме присутствует лишьпредикат (homo), в то время как субъект (Petrus)обнаруживается только в познаваемом предмете(cogitativa). Где же находится связка? – спрашиваетфилософ. И как же может одна и та же познавательнаяспособность сравнивать субъект и предикат, если ей недоступно содержание обоих понятий? Поскольку жесравнение происходит и суждение («Это есть то-то»)выстраивается в формальном порядке, остается сделатьвывод, что разум должен познавать каждый из терминовпо отдельности.330
Итак, заметим: единичное (например, «fac hoc» –«это лицо») оказывается предметом разума; аргументы,подтверждающие такую мысль, относятся не только ксферам логики и метафизики, но и к области религии.Суарес напоминает, что к единичным и материальнымпредметам принадлежат такие объекты, самопредположение о невозможности интеллектуальногопознания которых выглядит кощунственно, например«Пресвятая дева Мария».331 По ходу дела философобращает внимание читателя на разумный характеррелигиозной веры: fides virtus est intellectus.
Каким же образом разумная душа «схватывает»единичное материальное сущее «в понятии»? Здесь Суаресвступает в противоречие с мнением Фомы. Аквинат, как330Ср.: Аристотель. О душе. 426b – 427a.331 Suarez F. Ibid.
303
НАУКА О ДУШЕ
известно, полагает,332 что познание индивидуальногодостигается разумом после познания универсальнойприроды, причем посредством образов, полученных в актевоображения (ad phantasma). Суарес же задаетсявопросом о том, как познается единичное черезвозвращение к актам фантазии, и посредством какоговида это происходит. Поскольку, развивает он своюмысль, либо это познание осуществляется в актефантазии (и тогда, по сути дела, объектом познаниядолжен стать сам этот акт фантазии), либо через какой-либо вид. Первое невозможно, поскольку в этом случаенаш разум утратил бы «основание в реальности». Инымисловами, познание без связи между актами фантазии ивнешними для души предметами, вызывающими эти акты,означало бы редукцию познания к саморефлексии. Болеетого, приводит Суарес аргумент другого рода, многиевещи мы познаем, вообще не используя акты фантазии,333
поэтому воображение не должно занимать несвойственногоему ключевого места в описании познавательногопроцесса, да и само это описание, сделанное Фомой,нуждается в существенном уточнении.
Завершая обсуждение этой темы, Суарес делаетзаключение о том, что единичное познается посредствомсобственного вида, который представляет разумуиндивидуальные свойства вещи (per propriam speciem332 Суарес ссылается на ряд фрагментов, в первуюочередь на «Сумму теологии» (Vide: Thomas Aquinas.Summa theologiae. I.84.7.) и на трактат «Об истине»(Thomas Aquinas. De Veritate. 2.6.).
333 Речь идет, например, о некоторых нематериальныхсубстанциях, познание которых осуществляется безобращения к чувственному воображению.
304
НАУКА О ДУШЕ
repraesentantem conditiones individuantes rei).334
IX.
С универсальным дело обстоит иначе. Оно познается спомощью понятия, отвлеченного от единичных вещей. Этотвывод вытекает из опыта. Я, говорит Суарес, полагаюсебя человеком, не полагая, при этом, ни Петром, ниПавлом. Разум, как более высокая познавательнаяспособность, может познавать общее, не обращаясь кчувствам. Таким образом, универсальное познаетсяпосредством вида, представляющим его общую природу безиндивидуальных условий.
По ходу дела Суарес задается вопросом о том,сохраняются ли универсальные виды в разуме после того,как универсальный предмет познан. С одной стороны, вэтом нет необходимости: вполне можно обойтисьединичными видами. С другой стороны, существуютабстракции, которые разум представляет себе сразу,непосредственно, никак не нуждаясь в представленииединичных вещей. Для таких случаев (а речь здесь идето том, что отражается абстрактными понятиями, такимикак «треугольность», «подобие» и т.п.), универсальныевиды в нашем разуме должны быть сохранены.
Что же познается в первую очередь – единичное илиобщее? Этот «схоластический» вопрос в тканирассуждений Суареса об интеллектуальном познании невыглядит простой данью традиции. Философ аккуратно ипоследовательно разбирает мнения, возражения, проясняясобственную позицию и оттачивая формулировки. Врезультате все более объемно выступает главный предметпознания разумной души – индивидуальная вещь,334 Suarez F. De anima. IX.3.13.
305
НАУКА О ДУШЕ
включенная во все многообразие ее связей и отношений.Познавательные приоритеты метафизики Суареса хорошо
просматриваются на «историческом фоне». Аквинат,суждения которого служат Суаресу своеобразной«разметкой» на пути, как известно и как мы ужеговорили выше, высказывался весьма четко: сначалаформируется понятие универсального. Фоме и томистскойтрадиции противостоит Дунс Скот, утверждающий, чтопервым должен познаваться «мельчайший», «последний»,«низший», «неделимый» вид, без которого познаниеединичного невозможно: («...speciem atomam priuscognosci quam singulare»).335 Суарес не принимает ниодну из двух позиций. Он склоняется к третьей (которуютрудно не назвать номиналистской): разум познаетсначала единичное, а затем универсальное.336
Подобное представление основывается на сужденияхздравого смысла. Первое, о чем наш разум получаетсведения – единичная вещь, познаваемая посредствомсобственного вида. «Nam cur non?» – «Почему бы нет?»-спрашивает Суарес. Весьма логично предположить, чтопервым в разуме познается то, чей вид первым оказалсядоступен чувствам. Более того, мы можем пойти далее ипредставить себе не последовательное, а параллельноепознание индивидуальной вещи чувствами и разумом.Между двумя познавательными способностями нетпротиворечия. А это означает, в частности, чтодоступное чувствам, как правило, оказывается доступным335 Suarez. F. Op. cit. IX.3.15.336 Заметим, что классический представительноминализма, Уильям Оккам, упоминается Суаресом напротяжении своего более чем пространного труда «Одуше» всего 4 раза.
306
НАУКА О ДУШЕ
и разуму.Позицию Суареса иллюстрирует пример: Люди, которые
знают лишь одно солнце, не смогут создать понятие«солнце вообще», основываясь только на чувственномопыте. Прежде чем проводить операцию абстрагирования,человек без сомнения должен сформировать в своей душепонятие «этого» солнца. Это будет единичноесобственное понятие разума («proprie conceptus»).Нелепым было бы предположение, что люди не смогутпознать солнце только из-за того, что оно уникально. Иеще более нелепым стало бы предположение, что дляэтого разуму необходимо понятие «солнца вообще».
Другое дело, если мы обратимся к проблеме познанияуниверсального. Познание универсального, говоритСуарес, – это познание чтойности вещей.337
Это чисто рациональный дискурс, отвлеченный отчувственного познания. Предположение о возможностичувственного познания универсальных вещей поясняетсядругим примером: Если мы видим вдалеке человека, но неможем определить, Петр это или Павел, то нельзя лисказать, что мы видим человека, лишенногоиндивидуальных свойств, то есть, «человека вообще»?Разумеется, нет, – отвечает Суарес: ведь даже в этомслучае мы видим нечто конкретное, «того человека», сопределенными свойствами и качествами. При этом,размышление помогает нам ответить на вопрос: «Не естьли тот, человек, которого мы видим вдали, ожидаемыйнами Петр?».
Суарес замечает, однако, что в том случае, когда«данный» разум в первый раз познает «данную»универсалию и лишь приступает к формированию «первого337 Ibid.. IX.3.16.
307
НАУКА О ДУШЕ
понятия универсального предмета» (primus conceptus reiuniversalis), он делает это с помощью единичного вида,представляющего индивидуальную вещь. Это можетвыглядеть так: сформировав «образ, представляющийПетра», активный разум – в силу своей естественнойактивной способности создавать виды вплоть доуниверсальных338 – продуцирует в пассивном разуме «видПетра как такового». Другими словами, в этом случаеотсутствие «готового» родового понятия «человек» неявляется помехой для интеллектуального познания Петра,который не теряет принадлежности к человеческому родуиз-за отсутствие в данном познающем разумесоответствующего универсального понятия.
Разум, познавая единичную вещь благодаря еесобственному виду, понимает и другие единичные вещи,сравнивая их виды и находя в них общее и различное.Тем самым в поле зрения разума попадает то, чтообъединяет вещи (praedicata communia), их «общеебытие» (esse commune). Это и есть «утверждениеуниверсального». Таким же образом познаются роды,поскольку виды имеют совпадающую часть, а также прочиеобщие вещи и понятия.
Итак, универсалии суть исключительный предметразумной души. Их познание осуществляется посредствомуниверсальных интеллектуальных видов, полученных врезультате абстракций.339
338 Ibid.339 В связи с этим следует сказать, что абстракциибывают двух видов: формальные и универсальные.Формальными Суарес называет те абстракции, с помощьюкоторых познаются сущности, собственные для каждойвещи, отличающие данный «источник отвлечения» от
308
НАУКА О ДУШЕ
В IX рассуждении «О душе» Суарес говорит обуниверсалиях прежде всего как об универсальнойприроде, которую разум обнаруживает в самих вещах икоторая действительно обладает некоторой определеннойуниверсальностью, состоящей в формальном единстве однойприроды во многих единичных вещах. Разум не создаетприроду с этим универсальным характером, а познает ее.
X.
При внимательном рассмотрении того, что Суаресговорит об универсалиях, можно заметить, что в«Метафизических рассуждениях» и комментариях на книги«О душе» речь идет не только о традиционном длясхоластики – метафизическом – смысле «универсалий»,воплотившемся в соответствующем споре. Этот смысл,разумеется, берется им «во-первых». Но, что для насболее интересно, Суарес, особенно в своих размышленияхо «разумной душе», рассматривает («во-вторых»)
прочих объектов. Формальные абстракции используются«в науках»; благодаря им мы отделяем сущность отсвойств и признаков, род от видов и проч., а такжеабстрагированное (результат обобщения и отвлечения вразуме) от вещи, ставшей предметом («источником»)абстракции. Формальная абстракция нужна, чтобыобеспечить всестороннее познание вещи во всех ееаспектах, являющихся для нее собственными.Универсальные абстракции суть то, что отличает высшийрод («как таковой») от прочих родов, а также вещей,в которых это родовое воплощается. Благодаряуниверсалиям мы имеем фундаментальные научныепонятия, обладающие наибольшим объемом (включая,например, «сущее как таковое», «истину», «благо»).
309
НАУКА О ДУШЕ
познание универсалий как гносеологический и психологическийпроцесс, в ходе которого разум приобретаетуниверсальное знание, а также («в третьих») разбираетлогические проблемы предикации, отношений рода и вида,классификации универсальных понятий и т.д.340
Мы полагаем, что было бы неразумно «дробить»проблему универсалий в нашем очерке на«метафизический», «психологический» и «логико-гносеологический» аспекты, и постараемся рассмотретьее в целом, опираясь на оба главных философскихпроизведения Суареса – «Disputationes Metaphysicae» и «DeAnima».
Обратимся к «метафизической» стороне дела ипопытаемся ответить на вопрос о том, как понимаетСуарес возможность реального существования универсалий, тоесть какого рода единство существует между вещами, которыесказываются существующими одинаковым образом (иначеговоря, принадлежащими одному и тому же роду).
Отвечая на этот вопрос,341 Суарес высказывает мысль о340 В начале пункта IX.3.19 Суарес прямо говорит, чтоодна из сторон проблемы универсалий (имеется в видувопрос о том, результатом какой операции –абстрагирования или сравнения являются универсалии)«обычно рассматривается в комментариях каристотелевской Логике».
341 Здесь нам придется обратиться к «Метафизическимрассуждениям», точнее, к VIII рассуждению «Оформальном и универсальном единстве» («De unitatiformali rt universali»). Рассуждение состоит из 11разделов, последовательно рассматривающих формальноеединство (1 раздел), существование универсальногоединства, содержащегося в вещах «до познания» (2
310
НАУКА О ДУШЕ
том, что два человеческих существа сказываютсяучаствующими в человеческой природе, а два физическихтела – в материальности и т.д. При этом Суаресзамечает, что природа не является общей в отношении креальности, но в отношении к знанию или косновополагающему подобию (или сходству).342 Несколькоранее Суарес высказывается более определенно, замечая,что некоторые индивиды, о которых говорят, будто ониодной природы, не суть одна реальность с истиннымединством, которое находится в вещах, но суть лишьединство, имеющее основание в реальности (fundamentoin re) или являющееся результатом разума.343
XI.
В «De Anima» Суарес говорит о «тройнойуниверсальности в природе (triplicem universalitatemin natura)». Приведем этот фрагмент полностью:
«Первая есть та, посредством которой сказываетсяуниверсальное в самих вещах.
Вторая та, которая рождается в разуме черезобозначение и абстрагирование, посредством которойсама природа остается представленной как общая ибезразличная ко многим.
Третья есть универсалия разума, которая существуеткак приложение () этой второй универсалии к самой
раздел), роль, свойства универсального единства, егоонтологический и гносеологический статус,классификация универсалий, их специфическиеособенности (3 – 10 разделы) и, наконец, сам принципформального и универсального единства (11 раздел).
342 Suarez F. Disputationes Metaphysicae. VI.1.15.343 Suarez. F. Op. cit. VI.1.12.
311
НАУКА О ДУШЕ
природе, как если бы она существовала в ней реальноПрирода в своем первом модусе обычно называется
физической универсалией, потому что как таковая онаявляется субъектом движения чувственных акциденций.
[Универсалия] второго вида обычно называетсяметафизической универсалией.
Универсалия третьего вида [есть универсалия]логическая».344
Суарес подчеркивает, что такая классификация ипредставленные названия не являются общепринятыми инеобходимыми. В различных случаях значения и названиянакладываются друг на друга, особенно это касаетсяуниверсалий в первом и втором значениях. (Что жекасается логической универсалии, то она названа такпотому, что раскрывает основной объект логики(диалектики) – общие понятия, то есть сущие разума.345)Тем не менее, Суарес считает свое различение важным ипоясняет смысл всех трех «модусов универсальности».
Универсалии первого вида (физические) являютсяпервыми в порядке познания. Они суть результатвнешнего воздействия. Универсалии второго вида(метафизические) формируются в разуме посредствомабстракций: «Universale secundo modo fit perabstractionem intellectus». Наконец, универсалиитретьего вида, «называемые логическими и состоящими вотношениях разума (rationis ratione consistit)»,формируются посредством некоего «акта рефлексии»(«actum reflexum»), который называют сравнительнымпознанием («notitia comparativa»).346
344 Suarez F. De Anima. IX.3.22.345 Ibid.346 Ibid. IX.3.24-26.
312
НАУКА О ДУШЕ
Другими словами, универсалии первого вида суть нечто иное, как «реальные сущие». Они являются чем-тореальным, существующим «внутри вещи». Универсалиитретьего вида – «сущие разума». Это есть нечто, чторазум понимает, воображает, представляет в качествевнутреннего для познаваемого предмета.
Что же касается универсалий второго вида(метафизических), то их также следовало бы отнести ксущим разума, поскольку они вырабатываются разумом, неприсутствуют «физически» в вещи, которая познается и,кроме того, не добавляют ничего мыслимой вещи (вещи,существующей «объективно» в разуме, являющейсяобъектом разума по своему онтологическому статусу, или«идеальным объектом»). Универсалия в метафизическомаспекте, таким образом, есть, по Суаресу, то, чтовнешне обозначает вещь.
Здесь есть нюанс, требующий разъяснения. Изсказанного выше следует, что Суарес различает два видауниверсалий: 1-й вид – понятия (concepta), являющиесярезультатами ума, зависимые от содержания и операцийразума, которые технически можно определить как entiarationis; 2-й вид – те вещи, чье существованиенезависимо от содержания и операций разума,определяемые по своему статусу как entia realia,названные (denominatur) универсалиями и познанныепосредством понятий (concepta).
Каков же статус природы (сущности, чтойности,формы) единичной вещи, благодаря которой мы познаемэту вещь? Природа единичной сущности есть лишьаналогично и потенциально универсальная. Она естьуниверсалия ровно настолько, насколько являетсяабстрагированной и выполняет в разуме функции
313
НАУКА О ДУШЕ
представителя вещи. Все вещи, по Суаресу, которые существуют независимо
от операций разума, должны быть единичными(singulares). «Бытие универсальным», таким образом, неявляется внутренним (intrinseca) свойством чего-либо,если только это не общее понятие. То есть, реальныесущие, названные универсальными in re, ничем неотличаются и не могут быть различены от индивидуальныхсубстанций. Точнее, единичные вещи, чье существованиенезависимо от ума, могут быть корректно названыуниверсальными только в результате логических иязыковых операций – «внешних наименований»(«denominatio extrinseca»).347
XII.
Внимательный читатель, однако, укажет на другиеформулировки, встречающиеся, например, в тексте«Метафизических рассуждений». В частности, в этомпроизведении Суарес прямо говорит, что «вещи,называемые универсалиями, действительно существуютреально».348 На наш взгляд, речь следует вести неопротиворечии или о несогласованности мнений, но онеобходимости правильного понимания процессаденоминации. Для обеспечения правильности такогопонимании необходимо вернуться к суждениям Фомы, накоторые опирается Суарес.349
В «Сумме против язычников» (или в «Сумме против347 Suarez F. Disputationes Metaphysicae. VI.4.6.348 «Res, quae universales denominatur, vere in reexistunt» (Suarez. F. Op. cit. VI.2.1.)
349 Vide: Ross J.F. Suarez on “universals” // The Journalof Philosophy. 1962. Vol. 59. P. 736-748.
314
НАУКА О ДУШЕ
языков» – «Summa conta Gentes», – как называет этопроизведение Суарес) Аквинат выражает следующую мысль:Существуют два способа, по которым может деноминативнообозначаться некая вещь. Во-первых, по тому, чтосуществует вокруг нее, то есть, когда она сказывается«находящейся там-то в соответствии с местом и тогда-то в соответствии со временем». 350 Во-вторых, вещьможет быть обозначена тем, что внутри нее. Так, нечтосказывается белым от белизны. Но вещь не находит своегообозначения, если деноминация произведена произвольно, не посуществу. Так, нельзя назвать отцом человека, которыйне имеет детей, то есть, если ему не присуще качествоотцовства.351
Когда Суарес говорит о вещах, которые обозначаютсякак универсалии, он не имеет в виду внутреннеесвойство вещи иметь общую природу. Он имеет в виду то,что называется универсальным по причинно-следственнымотношениям; универсалии формируются в разуме, которыйпосредством одной формы воспринимается целый классвещей. Формальной причиной в этом случае выступает самразум, а не какие-то «общие формы» или «природы» вединичных вещах.
Суарес не углубляется в классификацию обозначений.Для него определяющим является положение о том, чтоприрода (сущность, чтойность, форма) единичной вещиесть результат внешней деноминации, точнее,наименования через логические связи между природой350 Vide: Ross J.F. Op. cit. Р. 740.351 Среди примеров внешней деноминации у Фомывстречается такой: «Здоровый – служащий знакомздоровья для живого существа.» (Vide: Thomas Aquines.De Veritate. Q. 21. Art. 6.)
315
НАУКА О ДУШЕ
единичной вещи и формальным понятием в мышлении.
XIII.
Важная проблема, которую рассматривает Суарес всвоем учении о душе – проблема познания различныхклассов субстанций. И хотя «в фокусе» человеческогопознания, с точки зрения философа, находятся единичныематериальные предметы, entia realia в прямом исобственном смысле, Суарес разрабатывает «порядокпознания» других объектов. В качестве примераобратимся к трактовке познания нематериальныхсубстанций.
Во-первых, уточним, что под нематериальнымисубстанциями мы, вслед за Суаресом, будемподразумевать Бога, ангелов, отдельные (от телеснойоболочки) души и прочие «духовные вещи», традиционныеи привычные для схоластики. Во всяком случае, речьпойдет о направленности познания «вовне». (Темусамопознания Суарес рассматривает отдельно.)352
Во-вторых, нам придется сделать отступление поповоду того, как, под каким углом зрения могутпознаваться вещи.
Любая вещь, говорит Суарес, может познаваться двумяспособами: во-первых, как существование («an sit»),во-вторых, как сущность («quid sit»). Познание вещи сточки зрения существования также может быть двояким:либо она рассматривается как актуально существующая,либо как имеющая способность к существованию.353 Вещь с352 Vide: Suarez. F. De anima. IX.5.353 Разница существенна. Одно дело познавать реальнуювещь, другое дело иметь дело с тем, что несуществует, но лишь потенциально обладает
316
НАУКА О ДУШЕ
точки зрения ее сущности также может познаваться двумяспособами. Первый способ – так называемое«совершенное» или «полное» познание, завершающеесясоставлением адекватного понятия о вещи, второй способпредставляет собой частичное, акцидентальное познание,когда разум ограничивается лишь определеннымиаспектами вещи, хотя и относящимися к ее сущности.
«Совершенное» познание предполагает максимальнуючеткость, ясность и глубину, оно постигает сущность(«quidditas») вещи и через сущность высвечиваетвсевозможные свойства предмета. Такой вид (или,точнее, подвид) познания не является «собственным» длячеловеческого разума.354 «Несовершенное» познание – этообычное оперирование общими видами для формированияпонятия о данной вещи.355
Как же происходит познание нематериальнойсубстанции? Обычно наш разум, объясняет Суарес,получает интенциональные виды посредством чувственныхдействий и от чувственных вещей, которые на насвоздействуют. Механизм такого воздействия дается приописании того, как познаются материальные субстанции.В познании нематериальных субстанций разумная душа неможет использовать подобный «информационный канал».Опыт подсказывает нам, что это так, поскольку никтоестественным образом (naturaliter) не может познать Богавозможностью существования.
354 «Совершенное» познание – привилегия ангелов, хотяиногда оно доступно и человеку. Это происходит в техредких случаях, когда разумная душа воспринимаетвещь через ее собственное понятие, непосредственно,недискурсивно.
355 Suarez. F. Op. cit. IX.6.3.
317
НАУКА О ДУШЕ
даже в каком-либо отдельном его аспекте. Нам доступнылишь следствия, творения, свидетельства и т.п.356
Поскольку Бог занимает исключительное место срединематериальных субстанций, имеет смысл рассмотретьпознание духовных сущих на этом примере. СуществованиеБога может, как нам уже известно, познаваться черезпознание его творений. Это естественно, посколькупервая причина по необходимости должна иметь связь сосвоими следствиями. По лестнице познания следствий мыподнимаемся к познанию причины.
Его сущность, кроме того, может познаваться«несовершенным» познанием, частично, неясно инеточно.357 Это происходит тогда, когда мы стремимсяотвлечься, абстрагироваться от следствий исосредоточиться на созерцании первопричины. Тогда мыспособны познать, что он есть бытие по сущности, а непо причастию, поскольку не имеет причины, но самявляется причиной причин. Также мы познаем, что Богесть благо, бесконечность, мудрость, и таким образомформируем собственное понятие о Боге, посредствомкоторого мы и познаем его сущность. Никогда, однако,на этом пути нам не достичь адекватного понятия Бога,поскольку творение не может «совершенно» познатьсущность Творца, как конечное не способно охватить
356 Подтверждая свои суждения на этот счет, Суаресссылается, в частности, на трактат Псевдо-Дионисия«О Божественных именах».
357 «Deus, quantum ad “am est”, potest evidentercognosci per creaturas, et eius etiam quidditasconfuse et imperfecte, non distincte et clare.»(Suarez. F. Op. cit. IX.6.6.)
318
НАУКА О ДУШЕ
бесконечное.358
Итак: Бог (нематериальное сущее) доступен познаниючеловека, но неадекватно. Причина этой неадекватности– с технической точки зрения – в том, что человеческийразум не может выработать собственный и адекватный вид(proprium et adaequatum specie) для Бога. Следовательно,если мы и оказываемся в состоянии иметь представлениео Боге в естественном свете, то это будет познание вопределенной мере. Подобное рассуждение с небольшимидополнениями можно распространить и на познание другихнематериальных субстанций.359
XIV.
Вернемся к познанию единичных вещей, причемсубстанций, которые являются чувственными лишь peraccidens, то есть «привходящим образом».
Главное отличие чувств от разума, по мнениюСуареса, состоит в том, что чувства останавливаются впознании, не проникая далее внешних акциденций. Сразумом дело обстоит иначе. Начав с познания внешнихакциденций, он углубляется в созерцание того, чтоявляется их субъектом. Поэтому о разуме говорят, как о«читающем внутри», «проникающем внутрь», «добирающемсядо сути». «Intellectus», «inte-lecto», «intus legens»,– таков этимологический ряд, который выстраивает358 О бесконечности Суарес делает важное замечание.Бесконечное бывает двух родов: бесконечное «по сути»и бесконечное «по числу». Причем оба родабесконечности нельзя назвать абсолютнонепознаваемыми. Человеческий разум способен ихпознать (хотя и в определенных пределах).
359 Vide: Suarez. F. Op. cit. IX.6. 7-12.
319
НАУКА О ДУШЕ
Суарес.360 Стало быть, не представляет какой-либопроблемы способ, которым разум познает акциденции,имеющие чувственный характер. Оставляя отпечаток вчувствах, соответствующие виды запечатлеваются также –благодаря действию активного разума – и в разумнойдуше. Если здесь и есть проблема, то, по мнениюСуареса, она заключается в том, что существуютсубстанции, которые «не являются собственночувственными», а то и вообще не имеют чувственныхакциденций.
Порядок познания обеспечивается порядком бытия.Познание есть следствие воздействия реальных сущих натело и душу. Entia realia воздействуют на чувства, вкоторых инициируют формирование единичных чувственныхобразов – видов.
Уточним «схему познания», которую мы приводиливыше, и напомним, при этом, что Суарес представляетименно логический порядок (а не психологический механизм)познания:
Во-первых, разум получает репрезентативный вид,замещающий саму чувственную и материальную вещь. Вещь,таким образом, оказывается представленной в актевоображения. При этом представляются в первую очередьчувственные акциденции, в соответствии с отдельнымивидами чувств, которыми располагает наше тело, затем вдействие вступают общие чувства (sensibilia communia),которые формируют целостный и конкретный образпредмета.
Когда разум доходит посредством рассудочногопознания (per discursum) до познания субстанции, онпродуцирует вид, который представляет саму субстанцию.360 Ibid. IX.4.1.
320
НАУКА О ДУШЕ
Наша душа, таким образом, начинает познание сакциденций. Через них она проникает к субстанции.Поэтому, чувственное познание очень важно: оноспособствует познанию сущности вещи («субстанциальнойчтойности» – «quidditas substantialis»).361 Таковобычный порядок познания: через свойства вещи мыпознаем ее сущность, достоинство и качества.
Некоторые акциденции, таким образом, познаютсяраньше субстанций. Их виды создаются непосредственноактивным разумом без того, чтобы разум располагалспециальным понятием (в то время как для субстанциитакое понятие уже необходимо).362
Имеется, однако, обстоятельство, которое необходимоучесть. Дело в том, что Суарес различает363 два видапознания – познание практическое, связанное сдеятельностью, и познание созерцательное,спекулятивное.364 Точнее, он говорит о соответствующихспособностях или частях разума. Практический разумнаправлен на единичное, индивидуальное. Его знание(prudentia) заключается в способности познать, оценить ипринять решение относительно «этих вот» вещей,встречающихся вокруг, в жизненном мире. Конечно,практический разум обращается иногда и к универсалиям,но это происходит лишь по необходимости и через призмуединичных вещей.361 Ibid. IX.4.9.362 Суарес апеллирует в этом случае к Аристотелю(Метафизика, 1028а) и схоластике, включая ДунсаСкота.
363 Vide: Suarez. F. Op. cit. IX.9.364 Мы упоминали об этом выше, когда представлялирассуждения Суареса об «именах души».
321
НАУКА О ДУШЕ
Спекулятивный («теоретический») разум, в своюочередь, обращен к общим вещам. «Самая» теоретическаянаука (scientia maxime speculativa), то естьметафизика, дает нам наилучшее представление опредмете этой созерцательной части души.365
Итак, при определении того, что первым попадает всферу познания, не будем забывать о делении разума напрактический и теоретический. Когда речь идет опознании «этого человека» или «этой лошади», сначаламы познаем свойства (акциденции), а потом добираемсядо субъекта этих свойств, то есть до материальнойединичной субстанции. Но в случае, если мы трактуемсубстанцию «в строгом смысле», то есть с точки зрения«чтойности», действует уже не практический, аспекулятивный разум. В этом случае на субстанцию «кактаковую» направлен свет нашего разума, она естьпервый, в том числе и «в порядке поступления», предметпознания. Акциденции и чувства (если они вообще имеютзначение) отходят на второй план.366
Для нас, как мы уже говорили, в философии познанияСуареса наибольший интерес представляет мысль о том,что первыми в познании будут образы единичных вещей,следовательно, познавательный приоритет оказывается заединичными, конкретными предметами, за тем, чтоАристотель называл первыми сущностями. И хотя примыслительном усилии познание может быть направлено наболее абстрактные и общие вещи и принципы (вплоть доатрибутов и других проявлений Бога или до esse в
365 Suarez. F. Op. cit. IX.9.4.366 Ibid. IX.4.9.
© Д. В. Шмонин, 2001
322
НАУКА О ДУШЕ
качестве предмета метафизики), разумная душа настроенав первую очередь на познание единичного. Такой подходявляется вариантом решения аристотелевского вопроса отом, как возможно познание индивидуального, еслизнание (наука) возможно лишь об общем. Также он решаетгенетически связанную с этим вопросом проблемууниверсалий, показывая, как познается универсальное икак оно (помимо познающего ума) существует в реальныхвещах.
Направленность познания на индивидуальные вещи –важная особенность метафизики Суареса. Кроме того, ондает описание индивидуации как онтологического принципа,трактовка которого в сочетании с представленными намиположениями теории познания, указывает на ключевоеместо единичной вещи «в цепи бытия», в универсуме. Ихотя учение об индивидуации и индивидуальном единствебытия систематически изложено в «Метафизическихрассуждениях», мотивы и общий план этого ученияСуареса отчетливо проявляются в его «Комментариях накниги Аристотеля «О душе» ».
SUMMARY
The theory of cognition of Spanish Jesuit FranciscoSuarez (1548-1617) is not simple a supplement to hismetaphysics. In the philosophical synthesis of thisgreat representative of the Second Scholasticism,epistemology plays the role of foundation for thetheory of being. One can find these epistemologicalfoundations of Suarezian metaphysics in the«Commentary to the books of Aristotle De anima» which
323
НАУКА О ДУШЕ
on a level with «Metaphysical disputations» is one ofthe main philosophical works of Spanish thinker.Moreover, Suarez considers that the «Teaching on Soul»should be included (although, partly) to the subjectof metaphysics as the «science treating on severalclasses of reality».
The article generally presents Suarezian conceptionof human soul and the interpretation of medievaldoctrine of intentionality, specifically focusing onthe mechanism of cognition of individual materialsubstances. The singular things could be cognizedthrough their own representative specie, whichpresents to the human mind individual properties ofthe thing. This decision of the problem ofintellectual cognition of singular entities is inconformity with the teaching on individual unity andindividuation, presented in the Disputation V of«Metaphysical disputations», which is, in our opinion,one of the central points of the philosophical systemof Francisco Suarez.
ПРИМЕЧАНИЯ
324
АНДРЕЙ БЕЛОБОЦКИЙ
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА БОГОМ ПРЕОСВЯЩЕННОГО УЧИТЕЛЯ
РАЙМУНДА ЛЮЛЛИЯ(публикация и примечания В.А. Кульматова)
Публикуется по списку F.III.1,хранящемуся в рукописном отделеРоссийской национальной библиотекис сохранением авторских орфографиии пунктуации.
[Часть II.] Глава осмаяО истинне
В сей главе перво опишу истинну, во второй – частиили составы ея объявлю, в третие положю пределениеистинны, таже извещу что есть союзно, и что противноистинне. Вопрос: Что есть истинна. Ответ: Есть формаили совершенство естеств, по которому истинны истиннотворит, или по которому всякие естества истинноепребывание и деяние имеет. Сие описание есть общеевсякой истинне, созданней или несозданней. Тако убо оБозе яко в твари истинна совершенство есть, аще разноеот совершенства твари: и во обоих естествах не можетбыти истинна без истиннаго пребывания, и деяниеистинно действующаго. Вопрос: Какая суть части илисоставы истинны. Ответ: Три – истинно действующий,истинно деяние, истинное делательное. Без трех сихникако может быти истинна. Понеже убо истинна естьсовершенство естествам, конечно имеет подлежащее, в
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА
котором пребывает, сие же есть истинно действующий,аще не будет истинна делателнаго. Почему убо наречетсяистинно действующий – аще ничего истинно не сотворит,ни же сотворити может и како истинное что творит, безистиннаго деяния, и како истинное деяние быти можетбез истиннаго действующаго. Вся сия неудобныя суть,тем без сих трех вещей, яко без частей своихвнутренних, или составов конечно нужных истинна бытине может; не во всех же естествах присно пребывать,истинно действует, но в едином токмо Бозе, которомуисти нна не от случая яко твари, но существо его.Истинно действующий есть Отец, истинно деяние – Сын,истинно делаемое – Дух Святый. Действующий нестьделаемое, ни же делаемое действующий, ни жедействующий [1] или действителное: составы убо сиясуть, и части внутренния истинны, и причитаютсяипостасем, а не существу Божию. Обаче неистинная естьистинна действующаго, инная деяния, иннаядействителнаго, но всех трех едина истинно. Существоубо Божие есть не случаи, ниже ипостась. В Бозе убокроме естества и ипостасей ничто же инное обретается.Аще же совершенство Божие [2] с естеством Его, нестьубо части никаких в несложенных оным в неслитом инеопределенном, предвечном естестве. Тем же истинныйесть Отец, истинный Сын, истинный Дух Святый. Обачевсех трех едина истинна несозданная, нескончанная,непременная, непорочная, непоколебимая, вечная,всемогущая, праведная, обличающая вся деланеправедная, открывающая и показующая вся прегрешения,разумная и разум подающая всей твари, како чтосотворити, силная, господствующая везде, покаряющаявсякую неправду, благая, святая, славная присно,
326
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА
блаженная, хвалимая, величаемая и покланяемая нанебеси и на земли, наставляющая на путь истинный всютварь, но наипаче человека, исправляюща всянесовершенства, законоуложителная, наказующа злых ивенчающа благих, милосердьствующа о всех по науце убобогословов, цитра кондигнум, сиречь Бог милосердиемнаказует менши, нежели достойны есмы, еже они не токмоо сей, но и о будущей жизни разумеют, не токмо доволноопишет истинну оную разумом нашим непостижимую, тайнуюпред человеки и ангелами сокрытую вся по воле своей, исмотрению предвечному действующую, ея же способием [3]токмо малая в твари обретается, яко не токмо вчеловецех, но и во ангелах сыскалася неправда, и отистинны отступление, которые отступление дорого сталоХристу, называющему себе самого истинною, путем ижизнию. Его же аще не любим и заповеди его несохраняем. Несть истинна в нас, но кращения радиприсекая слово о истинне твари. Понеже с определениясвоего, ниже положеннаго абие объявится.
Вопросы о определениях истинны
Вопрос. Колико многая суть определения истинне.Ответ. Многая. От них же избраннейшая сия суть:истинна инная есть первая, инная от перво исходящая;истинна инная есть вещей, инная разума, инная словес,инная дел. Истинна инная есть закона естественнаго,инная за кона писаннаго, инная новыя благодати.Истинна инная есть суда, инная милость. Истинна иннаяесть свободнаго исповедания, инная исповеданиеневолное, мучителнаго, принужденнаго. Истинна естьразрешителна, инная осудителна. Истинна есть иннаязаменная, инная разделенная суть, инная пределение
327
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА
истинне, например существителна, и случайна, плотная идуховная, правлюща и правимая. Токмо не по особну ихне полагаю, потому иже с перваго пределения истинныобъявляются. Вопрос. Что есть истинна первая. Ответ. Убогословов первая истинна есть истинна Божия, начало,вина, и правило всякой истинне и твари; истинна отсебе стояща, сиречь сущесьтвителна, а не случайна, неисходяща ни от кого , но от себе испущающа всякуюправду, правлюща токмо сила, сама никим правимая [4].Тем же не по порятку первое, но по достойности,отличней от всея твари, каково убо может бытиповерстание света с темностию, Божия истинны систинною твари. Вопрос. Что есть истинна от первыяисходящая. Ответ. Есть истинна всех естеств созданных,тако по бытию, яко по деянии их случайна им и неприсно присуща, правимая истинною Божиею, и законом отБога. Истинным подданным во властях и на чальствахправимая и правлюща купно в подврученных, а наипачеобещанием послушание связанным правимая, токмо ащевсяк человек имать кого правити и наставляти на путьистинный. Чювства убо его плотные, и страсти души вообласти своей имеет по реченному Богом [5]: под тобоюбудет желание твое и ты господьствовати будеши надним. Вопрос. Что есть истинна вещи. Ответ. Естьпребывание естеств в чем от Бога созданные суть. Словосие разумеется о существах, а не от прилучаемыхсуществам. Всякое убо существо от Бога есть, и вся посуществу благая суть. Тварь не может существа никаковасотворити, всем видимым и невидимым сам Бог творецесть, не токмо на небеси и на земли, но и во адесущим. Но несть [6] творец случаемых вещех ихсуществу: яко грех за которой во аде наказуется, не от
328
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА
Бога, но от них самых есть. Вопрос. Что есть истиннаразума. Ответ. Есть истинное познание вещи, каковасама в себе есть, аще добрая, аще злая, истинная илинеистинная. Вопрос. Что есть истинна словес. Ответ.Есть повесть или глаголание согласное мыслисказующаго. Вопрос. Что есть истинна дел. Ответ. Естьтворение вещей по Божию, или по градскому уложению,или по наставлению естественному, всякому убо советего сказует не творити инному чего сам не хощет.Вопрос. Что есть истинна закона естественнаго. Ответ.Оправдание человеков делами своими праведными, отАдама до Моисея поживших, которыи закона писаннаго неимели, но наставляеми были самым Богом, и противсовести своей ничего не творили, иже не на скрыжалехно в сердцы закон Божий написан имели. Обаче истинна иоправдание оное не така по делам яко по смотрениюбудущаго Христова страдания деялося. Вопрос. Что естьистинна закона писаннаго. Ответ. Есть оправданиечеловеков в Ветхом Завете поживших законом Моисеюподаным силу имеющее до новые благодати. Обаче не безпредвидения и силы в слух и страдания Христова, окотором мнози пророцы пророчествовали. Вопрос. Чтоесть истинная новыя благодати. Ответ. Есть оправданиечеловеков страданием христовым, и верою благочестивою,з добрыми делами слученною. Вера убо без дел мертваесть, и дела без веры мертвые суть. Вопрос. Что естьистинна суда. Ответ. Есть истинное воздание [7]всякому по делам его на судьбище Божием, иличеловеческим предьложенным. Вопрос. Что есть истиннамилости. Ответ. Есть оправдание человека помилосердным делам, яко алчьнаго накормити и протчая.Вопрос. Что есть истинна свободнаго исповедания.
329
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА
Ответ. Есть истинное и неутаенное сказание греховсвоих на исповеди святей, которым человек оправдаетсяпред Богом, аще сокрушение сердца имеет, может ивсякое волное вин своих правдивое извещение назватися,истиннае исповедание свободнаго. Но не всегда темоправдаются людие, множицею убо правду сказуемпохваляемся в злых делах наших. О сем исповеданиюсвободном тако духовным, яко недуховным, ведай яко двевещи оному последуют. Вина и наказание не всегда обеоставляются. Но иногда вина токмо, а иногда и вина инаказание; временем же ни вина, ни наказание, яко егдакто величается о злобах своих. Вопрос. Что естьистиннаго исповедания неволнаго. Ответ. Есть сказаниеправды на пытках по нестерпению мук задаемых, для радиподлинные ведомости вин, до которых судимых непризнавается. Вопрос. Что есть истинна разрешителна.Ответ. Есть свобождение неповинных. Вопрос. Что естьистинна осудителна. Ответ. Есть праведное наказаниегрешных по великости вин их и указу Божию, илиградцкому. Вопрос. Что есть истинна заменная. Ответ.Есть праведная премена вещи на вещь, сиречь, товару натовар, или на денги, яко свещи вощаныя меняют безобьману пременяющих продающих, и купующих, или поуговору работающих, такожде в долг что или под закладдающих или для [8] оберегание полагающих, тако списмом и крепостию, яко без писма и крепости. Вопрос.Что есть истинна разделителна. Ответ. Есть соблюдениеправды в разделению чинов [9], или имение, по Божиюили градцкому уложению, и по достойнасти или выслугамчеловеческим, например по Божию и градцкому уложениюзаконни сынове не наложницы наследницы бываютотцовскии первороднии, наступают на престолы царския,
330
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА
и чины разделяют достойным и выслуженным подданнымсвоим. Аще же не тако творят, не соблюдают истинныразделителные.
Вопросы о союзных и причитаемых истинне
Вопрос. Кая суть союзная истинне. Ответ. Судправедной, неповинных освобождение, грешных наказание,труждающимся мзды воздаяние, порядок управление,исправление заповеди, уложение тако божие, якоградцкое, предначинание Божие, естество пребывание,образец, подобие, дело нужное, за мени, разделталантов, принятие и употребление праведное,пребывание в чем кто позван от Господа Бога и протчаяво ответах на вопросы о пределениях истинны помянутая.Вопрос. Кая суть противная истинне. Ответ. Сия сутьнеправда, ошибка, лжа, замешание, неисправность,обман, неподобенство, неуправимое, случайное,непорядное, лицемерие, посмеяние, клеветание,насмешка, поругание, поблажение, ласкание, лщение,прелщение, наконец вся грехи против заповедей Божиихсотворенные, закон убо Божий правило есть истиннынашей.
ПРИМЕЧАНИЯ
Варианты по списку РНБ ОЛДП О175:1. «деяние действующий».2. «совершенство Божие определяют богослове от естества Божияразумом, но сущим делом едина вещь суть, вся совершенства Божияс естеством».
3. «стень».4. Исправлено по списку ОЛДП О175, в рукописи: «никакимправилам».
5. Исправлено, в рукописи: «Бог».
331
ВЕЛИКАЯ И ПРЕДИВНАЯ НАУКА6. Исправлено, в рукописи: «небеси».7. Исправлено, в рукописи: «создание».8. Исправлено, в рукописи: «для».9. Исправлено, в рукописи: «человеков».
332
В. А. Кульматов
ОТ «ARS MAGNA» Р. ЛУЛЛИЯК «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ»
А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
Знакомство с идеями Раймунда Луллия и освоение егонаследия в России началось по сравнению с другимиевропейскими странами довольно поздно, в конце XVIIвека. Ключевым моментом в распространении его ученияявился приезд Яна (Андрея) Белобоцкого в Москву вфеврале 1681 г.
Именно с этого времени началась популяризациялуллиевых идей среди образованных жителей Москвы.Способствовала тому и преподавательская деятельностьБелобоцкого и его «ученые» разговоры. Первоначально (свесны 1681 г.) эта деятельность носила устныйхарактер[1]. Позднее, вероятно, с середины 1690-х гг.,благодаря созданию Белобоцким русских луллианскихпроизведений, начался письменный этап. В отличие отмногих средневековых европейских мыслителей, чьи трудыоставались неизвестны русскому обществу, у идей Луллияв России сложилась более счастливая судьба. Луллияпереводили, толковали, переписывали, создавалисобственные русские версии его «Великого искусства».
Известны четыре луллианских произведения на русскомязыке, приписываемые Белобоцкому, благодаря которымрусские читатели действительно могли обучиться«Искусству» Луллия. К ним относятся: «Краткоеискусство», являющееся переводом «Ars brevis»;«Великая и предивная наука Богом преосвященного
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
учителя Раймунда Луллия» – вольное переложение «Arsmagna»; под разным названием одного содержания списки,условно называемые «Риторика Луллия»; «Книгафилософская». Существует также сокращение русской«Великой и предивной науки Р.Луллия», сделанноенастоятелем Выговской старообрядческой общины АндреемДенисовым.
К этим произведениям следует добавить еще однуработу: «Таблица сокращенная книг паметных художестваизобретелского Генрика Корнелия Агриппы». Этодословный перевод из известного издания Зетзнера(Tabula abbreviata commentariorum artis inventivaHenrici Cornelij Agrppae) [2]. Данная работапредставляет собой подробную схему, построенную наоснове «Ars brevis», перечень всех понятий икатегорий, из чего они состоят и на что разлагаются.Данный перевод принадлежит либо Белобоцкому, либокому-то из его круга, так как некоторые терминыпереводятся несколько иначе, чем это имеет место в егопроизведениях.
Этими работами заканчивается первый периодраспространения луллизма в России. В течение всегоXVIII века работы Белобоцкого активно переписываются:к настоящему времени «Краткое искусство» известно в 15списках, «Великая наука» в 75, «Риторика Луллия»(вместе с фрагментами из нее) в 30, «Книгафилософская» в 12 списках. Сокращение русской «Великойнауки Андрея Денисова» в 9 списках.
Новый период начинается с конца XVIII века. К 1792г. относится вновь сделанный перевод «Ars brevis» итри псевдолуллианских работы, переводы конца XVIII –начала XIX века: «Ключ Раймунда Люллия, без которого
334
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
других его книг разуметь не можно, с немецкого нароссийский язык переведенный в пользу учениковгерметической науки на свет изданный любителемалхимии»; «Древо жизни. Разговор Раймунда Люллиямайорского, переведенный с итальянского языка налатинский»; «Изъяснение или истолкование РаймундаЛюллия. Им самим писанное.»
В русских печатных изданиях имя Луллия появляетсятолько в конце XVII века. (Еще не прерваласьрукописная традиция, переписываются сочиненияБелобоцкого, «Великая наука» и перевод «Ars brevis».Наиболее поздний список имеет бумажные знаки 1818 г.)
Выделяется несколько основных подходов врассмотрении идей Луллия. Самым ранним и определяющимв печатных изданиях было рассмотрение Луллия преждевсего как алхимика (каббалиста и мистика) и в связи сэтим обязательное упоминание различных фантастическихлегенд из его жизни. И хотя современнымиисследователями доказано, что Луллий не был алхимиком,и алхимические работы под его именем являютсяпсевдолуллианскими, это воззрение остаетсягосподствующим и до настоящего времени не только среди«народных масс», но и среди образованной частипублики. Это объясняется прежде всего отсутствиемопубликованных переводов работ каталонского мыслителя,а также тем, что данное воззрение и связанные с нимлегенды постоянно воспроизводятся как в литературе поистории наук (прежде всего химии), так и в собственноалхимической и мистической литературе, которая внастоящее время переводится и переиздается у нас вбольшом количестве [3].
Другой подход, связан с историей философии и
335
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
историей логики (а также историей математическойлогики, кибернетики) [4].
Одним из основных подходов (особенно в последнеевремя) в рассмотрении русских луллианских работ былоизучение их с точки зрения истории русской риторики иистории русской литературы. Шло изучение русскихлуллианских рукописей, а также изучение жизни итворчества Белобоцкого [5].
Не ставя задачу дать полный обзор всей имеющейсялитературы по данному вопросу, отметим несколькихнаиболее ранних источников, прежде не упоминавшихся висследовательской литературе. Их авторы рассматриваютЛуллия прежде всего как алхимика.
Одно из первых упоминаний Луллия в российскойпечати встречается в переведенной с немецкого иизданной в Петербурге в 1780 г. книге И.Т. Эллера подназванием «Опыт о начале и рождении металлов»:«Удивительно, что толико великие мужи сих столетий,как то Арнольд Вилленевский, Раймунд Луллий, АльбертВеликий, Рогер Бако, Роберт Флюдд и многие другие,кажется что избрали сию науку (т.е. алхимию.- В.К.)своим превосходнейшим упражнением» [6, С.7] инесколько далее: «Впрочем, довольно известно, что ещедо Парацельса три сии помянутые начала (сера, ртуть,соль.- В.К.) гораздо были известны Раймунду Луллию иИсааку Голанду» [6,С.11].
В этом же русле имя Луллия появляется и впроизведениях В.Ф. Одоевского. В повести «Сильфида»,написанной в 1837 г., при описании книжного собрания,унаследованного главным героем от своегодядюшкимистика, упоминаются «сочинения Парацельсия,графа Габалиса, Арнольда Виллановы, Раймонда Луллия и
336
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
других алхимиков и каббалистов» [7, Т.2, С.111]. Вэпилоге «Русских ночей» Фауст Одоевскогопровозглашает: «Все нынешние химические знаниянаходятся не только в Альберте Великом, Рогере Баконе,Раймунде Луллии, Василии Валентине, Парацельзии и вдругих чудных людях сего разряда, но эти знания былистолько разработаны, что встречаются и в алхимикахменьшей величины» [7, Т.1, С.216].
К этому же направлению следует отнести и публикациюанонимного автора, появившуюся в журнале «Москвитянин»в 1851 г. и озаглавленную «Искатели золота в средниевека. Раймунд Луллий». Это первая статья на русскомязыке, целиком посвященная Луллию. Автор с восторгомпишет о Луллии, сравнивая его с Прометеем. В статьеЛуллий рассматривается прежде всего как алхимик, ибольшая часть статьи посвящена описанию различныхлегенд из его жизни. Но именно с этой статьиначинается осмысление идей средневекового испанскогомыслителя в российской литературе. Называя Луллия«алхимиком мысли» автор дает ему следующую образнуюхарактеристику: «Раймонд Люлль принадлежит к числу техлюдей, слава которых всегда остается сомнительною,потому что гений их был слишком эксцентричным»[8.С.287]. Впервые в статье говорится и обинтеллектуальной машине: «Он в древности еще подалмысль к методе Жакото, пытаясь создатьинтеллектуальную машину, которая должна была привестипод один уровень все умы и сделать их равномерноспособными к гениальным помыслам и к дарам таланта»[8, С.288].
Необходимо отметить еще один важный момент вразбираемой статье. Автор впервые предлагает
337
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
рациональное объяснение странным определениям, которыеЛуллий дает в своем «Искусстве»: «По его понятиямдефиниция тогда только правильна, когда выражаетпричину, действие и результат: именительный падеж,глагол и подлежащее. Он не верил, чтобы в метафизике ив физике могли быть равно-значения (синонимы) и самупотреблял в дефинициях наименование определяемогопредмета, что в глазах толпы казалось ошибкой, илиизбытком простодушия. Например, по его способудефиниций, изобретение следовало бы определить так:действие изобретателя, который изобретает изобретение;по его понятиям полная дефиниция заключается всовокуплении этих трех выражений: изобретатель, какпричина или именительный падеж; изобретает как глаголили действие, и изобретение, как результат. Понять этобыло то же, что постичь дух определяемого слова, имеяего силепсис, анализ и синтез» [8, С.288].
Прежде чем высказать ряд замечаний по поводусоотношения «Великой науки», основного русскоголуллианского произведения и его прототипа, опишемсодержание «Ars generalis et ultima» или «Ars magna»[2, С.218-663], обращаясь по необходимости к егократкому варианту, то есть к «Ars brevis».
Произведение состоит из 13 глав. 1-я глава –алфавит, служащий для составления фигур, а также длясмешения принципов и правил «с целью исследованияистины». Алфавит следует выучить наизусть, иначе«мастер будет не в состоянии надлежащим образомиспользовать данное искусство».
Алфавит состоит из 9 букв латинского алфавита.Каждой букве соответствуют понятия из 6 колонок, такчто получается следующая таблица (Таблица 1).
338
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
Таблица 1
ФигураА
ФигураТ Вопросы Субъект
ыДобродет
ели Грехи
B доброта различие существует ли? Бог Справедли
вость Жадность
C величие согласие что? Ангел Благоразумие Обжорство
D вечность противоречие чего? Небеса Cтойкость Вожделение
E могущество начало почему? Человек Умереннос
ть Гордость
F мудрость середина сколько? воображаемый Вера Ленность
G воля конец какоговида?
чувствительный Надежда Зависть
H сила большинство когда? растител
ьныйМилосерди
е Гнев
J истина равенство где? элементный
Терпеливость Ложь
K слава меньшинство
как? и счем?
инструментальный Любовь Непостоянс
тво
1-я рубрика – всеобщие понятия, выражающие атрибутыБога, его имена (dignitas, по Луллию).
2-я рубрика – три набора отношений, каждый изкоторых, в свою очередь, подразделяется на три.
3-я рубрика – вопросы. Они восходят, как былоподмечено исследователями, к десяти аристотелевскимкатегориям. Хотя представлено 10 вопросов, однако, всвязи с 9-членным делением таблицы, последние двавопроса объединены и отнесены к одной букве.
В 4-й рубрике приводятся субъекты. Данные субъектыпредставляют лестницу бытия, по которой разум можетвосходить от низшего элементного уровня к высшему – ктворцу всех остальных субъектов и к их причине – к
339
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
Богу, и, соответственно, спускаться от высшего книзшему. Несколько отделено от других понятие«инструментального». Оно не является определеннойступенью мироздания, а выполняет функцию орудия,инструмента, с помощью которого разум исследуетостальные субъекты.
В 5-й рубрике перечисляются добродетели, в 6-йгрехи. Алфавит в виде приведенной таблицы дан в «Arsbrevis». В «Ars magna» просто перечислены под 9буквами соответствующие понятия.
Глава II «Ars magna» трактует о 4 фигурах . Перваяфигура обозначается через букву А, состоит из трехконцентрических кругов и разделена на девять «камер».В «камеры» внешнего круга вписаны 9 букв (В, С, D, Е ит.д.) В средний круг вписаны 9 первопринципов (благо,величие и т.д.) и во внутренний круг соответствующиеим определения: благой, великий и т.д.
Круги вращаются относительно друг друга, так что«любой субъект может стать предикатом и наоборот».Приводится пример такого обращения: «благо естьвеликое» и «величие есть благое». Подобным же образомможно составить суждения из сочетаний любых других парпервопринципов и менять в них субъект и предикатместами.
Луллий утверждает, что с помощью данной фигурыможно «находить средний термин и т.о. приходить кумозаключению» [2, С.3].
В тексте, посвященном первой фигуре, Луллийвыстраивает определенную иерархию понятий. Самым общимявляется понятие, взятое само по себе, например,благо, величие и т.д. Если же какой-либо первопринципприменяется к другому, то первоначальное понятие
340
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
становится менее общим. Например, когда мы говорим«великое благо». Наименее общим является первопринцип,применимый к единичному субъекту. Например: «благоПетра есть великое». Таким образом, разум, по Луллию,имеет лестницу для восхождения и нисхождения, различаяполностью всеобщие, менее всеобщие и всецело единичныепонятия.
В конце описания первой фигуры Луллий высказываетследующую мысль: все существующее может быть подведенопод вышеперечисленные первопринципы первой фигуры. Подсуществующим подразумеваются прежде всего субъекты,которые приводятся в четвертой рубрике, т.е. различныеуровни бытия. Все, что существует в мире, относится ккакому-либо из этих уровней, к какому-либо из девятисубъектов. А каждый субъект, в свою очередь, есть илиблагой, или великий и т.д., как, например, Бог.Ангелы, которые «являются благими, великими и т.д.»[2, С.3].
Посредством этой фигуры мастер может узнать, какиепонятия обращаются друг с другом, а какие – нет.Обращаются все понятия первой рубрики, взятые сами посебе. Обращаются также все принципы и первый субъектчетвертой рубрики алфавитной таблицы, т.е. Бог.Например, «Бог есть доброта [благо]» и «доброта[благо] – божественна» [2, С.241] Однако не обращаютсясубъекты 4-й рубрики в отношении друг друга, т.е. ниБог и ангел, ни ангел и небеса и т.д. Не обращаютсябожественные атрибуты, т.е. понятия первой рубрики исубъекты 4-й рубрики, кроме Бога, т.е. не обращаютсядоброта и ангел. Не обращаются доброта ангела ивеличие ангела и т.д.
Мы узнаем также, что посредством этой фигуры все
341
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
объединяется, например, когда мы говорим: Бог естьдобрый, великий, вечный и т.д. И так же об остальных.Соответственно о грехах говорится в отрицательномсмысле: алчность не есть добрая и т.д. [2, С.241].
В этой фигуре познаются также врожденные(собственные) состояния и приобретенные. Например,ангел имеет собственные – доброту, великость и т.д.Плохой ангел имеет приобретенные «плохие» атрибуты.
Каждый из четырех первоэлементов, относящийся крубрике «элементный» так же имеет доброе, великое ит.д.
Вторая фигура обозначена через букву «Т» (по первойбукве латинского слова triangulum – треугольник). Онасостоит из трех треугольников [2,С.221-224]. Каждый изэтих треугольников является всеобщим и всеобъемлющим.Три треугольника – это три набора понятий, данных вовторой рубрике алфавитной таблицы.
Углы первого треугольника обозначены через«различие», «согласие» и «противность». Каждый угол, всвою очередь, разделен на три вида. Различие можетбыть между чувственным и чувственным. Например, междукамнем и деревом. Различие может быть также междучувственным и интеллектуальным. Например, между теломи душой. И, наконец, различие может быть междуинтеллектуальным и интеллектуальным. Например, междудушой и Богом, между одним ангелом и другим ангелом,между ангелом и Богом.
Эти же три вида разделения всего существующегоотносятся к другим углам треугольника, обозначеннымчерез согласие и противность. Так выстраиваетсялестница, по которой интеллект восходит и нисходит. Спомощью нее интеллект также может находить средний
342
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
термин и приходить к заключению.Второй треугольник содержит понятия начала,
середины и конца. Совокупность этих понятий такжеохватывает все, что существует, ибо все существует илив начале, или в середине, или в конце своего бытия.
Угол треугольника, обозначенный через понятие«начало» указывает на «причину», «количество» и«время». «Причина» подразделяется на действующую,материальную, формальную и конечную, что соответствуетаристотелевскому разделению попонятия причины.Количество и время, как указывает Луллий, относятся кдругим девяти категориям и к тем вещам, которые можносвести к данным понятиям.
Угол треугольника, обозначенный через понятие«середина» состоит из трех видов. Первый относится ксоединяющей середине, которая существует междусубъектом и предикатом. Например, в высказывании«человек есть животное», серединой или среднимитерминами по Луллию будут их жизнь и тело. Второй видвыражает понятие середины соизмерения. Оно относится кдействию, существующему между тем, кто производитдействие (производящим действие) и тем, на когонаправлено это действие, например, любовь междулюбящим и любимым. Третий вид выражает понятиесередины между экстремумами. Например, линия междудвумя точками.
Угол треугольника, обозначенный через понятие«конец» состоит из следующих трех видов. Первый видобозначает лишение, отсутствие чего-либо. Например,смерть есть окончание жизни. Второй вид обозначаетконец, который относится к экстремумам. Например, дветочки, которыми оканчивается линия. Или любящий и
343
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
любимый в отношении к любви. Последний вид есть конецсовершенства, свершения, который относится к конечнойцели. Например, человек, который существует, чтобыумножать свой род, а также понимать, любить и помнитьо Боге.
Третий треугольник составлен из понятийбольшинства, равенства и меньшинства. Большинствоимеет три вида. Первый – между субстанцией исубстанцией. Например, между субстанцией небес,которая более велика, чем субстанция огня. Второй видбольшинства – между субстанцией и акциденцией, какнапример, между субстанцией и ее количеством. Ибосубстанция существует сама по себе, а акциденция несуществует сама по себе. Третий вид большинства –между акциденцией и акциденцией. Подобно тому какпонимание превосходит видение, а способность видетьявляется более высокой в отношении способности к бегу.
Аналогичное разделение видов имеет и понятие«меньшинство». Понятие угла «равенство» имеетследующие три вида. Равенство по субстанции, или посуществу. Например, между Питером и Мартином.Равенство субстанции и акциденции, как в отношениисубстанции и ее количества. Равенство междуакциденциями. Например, равенство между пониманием илюбовью, которые равны в своем объекте (т.е. в Боге).
Как отмечает Луллий, фигура Т может быть применимак первой фигуры. Так, например, через различие можноразличать между добротой и добротой, между добротой ивеликостью и т.д. Поскольку эта фигура являетсявсеобщей, постольку и интеллект при помощи неестановится всеобщим.
Третья фигура, описываемая Луллием, содержит
344
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
комбинации всех букв, взятых попарно без повторения.Таких комбинаций получается 36. Поскольку каждая букваберется как обозначающая понятие и из первой и извторой рубрики, то третья фигура считается Луллиемсоставленной из первой и второй фигуры.
Каждое сочетание двух букв представляет по Луллиюсубъект и предикат. Поэтому можно найти среднийтермин, который связывает их вместе. Например, добротаи великость связываются через согласие.
Эта фигура показывает, что каждое понятие можетбыть приписано в качестве атрибута к любому другому.Таким образом, интеллект может познавать каждыйпринцип в терминах всех других и на этой основевыводить множество аргументов.
В «Ars brevis» Луллий дает пример того, как, сделав«доброту» субъектом, можно получить суждения, приписавв качестве предикатов все остальные понятия двухпервых рубрик алфавитной таблицы. Так можно образовать17 суждений. Из этого примера (и еще более наглядно изпримера VI главы – исчерпание 3-й фигуры) видно, чтоклетка, обозначенная через любые две буквы, содержит12 различных вариантов сочетаний. Эти варианты,обозначенные какой-либо парой букв, включают всевозможные парные сочетания из четырех понятий, приэтом оказывается возможным прочтение в двухнаправлениях, т.е. когда одно понятие берется вкачестве субъекта, другое – в качестве предиката, инаоборот.
Помимо сочетаний каждой буквы со всеми остальнымибуквами и соответственно, с понятиями, выраженнымиданными буквами, Луллий говорит о возможных вариантахрассмотрения одной «камеры», одного двухбуквенного
345
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
сочетания. Кроме сочетаний понятий из первых двухрубрик алфавитной таблицы следует рассматриватьпервопринципы из первой рубрики через понятия в углахтреугольников второй фигуры, через которые разумнисходит от общего к частному посредством прохождениявидов этих понятий [2, С.248].Через камеры можновыходить также на рассмотрение 9 субъектов и нарассмотрение коррелятивов. Все это осуществляетсятакже с помощью соответствующих данным буквам вопросови их видов. Благодаря всем этим способам фигура учитнисходить от общего к частному.
Четвертая фигура имеет три круга. Внешний кругфиксирован. Средний и самый меньший подвижны. На всехтрех кругах нанесены наборы из 9 букв. Если подвнешним «В» поставить среднее «С» и нижнее «D», то мыможем считывать с кругов 9 сочетаний: BCD, CDE и т.д.Передвинув меньший круг на одну клетку, так что «Е»внутреннего круга становится напротив «С» среднего,получим новые 9 сочетаний из трех букв: ВСЕ, CDF ит.д. Посредством таких сочетаний, по Луллию, каждыйможет находить средний термин и необходимыезаключения.
Если оставлять неподвижным больший круг ипередвигать средний и меньший, то получится 252сочетания из трех букв. Каждое трехбуквенное сочетание(исключая повторы, то есть те же наборы букв, взятые вдругом порядке) является основой для целой колонки из20 сочетаний, которые даны в таблице в пятой главе.
Эта фигура является наиболее общей, так каксоставлена из первой, второй и третьей фигур и имеетсочетания из трех букв.
Разум, по Луллию, должен применять к какому-либо
346
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
утверждению только те буквы, которые наибольшимобразом подходят к нему. И всегда надо помнить, чтомежду субъектом и предикатом должно быть согласие, анесогласия необходимо избегать. Выполняя вышеназванныетребования, разум может получать знания посредствомчетвертой фигуры и «формировать много аргументовотносительного одного вывода».Без знания всех четырехфигур, как говорит Луллий в окончании второй части,невозможно применять данное «Искусство».
В третьей главе Луллий дает определения понятий изпервых двух рубрик. Они имеют весьма специфическийвид. (Доброта есть такая сущность, посредством которойдобро творит добро. Великость есть то, посредствомчего доброта, пребывание и т.д. являются великими.)
Все многообразие определений Луллий сводит к двумтипам, каждый из которых имеет по четыре вида. Первыйпроисходит через действующего, потенцию, материю иконец. По сути эти виды соответствуют аристотелевскомуразделению понятия причины. (Соответствующие примерыкаждого вида следующие. Бог стремится творить испасать. Потенция есть сущность, благодаря которойматерия имеет свое страдание\претерпевание. Материяесть сущность, через которую действующий действует.Конец есть то, в чем начало приходит к покою.) Второйтип определений получается благодаря четырем видамвопроса «что?». Благодаря этим двум типам мастер помнению Луллия может определить все [2,С. 228].
Луллий противопоставляет свой способ построенияопределений общепринятому аристотелевскому: «Какоеопределение лучше и яснее: данное ли в понятиях силы иее специфических действий, или то, которое данопосредством родов и различий? На такой вопрос следует
347
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
отвечать: то, которое дано в понятиях силы испецифического действия, т.к. благодаря такомуопределению человек может иметь знание предмета и егоспецифическое действие, в то время как посредствомдругого он не может [обладать знанием предмета и егоспецифического действия] но [может обладать знанием]только его частей» [2,С.33].
Поскольку «доброта», «величие», «мудрость» и т.д.представляют собой атрибуты Бога, через которые Творецявляет свою силу, то Луллий определяет скорее нелогические понятия «доброты», «величия», «мудрости» ит.д., а «силовые», творящие начала Бога. В своемдействии
они пронизывают собой друг друга и все предметы иявления сотворенного посредством них же мира.Аналогично строятся и определения других понятий. Силаи ее действие, охватывая весь мир, позволяют, помнению Луллия, иметь знание всего предмета, в отличиеот аристотелевского способа, действующего, в конечномсчете, всегда через анализ, разлагая целое насоставные части. Таким образом, выражаетсяфункциональный характер определяемых предметов.
Другой отличительной особенностью луллиевыхопределений является то, что в них воплощаетсяследующая модель: 1) носитель силы, активное начало,2) тот, на кого /или на что/ сила направлена, кто/что/ее воспринимает, 3) само проявление силы, ее действие,объединяющее два первых элемента в единое целое. Восновании данной модели лежит образ святой Троицы:Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. В соответствии свышеизложенной моделью Луллий и выстраивает своиопределения [9].
348
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
Наконец, бесспорная очевидность определений, их«тавтологичность» выполняет задачу установления общегооснования для дальнейшего обсуждения. Этомуспособствует форма построения определения. Ведь оно непредлагает новых терминов и не говорит о каких-либосущностях, требующих дальнейшего пояснения. Но еслипредлагаемая Луллием форма определения принимается, тотем самым в неявной форме принимается и пространстворассуждения, ведущее в конечном счете к приятию образаСвятой Троицы. В этом отношении представляетсяинтересным ответ Луллия на вопрос своего ученика ипоследователя Le Myesier, который спрашивает учителя,почему нигде в «Искусстве» не говорится о СвятойТроице? На что Луллий отвечает, что «Искусство»предназначено для всех христиан, иудеев и мусульман.Но если бы христианские догматы были бы выражены явно,тогда оно не могло бы быть принято всеми. Поэтому онисодержатся в неявном виде. Определения Луллия как рази построены таким образом, чтобы способствоватьглавной цели «Искусства» – обращению «неверных» вхристианскую веру.
IV глава «Ars magna» посвящена правилам. Подправилами Луллий понимает вопросы. Они занимают третьюрубрику в алфавитной таблице. Всего их 10. Для того,чтобы они соответствовали девятичленному делению, впоследнюю, девятую строку помещены одновременно двавопроса. По мнению Луллия, все другие вопросы можносвести к этим десяти. Каждый вопрос, в свою очередь,разделен на виды.
Вопрос первый, расположенный под буквой В,спрашивает о том, существует или нет исследуемые вещьили понятие. Он имеет три вида: сомневающийся,
349
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
утверждающий и отрицающий.Вопрос «С» «что?» имеет 4 вида. Первый вид такой,
«когда спрашивают, что есть разум? На этот вопросследует отвечать, что он есть сила, чья функция –понимать». Второй вид относится к тому, что естьданная вещь в самой себе. В отношении интеллектатаковыми будут его корреляты, т.е. интеллект как силаили как субъект, который действует, интеллект какобъект, на который направлено действие и сам актпонимания, связывающий в одно целое два предыдущихкоррелята. Третий вид представляет собой вопрос о том,что есть данная вещь в чем-то другом, отличном отсебя. Например, интеллект в доброте есть добрый ввеликости – великий, в логике – логический, вграмматике – грамматический, в риторике – риторическийи т.д.
Четвертый вид представляет собой вопрос о том, чтоимеет вещь в другой вещи. Ответ для интеллекта будеттакой: он в знании является пониманием, в вере –верованием.
Для понимания луллиевого способа рассуждения данныечетыре вида вопроса «С» имеют исключительное значение.Именно на их основе выстраиваются определения втретьей части и во многих других частях. Это относитсяособенно к двум первым видам. Последние два дополняюткартину. Они привносят то многообразие и различие,которые отсутствуют в первых. Всякая определяемая вещьсуществует в форме этих двух последних процессов иявлений и обладает присущими им характеристиками.Таким образом, собственное существование проявляется вбесчисленных проекциях – отражениях других вещей.
Вопрос третий, D, «из чего?» имеет три вида. Первый
350
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
вид вопроса касается происхождения. При помощи второговида задается вопрос: из чего составлена вещь. Луллийимеет в виду коррелятивы. Третий вид выявляетпринадлежность и гласит: «Чья вещь?»
Четвертый вопрос Е, «Почему?» – имеет два вида«формальный» и «конечный».
Пятый вопрос, F, «сколько?». Он имеет два вида.Первый вид имеет отношение к непрерывному, второй – кдискретному количеству.
Шестое правило, G, «какова вида?», касаетсякачества. Оно имеет так же два вида. Первый относитсяк первичному качеству. Второй вид формирует вопрос оприсущем качестве.
Седьмой вопрос, Н, «когда?». Он подразделяется на15 видов. Это число получается из сложения 4-х видовправила С, 3-х видов правила D и 8-ми видов правила К.Т.о. всем видам вопросов С, D, К придан временнойоттенок, посредством которого возникает блок вопросовправила Н.
Восьмой вопрос, I, «где?». Он также подразделяетсяна 15 видов, составленных из вопросов С, Д, К.
Буквой К обозначено два правила: модальности (как?,каким образом?) и инструментальности «с чем?».Модальность имеет четыре вида: как есть вещь в себе?,как есть вещь в другом?, как вещь есть в своих частяхи части в ней?, как вещь передает свое сходство во внесебя?
Второй вид правила К, c чем вещь есть? или с чемвещь действует?, то есть вид инструментальностиподразделяется на аналогичные четыре подвида.
Таким образом, с помощью приведенных правил и ихвидов, интеллект, с точки зрения Луллия, разрешает
351
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
любые вопросы, сводя их к выше перечисленным,отбрасывает неправильные, различает утвердительные иотрицательные стороны вопроса и в конечном счетеизбавляется от всех сомнений.
V глава посвящена описанию таблицы. Благодарядвижению кругов четвертой фигуры (повторяющиесясочетания букв опускались) получалось 84 трехбуквенныхсочетания. Каждое из полученных сочетаний, в своюочередь, возглавляло колонку из 20 комбинаций трехбукв (каждая буква теперь обозначала понятия либо изпервой, либо из второй колонки алфавитной таблицы) ибуквы «Т». Всего представлено 1680 трехбуквенныхсочетаний или «камер», как их называет Луллий. «Т»указывало, что буквы, стоящие перед ней, относятся кпервой колонке алфавитной таблицы, а следующие за ней– ко второй.
Данная таблица является инструментом, при помощикоторого находятся ответы на задаваемые вопросы. Дляответа на каждый вопрос применяется, по Луллию, 20аргументов, т.е. целая колонка. Посредством даннойтаблицы разум, по Луллию, является восходящим инисходящим. «Разум является восходящим, когда онвосходит к вещам первичным, и более общим инисходящим, когда он нисходит к вещам вторичным ичастным. Разум является также соединяющим, т.к. онможет соединять колонки, например, колонку ВСD сколонкой СDЕ и т.д.» [4, С.14].
В результате мы имеем огромную сетку комбинаций илюбой вопрос относительно обозначенных в алфавитнойтаблице понятий попадает в какую-либо ячейку даннойсетки. Благодаря применению таблицы разум становитсяуниверсальным. Он может получать множество суждений по
352
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
многим предметам.Несомненно, простому человеку, не имеющему за
спиной какого-либо метода, невозможно подобрать такоеогромное количество аргументов. В отношении своегознания он действительно может получить солидноеприбавление. Правда, вновь полученное знание будетспецифического свойства. Именно с владельцем такогознания повстречался однажды Декарт на одном изпостоялых дворов [10, С.582].
Луллий поясняет как работать с таблицей на примере«камеры» BCD, то есть на примере первой табличнойколонки из 20 сочетаний букв B,C,D, и «Т».Формулируются 20 вопросов на основе понятий из первойи второй колонок, а также вопросов, соответствующихэтим трем буквам. Затем обосновывается ответ на каждыйиз 20 сформулированных вопросов с привлечениемопределений задействованных понятий и видовсоответствующих правил (вопросов). По аналогии сразобранной колонкой следует действовать и в отношениивсех остальных колонок соответсвующим образом. Затемразбирается вопрос «Существует ли мир вечно?» Ответдается отрицательный на основе обращения к первойколонке таблицы. Причем проходятся все 20 сочетанийбукв B,C,D,T, то есть на основе соответствующих этимбуквам понятий и вопросов разбирается каждое из 20сочетаний и дается обоснование отрицательному ответу.
Глава VI рассматривает процесс исчерпания третьейфигуры. Исчерпание производится всех 36 камер даннойфигуры. В наиболее развернутом виде оно представленона примере камеры ВС. Из нее разум выводит 12утверждений, используя термины двух первых колонокалфавитной таблицы и меняя местами субъект и предикат.
353
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
Затем для полученных 12 суждений находитсясоответственно 12 средних терминов. Т.о. камера ВСисчерпывается 12-ю средними терминами. После данногоисчерпания камера исчерпывается 24 вопросами – по двавопроса (В и С) к каждому суждению. Дальнейшееисчерпание камеры ВС с определениями «доброты» и«великости» происходит посредством трех видов«различия» и трех видов «согласия», описанных фигуройТ. Заключительное исчерпание камеры ВС разумпроизводит при помощи трех видов правила В и четырехвидов правила С. В процессе исчерпания даются ответына поставленные вопросы.
В результате данной процедуры, разум, по Луллию,«знает себя в качестве совершенно универсального,искусного и облаченного в великое знание» [2, С. 22].Все остальные камеры третьей фигуры исчерпываютсяаналогичным образом, но в более сокращенном варианте.
Глава VII посвящена «умножению» четвертой фигуры.Под умножением понимается пять видов действий: 1)приумножение доводов для одного и того же выводапосредством прохождения всех табличных сочетаний букв,полученных из четвертой фигуры, а также перечислениевсех возможных парных вариантов отношений, которыеполучаются, если мы рассматриваем сочетания из трехбукв. Получается шесть вариантов отношений. Данныеотношения Луллий называет «условиями». Из каждойкамеры получаются 30 утверждений и 90 вопросов. 2)нахождение множества средних терминов посредствомсреднего круга, 3) нахождение больших и меньшихпосылок, 4) распознавание ошибок, 5) применение кдругим наукам.
Подобным образом разум проходит все камеры и
354
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
становится, по мысли Луллия, настолько универсальным,что никакой софист не сможет противостоять ему. Такомупревосходству также способствует то, что мастерданного «Искусства» использует «первичные и природныеусловия в противоположность софисту, использующемувторичные и неестественные условия» [2, С.17].
Глава VIII посвящена смешению принципов и правил иподразделяется на две части. В первой части разумсмешивает один принцип с другим, исследуя каждыйпринцип с его определением посредством всех других. Вовторой части разум исследует каждый принциппосредством всех видов правил.
Благодаря вышеозначенному смешению разум становитсязнающим каждый принцип с такой исчерпывающей полнотой,с какой не знающий данного «Искусства» сравниться неможет.
Луллий подчеркивает особенную важность даннойоперации для овладения «Искусством» в следующихсловах: «Это смешение есть центр и основание длянахождения всех сортов утверждений, вопросов, среднихтерминов, условий, решений и даже возражений». Причемданное смешение «есть предмет и убежище для мастераэтого искусства, так что он может найти его во всем, вчем пожелает».
Если мастер хочет выяснить что-нибудь относительнокакого-либо принципа, он должен исследовать этотпринцип посредством всех принципов и правил. Толькотак он узнает все, что хочет узнать.
В чем различие VIII и VI частей? VI часть преждевсего раскрывает способ работы с камерами третьейфигуры, то есть с набором принципов и правил,обозначенных соответствующими двумя буквами. В то
355
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
время как в VIII части рассматривается какое-либопонятие в отношении ко всем понятиям из первых двухколонок алфавитной таблицы и исследуется с помощьювсех вопросов и их видов.
IX глава посвящена 9 субъектам, занимающим 4колонку в алфавитной таблице. Данные девять, точнее 8,субъектов составляют лестницу бытия, представляя собойиерархическую картину мира. Последний, 9-й, субъектинструментальный – занимает несколько обособленноеместо по отношению к остальным 8-ми. Каждый из восьмисубьектов исследуются или как говорит Луллий,«выводятся» через рассмотрение понятий двух первыхколонок и правил и их видов. Наиболее полноепрохождение всех этих отношений дано на примерепервого субьекта, то есть Бога. Остальные семьсубьектов ( ангел, небо, человек и т. д.)рассматриваются в сокращенном виде. Последний, девятыйсубьект – инструментальный посвящен мастерству,технике, умению и имеет три вида: первый касаетсяморали, второй – свободы, третий – механического мира.О двух последних видах Луллий говорит в XI части, вприменениях. Первый вид инструментального, к которомуотносятся понятия последних двух колонок, то естьдобродетели и прегрешения, также «выводится» черезотношения с первопринципами, то есть с понятиямипервых двух колонок алфавитной таблицы и со всемивидами основных вопросов.
X глава «Ars magna» толкует о применениях. Луллийвыделяет 15 видов применений: 1. Скрытое применяется кявному. 2. Абстрактное применяется к конкретному.Далее идут применения последовательно ко всем частямданного «Искусства» то есть к следующим 13 разделам:
356
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
1. Первая фигура. 2. Вторая фигура. 3. Третья фигура.4. Четвертая фигура. 5. Определения. 6. Правила. 7.Таблица. 8. Исчерпание третьей фигуры. 9. Умножениечетвертой фигуры. 10. Смешение принципов и правил. 11.Девять субъектов. 12. 100 форм. 13. Вопросы.
Какому разделу из вышеперечисленных соответствуетсодержание исследуемого вопроса, к тому он иприменяется. И ответ привлекается из соответствующейчасти.
Луллий излагает определения 100 форм и исследует ихпри помощи принципов и правил. В данные 100 формвходят самые разнообразные понятия из самых различныхсфер. Назовем только некоторые понятия, рассмотрениюкоторых Луллий посвещает маленькие главки: 1. Бытие;2. Сущность; 3. Единство; 4. Множество; 5. Природа(natura); 6 Род; 7. Вид; 9. Свойство; 12. Форма; 13.Материя; 14. Субстанция; 15. Акциденция; 16.Количество; 17. Качество; 18. Отношение; 19. Действие;25. Движение; 27. Аппетит; 29. Инстинкт; 37. Красота;38. Новизна; 44. Треугольник; 45. Квадрат; 46. Круг;47. Тело; 48. Фигура; 60. Необходимость; 66.Объяснение; 69. Бесконечность; 74. Понимание; 75.Открытие; 76. Подобие; 80. Теология; 82. Геометрия;83. Астрономия;
84. Арифметика; 85. Музыка; 86. Риторика; 87.Логика; 89. Мораль; 90. Политика; 92. Медицина; 94.Рыцарство; 95. Торговля; 97. Совесть; 98.Проповедование; 99. Молитва; 100. Память.
XI глава «Ars magna» посвещена вопросам иразделяется на шесть частей. В первой вопросы задаютсяпосредством таблицы и тут же указываются видысоответствующих правил (вопросов), с помощью которых
357
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
следует отвечать. Во второй посредством эвакуациитретьей фигуры. Для третьей части материалом длявопросов служит умножение четвертой фигуры. Длячетвертой – смешение первопринципов. Для пятой –девять субьектов. Для шестой – 100 форм.
В «Ars brevis» XI часть заключается следующимобразом: «И так разум обучается тому, как он можетбыть более универсальным в формулировании множествавопросов и их разрешении посредством метода,указанного в исчерпании третьей фигуры и в умножениичетвертой фигуры. В результате, кто смог быперечислить все вопросы и ответы, которые могли бытьсформулированы подобным образом?» [2, С.42].
Глава XII и в «Ars brevis» и в «Ars magna» занимаетменьше странички. В ней Луллий только схематичноочерчивает то, что должен уметь делать мастер, чтобывладеть данным «Искусством».
Глава разделяется на 3 части. Первая часть, в своюочередь, подразделяется на 13 частей. Данные части –подразделения, блоки искусства, перечисленные в Хглаве. Главное требование, предъявляемое мастеру внулевой части – это умение оперировать всеми 13блоками и применять вопрос к соответствующей части.Критерием соответствия должна выступать материявопроса. Имеется в виду, что содержание вопросауказывает, к какой фигуре, к какому из 9 субъектов и ккакому сочетанию букв и т.д. относится вопрос.Например, если вопрос касается отношений междуDignitas, то вопрос следует применять к первой фигуре,т.е. к первой части. Если вопрос имеет отношение ккакому-либо из субъектов лестницы бытия, то вопросотносится к 11 части раздела, к соответствующему
358
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
субъекту и т.д. Подчеркивается необходимость уметьсоотносить любой возникший вопрос к соответствующимместам данного искусства.
Вторая часть XII главы говорит о необходимостиовладения «методом и процедурой текста» искусства,«для доказательства и разрешения других вопросов».Данное овладение заключается прежде всего в умениииспользовать пример разрешения, представленный втексте для объяснения другого примера.
Здесь говорится об умении разрешать возникающиевопросы, подражая изложенному методу. Т. е. послеустановления тождества вопроса и определенной частиискусства, следует разрешать вопрос, исходя изустановленной части текста и в соответствии с методом,явленным в примерах.
Третья часть устанавливает, что мастер долженовладеть методом для «умножения вопросов и решенийприменительно к одному и тому же выводу, как указано в3-й и 4-й фигурах и таблице» [4, С.42]. Таким образом,мастер не только должен уметь соотносить вопрос сопределенным местом текста, разрешать его, но иумножать вопросы и решения применительно к одному итому же выводу. Обозначены все действия мастера поосвоению «Искусства», которые можно сравнить с первыми вторым видом правила С. Относительно какого-либовывода пройден полный круг умножения вопросов ирешений.
Если все вышеописанное исполнено, перед намипредстоит действительно мастер, обладающий трудноперечислимым количеством вопросов и решений.
Глава XIII посвящена методу обучения по данному«Искусству». Ее можно сравнить с 3 и 4 видами правила
359
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
С. Происходит рассмотрение отношений уже не междумастером и «Искусством», а между мастером и учеником.Совершается как бы выход во вне.
Данная глава, как и предыдущая XII, занимает в «Arsbrevis»и «Ars magna» лишь страницу текста. Онаподразделяется Луллием на 4 части:
1. Знание мастером наизусть алфавита, фигур,определений, правил и устройства таблицы.
2. Объяснение не должно быть связано с авторитетамиа должно базироваться на доводах разума, посредствомкоторых Мастер объясняет вопросы, возникающие уучеников, обучающихся данному «Искусству», которые, всвою очередь, должны спрашивать мастера о том, что имнеясно.
3. Мастер формулирует и разрешает разумно вопросыперед учениками.
4. Мастер должен обучить учеников умножатьаргументы в отношении одного и того же вывода, научитьотвечать и находить нужные места в тексте для ответов.
Проведенный нами обзор содержания «Ars magna»позволяет выделить следующие характерные черты данногопроизведения. Построенное по типу руководства, ононаправлено на работу с представленными в алфавитнойтаблице понятиями и вопросами, описанными фигурами ина основе представленных примеров должно помочь так жедействовать и в отношении всех других возможныхвопросов из самых различных областей знания, а впределе – отвечать на любой вопрос. Причем самаработа, как того и требует практическое руководство,построена по принципу от простого ко все более сложнымдействиям: от описания элементов, из которых иблагодаря которым строятся комбинации отношений, к
360
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
описанию фигур, помогающих оптимизировать работу покомбинированию понятий из алфавитной таблицы (этомуслужит и замена понятий на буквы), и далее к работе сбуквенными отношениями, сопровождающейся примерамипостроения определений. Затем собственно исчерпывающеекомбинирование отношений на основе работы с третьейфигурой, с четвертой фигурой, с правилами ипервопринципами, с 9 субьектами, с применениями,отысканием ответов на вопросы при помощи трехбуквенныхсочетаний и с вопросами в отношении уже самого«Искусства» для более полного и всестороннего владенияим.
Причем следует сделать ряд существенных замечаний.В основе работы с методом, представленным в«Искусстве» лежит комбинаторика, то есть полныйперебор всех возможных сочетаний представленных валфавитной таблице понятий, вопросов, их видов. (Кэтому добавляются понятия из многих других областейзнания, представленных в 100 формах, призванных такжеподчеркнуть и продемонстрировать всеобщий характерметода). На этом комбинаторном принципе построен весьтекст произведения. Каждая глава «Искусства» (послеглав, посвещенных описанию алфавитной таблицы иустройству фигур) представляет собой последовательноеописание комбинаций в соответствии с расположением валфавитной таблице, в фигурах, в таблицах двух и трехбуквенных сочетаний. В начале глав это описание обычнополное, в дальнейшем же оно дается в более сокращенномвиде, поскольку предполагается, что овладевающий этимметодом по аналогии с полным вариантом сможетпреобразовать и не полный. Это относится как котысканию аргументов для обоснования какого-либо
361
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
утверждения или ответа на какой-либо вопрос, так и кнахождению соответственных буквенных сочетаний дляответа на какой-либо вопрос. Таким образом, структуратекста в каждой главе задана либо порядкомописываемого предмета (перечеслением и описаниемвходящих в него элементов), либо порядкомкомбинаторного перебора рассматриваемых отношений. Этоотносится и к увеличению аргументов и к нахождениюответов при помощи фигур и буквенных сочетаний изсоответствующих таблиц. Однако необходимо подчеркнутьочень важный момент. Не следует все сводить только ккомбинаторике, к простому сочетанию понятий, изкоторого потом якобы выискивается какой-либо смысл.Выражением такого подхода в его наиболее утрированнойформе является пародия на действия луллиста,выведенная Свифтом в его знаменитом романе [С.293].Чисто комбинаторными являются только таблицы двух итрех буквенных сочетаний. Когда же идет рассмотрениеотношений понятий, задаются вопросы и даются ответы назаданные вопросы (а этому посвещен весь текст кромебуквенных таблиц), то комбинаторика присутствуеттолько лишь в качестве упорядочивающей основы, вкачестве каркаса изложения, но не несетсодержательного решения. Само по себе приведение всоотношение различных понятий и вопросов не естьконечный результат. Далее идет рассуждение, основанноена содержательных посылках, условиях и правилах(перечисленных в частности в работе Луллия«Gentilis» , которые в конечном счете сводятся кследующим двум правилам: 1) все перечисленные условиянаправлены к единственной цели и 2) они не должны бытьпротивоположными этой цели. А цель такова: любить,
362
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
знать, бояться Бога и служить Богу. К этому жеотносятся доказательство на основе эквивалентностибожественных атрибутов и понятие о коррелятивах и ихпроявлении, которое выражено в четырех видах правила«С».
При рассмотрении русских луллианских сочиненийобычно излагаются основные положения «Искусства»Луллия по комбинированию понятий, расположенных валфавитной таблице, на примере описания действиячетырех фигур из «Ars magna» или из «Ars brevis». Вэто описание входят и двух-, трехбуквенные сочетания,получаемые из третьей и четвертой фигур. Так поступаетЗубов, резюмируя описания фигур, которые, по егомнению, являются «самим существом люллиевой«мудрости»: «К использованию указанными фигурами, всущности, и сводится вся люллианская «мудрость»:последовательное комбинирование элементов таблицыпозволяет исчислить все их возможные комбинации и,вместе с тем, дает путеводную нить оратору приизложении своих мыслей. «Ars inveniendi» – искусствоодновременно и логическое и риторическое» [11,С.293].Таким же образом поступает Вомперский, утверждая, что:«... Белобоцкий воспроизводит в своих сочиненияхлогические таблицы, заимствованные у Люллия, в которыхучтены всевозможные комбинации понятий слов...Логические таблицы построены таким образом, что приработе с ними экспериментатор может сделать выводы обистинности или неистиности семантики определенныхсочетаний» [12,C.45]. Далее следует описание действиячетырех фигур, воспроизводятся их изображения изрусского перевода «Ars brevis». После чего Вомперскийзаявляет о согласии с позицией Зубова и воспроизводит
363
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
вышеприведенное его резюме [12, С.45-48].Еще ранее в первой статье, посвященной разбору
«Великой науки», М. Безобразова после описания всехчастей этого сочинения, замечала: «Есть ли какой-нибудь смысл в 1680 сочетаниях, в которые вступаютпонятия. Часто сочетания эти вполне бессмысленны, новсего интереснее то, что для автора вопрос этот непредставляет, по-видимому, особенного интереса.Сочетания эти нужны для того, чтобы облегчить трудбедного человека, (как говорится в предисловии) идолжны избавить его от необходимости мыслить»[13,С.398-399]. Предисловие, о котором упоминаетБезобразова, это предисловие к «Великой науке»Белобоцкого, в которой нет ни 1680 сочетаний, ниупоминания о них.
При такой форме изложения акцент делался на том,что русские луллиансие сочинения написаны в руслелуллиева метода и воспроизводят его основные моменты.Из этого невольно следовало, что во всех луллианскихпроизведениях Белобоцкого (а также в сокращенииДенисова) воспроизводились все четыре фигуры Луллия,производилось оперирование с двух- и трехбуквеннымисочетаниями, имела место комбинаторика понятий. Однаков действительности, хотя русские луллианскиепроизведения и воспроизводили основные положениялуллиева «Искусства», но имели и существенные отличия.При начальном этапе изучения русских луллианскихпроизведений, предпринятом исследователями, на первыйплан естественным образом вышло установление ихтождества с идеями «Ars magna» Луллия. Однако русскиесочинения, являясь упрощением и популяризацией«Искусства» Луллия, опускали некоторые важные моменты.
364
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
Сравнивая «Великую науку» Белобоцкого и «Ars magna»Луллия, Горфункель справедливо замечает, что«построение «Великой науки» не повторяет схемы«Великого искусства» Луллия». Однако далее он пишет:«Впрочем, текст, которым пользовался и на которыйссылается автор «Великой науки» («Сам РаймундусЛюллиус науку свою пределил на шесть частей»),отличается от известного и неоднократно издававшегосятекста «Ars magna», состоящего из 13 частей»[14,С.338]. Здесь некоторое недоразумение. Белобоцкийнесомненно работал с одним из изданий «Ars magna»Зетзнера. А расхождение в количестве частейобъясняется тем, что Белобоцкий в вышеприведеннойцитате под частями имеет в виду не главы, из которыхсостоит текст произведения, а алфавитную таблицу из«Ars magna», точнее, из «Ars brevis», котораядействительно состоит из шести частей. Осознаниетакого понимания очень важно. Оно указывает насовершенно другой принцип построения русской «Великойнауки», который коренным образом отличается отпринципа построения текста латинского оригинала как науровне глав, так и на уровне текста самих глав. Отсюдапервое важное отличие двух произведений.
Если Луллий строит свое произведение на основеисчерпания возможных отношений между понятиямиалфавитной таблицы, элементами фигур и вопросами ковсем частям и алфавитной таблицы, и фигур, и буквеннымтаблицам, и, в конечном счете, ко всем частямописываемого метода, особое внимание уделяя не толькокомбинаторному задаванию вопросов, но и ответам на нихво всех главах произведения, то Белобоцкий строит своепроизведение исключительно на основе алфавитной
365
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
таблицы. Каждой рубрике алфавитной таблицысоответствует своя глава (за исключением первой,вводной главы). Главы в свою очередь разделены намаленькие главки, каждая из которых описываетсоответствующее понятие из рассматриваемой рубрикиалфавитной таблицы без соотнесения с другими понятиямииз этой таблицы и со всеми видами вопросов. Посколькув алфавитной таблице не представлены третья ичетвертая фигуры, они и не рассматриваются Белобоцким.Вследствии этого нет и текста, соответствующего пятой,шестой и седьмой частям «Ars magna».
С этим связано второе отличие. У Белобоцкогопрактически не представлена тенденция к «формализации»рассуждений. Все, что связано с буквенными фигурами,буквенными сочетаниями, комбинаторикой букв, таблицейбукв, нахождением ответов при помощи буквенныхсочетаний, в русской версии отсутствует. Белобоцкий,как и Луллий, описывая алфавитную таблицу, перечисляетпод каждой из девяти букв соответствующие понятия(причем, когда он объясняет их значения, то называетих словами). На этом работа с буквенными обозначениямизаканчивается. Единственно, где таковые используются –это в первой фигуре. Но в тексте, относящемся к этойфигуре, и в отношении всех других фигур буквенныеобозначения не появляются. Более того, хотя в началекаждой главы, начиная со второй, приводитсясоответствующая круговая фигура, какая-либо работа с«круговращением» фигур, с комбинаторным исчерпаниемвозможных сочетаний понятий, с постановкой вопросов ис поиском ответов посредством фигур в «Великой науке»Белобоцкого практически отсутствует. Вписанные поокружности фигур понятия представляют всего лишь
366
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
оглавление каждой главы, текст которой разбит нанебольшие разделы в соответствии с тем порядком, покоторому понятия расположены в фигуре.
В «Великой науке» Белобоцкого наряду с алфавитнойтаблицей или «решеткой» и схемами «древа Порфириева»(взятого из «Диалектики» Дамаскина) и «древаМайориканского» (явлющего собой упрощенный вариант«древа философского» из работы Афанасия Кирхера «Arsmagna sciendi in XII libros digesta») представленыследующие круговые фигуры: 1) фигура «А», 2) фигура«А», в которую вписан треугольник «естество, единство,совершенство», 3) фигура треугольников, 4) фигуравопросов, 5) фигура «о случаях», 6) фигура «одобродетелях», 7) фигура «о прегрешениях», 8) фигура с21 вопросом, 9) фигура с 24 вопросами. 2, 4-9 фигурывзяты Белобоцким из работ толкователей Луллия,сопровождающих его «Ars magna», все из того же изданияЗетзнера. 8-я и 9-я фигуры и связанные с ними блокитекста привнесены в «Великую науку» из «Риторики».Расположенные по окружности вопросы и по радиусамкраткие ответы служат своеобразным каркасом, своегорода расширенным оглавлением для идущего за нимтекста, построенного на основе этих фигур.
Хотя сам Луллий заявляет о том, что с помощью егофигур можно получать выводы и проводитьдоказательства, однако в действительности с помощьюфигур возможно совершать единственную операцию,операцию перебора вариантов сочетаний понятий и букв.Наборы букв и понятий, получающиеся при вращениикругов, не дают готовых умозаключений и выводов. Дляответов на вопросы или для нахождения терминовумозаключения требуется дополнительная информация,
367
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
заключающаяся в определениях, в определенныхалгоритмах действий, в специфически понимаемой Луллиемлогики и доказательства, в стратегической его цели иобщем средневековом миросозерцании. Ни о какомлогическом выводе (в современном его понимании) спомощью луллиевых фигур говорить не приходиться. Это веще большей степени относится к «Великой науке»Белобоцкого, поскольку в его произведении практическиотсутствует даже специфически луллиевская «логика» исвязанные с ней доказательства по аналогии, на основепринципа эквивалентности божественных атрибутов,апогагическое доказательство. В русской версии восновном представлено перечисление и описание.
В литературе отмечалось, что кроме введения и 6-йчасти «Великой науки» все остальные разделы «в какой-то мере соответствуют» аналогичным частям «Ars magna»[13;14, С.338-339]. Однако, как уже отмечалось выше, врусской версии «Искусства» даже главки, посвященныетем же понятиям, что и в латинской версии, значительноразличаются по своему построению текста. При описаниикакого-либо понятия Белобоцкий не следует томупорядку, который обычно выдерживается у Луллия, тоесть рассмотрение этого понятия с точки зрения преждевсего понятий двух первых колонок, по русской версии –абсолютных и относительных предикатов. Отсутствует ирассмотрение понятия с точки зрения приведенных втаблице вопросов и их видов. Как справедливо отмечалаБезобразова, «на первом плане стоит не сочетаниепонятий, а религиозное и нравственное учение Луллия»[13,С.384]. Однако определенный порядок, определенныйалгоритм в построении текста маленьких главок есть, иБелобоцкий обычно сам его объявляет. Кроме 1-ой главы
368
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
(введения), а так же глав, посвященных вопросам,субьектам и грехам, порядок описания понятий изалфавитной таблицы во всех остальных главах обычнотакой: что есть, какие имеет части, какие имеетопределения, что «союзно» и что «противно» данномупонятию. Первые два момента выдержаны в духе Луллиеваподхода и соответствуют его своеобычным определениям икоррелятам, что по сути дела соответствует двум первымвидам вопроса «С» (обычно рассматриваемым на примереБога и Святой Троицы). Последний пункт представляетсобой всего лишь два из девяти отношений,представленных в алфавитной таблице. Что касаетсясамого текста в последних двух пунктах (какиеопределения, что «союзное и противное»), то здесьБелобоцкий действует совершенно произвольно,перечисляя первые пришедшие на память понятия (поясняянекоторые примерами) из различных областей знания. Ноэто и создает ту своеобразную «энциклопедичность», закоторую, вероятно, и ценили читатели «Великую науку».Следует отметить следующий момент. Европейскиетолкователи «Ars magna» (представленные, в частности,в известном издании Зетзнера), писали свои сочиненияна латинском языке, и, таким образом, адресовали ихученому читателю, владеющему латинским языком наукитого времени, и, возможно, уже знакомому спроизведениями самого Луллия. В отличии от нихБелобоцкий создает свою «Великую науку» в основном длятех читателей, которые не владеют латинским и не могутпрочитать Луллия в оригинале. Поэтому он прежде всегостремится пересказать в популярной форме сам метод вцелом. Луллиевский метод у него выступает в меньшей,чем у Луллия, мере как способ возведения разума до
369
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
всеобщего уровня, но в большей мере как формаорганизации огромного материала, включающего все наукии все знание. Белобоцкий дает в доступной формеобъяснение большому количеству терминов из философии идругих наук, привлекая на помощь как самого Луллия иего толкователей, так и множество других мыслителей, ипрежде всего Аристотеля, которого он называет«славнейшим» из всех философов. В результатеполучилось учебно-справочное энциклопедическоепособие, своеобразный азбуковник по философии,богословию, логике, риторике, этике и др., что, нарядус претензией на всеобщий метод, и обеспечило егонеобычайную популярность среди русского читателя.(Несмотря на большой объем текста, а, возможно, иблагодаря ему, так как он обеспечивал полноту,всеохватность и ясность в описании понятий, в отличиеот других более кратких русских луллианских версий).По числу списков (более 70) «Великая наука»превосходит не только любое другое русское луллианскоепроизведение (перевод «Краткой науки», риторики,«Книги философской», сокращения Денисова), но и вседругие русские произведения по философии, логике ириторике. Пожалуй, только перевод «Диалектики» ИоаннаДамаскина (более 150 списков) превосходит «Великуюнауку» по популярности и востребованности у русскогочитателя.
SUMMARY
The theme of this article is the main work of RamonLull «Ars magna». It is investigated in comparison
370
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГО
with «Velikaya nauka» written by Andrei Belobotskii(middle of XVIIth century – 1st quarter of XVIIIcentury). In this article are indicated the maincharacteristic features of «Velikaya nauka» differentfrom «Ars magna». The author also touchs upon thetheme of Lull's teaching in Russia, first publicationsabout Lull's teaching in russian press and books.
ПРИМЕЧАНИЯ
1.Кульматов В.А. К истории распространения идей Луллия в России //Россия и гнозис. М.: «Рудомино», 2000. С.53-62.
2. Lullius, Raymundus. Opera ea quae ad adinventam ab ipso artemuniversalem, scientiarum artium que omnium brevi compendio...-Argentinae: Sumptibus Lazari Zetzneri, 1598.
3.Савченков Ф.Н. История химии.- Спб.: Тип. В. Демакова, 1870. С.7;Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической,каббалистической и розенкрейцеровской символической философии:интерпретация секретных учений, скрытых за ритуалами, аллегориямии мистериями всех времен.- Новосибирск: Наука, 1992.- С.555-559;Успенский П.Д. Новая модель вселенной.- СПб.: Изд-во Чернышова,1993- С.224; Карташкин А. Житие и загадочные деяния монахаРаймунда Луллия // Наука и религия.- 1990.- № 6.- С.40-43; № 7.-С.39-41; Алмазова О.Л., Дубоносов Л.А. Золото и валюта.- М., 1995.-С.67.
4. Владиславлев М.И. Схоластическая логика // Журн. мин-ва народ.просвещения.- 1872.- Авг.- С.244-263; Соловьев В.С. Люллий //Энциклопед. словарь.- СПб.: Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон, 1896.-Т.35.- С. 246-248; Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел ипафос бесстрастной логики: (Формализация мышления от античныхвремен до эпохи кибернетики).- М.: Знание, 1977.- С.30-34;Стяжкин Н.И. Формирование математической логики.- М.: Наука, 1967.-С.131-136.
5. Горфункель А.Х. Белобоцкий Ян (Андрей Христофорович) // Словарькнижников и книжности Древней Руси. Вып.3: (XVIII век), ч. 1: А-З.- СПб., 1992.- С.128-131; Горфункель А.Х. «Исповедание веры» Яна(Андрея) Белобоцкого // Paleoslavica.- Cambridge (USA), 1999.-
371
…К «ВЕЛИКОМУ ИСКУССТВУ» А. Х. БЕЛОБОЦКОГОVol.7.- P.116-135; Багно В.Е. Русское люллианство как феноменкультуры // Рамон Льюль. Книга о любящем и возлюбленном...- СПб.,1997.- С.250-251; Елеонская А.С. Русская ораторская проза влитературном процессе XVII века.- М., 1990.- С.47-47.
6. Эллер И.Т. Опыт о начале и рождении металлов.- СПб., 1780.7. Одоевский В.Ф. Сочинения: В 2 т.- М.: Худож. лит., 1981.8. Искатели золота в средних веках. Раймонд Луллий. //Москвитянин.-1857.- № 16, август, кн.2.- С.2777-289.
9. Pring-Mill R.D.F. The trinitarian world picture of Ramon Lull //Romanistisches jahrbuch.- Hamburg, 1956.- № 7.- P.229-256;Кульматов В.А. Способ задания определений и характер аргументациив «Искусстве» Р.Луллия // Ист.-лог. исслед.- СПб.: СПбГУ, 2001.
10. Декарт Р. Соч. Т.I.- М.: Мысль, 1989.- С.583-584.11. Зубов В.П. К истории русского ораторского искусства конца XIX –
первой половины XVIII в. (Русская люллианская литература и ееназначение) // Тр. отд. древнерус. лит.- 1960.- Т. XVI.- С. 288-303.
12. Вомперский В.П. Риторики в Росси XVII-XVIII вв.- М.: Наука, 1988.13. Безобразова М.В. «О великой науке» Раймунда Луллия в русских
рукописях XVII века // Журн. мин-ва народ. просвещения.- 1896.-Февр.- С. 383-399.
14. Горфункель А.Х. Великая наука Раймунда Люллия и ее читатели //XVIII век: Сб.- М.;Л., 1962.- Вып. 5.- С. 336-348.
© В. А. Кульматов, 2001
372
ГУМЕРСИНДО ЛАВЕРДЕ-И-РУИС 367
367 Лаверде-и-Руис (Laverde y Ruiz), Гумерсиндо (1840-1890) – уроженец г. Сантандер, доктор философии илитературы, профессор общей и испанской литературы вуниверситетах Сантьяго де Компостела и Вальядолида.Один из зачинателей историко-философских исследованийв Испании, автор проекта «Библиотеки иберийскихфилософов» (1859). Инициатор организации на базефакультета философии и литературы университетаСантьяго кафедры истории иберийской философии. Автор«Критических очерков об испанских философии,литературе и народном образовании» (Луго, 1868),повлиявших на замысел издания Менендесом-и-Пелайо«Испанской науки». Лаверде – известный поэт мистико-романтического направления (один из критиков назвалего «испанским Оссианом»), член-корреспондентКоролевской Академии языка и истории.Лекция Лаверде представляет интерес как материалполемики вокруг темы «испанской науки», в рамкахкоторой в 70-80-е годы XIX века обсуждалась проблемапринципиальной возможности реальной истории научно-технической и философской мысли в Испании (подробнееоб этом см.: Журавлев О.В.. Пути и перепутья. Очеркиистории испанской философии XIX-XX вв. СПб.,1992).Материалы полемики трижды издавались, с включениемновых материалов, учеником, близким другом и земляком
ФОКС МОРСИЛЬО(ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО К АКАДЕМИЧЕСКОМУ КУРСУ1884-1885 УЧЕБНОГО ГОДА В УНИВЕРСИТЕТЕ САНТЬЯГО)
Многоуважаемые господа:Мучимый тяжкими недугами, которые лишают меня
телесных сил, душевной бодрости и спокойствия, этихнепременных условий умственного труда, я в состояниипредстать перед вами единственно в качестве
Лаверде, Марселино Менендесом-и-Пелайо (1856-1912) впериод с 1876 по 1887 гг. Текст данной лекциипоявляется в 1-м томе 3-го издания «Испанской науки».Настоящий перевод (и комментарии к нему) выполненыО.В.Журавлевым по изданию: Marcelino Menendez y Pelayo.La Ciencia Española. Tomo I, Buenos Aires, 1946, pp.275-300. В лекции Лаверде впервые в испанской и мировойисториографии была дана обобщенная, емкая, хотя икраткая характеристика основных концепций ифилософского метода Себастьяна Фокса Морсильо. Длясовременного читателя, возможно, будет интереснымзнакомство с лекционной разработкой по историко-философской теме, выполненной преподавателем одногоиз провинциальных испанских университетов в конце XIXвека… Необычные для лектора сетования на состояниесвоего здоровья имели на то основание, посколькупоследние полтора десятилетия своей жизни Лавердестрадал от изнуряющей нервной болезни.
265
систематического наставника; это положение для меняодновременно и радостно, и печально; вот отчего,помимо предстоящего рассуждения, я также намереваюсьпредложить вам нечто вроде литературного завещания.Мои скороспелые заметки, которыми я осмеливаюсь занятьваше благосклонное внимание и представить на суд вашеймудрой снисходительности, не более чем усердноенамерение исполнить эту свою обязанность, насколькоэто вообще возможно для слабого и обессиленного ума идля воображения, утратившего былые огонь и краски.
Никогда память о веселых днях юности не кажетсятакой волшебной и радостной, как это бывает, когдаседина выбеливает голову, а душу застилают скорбныетени. Не удивительно, что при выборе предмета длянастоящего вступительного слова я обратил взоры наобласть, к которой мое неухищренное перо некогдаприкоснулось первым, а именно, к обширной областииспанской философии.
Испанская философия! Едва ли не с отроческих летона являлась предпочтительным сюжетом моихнепритязательных, но напряженных размышлений, вопрекидискредитации, которой она подвергалась тогда и откоторой страдает поныне, или, лучше сказать, несмотряна причину этой дискредитации. Последняя была столь О начале историко-философских исследований в Испаниии об условиях, в которых они проводились, см. кн.:Журавлев О.В. «Пути и перепутья», гл.III.Акцентирование «причины дискредитации» испанскойфилософии на родине, так и не раскрытой Лаверде,объясняется, на наш взгляд, с одной стороны, егонегативным отношением к взглядам ортодоксальныхкатолических схоластов, а также некоторых либеральных
266
значительной, что эту философию вообще не принимали врасчет не только модные в то время ученые и историкифилософии, но и такие как прославленный Бальмес, вком живой и чистой являлась страсть к тому, что (ныне.О.Ж.) зовется эспаньолизмом. Ведомый ясно выраженнымпатриотическим инстинктом, который восстает во мнепротив указанного пренебрежения, я, вместе с тем,далек от того, чтобы в отместку ему превозноситьвысочайшие совершенства этой философии ифантазировать, для пущей важности, о ее плодотворностии богатстве, нашедших выражение в ее школах, периодахи доктринальных течениях, что, впрочем, в большей илименьшей степени соответствует истине вещей.
Эти малозначащие, хотя и вполне намеренныеапологетические попытки имели бы незначительныепоследствия, или даже не имели бы их вовсе, если быдругие писатели, и среди них широко известные,историков философии (таких, например, как М.де лаРевилья, Х.Перохо) на этот вопрос, а с другой,сдержанностью «доброго католика».
Бальмес (Balmes) Урпия, Хаиме Лусиано (1810-1848) –каталонский священник, теолог, юрист, математик,общественный деятель, близкий к королевскому двору,политический публицист. Основал несколькопериодических изданий. Во взглядах Бальмесапротиворечиво соседствовали спиритуализм итрадиционализм с интересом к философскомурационализму и опытному познанию, к политическим,экономическим и философским учениям Сен-Симона,Фурье, Оуэна, А.Смита, Мальтуса, Дестюта де Траси. ОБальмесе см. кн.: Журавлев. О.В. «Пути и перепутья»,гл. I.
267
движимые побуждениями патриотического свойства илюбовью к наукам, не принялись бы затем более глубокоразрабатывать почву, которой я успел разве чтокоснуться. Излишне говорить вам о наслаждении, котороеиспытываешь, видя, как распускается горчичноезернышко. Так и мне довелось пережить радость во всейее полноте, когда, вынужденный совершенно оставитьлитературные занятия, я, словно в возмещение этойутраты, насладился счастьем знакомства с однимудивительным юношей, тогда еще неизвестным, а сегоднязнаменитым, стяжавшим славу в обоих мирах, страстнымзащитником Испанской науки и изобильнейшим историкомИспанских еретиков и эстетических идей в Испании, словокоторого, словно заклинание мага, вызывает к жизни изруин минувших времен один за другим прежде неиздававшиеся или позабытые драгоценные памятники нашейстаринной мудрости. Как же велик путь, пройденный отмоих скромных и неказистых очерков до егозамечательных трудов, в которых уже явствует Лаверде имеет в виду упоминавшегося ранееМ.Менендеса-и-Пелайо, выдающегося просветителя,историка испанской литературы, науки и философии. Вогромном литературном наследии Менендеса Пелайо(составившем 65 томов его сочиненийисследовательского характера, дважды выходившихНациональными, то есть государственными, изданиями -во втором десятилетии века и в 1942-1964 гг.)историко-философской теме посвящены следующие труды:«Испанская наука» в 3-х томах (1876-1887); «Историяиспанских еретиков» в 6 томах (1880-1882); «Историяэстетических идей в Испании» в 5 томах (1883-1889);«Очерки философской критики» (1948).
268
победоносная и ни с чем не сравнимая приверженностьфилософии, тяга к полуостровным философам, преждестоль невысоко ценившимся!
Об одном из этих философов я собираюсь поделитьсясвоими мыслями, правда, мыслями беглыми и краткими. Несомневаюсь, что его имя прозвучит непривычно длявашего слуха. К Себастьяну Фоксу Морсильо (он и естьтот выдающийся муж, которого я имею в виду) судьбабыла немилостива, ибо его обошли своим вниманиембиографы и комментаторы368, хотя он достоин этоговнимания в той же мере, а быть может и в большей, чемкакой-либо другой из корифеев иберийской мысли(исключая Dii Majorеs369: Сенеку, Аверроэса иМаймонида, Луллия, Вивеса и Суареса). Бóльшая частьсобытий его жизни остается скрытой во мраке времени, ато, что известно о нем от наших библиографов икритиков, умещается на нескольких строках текста. Егокниги на удивление редки и едва ли найдется в Европебиблиотека, в которой имелись бы все его труды. К томуже никто и не задается целью переиздания их хотя бы368 Статья о Фоксе Морсильо, вошедшая в мои«Критические очерки», также легковесна, так что и онане обесценивает точности данного утверждения (II том«Истории эстетических идей в Испании», в котором г-нМенендес и Пелайо посвящает ему прекрасноеисследование, во время написания настоящеговступительного слова еще не стал достоянием читающейпублики).
369 Dii Mayores – главные боги (лат.). По аналогии сиерархией олимпийских богов Лаверде отводит названныммыслителям особое место в «пантеоне» философовИспании.
269
просто в упорядоченном и отредактированном собраниисочинений, если принять во внимание нашу общеизвестнуюнерадивость. Куда там! Один мудрейший философ,занимающий священную кафедру Святого Исидора370,предложил однажды, ни мало, ни много, премию длялучшего автора памятного реферата, в которомизлагалось бы учение Фокса Морсильо. Верите ли, но вкультурной Севилье, в колыбели нашего светлейшегогения, никто даже не ответил на призыв славногопрелата!
Это тем более удивительно, что при стольнеблагоприятной судьбе Фокс Морсильо на самом деле, иэто необходимо подчеркнуть, и в свое время, и впоследующую эпоху не был неизвестным писателем;напротив, он был и известным, и хвалимым, о чемсвидетельствуют трех и четырехкратные изданиянекоторых из его книг и те почетные и удивительныеэпитеты, которыми его наперебой славили спустя немалыйпромежуток времени, прошедший после его кончины, такиеизвестные критики как Оберт Мирей, Габриэль Нодé,Герард Иоганн Фоссий, и мсье Бовен371, называвшие его370 Имеется в виду Исидор Севильский (ок. 570-636) –испанский теолог, мыслитель, ученый-энциклопедист,канонизированный церковью. «Мудрейшим философом» и«славным прелатом» Лаверде, возможно,называет ХосеГоувеа (Gouvea), августинского священника и писателяконца XVIII-нач.XX в., профессора теологическогофакультета Севильского университета и активногопублициста», автора популярных сочинений «Максимы огосударстве и политиках» и «Горький опыт на пользу иважные уведомления литераторам не из Севильи».
371 Оберт Мирей (Aubert Lemire, “Mireaus”, 1573-1640) –
270
превосходнейшим, изысканнейшим, ученейшим, основательным,солидным философом и другими подобными словами; для нихего труд по платоновско-аристотелевскому согласованиюказался лучшим и самым мудрым из всего, что былонаписано в этой области начиная с Возрождения и доXVIII века. Оттого и возрастает удивление перед темфактом, что довольно многочисленные книги севильскогобельгийский историк, каноник кафедрального собора вАнтверпене с 1608 г., секретарь епископа ИоаннаМиреуса. Преподавал бельгийскую и зарубежнуюлитературу в университете Лувена. Автормногочисленных церковных трудов и работ по истории идипломатии.Габриэль Ноде (Gabriel Naudé, Naudacus, 1600-1653) –французский писатель и библиограф, по образованиюврач. Являлся библиотекарем у ряда государственныхдеятелей: итальянского кардинала Барберини,французских кардиналов Ришелье и Мазарини, экс-королевы Швеции Кристины. С 1633 г. исполнялобязанности лейб-медика Людовика XIII. Авторисследований по истории Франции и по библиографии.Герард Фоссий (Gerardus Ioannes Vossius, 1577-1649)нидерландский теолог, историк, философ и риторик.Выдающийся эрудит XVII в. Преподавал историю ириторику в университете Лейдена. Исследовательпелагианской ереси.Буавен де Вильнев, Жан (Буавен де Кадет, 1665-1726) –франц. литературовед, историк. За открытие в фондахКоролевской библиотеки памплипеста Библии,написанного унциальным письмом и за описание этойрукописи был избран во Французскую Академию.Преподавал в Коллеж де Франс.
271
философа и гуманиста были мало распространены. Междутем, они представляют весьма увлекательное чтение,свидетельствуя об авторе не только как о глубокоммыслителе, но и как об элегантном литераторе и, какговорят сейчас, о совершенном стилисте, обогатившемсвой язык жемчужинами греческого и латинскогокрасноречия, которое он любовно штудировал по диалогамПлатона и Марка Туллия и к образчикам которогодобавлял свои собственные. Почти ко всем достоинствам(его литературы. О.Ж.) можно применить то, что сказало его «Устроении истории» севильский эрудит ивторостепенный исследователь сеньор Годой-и-Алькантара372, автор малоизвестной «Истории ложныххроник», а именно, что стиль и методы севильскогописателя стоят в таком же отношении к искусствудревних, в каком творения Бенвенуто или ИоаннаБолонского373 находятся по отношению к афинскойскульптуре. И действительно, читая фоксианскиедиалоги, кажется, будто находишься в атмосфере такихже ясности и хорошего вкуса, как и при чтении Цицеронаили «Наставлений» Квинтиллиана. Чем, в таком случае,объяснить забвение, в котором оказался писатель стольизвестный, автор таких ценных книг? Не получается ли,что черная судьба, преследовавшая этого философа-платоника и учинившая ему кораблекрушение, когда он,не прожив на свете и шести пятилетий, направлялся в372 Годой-и-Алькантара, Хосе (1825-1875) – испанскийжурналист, писатель, историк, автор «Критическойистории ложных хроник» (Мадрид, 1868), отмеченнойпремией Кор. Академии истории.
373 Бенвенуто Челлини (1500-1571); Джованни из Болоньи(«Giambologna», 1529-1608) – итал. скульпторы
272
Испанию для того, чтобы стать учителем принца, этасудьба надругалась и над его памятью, во всяком случаездесь (в Испании. О.Ж.), где ее место должна былазанять самая живая и энергичная судьба ради славы ипросвещения его соотечественников.
Если бы не старания известного археолога и поэтаРодриго Каро, автора пока еще рукописного труда«Славные мужи – литераторы города Севильи»374, томногие детали жизни Фокса Морсильо так и остались бы взабвении; а если бы впоследствии их не изложил (хотя ине буквально) в «Bibliotheca nova» Николас Антонио375, мыбы ничего не знали о времени и месте его рождения,каковое случилось в 1528 году в доме на Пальмовойулице в Севилье. Что касается линии его жизни, то самФокс Морсильо рассказывает нам в диалоге «De informandistyli ratione», что он происходит из знатнейшегопровансальского рода графов де Фуа, к которому вдалекие теперь времена принадлежал один французский374 Каро (Caro), Родриго (1573-1647) – испанский юрист,археолог (исследователь древностей своего родногогорода Ультреры близ Севильи), церковный деятель.Точное название упомянутой в тексте книги Каро –«Мужи в естественной литературе просвещеннейшегограда Севильи».
375 Антонио (Antonius), Николас (1617-1684) – род. вНидерландах; испанский церковный юрист (должностноелицо инквизиции) и выдающийся библиограф, «отец нашейбиблиографии», по отзыву М.Менендеса Пелайо. С 1649г. занимался составлением обширной библиографииИспании. Сведения о Фоксе Морсильо Антониоопубликовал в «Bibliotheca Hispana Nova», t. II,Matriti, MDCCLXXXVIII, p. 280-281.
273
рыцарь, принимавший участие в завоевании Севильи всоставе войска Святого Фернандо376. Это замечание,подтверждаемое Родриго Каро, выбивает почву из-поддомыслов, относящихся к подлинной фамилии нашегофилософа – Fox (искаженное от Foix), хотя не следуетотказываться и от латинизированных вариантов – Foxo иFoxio: так называли его старинные и возвышенныеписатели.
Севильская фамилия Фокс Морсильо являлась, должнобыть, столь же богатой, как и знатной, ибо ееродовитый отпрыск получает самое лучшее образование всвободных искусствах сначала в родном городе,литературный и художественный расцвет которогопревосходил в те времена аналогичные явления, имевшиеместо во всех других испанских городах, за исключениемВаленсии и Саламанки, а затем в Нидерландах, взнаменитом Лувенском университете377. Здесь в376 Фернандо II Святой (1214 или 1230 - 1252) – король –объединитель Кастилии и Леона, выдающийся деятельРеконкисты, отец короля Альфонса X Мудрого. Севильябыла взята войском Фернандо в 1248 г.
377 Университет в нидерландском городе Лувене былучрежден в соответствии с буллой римского папыМартина V от 2 декабря 1425 г. в ранге «Общейстудии». Не имевший с самого начала теологическогофакультета, Лувенский университет вскоре становитсяцентром схизмы. Это вынудило папство усилить здесьпозиции католической теологии: уже в 1431 был создантеологический факультет, а к началу XVI в. здесьподвизаются ок. 40 ученых теологов. В составеуниверситета входили факультеты искусств, права,медицины и теологии и, в разные времена, несколько
274
университетских списках378 мы встречаем имена его и егобрата как слушателей последовательно двух курсов. Впосвящениях к собственным диалогам и в контекстенекоторых из них Фокс Морсильо отзывается сисключительной нежностью о своих учителях – философахПетре Наннии, Корнелии Валерии и о математике ИеронимеФривии379.
И это все, никакими другими источникамидесятков не богословских колледжей. Как центристорико-литературной и литературоведческой науки былшироко известен Колледж трех языков (КолледжБуслейдена).
378 Эти списки изучал мой близкий друг сеньер Менендеси Пелайо, которому я обязан этими и другими новымиданными для настоящей лекции
379 Петр Нанний (Nannius, Petrus, собств. NanningBeyers, 1500-1557) – бельгийский гуманист,преподаватель классических языков в Колледже трехязыков.Автор Комментариев к «Буколикам» Виргилия иПарафраза к Песни песнейВалерий (Valerius, собств. Wauters), Корнелий (1512-1578) - бельгийский гуманист, преподавательклассических языков в Колледже трех языков. Автортрудов по риторике, грамматике и философии. Знатоксочинений Цицерона и Виргилия. Трактат Валерия«Диалектика» являлся официальным учебником вуниверситете.Фривий, Иероним (Frivius, собств. Gemma-Frisius,Ranier, 1508-1555) – бельгийский врач, математик,астроном и картограф, один из научных советниковимператора Карла V, преподавал в Лувенскомуниверситете.
275
биографических сведений мы не располагаем: жизнь ФоксаМорсильо сводится к жизни его книг и к влиянию егоучения. Известно только, что приобретенная имрепутация была такова, что склонила душублагоразумнейшего Фелипе II к выбору его в качествеучителя для своего сына Дона Карлоса380 и, тем самым, кпредпочтению его из многих и многих блестящих мужей,которые в ту славную эпоху олицетворяли достоинствоиспанской литературы. Но волны Северного моря,похоронившие в своей пучине корабль, плывший понаправлению к Полуострову, расстроили надежды короля исамого философа, еще не вышедшего за границыюношеского возраста.
Тринадцать сочинений, написанных на латыни, будутвпоследствии связывать с именем севильского философа.380 Дон Карлос или Карл Австрийский (1545-1568) – сынФелипе II, наследник испанского престола. К обучениюсына король привлек видных гуманистов своего времени– Гарсия Альвареса де Толедо, Иоанна Онората инадеялся на Фокса Морсильо. Дон Карлос был направленучиться в университет Алькалы де Энареса, где онпроводил время в развлечениях вместе со своимировестниками Хуаном Австрийским (1545-1578, побочныйсын императора Карла V, деда Дона Карлоса,впоследствии губернатор Нидерландов) и герцогомАлександром Фарнезио (1545-1596, сын МаргаритыАвстрийской, дочери Карла V, будущий кардинал). Вапреле 1562 г. принц, и без того отличавшийсянеуравновешенной психикой, получил тяжелыеповреждения, упав с лестницы, а в 1568 году испытална себе гнев отца и изгнание, будучи заподозренным всвязях с нидерландскими мятежниками.
276
Для того, чтобы познакомиться с ними хотя бы вкратце,целесообразно разделить их на две части. К первойследует отнести литературные, а ко второй –философские труды. Литературный раздел открывает самыйранний очерк Фокса Морсильо «In Topica Ciceronis paraphrasis etscholia», написанный им в возрасте 22 лет и посвященныйвидному севильцу дону Перафану де Рибера381. Эта работабыла напечатана в Антверпене в 1550 году. Здесь же двапревосходнейших риторических диалога – «De imitatione, sivede informandi styli ratione» (Антверпен, 1554) и “De Historiaeinstitutione” (Париж, 1557). Остальные десять работ – иоригинальные, и комментарии к сочинениям Платона –почти целиком, хотя и в свободной форме, образуютсистему философских наук. В свою очередь, и эти трудыможно разделить и представить систематически. Книга“De studii philosophici ratione” (Антверпен, 1621) посвященнаяавтором брату Франсиско, служит общим и как быпропедевтическим введением в учение Фокса Морсильо.Логическая часть этого учения содержится в “Dedemonstratione, ejusque necessitate ac vi” и в «De usu etexercitatione dialecticae» (Базель, 1556); его физика иметафизика – в «De naturae philosophia, seu de Platonis etAristotelis concesione», в «In Platonis Timaeum, seu de Universocommentarius» (Базель, 1554) и в «In Phoedonem Platonis, seude animarum immortalitate» (Базель, 1556), моральное иполитическое учение – в «Compendium Ethices» (Базель,1554), в комментарии к «Республике», опубликованномвместе с «Федоном», в трактате «De Regno et Regisinstitutione» (Париж, 1557) и в двух коротких диалогах “DeJuventute” и «De Honore», увидевших свет в одном томе с381 Перафан де Рибера (Perafán de Ribera, ) – сведенийнет.
277
«De Demonstratione». Впоследствии второй диалог былпереведен на французский Франсуа Барро (Париж,1759)382.
В границах данной академической лекции невозможнопровести тщательное и скрупулезное штудирование всехэтих, тематически весьма отличающихся, книг.Ограничимся поначалу кратким знакомством с теми из382 Перечень трудов Фокса Морсильо, составленный
Николасом Антонио:1). De Studii Philosophici ratione. (Антверпен, 1621)2). De Usu et exercitacione Dialectica. (Базель,1556). В этом же томе опубликованы еще три работы:3). De Demonstratione, ejusque necessitate ac vi.4) De Juventute.5). De Honore libelli (Лувен и Кельн, 1554; Базель,1556, Париж, 1579)6).In Topica Ciceronis Paraphrasis et Scholia(Антверпен, 1550)7). De Naturae Philosophia seu de Platonis etAristotelis consensione.(Лувен, 1554; Париж, 1560,1589; Виттенберг, 1589; Лион, 1622)8). Compendium Ethices Philosophiae ex Platone,Aristotele, alisque authoribus collectum. (Базель,1554).9). De Regno et Regis institutione. (Антверпен, 1536)10). In Platonis Timaeum seu de Universo,Commentarius. (Базель, 1554)11). In Phoedonem, sive de Animarum immortalitate.(Базель, 1556)12). In Eusdem X Libres de Respublica Commentarii.(Базель, 1556)13). De Imitatione, sive de informandi styli ratione.
278
них, которые не имеют чисто философского характера, ав философских сочинениях сосредоточимся исключительнона главном принципе, который их объединяет исоставляет наибольшее достоинство и оригинальностьФокса Морсильо.
Наш мудрец не был расположен освещать все разделысвоей риторики, рабски следуя в этом за древними. То,чем он, по преимуществу занят, так это подражанием ивыработкой собственного стиля, для чего он использует(прием) сократической беседы между своим братом исвоим же соучеником, тоже испанцем, которых онпредставляет прогуливающимися по окрестностям Лувена ибеседующими между собой.
А как широко и свободно Фокс Морсильо трактуетпринцип подражания, невзирая на классическиепредпочтения своего времени! Он определенно несводится у него к приспособлению иных времен исуждений и к созданию на этой основе некоейхрестоматии; он не прибегает к плагиату, напротив,отыскивает корень и основание подражания в скрытомпсихологическом подобии, в естественной симпатии междуимитатором и его моделью (in naturae similitudine). Всякаявещь производится по образу другой вещи, и сам Богсоздал мир в соответствии со своей образцовой идеей.Разве некто, категоричный по своей природе,довольствующийся немногими едва связаннымиоснованиями, может претендовать на подражаниевеликолепию, благозвучию и многословию Цицерона? Инаоборот, разве сможет (автор), склонный к(Антверпен, 1554)14). De Historiae Institutione Dialogus. (Антверпен,Париж, 1557; Антверпен, 1564)
279
изобильности и изяществу стиля, следовать краткостиСалюстия или суровой и нервной лаконичности Тацита?Кроме того, стиль должен приспосабливаться к вещам, окоторых ведется речь, подчиняя форму материи, а нематерию форме.
Как следствие, теория стиля у Фокса Морсильообразует две части, одну субъективную, а другуюобъективную, завершаясь в последней, так же как и востальных пунктах его учения, принципом гармоническогосогласования, который является для него предметомпостоянного культа. Красота литературной формырождается из совершенного совпадения между объектомрассуждения и особенным (стилем) писателя. СентенцияБюффона: стиль – это человек (которой соответствуетсентенция Фокса Морсильо: намного легче узнать, чтовнутри человека, по его стилю, чем по облику или по его умениювести себя) выражает исключительно субъективный элемент;нам дается не более половины понятия стиля. Нашгуманист завершает и охватывает его следующимафоризмом: naturam subjetae rei observare. Только такдостигается единство композиции, наподобие Идеи,которая связывает все свои части в понимании.
В этом диалоге необходимо специально отметитьраскованность, с какой Фокс Морсильо, несмотря на то,что он являлся ревностным цицеронианцем, нерекомендует подражать исключительно Марку Туллию; вкачестве примеров, достойных подражания, онрассматривает всех латинских авторов, расцветтворчества которых приходится на время после этогоКнязя красноречия и до Квинтиллиана, а также всехгреков от Платона до Плутарха.
Литературные размышления Фокса Морсильо завершает
280
его прекрасный трактат «De Historiae institutione», в которомон представил подлинную теорию исторического (познаниякак) искусства, более научную и философскую, чемтеории, которым учили в Италии Понтано, Патрисио иРобортелло383. Он так определяет историю: «этокультурное, изящное (elegante) и истинное описаниенекоего происшествия: благодаря такому описанию знаниео событии глубоко впечатывается в души людей,запечатлеваясь и увековечиваясь в историческихпамятниках, самих по себе хрупких и бренных». Онрасходится toto coelo в мнении с теми, кто считает, будтоисторический сюжет должен быть приятным читателю; сосвоей стороны, он учит, что должно учитываться все,каким бы суровым, грубым и неприятным оно ни казалось;383 Понтано, Джованни (1426-1503) – итал. гуманист,поэт, историк и политик. С 1471 г. являлсяпрезидентом Неаполитанской академии, основанной А.Бекаделли. Автор астрологической поэмы «Урания».Патрисио, собств. Патрицци, Франческо (1529-1597) –итал. историк, литератор философ. Автор трактата«Della istoria» (1560), в котором трактует историюкак простой источник сведений о прошлом. В трудах поэстетике («Della poetica», 1582 и «Della retorica»,1590) и философии («Nova de universis philosophia», в4-х частях: «Panaugia», «Panarchia», «Panpsychia»,«Pancosmia», 1591) демонстрирует приверженностьнеоплатонизму.Робортелло, Франческо (1516-1567) – итал. филолог илитератор, преподавал литературу в Академиях Лукки,Пизы и Венеции, греческое и латинское красноречие вПадуе. Издавал труды Аристотеля, Эсхила, Лонгина идр.античных авторов.
281
иначе говоря, историку непозволительно ни выбирать изфактов, ни упускать ничего из того, что достойно бытьпознанным, хотя бы оно и вызывало у нас неудовольствиеили опасения.
Если Бэкон называл географию и хронологию глазамиистории, то Фокс Морсильо, признавая за ними это общеезначение, требует, руководствуясь философским духом,чего-то большего, нежели различения мест и времен, аименно, исследования причин фактов и человеческихмыслей. Он не ограничивает историю кругом бесплодных ипресных усилий, затрачиваемых ради учетагенеалогических линий государей и кровавых баталий; онхочет, чтобы ее главный интерес сводился бы к(намерению) дать знание о том, как менялись законы,как возникали один за другим конфликты и народныебунты, как основывались колонии, как совершали своиоткрытия мореплаватели. Короче говоря, (давать знание)обо всех элементах и аспектах цивилизации. Подобныеидеи, общепринятые ныне (хотя имеется еще немалоисториков, далеких от того, чтобы пользоваться ими всвоей работе), во времена Фокса Морсильо были крайнередкими. Что касается меня, то мне неизвестен какой-либо писатель, который провозглашал бы их до него,если не иметь в виду несравненного Хуана-Луиса Вивеса.
В этом диковинном (peregrino) трактате не меньшейхвалы достойна безраздельная любовь, которую ФоксМорсильо исповедует по отношению к историческойистине, на каждой его странице внушая читателю завет(la máxima) столь же моральный, как и мудрый(luminosa) о том, что историю следует писать не радитого, чтобы польстить гордыне такого-то народа илитакой-то партии, и не во имя авторского тщеславия или
282
ради академических упражнений в совершенствованиислога; но единственно во имя истины и справедливости.Он не скрывает от историка опасностей, которымичревато это суровое посвящение себя культу истины итребует от него не только глубоких знаний священной ичеловеческой литературы, особенно в областиюридических наук, но, помимо этого, совершенияпродолжительных путешествий и овладения обычаямиразных народов, так же как и вмешательства в дела мираи войны, в стремлении все это видеть собственнымиглазами и до всего дотрагиваться своими руками. В этойабсолютной концепции совершенств историка он заходитнастолько далеко, что намеревается вознести его,насколько это возможно, на такую высоту, где его недостигали бы удары реальности, где он переставал быбыть гражданином какого-либо государства и подданнымкакого-либо монарха, чьим-либо родственником илидругом, и где он, в конечном счете, был бы свободен отвсяческих уз и от любых страстей или эмоций, а был быподобен богу эллинов, который с вершины Олимпасозерцает с совершенным спокойствием и возвышеннойумиротворенностью дела человеческие, не принимая в нихучастия. Никто кроме Фокса Морсильо не превозносил встоль красноречивых выражениях силу и общественнуюдейственность истории, которую он расматривает какживописное полотно или зеркальное отражениечеловеческой жизни, как школу, постоянно открытую дляразмышлений о людях и государствах.
И если такой памяти и хвалы достойны литературныесочинения Фокса Морсильо, то еще большей высотыдостигает оценка, вдохновляющая нас, когда мызнакомимся с богатейшей серией его философских трудов,
283
в которых живет и из которых проникает в насбессмертный аромат цветения в XVI веке платонизма,одновременно итальянского и испанского, хотя он иназывается по преимуществу флорентийским простопотому, что первые его академии были основаны наберегах Арно и здесь же блистал его первый толковательМарсилио Фичино.
Никогда еще противостояние между адептами Платона ипоследователями Аристотеля, всегда имевшее более илименее демонстративный вид, не принимало вида такойпламенной и оживленной борьбы, как это имело место вXV и XVI веках, то есть в эпоху, названнуюВозрождением. В Средние века авторитет Аристотеляявлялся почти абсолютным. В это время арабы, в первуюочередь аверроисты, с одной стороны, а с другойсхоласты, существенным образом видоизменяя его учениеи вынуждая его пройти сквозь сито католицизма, как этовидно в чудесной конструкции Angel de las Escuelas384,добились повышения его престижа и утверждения егоповсеместного господства. Однако, становящиеся скаждым днем, начиная с эпохи Крестовых походов, всеболее ограниченными отношения между Италией и Грецией,недолговечный союз части греческой церкви с латинскойна Флорентийском соборе и взятие Константинополятурками, которые выбрасывали на итальянские пляжиреликвии старинного византийского знания, – все этовызывает на Западе мощное движение философскогообособления и независимости, которое, в сущности,подрывает прежде неоспоримое верховенство Аристотеля.384 Angel de las Escuelas – небесный покровительучености; на испанском яз. аналог doctor angelicus,эпитета Фомы Аквинского.
284
Платон становится девизом, который начертали на своихзнаменах противники Стагирита. Можно выделить дваглавных периода в этой достопамятной борьбе, котораяпредставляет собой один из самых интересных эпизодов вистории человеческой мысли. Первый,характеризовавшийся демонстративной и фанатичнойоппозицией имени и авторитету Аристотеля, оказалсяперсонифицированным в греческом философе ГеоргииГемисте Плетоне, который начинает учить во Флоренции в1438 году, преодолевая жесткий отпор со стороны другихгреческих приверженцев Перипата, например, ГеоргияТрапезундского и Федора из Газы385. Однако, не тратя385 Георгий Гемист Плетон (сведения о времени и местерождении и смерти весьма приблизительны, 1350–1450или 1389-1464) – греческий теолог и философ,выдающийся эрудит (отсюда прозвище Плетон от греч.Plethos - наполненный). Жил гл. обр. на Пелопоннесе,приближенный византийского императора МихаилаПалеолога ок. 1426 г. В 1438 г. участвовал в работеФлорентийского церковного собора сначала какпротивник, а затем как сторонник унии греческой иримской церквей. Был известен извлечениями из трудовАппиана, Теофраста, Аристотеля, Диодора Сицилийского,Ксенофонта, Порфирия, Дионисия Галикарнасского и какавтор комментариев к ним. Писал труды по теологии, втом числе мистической, по риторике, истории,географии. Считается, что идею основать во Флоренцииплатоновскую академию подал Козимо Медичи именноПлетон. Среди работ Плетона представляет интерес, вконтексте лекции Лаверде, компаративистский труд «Оразличии между платоновской и аристотелевскойфилософиями» (Венеция, 1532). Платоник по склонности
285
понапрасну времени на полемику, он приступает(постепенно объединяя силы утомленных полемистов и самсо временем лучше понимая границы проблемы метафизики)к реализации согласующей тенденции, хотя иплатоновской, по преимуществу, которая берет начало укардинала Виссариона, а своего апогея достигает унаших превосходных философов Леона Еврея и Фоксаума, Гемист совмещает с платонизмом положениявосточных и светских теогоний и христианскиеверования. Философские и моральные воззрения Плетоналишены внутреннего систематического единства. Егокнига «О законах» была сожжена как еретическая попредписанию константинопольского патриарха Геннадия(Георгия Схолария).Георгий из Трапезунда (1346-1486) – греческий философ-перипатетик с о. Крит. В 1428 г. по приглашениюмагната Франческо Барбаро переселяется в Венецию, гдепреподает греческую литературу и философию. Вдальнейшем становится личным секретарем римского папыЕвгения IV. Переводил на латынь труды Аристотеля,Птолемея и др. Писал трактаты по риторике идиалектике, среди них известностью пользоваласьработа «Сравнение философий Платона и Аристотеля»(Венеция, 1464, 1523), в которой на фоне резкихвыпадов в адрес философии Платона Георгийаргументирует точку зрения о полном совпадениивзглядов Аристотеля с христианским учением, в томчисле с догмами творения и Троицы. Оппонент Федора изГазы и Лоренцо Валлы.Федор из Газы (1400-1478) – византийский гуманист ифилософ-перипатетик. С 1444 г. живет в Италии,изучает латынь и преподает греческий в Ферраре и
286
Морсильо.Антагонизм между основателем Академии и учредителем
Ликея, хотя он и распространяется на всю областьфилософии, концентрируется преимущественно впротиворечии между учением об идеях и учением оформах. В Средние века эту проблему формулировалииначе: ее именовали спором об универсалиях и обсуждалив рамках диалектики. В Новое время, когдаподтверждаются действительные условия человеческогодуха, поскольку в нем одном резюмируется, доизвестного предела, вся философия, этот постоянновоспроизводимый и все-таки не решенный вопросназывается уже онто-психологическим, а системы, которыестремятся его решить, выделяются определением их какгармонических. Но в какой бы плоскости не ставили этотвопрос – в метафизической, космологической илиантропологической, в своей основе он всегда останетсятем же самым, а именно вопросом о противоположностимежду абсолютным и относительным, всеобщим иособенным, необусловленным и обусловленным, междумиром идей и миром явлений, между пребывающим ипреходящим, между неизменным и мимолетным.философию в Риме. В конце жизни по протекциикардинала Виссариона, принимает небольшое аббатство.Переводил на латынь труды Аристотеля, Теофраста,Александра Афродизийского, Дионисия Галикарнасского,Иоанна Хризостома, а на греческий сочинения Цицерона.Автор «Введения в грамматику» греческого яз. в 4-хкн. (Венеция, 1495), впоследствии переведенную налатынь при участии Эразма Роттердамского, а такжетрактата «О противоречиях между учениями Аристотеля иПлатона», который он посвятил Виссариону.
287
В XVI веке задаются вопросами: есть ли в вещахнечто, отличающееся от самих вещей? Значимы ли вещисами по себе, или же они получают свою значимость(tienen valor) от принципа, который дает им форму?Принадлежит ли реальность феномену, или она зависит отидеи? А сама идея – является ли она чем-то реальным,что укоренено в уме человека, или чистой абстракцией ипонятием ума? Как объясняется мир – посредством идейили форм? И как эти идеи или формы могут бытьсведенными в единство?
Подобного рода вопросы образуют так называемыйвопрос о Principiis rerum naturalium. Аристотелики – каксхоласты, так и классики или эллинисты, среди которыхвыделяется глубиной мысли валенсийский иезуитПерерио386 – решают этот вопрос на основе своего ученияоб образовании тел из взаиморазличаущихся материи иформы, первая из которых является как бы женским иподчиненным началом, а вторая – мужским, активным иживотворящим началом. Напротив, платоники, удалившиесяв горние выси чистых и абстрактных идей любой материи,для того, чтобы объяснить переход из этого идеальногомира в физический мир, прибегали к сверхъестественнойпомощи демиурга, или даже объявляли мир явленийфантастическим, обманчивым, видимостью, утверждая,будто он обладает значимостью только благодаря идеям,будучи их смутным впечатлением или бледным отражением,386 Перерио (Перейра), Бенито (1535-1610) – испанскийтеолог, философ и литератор. Учился в Валенсийскомуниверситете, с 1552 г. член Общества Иисуса.Последовательный борец против университетскойсхоластики, мыслитель, которого иногда ставят в одинряд с Х.-Л. Вивесом.
288
и что познание идей образует единственную науку, наукуо бытии, науку о реальном, которую они (платоники),беря это слово в значении, совершенно отличающемся отаристотелевского, называли Диалектикой.
Такими были позиции эти двух противостоящих лагерейэмпиризма и идеализма, когда Фокс Морсильо, оснащенныйбезграничными знаниями, почерпнутыми из источниковсобственно греческой философии и вдохновленныйблагородным пылом своего цветущего века, объявился наполе брани как миротворец со своей бессмертной книгойDe naturae philosophia, seu de Platonis et Aristitelis consensione,которая произвела весьма сильное впечатление наспециалистов и в короткое время неоднократнопереиздавалась (Лувен, 1554; Париж, 1560; Виттенберг,1594).
Автор начинает книгу с декларации о своейфилософской независимости, напоминающей аналогичноевыступление Декарта. “Метод, который я постояннопредлагаю в своих философских трудах, состоит в том,чтобы не следовать системе какого-либо учителя, абрать и отстаивать то, что мне представлялось наиболеевероятным, неважно, шло оно от Платона, или отАристотеля, или еще от кого-либо. Не сомневаюсь, чтоэта манера философствования придется не по нравулюдям, разделенным на секты и упорствующим в ихзащите; тем не менее, я считаю, что любомучеловеческому авторитету дóлжно противопоставлятьлюбовь к истине. В моей вере есть место дляавторитета, когда идет речь о божественныхсвидетельствах и о свидетельствах католической церкви,единственно кого я почитаю и всецело защищаю какнепогрешимых и извечных оракулов.”
289
Наш Фокс Морсильо был одним из первых, кто применилк философии геометрический метод: исходя из некоторыхаксиом, дефиниций и гипотез, выводится остальноесодержание дискурса.Таков порядок, которому он следуетв трактате “De naturae philosophia”. Покажем его систему внемногих словах.
Объектом философии является все, на что может бытьобращено человеческое познание, в том числе и нечто,отдельное от тел и воспринимаемое одним только умомили, напротив, соединенное с телесной природой.Собственным объектом физики или философии природы неявляется и не может являться движимое сущее, какнастаивают некоторые перипатетики: подвижные ипреходящие сущие не могут являться материей какого-либо научного познания, поскольку наука должнавозвышаться до принципов, до последних основанийсовокупности всех тел. При изучении этих верховныхоснований следуют двумя различными путями. Аристотельначинает с чувственных вещей (in sensum cadentibus),Платон – с идеальных понятий. Но и Платон, иАристотель обнаруживают согласие в выдвижениинетелесного и вечного первоначала, именуемого имипервой природой или перводвигателем. Но тем самым онисоглашаются в допущении и второго принципа, которыйАристотель называл второй природой, а Платон мировойдушой. И, наконец, они соглашаются друг с другом (ноне с католической доктриной) в учении о вечности мираи неразрушимости материи, которую они рассматриваюткак нетелесную способность принимать бесчисленныеформы, а также как субъекта бесконечных изменений.
В чем же заключается противоречие между учеником иучителем? Прежде всего, (как уже говорилось), это
290
противоречие между учением об идеях, котороеисповедовал Платон и учением о формах, котороеотстаивал Аристотель. А как эту антиномию разрешаетФокс Морсильо? – Расширяя понятие формы до ее смешенияс понятием идея и конкретизируя идею до ее соединенияс вещами, для того, чтобы она их оформляла. То, что онговорит в данной связи, вполне ясно и достойно того,чтобы привести его слова здесь на нашем языке,поскольку в них отражено содержание его трактата.
«Форму, или, что то же самое, идею, Платон отделяетот телесных и конкретных вещей и помещает в ум Богакак пример и образец творения. Аристотель ееобъединяет и связывает с вещами, как если бы онаявлялась частью их субстанции. Этому божественномупонятию Платон дает имя образцовой причины всех вещей.Указанная идея, которая располагается в божественномуме, отличается от человеческого мышления своейвечностью, тем, что она наделена творящей способностьюи лишена даже пятнышка телесности, какого бы то нибыло сходства с ней, в то время как идея в нас телесна,то есть связана с телом. И сама по себе она ничего неможет произвести. В «Пармениде» Платон учит, что этаидея – единая, бесконечная и вечная – охватывает всвоем единстве идеи всех единичных вещей. То же самоезаявляет и Плотин в своей книге «Об идеях и омножестве»: идея оставляет свой отпечаток в формахединичных вещей. Напротив, Аристотель рассматриваетидею единственно под видом формы, соединенной стелами, каковая форма вожделеет быть принципом ихустройства. Однако и здесь и вообще, например вовторой книге «Физики» он признает существованиебожественной формы, из которой проистекают все
291
остальные формы, поскольку она одна разумеет(comprende) их всех. Тем самым, как мне кажется, онсобирается говорить то же, что говорил Платон, тоесть, не сознавая этого, он скатывается (se resbala) ксуждению своего учителя. Действительно, еслисуществует только первая и божественная форма, ккоторой, как к своей цели, относятся все остальные, тодолжно иметь место нечто всеобщее, отдельное от самойвещи.
Если бы нам только и оставалось, что говорить опринципах, внешних природным вещам, достаточно было быаристотелевских материи и формы для того, чтобыобъяснить соединение (composición) тел. Но так как, поубеждению самого Аристотеля, физик должен дойти довсеобщих принципов, нам следует отыскивать нечтовнешнее и верховное материи и форме, нечто, что непринадлежит роду сложных вещей, а предстоит всякомусоединению и существует само по себе наипростейшимобразом».
Таковы Идеи, которые Фокс Морсильо,интерпретировавший мышление Платона в духе Св.Августина и теологов, полагает пребывающими вбожественном понимании, хотя в этом пункте во всехдиалогах ученика Сократа встречаются большие неясностии противоречия.
Мы не собираемся следовать за Фоксом Морсильо вовсех изобретательных подробностях указанногогосогласования. Для этого пришлось бы изложить целикомего книгу, в которой он в одних случаях очищает иобъясняет Аристотеля с помощью Платона, а в другихПлатона с помощью Аристотеля, всегда выделяя у обоихто, что он полагает противоречащим (христианской)
292
догматике, например, положения о вечности мира, оличности Бога, о переселении душ и о воспоминании.Таким образом он во всех частях завершает программухристианской свободы, которую он сформулировал впринципе и которая, в ее основе, является началом всейиспанской науки XVI века, очень хорошо согласованной сБогом и церковью, как восстающей против любого другогоярма (для) философского и человеческого авторитета.
Идеологические теории Фокса Морсильо главнымобразом содержатся в двух трудах: в «De demonstratione,ejusque necessitate ac vi» и в “De usu et exercitatione Dialecticae”,опубликованных в 1556 году. Как ревностный платоник,он дополняет их врожденными идеями, которые именуетестественными понятиями души; но в этом месте егострасть все гармонизировать приводит его к желаниювключить в состав этого учения перипатетическийафоризм, приписываемый Стратону из Лампсаки, которыйпреувеличивал сенсуалистические следствия из некоторыхидей Аристотеля, своего учителя: Nihil est in intellectu quodprius non fuerit in sensu. «Это следует понимать, (говориттончайший Фокс Морсильо, задолго предвосхищаяЛейбница) в том смысле, что наше врожденное понятиевоздействует на вещи, воспринятые чувствами. Ничего,таким образом, нет в понимании, чего прежде не было вчувствах, исключая естественные понятия самого понимания.
Если бы мы не обладали (добавляет он) более прочными несомненным познанием, в отличие от того, котороеследует из чувств, то мы не могли бы сформулировать ниодного суждения, так как чувства только воспринимаютформы вещей, но не различают их. Необходимо, чтобы внашем понимании были бы определенные идеи или понятиявещей, впечатанные самой природой, поскольку если бы
293
душа не использовала такой инструмент для понимания,то воспринимал бы и понимал ум, но только формы вещей,а не сами вещи; мы же наблюдаем, что все обстоит какраз наоборот».
Мы видим, таким образом, что Фокс Морсильо долженбыть причислен к противникам прямого познания, котороев это же самое время с таким умением отстаивал ГомесПерейра387, а в последующие времена шотландскиефилософы; но он также не допускает умопостигаемыхвидов схоластов и, следуя изнутри наружу, а ненаоборот, как они, заменяет их врожденными идеями,посредством которых ум очищает и делает нетелеснымиобразы, которые чувства переносят (transmiten) из тел.
Таким способом уменьшается, если вообще неразрешается, противоречие между Платоном и Аристотелеми в вопросе о средствах познания, в котором ФоксМорсильо выглядит еще более радикальным и глубоким.«Ни чувств без понятий, ни понятий без чувств(повторяет Фокс Морсильо): Nec sensus sine iisdem notionibussatis ad scientism pariendam sunt, nec sine sensibus ipsae notiones».Подобным же образом объясняется противоречие, котороекое-кто хотел бы видеть у нашего выдающегося Вивеса,когда он учит, что, с одной стороны, «душа владеет387 На самом деле, Гомес Перейра (1500-1560),демонстрировавший твердое намерение последовательнопроводить идею «прямого познания», допускал наличие«внутреннего опыта» (сознания, бессмертной души), атем самым и непоследовательность, которая, правда,носила у него дуалистический характер. Этообъяснялось не только «испугом» доброго католика, нои неизбежной противоречивостью последовательногосенсуализма.
294
семенами всех искусств и наук, каковые (семена) в виденеких предварений и уведомлений записаны в нейприродой», а с другой стороны, утверждает, что мы«вступаем в познание вещей через врата чувств и другихспособов у нас нет до тех пор, пока мы заключены внаше тело».
Только наука о первых принципах является для ФоксаМорсильо верной и неизменной, поскольку, познаваяпринципы, познают так или иначе все то, что в них, какв зародыше, содержится. Наука, которую имеет в видуФокс Морсильо, не относится к какому-либо классупознания, она та, которая есть и не может быть другой;она основывается на объективности и на самихреальностях; имеет в своем распоряжении (por campo yjurisdicción) фиксированные и истинно существующиевещи, а не изменчивые и преходящие; отправляется отprincipia per se nota; одним словом, это наука обуниверсалиях, а не о единичностях; наука, котораяподобна плодотворному семени, оброненному (derramada)предусмотрительной природой в наш ум: она обязываетнас говорить, что три плюс два равно пяти, хотя преждемы не видели ни двух и ни трех; эта наука заставляетнас отыскивать добро и избегать зла по неискоренимойсклонности души (ut mens…quasi apta et proclivis per se sit);признавая истину, она, похоже, не подтверждает (noverifica) разве что акт памяти. Какой-то таинственнойсогласностью связано истинное с идеями или понятиями,дремлющими в глубине души и вызывающими чувстворадости самим своим присутствием!
Первой и самой общей из этих врожденных идейявляется идея бытия: будучи приложенной к чувственнымвосприятиям, она с самого начала дает нам смутное
295
познание вещей, лишенное какой-либо ошибки, посколькувсе, что воспринимается, есть. К этому понятиюдобавляются другие, такие как сущность и акциденция,которые также не могут быть ложными и не подлежатпроверке. Благодаря им начинает видеться различительното, что прежде воспринималось в виду смутного ипредельно общего основания. Теперь понимание видитвоспринятую вещь конкретной и отличающейся от других;оно дополняет (это видение) примечаниями о бытии этойили другой сущности, о ее бытии тем или другимспособом, о простом или сложном бытии. Бытие, сущность,акциденция, качество, возможность..:таковы ступенипознания в системе Фокса Морсильо; такова цепочкаврожденных идей, посредством которых, как он считает,неизбежно происходит и претерпевает изменениявосприятие чувственного. Применяя верховные (últimas)категории, он допускает многочисленные ошибки,пополняя их состав или устраняя необязательные(indebidas) категории; но всегда душа отправляется отсамого всеобщего и необусловленного понятия, каковымявляется понятие бытия, в то время как чувствапонимают только единичное, которое, в силу егомножественности, ведет к смутному познанию, хотя и наосновании, противоположном интеллектуальному познанию,смутность и неопределенность которого обязаны самомуего единству, зашифрованному (cifrada) в понятии бытия(aliquid esse). Этим двум путям познания, из которых одинследует от единичного к всеобщему, а другой отвсеобщего к единичному, соответствуют два метода:синтеза, то есть соединения друг с другом разныхвещей, и анализа, или разложения целого на части,различения их. Синтез более полезен для
296
конституирования наук, а анализ для их распространенияи научения им.
Этих поверхностных указаний достаточно, чтобыосмыслить масштаб системы Фокса Морсильо, чреватойподлинной революцией в традиционной диалектике ивозвратом к платоновской диалектике, но расширенной вее границах с тем, чтобы она включала также и индукциюВивеса и Бэкона, каковой наш севильский философдоверил труд демонстрирования a posteriori тех же истинper se notas.
Так как Фокс Морсильо был убежден в том, чтофилософская наука не должна ограничиваться чистойспекуляцией, а должна ставить практические цели, то оннаписал, кроме своего «Комментария к «Республике»Платона», трактаты по этике и политике. Во всех этихкнигах провозглашается гармоническая идея, при том,что предпочтение Платона здесь весьма демонстративно:он принимает его общее благо и врожденные, а неприобретенные человеческие чувства (afectos). Вплатоновской Республике его не удовлетворяет недеспотизм государства, а общность женщин и их участиев общественных делах. Аристотеля он осуждает за то,что тот подчиняет все утилитарному принципу публичногоинтереса и пользы. Согласование Платона и Аристотеля,прошедших очищение в горниле христианскогоспиритуализма, является для Фокса Морсильо идеаломполитической науки, как и всякой науки вообще.
За трансцендентальную концепцию человеческихприроды и духа, за одну эту светлейшую идею, которуюон проводил с неукротимой страстью, основываясь приэтом на исключительно богатой эрудиции и учености, ужедостаточных для того, чтобы рассматривать в анналах
297
науки какого-либо мыслителя как выделяющегося своеймощной индивидуальностью, Фокс Морсильо, вне всякогосомнения, был достоин этой славы. Каким бы ни быломнение относительно происхождения идей, то естьпринимается ли за их источник внутренний мир иливнешний мир, всегда следует признаватьэкстраординарную значимость мышления того философа,который стремится соединить в одной синтетическойтеории эти два элемента. Каким бы ни было решение,даваемое внушающей ужас проблеме образования(composición) тел, безусловно следует обнажить головуперед молодым философом, который, связывая идеальный иреальный миры, приходит к тонкой и возвышенной теорииидей о вещах и идей в вещах (формы). Эти решения можнооспаривать, и наверняка будут спорить о них доскончания времен, но такие, какие они есть, хотя быони и не были нам даны, ни, в гораздо меньшей степени,сама истина (отринутая, пожалуй, навсегдаестественными силами нашего понимания) возбуждают внас неутолимую жажду достичь ее, заставляет наспредполагать гармоническое соответствие, котороепосредствует в чудесном треугольнике междусотворенными вещами, вечными идеями или основаниями, имежду теми и другими и человеческим умом и внушает намопределенный образ благородного и возвышенногомышления, пренебрегающего низинами и любящего вершины.Сам факт постановки этих двух капитальных вопросовфилософии с такой точностью и ясностью во времена,когда эрудиция, переходя разумные границы, погребаетсущностное под грудами частностей, уже являетсянесомненным признаком превосходного философскоготаланта. Величайшим несчастьем было то, что смерть,
298
воспрепятствовавшая ему в достижении совершеннойзрелости, лишает Испанию результатов егоплодотворнейшего наставничества и славной возможностиначертать его имя среди самых выдающихся имен,блиставших в истории человеческого духа!
Каждый, кто что-либо понимает в таких делах и незакрывает глаза на очевидное, по крайней мере не можетне отметить регулярности, с какой среди испанскихфилософов воспроизводятся одни и те же тенденции,придающие национальному мышлению на протяжении егоистории особый колорит и единство. Дух критический и духгармонический оспаривают с отдаленных времен своепреобладание в нашей философии, порой заботливоподдерживая друга. Фокс Морсильо, хотя он и получилобразование тогда, когда достигает апогея критическийимпульс Возрождения, самым высоким выражением которогоявился Вивес, был целиком обязан гармоническомутечению, совершенствуя его более чем за столетие довеликого Лейбница. А посмотрите, каких старинных иавторитетных предшественников он имел в Испании!
Галерею иберийских философов открывает Сенека, иуже Сенека утверждает в своем 58 письме тождество идеии формы, говоря: «Eidos in opere est: Idea extra opus, nec tantumextra opus est, sed ante opus»388. Эйдос, аристотелевская формасуть идея в вещах, конкретное провозглашение вечногообразца.
А разве другой смысл мы обнаруживаем в учениинашего знаменитого еврейского поэта и философа XI века388 «Эйдос – в самом произведении, идея – вне его, и нетолько вне его, но и предшествует ему» (пер.С.А.Ошерова) // Луций Анней Сенека. Нравственныеписьма к Луцилию. М., 2000, с. 171.
299
Соломона Бен-Гебироля (именовавшегося христианамиАвицеброном), когда в своей книге «Источник жизни» онучит нас, что «чувственные формы по отношению к душесуть то же, что книга по отношению к ее читателю, тоесть когда он видит ее и воспринимает ее черты изнаки, его душа вспоминает истинное значение, котороескрыто за тем и другим»? Разве что Бен-Гебироль какпантеист, хотя и непоследовательный, полагает, чтовсеобщая форма есть впечатление Единого Истинного и чтоона образует сущность общности видов, то есть общеговида, в идее которого содержатся все отдельные виды.Что в другой части он сформулировал в еще более ясныхтерминах, говоря, что форма – это единство, котороеохватывает все вещи и пребывает в них. Для неготелесные формы есть образы психических форм, видимыхво снах, а эти последние суть образы умопостигаемыхформ389.
Когда Рационализм, украсивший себя наименованиемгармонического, и именно благодаря тому, что онгармонический, принялся соблазнять и прельщать, илитщился соблазнять и прельщать многие благородные умы,так вот, когда эта пантеистическая философия, внедобрый час пришедшая из-за Рейна390, возжелала, дабы389 Соломон Бен-Габироль (ок. 1021 – ок. 1058 или 1070) –еврейский поэт и философ, уроженец Малаги, жил иработал в Сарагосе. Является зачинателемпантеистической традиции в западноевропейскойфилософии.
390 Лаверде имеет в виду «панентеистическое» учениеК.Х.Ф.Краузе, философа круга классиков немецкогоидеализма, перенесенное на испанскую почву усилиями,главным образом, Хулиана Санс дель Рио. О краузизме и
300
найти в наших душах живейший отклик, выявить своестаринное испанское происхождение, она не нашла ничеголучшего, чем сослаться на имя Раймунда Луллия; насамом же деле ей следовало идти дальше, к «Источникужизни», с доктринами которого ее доктрины обнаруживаютсходство в немалом числе моментов. Реализм Луллия –нечто совсем другое: это платоновский реализм с темиразличиями, которые должны были неминуемо возникнутьмежду античной философией и философией схоластической.Его грандиозная идея общей науки, приложимой ко всемчастным наукам, с самыми общими принципами, в которыхподразумеваются и содержатся принципы каждой из них,подобно тому, как во всеобщем содержится особенное,предлагает нам самое полное и оригинальное выражениеиспанского гармонизма. Очень похожие синтетическиеконцепции мы находим в более или менее развитом виде в«Диалогах о любви» Леона Еврея и в «Именах Христа»фрая Луиса де Леон.
Можно ли, имея такие свидетельства, отрицать, чтогармонизм обладает тайной и исключительнойдейственностью, позволяющей ему овладевать умамииспанцев и что старания Фокса Морсильо, направленныена формулирование оного, не представляются чем-тоисключительным в историческом процессе нашейфилософской мысли?
Эта тенденция к согласованию антитетических доктринидеализма и эмпиризма, сводящая в единство множествоих различностей, законна именно потому, что онаестественна как свойственное душе устремление клучшему миру, где все преходящие антиномии разрешаютсяо его судьбе в Испании см.: О.В.Журавлев. Пути иперепутья, гл.II.
301
в долговременных согласованиях (perdurables armonías)так же хорошо, как Верховный Творец наилучшим образомсогласовал в человеке противоположные полюса творения:дух и материю. Бог хочет, и я настаиваю на этом, чтобыникогда гармоническое не вырождалось бы в насильственноунитарное, чтобы, ввиду этого, не приходилосьпогружаться в сумеречный хаос пантеизма, в этукрайность, неотвратимо приводящую философскиеразмышления к великим заблуждениям! Бог хочет, чтобыбудущие испанские философы, исполненные страстнымжеланием единства в границах истины, отделяли, какотделял Фокс Морсильо и сохраняли, как он, строгое иполномерное различие между субъектом и объектом, междуконечным и бесконечным, так же, как и (уникальность)божественной личности, человеческой свободы, жизненныхпринципов всякой философии, которая не хочетупорствовать в отстаивании пресловутых заблуждений поповоду того, что между человеческим разумом и абсурдомсуществует некое тайное подобие, своего рода неодолимаялюбовь! Следуя в этом примеру нашего достопямятногосевильца, смиренно почитавшего непогрешимыми и вечнымипрорицания и свидетельства божественные и свидетельствакатолической церкви, они обязательно отыщут верноенаправления для того, чтобы выплыть в бескрайний океанметафизических рассуждений. Они никогда не упустят егоиз вида и вполне смогут, как смог один поэт,развернуть ветрила мысли
………………….в том далеком мореГде взору предстает один лишь волн простор и неба.Чего и вам желаю, золотая компостельская молодежь;
желаю так же неуклонно следовать курсом на изучениевозвышенных источников света, с тем, чтобы, достигнув
302
их на этом верном пути, однажды оправдать те лестныеупования, которые Университет и Родина основывают навашем таланте и прилежании, наряду с надеждой, котораяследует просто из факта вашего бытия. Вы призваныстать в будущем наставниками истины, священникамисправедливости, сеятелями добра, толкователямикрасоты, мозгом общества и его руководителями,сражающимися на передовой линии с заблуждениями и зломв различных областях науки и жизни. Для того, чтобыбыть достойными этого возвышенного предназначения, выдолжны целиком посвятить себя совершенствованию вашегоблагородного призвания, прилагая усилия к тому, чтобыв вас неизбывно зрели любовь и энтузиазм припосредстве святых творений духа, так, чтобы вас неистощали удовольствия, не завлекал бы голос мирскойсирены, не обескураживали препятствия, не обессиливалии не кружили голову успехи и хвалы. Не забудьте также,что подобно солнцу в чистых и спокойных водах, светзнания с совершенной ясностью отражается только вчистых и невозмутимых душах, в которых не клокочутнизкие, мерзкие и просто бессмысленные страсти. Сколькрасноречивы подтверждения этой истины, оставленныенам нашими старинными мудрецами в прекрасныхпамятниках их грациозной науки, тем более восхищающиенас, чем из более отдаленных времен мы их созерцаем!Последуйте и вы путем, которым они восходили квершинам бессмертия; следуйте за истиной безколебаний, сопротивляясь с мужественной отвагой, какэто делали они, любым нападкам со сторонынаставничеств чужеземцев и антихристиан, которыеодинаково противоположны как естественному, так исверхъестественному порядку вещей, как бы они не
303
хвалились своим якобы натурализмом. А особенноследуйте за достославным писателем, объектом этогократкого рассуждения, научаясь у него, в первуюочередь, гармонизации в вашем сознании свидетельствверы и суждений разума, дабы соединять в плодотворномсотовариществе священную и мирскую эрудицию и украшатьвозвышенное величие философии неувядаемыми цветамиискусства. Так вы добьетесь несравненной удачи вэффективном достижении обновления, продлевая(дополняя) и совершенствуя, с помощью положительныхдостижений Нового времени, Золотой век родной науки,великий век Вивеса и Суареса, Сото и Ариаса Монтано,Агустина и Гоувеа, Меркадо и Валверде391. Но хотя и391 Сото, Доминго (1494-1570) – теолог и правовед изСаламанкского университета, один из первых, наряду сФрансиско де Витория, разработчиков принциповфилософии международного права на основе критикиидеологии конкисты Америки. Ариас Монтано, Бенито (1527-1598) – испанский философ,ученый и теолог. За обширные познания и глубокомыслиеего называли «Соломоном XVI века». В 1562 г. онпредставлял Испанию на Трентском экуменическомцерковном соборе. Являлся капелланом короля ФелипеII. В 1568 г. по поручению короля наблюдал вАнтверпене за переизданием «Biblia Poliglotta» (илиКомплутенской Библии, созданной в начале XVI в. вАлькала де Энаресе под руководством кардиналаФрансиско Сиснероса). Являлся систематизаторомбиблиотечного фонда в королевской резиденции –Эскориале. За отклонения в толковании Священногописания Ариас Монтано находился под подозрением уинквизитора Леона де Кастро (см.: Х.А.Льоренте.
304
была славной эта эпоха, которую мысленно охватываетмой патриотизм, созерцая ее пророков, уместно ее славуперенести на будущее, расширяя круг девизов этойблестящей школы именами кого-то из вас, именами,которые будут окружены таким же сияющим ореолом, какимбыл ореол, достойный превосходнейшего испанскогофилософа Себастьяна Фокса Морсильо.
Я закончил.
(Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №0103-00173)
История испанской инквизиции. В 2 Т., Том 2-й. М.,1999, с.54-59). Ариас Монтано – выдающийся полиглотсвоего времени: он читал и писал на латыни,еврейском, греческом, халдейском, арабском,фламандском, немецком, английском, французском,итальянском языках, а также знал языки и наречиянародов, населявших Пиринейский полуостров.Относительно имен других корифеев испанской наукиЗолотого века, названных Лаверде, полной ясности нет.Возможно, он имел в виду активных борцов противзлодеяний Конкисты и рабовладения в Новом Светедоминиканских священников XVI века Агустина деКорунья и Висенте де Валверде. Известен также ХуанВалверде де Амуско, врач, анатом и антрополог XVI в.,причисленный Испанской королевской академией кавторитетам в испанской словесности.
305
SUMMARY
The academic lecture (1884) of Spanish historian ofliterature and philosophy, author of the project«Library of Iberian Philosophers» Gumercindo Laverde yRuiz (1840-1890) is interesting as a fragment of thediscussion on «Spanish science». The lecture dedicatesto Sebastian Fox Morcillo (1528-1560) – one of Spanishphilosophers, who’s work is practically unknown inRussia.
306
АВТОРЫ ВЫПУСКА
Багно Всеволод Евгеньевич - доктор филологическихнаук, заведующий отделом межлитературных связей,Институт русской литературы (Пушкинский Дом),Российская Академия наук
Отец Хосе Мария Вегас - профессор истории философии иэтики, проректор Католического Богословскогоинститута св. Иоанна Златоуста (С.-Петербург)
Джон Пол Дойл - доктор философии, профессор кафедрыфилософии, Университет Сент-Луиса (США)
Журавлев Олег Владимирович - доктор философских наук,профессор кафедры современной зарубежной философии,Санкт-Петербургский государственный университет
Калугина Елена Октябрьевна - соискатель кафедрыистории зарубежного искусства, Санкт-Петербургскийгосударственный академический институт живописи,архитектуры и скульптуры имени И.Е. Репина
Корконосенко Кирилл Сергеевич - кандидатфилологических наук, научный сотрудник отделамежлитературных связей, Институт русской литературы(Пушкинский Дом), Российская Академия наук
Кульматов Владимир Александрович - кандидатфилософских наук, докторант кафедры логики, Санкт-Петербургский государственный университет
Морозова Анна Валентиновна - кандидатискусствоведения, Санкт-Петербургский государственныйтехнический университет
Савватеев Станислав Константинович - главныйбиблиограф Научной библиотеки, ГосударственныйЭрмитаж
Сергиевская Галина Евгеньевна - соискатель кафедрыистории зарубежной философии, Санкт-Петербургскийгосударственный университет
Смагин Юрий Евгеньевич - кандидат философских наук,доцент кафедры истории философии, Санкт-Петербургскийгосударственный университет
Цыпина Лада Витальевна - кандидат философских наук,доцент кафедры истории философии, Санкт-Петербургскийгосударственный университет
Шмонин Дмитрий Викторович - кандидат философских наук,доцент кафедры философии, Санкт-Петербургский
307
AUTHORS OF THE ISSUE
Vsevolod E. Bagno - Doctor of Science (Philology),Chairman, Comparative Literature Department,Institute of Russian Literature (Pushkin House),Russian Academy of Sciences
John P. Doyle - Ph.D., Professor, Department ofPhilosophy, Saint Louis University (St. Louis,Missouri, USA)
Oleg V. Zhuravliov - Doctor of Science (History ofphilosophy), Professor, Department of ContemporaryForeign Philosophy, Saint Petersburg State University
Elena O. Kalugina - Doctoral student, Department ofHistory of Foreign Art, St. Petersburg Institute forPainting, Architecture and Sculpture, Russian Academyof Art
Kirill S. Korkonosenko - Ph.D. (Philology), ScientificResearcher, Comparative Literature Department,Institute of Russian Literature (Pushkin House),Russian Academy of Sciences
Vladimir A. Kulmatov - Ph.D. (Logic), PostdoctoralStudent, Department of Logic, Saint Petersburg StateUniversity
Anna V. Morozova - Ph.D. (History of Art), SaintPetersburg State Technical University
Stanislav K. Savvateev - Head Bibliographer,Scientific Library, State Hermitage
Galina E. Sergievskaya - Doctoral student, Departmentof Contemporary Foreign Philosophy, Saint PetersburgState University
Dmitry V. Shmonin - Ph.D. (History of Philosophy),Associate Professor, Department of Philosophy, SaintPetersburg State Mining Institute (TechnicalUniversity)
Yuri E. Smagin - Ph.D. (History of Philosophy),Associate Professor, Department of Philosophy, SaintPetersburg State Mining Institute (TechnicalUniversity)
Lada V. Tsipina - Ph.D. (History of Philosophy),Associate Professor, Department of History ofPhilosophy, Saint Petersburg State University
Father Jose Maria Vegas - Professor of History of
Philosophy and Ethics, Vice-rector of St. JohnChrusoston Catholic Theological Institute (St.Petersburg)
266
VerbumВыпуск 5
Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт.Альманах центра изучения средневековой культуры при философском
факультете Санкт-Петербургского государственного университета
Издательство Санкт-Петербургского философского общества.Лицензия ЛП № 000217 от 20.07.1999.
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5Сдано в набор 12.11.2001. Подписано к печати 15.11.2001.
Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times. Объём 22 п.л. Тираж 100 экз.
ЦОП типографии Издательства СПбГУ.199034, С-Петербург, наб. Макарова, 6.