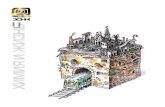Рассмотрение проблемы аутентичности Песни Моисея из 32...
Transcript of Рассмотрение проблемы аутентичности Песни Моисея из 32...
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Программа «Магистр богословия»
РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АУТЕНТИЧНОСТИ
ПЕСНИ МОИСЕЯ ИЗ 32 ГЛАВЫ КНИГИ ВТОРОЗАКОНИЕ
В ЕЁ ЖАНРОВЫХ, СТРУКТУРНЫХ И ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
Поликин Сергей Владимирович
Работа по курсу
Экзегетика и богословие Ветхого Завета, Пятикнижие (BS003-OT1)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2014
Содержание
Введение ......................................................................................................................................... 3
Часть 1. О жанровых особенностях песни в Древнем Израиле и Великой песни Моисея в
частности ........................................................................................................................................ 4
Часть 2. Проблемы датировки и авторства Великой песни Моисея ........................................ 6
Часть 3. Структура и общие характеристики песни, проявляющие её значение для первой
аудитории и последующих поколений ...................................................................................... 13
Заключение ................................................................................................................................... 19
Библиография ............................................................................................................................... 21
Введение
Пятикнижие, сочетая в себе богатое разнообразие литературных стилей и по большей
части являясь произведением эпическим (даже по одному только охвату тем и уровней — от
бытового, мистического и исторического до законодательного, богословского и
профетического), содержит в себе и такой жанр, как песнь — причём явление это для самой
Торы нехарактерное — песенные тексты в повествовании встречаются редко. Это одна из
причин, по которой рассмотрение самой важной из них достойно внимания. Мы говорим здесь
не «песня», а именно «песнь», облегчая задачу интерпретации введением термина,
выделяющего из общего ряда музыкально-поэтических произведений именно творения
эпического размаха (пусть даже небольшие по объёму).
В тексте пяти книг Моисеевых мы встречаем свидетельства о песенном творчестве
Израиля. Некоторые из этих творений подчёркивают формирование национального сознания
у народа, освободившегося из рабства. Это касается параллели «египетское рабство —
вавилонское пленение», проводимой составителями Пятикнижия, произведшими после
вавилонского плена письменную фиксацию устного предания. Параллель эта проводится
между событиями давно ушедших дней (по отношению к тем, кто записал устное предание),
упоминаемых в повествовании, и тем, что совершалось буквально на глазах у составителей.
Оформление важнейших идей в стихотворно-музыкальную форму на протяжении всего
существования человечества является одним из сильнейших средств передачи как
непосредственно информации, так и идеологического посыла — особенно, когда это послание
передаётся из поколения в поколение, чему тоже весьма способствует песенно-эпический
жанр, распространённый в устном творчестве древних народов.
Лучше всех это ещё в XVII веке лаконично и изящно выразил шотландский политик,
писатель и патриот Эндрю Флетчер: «Если б я мог писать песни для народа, мне было бы
неважно, кто пишет ему законы»1.
В случае с Моисеем законодательный и мотивирующий аспекты совершенным образом
соединились в одной личности. Но вопрос об авторстве, времени происхождения, жанровых и
1 Andrew Fletcher. An Account of a Conversation Concerning a Right Regulation of Governments for the Common Good of Mankind: In a Letter to the Marquiss of Montrose, the Earls of Rothes, Roxburg and Haddington, from London the 1st of December. Edinburgh, 1703. P. 108.
3
структурных особенностях Великой песни давно стали предметами исследования библеистов,
не говоря уже о её смысле, цели, контекстуальном значении. На сегодняшний день
исследовательское поле, на котором трудятся учёные-библеисты, довольно широко. Мы не
будем касаться всех теорий происхождения текста и давать подробный текстуальный и
экзегетический анализ, но попытаемся разобраться в том, насколько аутентична Песнь Моисея
из Книги Второзаконие и можно ли вообще говорить об аутентичности, имея в виду это
произведение древнееврейской поэзии. Для этого мы ответим на следующие вопросы:
1. Что именно представлял из себя жанр песни в древнем Израиле, каким образом
исследуемый нами текст включается в рамки этого жанра?
2. Для кого предназначалась песнь? Справедлива ли критика, ставящая под
сомнение авторство Моисея и датирующая написание песни VII в. до н.э.?
3. Что из себя представляет структура песни и каковы её общие экзегетические
особенности, помогающие раскрыть значение песни и проливающие свет на её
оригинальность?
Часть 1. О жанровых особенностях песни в Древнем Израиле и Великой
песни Моисея в частности
Песни, упоминаемые в Пятикнижии, чаще всего передаются в краткой форме и носят
литургический (например, песня о ковчеге завета в Чис.10:35-36), воодушевляющий,
повествовательный (песнь Ламеха, Быт.4:23-24) или описательный характер (песня в Книге
браней Господних (о колодезе) в Чис.21:14-18). Но две песни в Пятикнижии — победная песнь
Моисея у Чермного моря в Книге Исход (Исх.15:1-21) и обличительная песнь Моисея в Книге
Второзаконие (Втор.32:1-43) выделяются из всех музыкально-поэтических текстовых форм,
встречающихся в Торе. И если говорить об идее восстановления национального самосознания
у евреев, то «Песнь у Чермного моря» как нельзя лучше подчёркивает тему освобождения,
актуальную для евреев на протяжении нескольких периодов зависимости от разных
завоевателей. Что же касается «Великой песни Моисея» в Книге Второзаконие, то в её идейно-
смысловой организации проявляются гораздо более глубокие темы, касающиеся не только
национального самосознания или освобождения от внешнего захватчика, но и отношений
человека с Богом, как на корпоративном (например, национальном или общинном), так и на
личном уровне.
4
Сделаем небольшое пояснение использования поэтической и музыкальной формы в
Ветхом Завете. Для обозначения поэзии в отличие от прозы в Ветхом Завете применяется
термин שיר (šîr — петь). Под это понятие подпадают песни, которые пели а капелла или с
инструментальным сопровождением (Ам.6:05), речитативы (Суд.5:12), песни, популярные в
народной среде, и культовые (богослужебные) песни (Пс.137:4). В псалмах этот термин
используется с родовым признаком מזמ�ר (mizmôr — мелодия, псалом) (Пс.30:1; 48:1),
который, впрочем, может применяться и отдельно (Пс.100:1; 110:1). Оба термина שיר (šîr) и
частично перекрывают друг друга по значению, а частично (zmr — воспевать, восхвалять) זמר
относятся друг к другу как общее к частному: mizmôr и zmr, по-видимому, представляют собой
более мелодичную подкатегорию, в то время как šîr отмечает принципиальное различие
между прозой и поэзией. Šîr, кроме того, отражает категорию словесного выражения
радости, что контрастирует с קינה (qînâ — плач, плачевная песнь) (Ам.8:10), хотя qînâ также
может являться подкатегорией šîr (2Пар.35:25). Придворная и культовая организации
подразумевали наличие профессиональных певцов. В допленный период Ветхий Завет
отмечает наличие певцов обоих полов: ים ושר�ת и (šarîm — поющие мужчины) שר
(wəšārōwṯ — поющие женщины), которые принадлежали царскому двору (2Цар.19:35;
Еккл.2:8). Послепленные источники упоминают в основном культовых певцов-мужчин
ר ассоциирующихся с храмовым поклонением (Ездр.2:41; Неем.12:28). Пение ,(mĕšōrĕr) מש�ר
под музыку и танцы были неотъемлемой частью радостных событий, от празднования
военных побед (1Цар.18:6-7) до романтической любви, как это показано в Песни Песней.
является подкатегорией понятия šîr. Эта форма не что иное, как(haššîrāh) השירה
мемориальная песнь, которая в стихах описывает события, имеющие историческое значение,
в частности освобождение от могущественного противника. Таким образом, «Песнь у
Чермного моря» (Исх.15:1-19) и песня Давида (2Цар.22, Пс.18) обозначены в названии как
haššîrāh.
Песня Деворы и Варака (Суд.5) не имеет родового обозначения, тем не менее для
описания её исполнения используется глагол šîr. Во всех случаях Ветхий Завет соотносит
песню и исполнение с главным действующим лицом повествования, хотя в случае с «Песнью
у Чермного моря» в связи с песнью упоминается ещё и Мариам, повторяющая песнь в танце
(Исх.15:20-21).
5
Взаимозаменяемость глаголов šîr (петь) и dbr (говорить) в описании способа исполнения
haššîrāh может свидетельствовать о произошедших с течением времени изменениях или о
возможностях, доступных для различных певцов во время исполнения, или о ритмике
произношения во время пения или декламации (Суд.5:12). Во всех случаях, за исключением
одного, haššîrāh исполняется соло, иногда с хоровым рефреном (Исх.15:01). Исключение
составляет «Песня о колодце» (Чис.21:17-18). Писатель вводит песню в текст таким же
образом, как «Песнь у Чермного моря» (Исх.15:01), хотя исполнитель в этом случае —
коллективное образование: Израиль2.
Во введении к Песни Моисея (Втор.32:1-43) освещается скорее литературное, а не устное
восприятие жанра haššîrāh. Перед чтением песни вслух דבר (dbr — говорить) — здесь
используется тот же глагол, который предшествовал песне Давида, — Моисей дал наказ
народу записать свою песню так, чтобы она служила вечным напоминанием, свидетельством
завета между Богом и детьми Израиля (Втор.31:19-23). С литературный точки зрения haššîrāh
выполняет ту же функцию, что памятник, поставленный Иисусом Навиным (Иис.Нав.24:25-
27). Итак, мы могли убедиться, что посреди жанрового разнообразия песенного творчества
Израиля Великая песнь Моисея занимает вполне определённое положение. Её
предназначение — служить всему народу Израиля вечным напоминанием, быть своеобразным
памятником, сохранённым в виде записанного текста, который должен был периодически
исполняться устно, передаваясь из рода в род.
Часть 2. Проблемы датировки и авторства Великой песни Моисея
Разобравшись с жанровыми особенностями ветхозаветных песен, мы обратимся
непосредственно к Песни Моисея из Второзакония. Теперь нас интересует вопрос: могла ли
эта песнь действительно быть написана во времена Моисея, мог ли он являться её автором и
из чего это следует?
Глава 32 Книги Второзаконие — один из важнейших и самых красивых поэтических
текстов Пятикнижия, который уже такие авторитеты, как Филон Александрийский, Афанасий
Великий, Ипполит Римский, называли «великой песнью Моисея». Ясно, что это название дано
2 См. Ben-Amos D. Folklore in the Ancient Near East // Freedman D.N. ed. The Anchor Bible Dictionary, NY: Doubleday. 1992. Vol. 2, p. 827.
6
для того, чтобы отличить Втор.32:1-43 от «Песни у Чермного моря» (Исх.15:1-18). Великой
эта песнь из Второзакония именуется потому, что она, во-первых, намного (в два с половиной
раза) больше по объёму в сравнении с песнью из Исхода. Во-вторых, в ней отражены многие
из важнейших богословских идей Ветхого Завета, которые были развёрнуты в других книгах.
Многие богословы справедливо считают Второзаконие центром Ветхого Завета, и в таком
случае великую песнь Моисея можно назвать сущностью богословия Второзакония. Многие
исследователи Писания называют Втор.32:1-43 «лебединой песнью» Моисея, поскольку она
была произнесена перед кончиной Моисея и её содержание de facto является предсмертным
завещанием величайшего еврейского законодателя и пророка3.
В ней изображено грядущее отпадение Израиля, возмездие свыше и, наконец,
возвращение народа на свою землю, его прощение и очищение, с которыми будет связано
восхождение всего человечества на новый духовный уровень4.
Этот текст — десятый в ряду из одиннадцати частей, на которые делят Второзаконие в
соответствии с синагогальной практикой чтения Торы, и песнь в иудейской традиции
именуется Ha’ǎzînû (по первому слову «внимай»)5. В древней Церкви эта песнь Моисея
регулярно использовалась в богослужении, причём одни уставы предусматривали её
ежедневное пение на утрене, другие — в определённые дни недели. Во время фиксации
канонов песнь Моисея была связана (и стала прототипом) второй песни канона на утрени. Но
уже в XI в. по некоторым причинам6 эта песнь Моисея вместе со второй песнью канона
перестала быть постоянным элементом литургии7 и превратилась в очень редкое песнопение.
В Православной Церкви Втор.32:1-43 входит в число девяти библейских песней, имеющих
богослужебное употребление, но поётся всего шесть раз в году. В Римско-католической
Церкви песнь Моисея из Второзакония поётся с антифонами по субботам на утрене перед
хвалебными псалмами. А протестантские церкви практически не используют Великую песнь
Моисея в богослужебных целях.
Так же, как вопросы об авторстве и времени написания Книги Второзакония вызывают
разногласия между исследователями, расходятся и мнения библеистов о происхождении
3 См. Кашкин А.С. Великая песнь Моисея: экзегетический анализ Втор.32:1-43. // Христианское чтение №3 (38), 2011. СПб.: Изд-во СПбПДА. 2011. С. 67. 4 Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие. М.: Теревинф, 2014. С. 1023. 5 См.: Christensen D.L. Deuteronomy 21:10–34:12 // Word Biblical Commentary. Dallas, 2002. Vol. 6b. P. 784. 6 См.: Петров А.Е., Никитина И.С., Ткаченко А.А. Второзаконие // Православная энциклопедия. М., 2005. Т. 10. С. 18. 7 Иеродиакон Никон [Скарга] (Оптина Пустынь). Доклад «Попытка обнаружения причины исчезновения второй песни из песенного канона и несколько мыслей по поводу ее «реанимации» и восстановлении в песенном каноне» на конференции «Современная православная гимнография» 9-10 февраля 2011 г. (Научный центр по изучению церковнославянского языка при Институте русского языка им. В.В.Виноградова РАН).
7
Великой песни Моисея. Мы не будем рассматривать теории происхождения Книги
Второзакония, а ограничимся только проблемами, связанными с датировкой и авторством
великой песни Моисея.
Заметим, что в Книге Второзакония перед текстом песни и после неё написано: «Изрёк
Моисей вслух всего собрания Израильтян слова песни сей до конца» (31:30; см. также 32:44).
Вдобавок к тому в 31:16-22 указаны обстоятельства, послужившие причиной создания песни
Моисея: Господь велит Моисею составить песнь, которая через некоторое время, когда
Израиль согрешит и будет терпеть бедствия и скорби, станет свидетелем против Израиля.
Наконец, в 31:22 сказано, что эту песнь написал Моисей. Указанные отрывки говорят о том,
что именно Моисей является автором данной песни и именно он был первым её исполнителем.
Понятна также актуальность и необходимость такого обращения вождя и пророка к Израилю
перед своей кончиной. Моисей не питал иллюзий в отношении народа, которым руководил, и
хорошо знал его неустойчивость в вере. Проверенный временем опыт Моисея говорил ему,
что и после поселения в Ханаане поведение Израиля вряд ли коренным образом переменится.
Люди, которые были свидетелями чудес в Египте и на Синае, вскоре после этого поклонялись
золотому тельцу. Стоило ли ожидать, что в Ханаане они не станут служить чужим богам8?
Если спутники Моисея в продолжение сорока лет постоянно роптали на своего вождя, то и их
потомки не прекратят огорчать Всевышнего. Поэтому он, предвидя отход израильского народа
от Бога, обращается к грядущим поколениям, чтобы показать им причины тех бед, которые в
будущем обрушатся на них, призвать к покаянию и дать надежду на возвращение к Богу.
Современные критики считают песнь Моисея поздним произведением. При этом сами
библейские указания на принадлежность данной песни Моисею воспринимаются как поздние
добавления. Поскольку о песни Моисея говорится в 31:16-22, то этот отрывок тоже считается
поздней интерполяцией. Более того, высказывается мысль, что изначально отрывки 31:14-
15,23-29 и 32:45-47 составляли единый отдел, в котором говорилось об избрании Иисуса
Навина преемником Моисея, положении книги закона «одесную» ковчега Завета и
содержались последние наставления Моисея9. Несмотря на кажущуюся логичность такого
построения, оно основано на вольном обращении с текстом Библии, в результате которого из
неё «вырезаются» целые отделы. Такой подход сам по себе не вызывает доверия. Кроме того,
возникает простой вопрос: зачем редактор прибегал к таким замысловатым перестановкам в
тексте Второзакония, вместо того чтобы просто добавить песнь Моисея со всеми
сопутствующими примечаниями?
8 См.: Brown R. The Message of Deuteronomy. Not by Bread Alone. Leicester, 1997. P. 292. 9 См.: Merrill E.H. Deuteronomy // The New American Commentary. Nashville, 2001. V. 4. P. 408.
8
Так, ещё С.Р.Драйвер, английский критик конца XIX – начала XX вв., придерживался
гипотезы о поздней датировке песни Моисея. Он предполагал, что оригинальный вариант
песни был утрачен, но редактор использовал некий текст, который к его времени считался уже
довольно древним, добавил его к Второзаконию и снабдил указаниями об авторстве Моисея.
Сам редактор при этом опирался на предание о том, что Моисей перед своей кончиной
обратился к народу с аналогичной песнью, в которой предупреждал Израиль о напастях,
которые постигнут его соплеменников за отступление от Господа10.
Ясно, что для столь вольной интерпретации Священного Писания нужны весьма веские
аргументы. Какой же аргументацией пользуются критики для доказательства позднего
происхождения песни Моисея, и что они сами говорят о датировке этого текста?
С.Р.Драйвер (его аргументацией часть библеистов пользуется и в наше время) наблюдает
очевидные свидетельства постмоисеева происхождения песни Моисея в её содержании, в
стиле и в словоупотреблении.
В содержании песни отмечают следующие указания на её написание в период монархии.
К примеру, Втор.32:7-9 гласит, что избрание Израиля Богом произошло в «дни древние». Если
избрание израильского народа связывать только с событиями исхода из Египта, то такое
неопределённое хронологическое указание можно воспринимать как одно из доказательств
того, что автор данного гимна жил несколькими веками позже исхода и вторжения в Ханаан.
Но подобная интерпретация не может быть единственно верным толкованием
рассматриваемого выражения. Словосочетание «дни древние» может также означать, что Бог
избрал Израиль для Себя в древние времена — скажем, когда происходило расселение людей
по земле или в эпоху патриархов. Если его всё-таки относить ко времени жизни Моисея, то
эту фразу можно интерпретировать как обращение к будущим потомкам, для которых времена
Исхода окажутся «днями древними».
Следуя далее по тексту песни мы читаем, что Израиль уже прожил достаточно долгое
время в Ханаане (стихи 13-14), отошёл от Бога, впал в идолопоклонство (стихи 16-18), и его
политическое положение было на грани краха. Применение в тексте глаголов прошедшего
времени позволяет думать, что автор обращается прямо к виновному поколению израильтян;
даже одно лишь это, как считают критики, указывает на явное постмоисеево происхождение
этой песни11.
Этот довод и правда весьма серьёзен, но ему противопоставляется иной взгляд на песнь
Моисея — а именно взгляд на отрывок как на текст глубоко профетический. Древние пророки
10 См.: Driver S.R. A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. Edinburgh, 1902. P. 347. 11 См.: Driver S.R., pp. 345–346.
9
при описании будущего в Писании часто пользуются глаголами прошедшего времени (так
называемое пророческое прошедшее время); к примеру, в Соф.3:15 написано: «Отменил
Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего!» Но это высказывание явно относится к
будущему, поскольку суд над Иудеей, постоянно упоминаемый пророком Софонией, только
лишь ожидается. И разумеется, восстановление народа и победа над его врагами — дело
далёкого будущего. В песни Моисея вполне могло иметься в виду пророческое ожидание
будущего12, а вовсе не отражение происходящих исторических событий. Автор на самом деле
адресует слова своей песни народу Израиля, жившему в унаследованном от Бога Ханаане и
отвергшему своего благодетеля ради других богов. Но почему из этого следует, что автор
обращается к современникам? Скорее наоборот — он профетически обращается к будущим
поколениям, обличая их в неверности и показывает причины тех несчастий, которые за это
падут на их головы. Именно поэтому гимн, хотя и наполнен метафорами, но не содержит
конкретных указаний, позволяющих с приемлемой степенью точности выявить хоть какие-то
исторические реалии. Ну и конечно, Моисею нетрудно было предположить, в какие
обстоятельства попадут грядущие поколения израильтян, и потому они показаны в тексте
песни как уже состоявшиеся. Так, расселение Израиля в Земле Обетованной, будущие годы
процветания в Ханаане, пророк полагал делом уже практически состоявшимся, нисколько не
сомневаясь, что так всё и произойдёт13. Разве не мог он таким же образом быть вполне
уверенным в том, что Израиль нарушит завет и отойдёт от Господа? Нет оснований считать,
что не мог. Другие подробности — такие, как политическое ослабление израильского
государства, вторжение врагов и Божья победа над ними, — в тексте показаны в качестве
будущих событий, и они однозначно должны быть рассмотрены как пророчество. В свете
изложенного нужно заметить, что использование вышеприведённых доводов сторонников
поздней датировки песни Моисея говорит о том, что они либо не принимают возможность
пророчества в принципе, либо демонстрируют непонимание сущности пророчества14.
Ещё одним аргументом в пользу поздней датировки Втор.32:1-43 считается 21-й стих. В
нём говорится, что орудием наказания Израиля станет так называемый «не народ» или «народ
бессмысленный». Есть гипотеза, что речь идёт об ассирийцах; а поскольку в песни Моисея
предсказывается их скорое нашествие, то, стало быть, она была написана накануне падения
Самарии в 722 г. до н.э. или накануне вторжения Синнахериба в 701 г. Но этот довод вовсе
12 См.: Keil C., Delitzsch F. Commentary on the Old Testament. Peabody, 2002. V. 1. P. 985. 13 См.: Keil C., Delitzsch F., p. 986. 14 См. Кашкин А.С., с. 71.
10
неубедителен, поскольку «не народом» мог быть назван любой языческий народ, являвшийся
врагом Израиля15.
Наконец, богословие и стиль песни Моисея, по мнению критиков, указывают на её
появление в VII–VI вв. до н.э., то есть в халдейскую эпоху. В частности, противопоставление
Яхве и языческих богов, а также терминология, используемая в осуждении идолопоклонства,
описании падения, наказания и последующего восстановления Израиля напоминают стили
Иеремии, Иезекииля и девтерономического редактора исторических книг16. Более того,
наличие во Втор.32:1-43 параллелей с богословием и стилистическими особенностями книг
допленных пророков дало основание библеисту К.Корнилю охарактеризовать песнь Моисея
как «резюме пророческого богословия»17. Но и против подобных взглядов на песнь Моисея
возникают возражения. Первое — это то, что сам же С.Драйвер признает литературную
индивидуальность автора песни и тот факт, что в тексте песни содержится относительно мало
терминов и словосочетаний, сходных с лексикой пророческих книг18. Поэтому рассуждения,
касающиеся стиля песни Моисея, являются все-таки гипотетическими высказываниями.
Второе — песнь Моисея полна редких выражений и архаичных форм, а это позволяет говорить
о том, что по своему составу она близка к древнейшим памятникам еврейской поэзии19.
Архаизмами могут считаться составные слова «не бог» и «не народ» (ст. 21), а также
наименование Йешурун (ст.15, в Синодальном переводе — «Израиль»), которое ещё
встречается в двух местах — во Втор.33:5, 26 и в Ис.44:2, причём его употребление в Ис.44:2
считается заимствованием из Второзакония. Стоит отметить и употребление в стихе 42
термина, который в Синодальном издании переведён как «начальники». В Ветхом Завете он
попадается ещё лишь раз, причём также в одном из древнейших поэтических текстов — в
Песни Деворы (Суд 5:2)20. Кроме того, по мнению Д.Л.Кристенсена, в стихе 10 использован
объектный местоименный суффикс נהו, являющийся архаической формой в отличие от
позднего и более распространённого в Писании נוF
21.
Наряду с наличием архаизмов, в тексте песни присутствуют многочисленные образы и
термины, которые встречаются в речах Моисея, находящихся во Второзаконии, а также в
других книгах Пятикнижия. Особое внимание стоит обратить на термин גדל
15 См.: Reider J. Deuteronomy with Commentary. Philadelphia, 1937. P. 297. 16 См.: Driver S.R., p. 347. 17 Там же. С. 346. 18 Там же. С. 347. 19 См.: Reider J., p. 297. 20 См.: Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб, 2005. С. 142. 21 См.: Christensen D.L., p. 797.
11
(«возвеличивать», стих 3), используемый для обозначения величия Господа в основном в
речах Моисея во Второзаконии (3:24, 9:26, 11:2), хотя в других местах Ветхого Завета в этом
значении он употребляется редко. Ещё одной характерной чертой можно считать редкую
форму множественного числа ימות («дни»), которая, кроме Втор.32:7, встречается лишь в
псалме, которому тоже приписывается авторство Моисея (Пс.89:15)21 F
22.
Кроме того, против поздней датировки песни Моисея может говорить ещё и то, что сами
критически настроенные исследователи признают трудность отнесения песни Моисея к
какому-то определённому историческому периоду. Самым широко распространённым
является мнение, что песнь Моисея появилась в начале VIII в. до н.э. в Израильском царстве
при царях Иоасе и Иеровоаме II. Этот довод подкрепляется тем, что Израиль находится в
сложном положении (стих 30), но в будущем Господь восстановит Свой народ и победит
неприятеля (стихи 36-43)23. Часть библеистов говорят о наличии в песни слов, характерных
для северного диалекта еврейского языка24. Всё это позволяет приписать песнь Моисея
времени правления царей Иоаса и Иеровоама II, поскольку хотя в конце IX в. при царе Иоахазе
Израильское царство находилось в упадке, но Господь спас его и помог одолеть врага
(4Цар.13-14).
Однако существующие замечания можно отнести ко многим периодам, когда Израиль
попадал в кризисные ситуации (их в истории государства было предостаточно), и поскольку
ни на какой определённый исторический период в тексте отсылки нет, то проведение
исторических параллелей с временами Иоаса и Иеровоама II (а также с другими периодами
истории Израиля) оказывается чересчур субъективным.
Что же касается косвенных свидетельств в пользу древности песни Моисея, то их можно
проследить в гораздо большем количестве, чем доводов в пользу поздней датировки.
И.Р.Тантлевский указывает на то, что Израиль в песне понимается автором как единое
социально-экономическое целое, это означает, что автор даже не предполагает существование
отдельных Северного и Южного царств. Также нет осуждения произвола верховной власти и
обличения социальной несправедливости, характерных для писаний пророков. Вообще нет ни
одного намёка на то, что у Израиля есть царь. Нет указаний на то, что имеется конкретный
сильный внешний враг, на поклонение Ваалу и на богослужения в Иерусалимском Храме. Мы
видим только общие обличения народа в идолопоклонстве и предупреждения об угрозе со
22 См.: Keil C., Delitzsch F., p. 986. 23 См.: Harford J.B. Deuteronomy // A New Commentary on Holy Scripture Including the Apocrypha. London, 1946. P. 166. 24 См.: Reider J., p. 297.
12
стороны соседних народов в наказание за отход от Бога. Отталкиваясь от этих особенностей
текста песни И.Р.Тантлевский заявляет, что общественно-религиозную ситуацию, описанную
в отрывке, можно соотнести с эпохой Судей (XII-XI вв. до н.э.)25, то есть время, близкое к
жизни Моисея. И стало быть, нет ничего противоестественного в том, что Моисей в своей
песни предсказал состояние Израиля в ближайший век после своей кончины.
Таким образом, нет серьёзных поводов для сомнений в том, что именно Моисей
исполнил эту песнь перед израильским народом. Поэтому следует говорить не об авторстве
песни и времени её происхождения, а лишь о времени её включения в текст Книги
Второзаконие и о том, когда она приобрела свой окончательный вид (то есть могли ли быть
внесены дополнения и исправления редакторами более позднего времени)26.
То, что дошедший до нас текст песни пестрит редакторскими поправками и вставками,
является лишь одной из гипотез. Не исключено, что отрывки 31:30 и 32:44, повествующие об
исполнении Моисеем песни перед собранием израильского народа, действительно могли быть
добавлены впоследствии редактором ради связи песни Моисея с предшествующими и
последующими частями Книги Второзаконие. Но это никак не означает, что содержание
отрывка можно воспринимать как вымысел и что идентификация рассматриваемого нами
фрагмента как песни Моисея далека от истины.
Часть 3. Структура и общие характеристики песни, проявляющие её
значение для первой аудитории и последующих поколений
В свете вышесказанного весьма полезно и интересно будет рассмотреть структуру песни
Моисея и описать её общие характеристики в экзегетическом плане, чтобы понять, какое
значение придавалось ей в культуре Израиля и какую роль она играет в национальной истории
и традиции.
По раввинистическим правилам оформление текста песни отличалось от оформления
других текстов Торы — можно убедиться в этом на примере Алеппского и Ленинградского
кодексов. Песнь обязательно пишется в две колонки27. Первая строка гимна отделена от
предыдущего текста большим пробелом. Таким же образом и конец песни отделён от
25 См.: Тантлевский И.Р. cc. 142–143. 26 Reider J., p. 297. 27 См.: Christensen D.L., p. 785; Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М., 2001. С. 369.
13
последующего текста (но пробелом меньшего размера). Вся песнь неизменно насчитывает
семьдесят строк. Иногда такое оформление встречается и в современных изданиях Библии. На
эту особенность неизменно обращают внимание исследователи Писания. Например, русский
библеист начала XX века А.В.Прахов предположил нумерологическое происхождение этой
особенности вследствие правки текста масоретами, заключавшейся в сокращении числа строк
с семидесяти двух до семидесяти (поскольку в Септуагинте имеются дополнительные слова и
выражения, отсутствующие в масоретской версии28, которые можно уложить в две строки или
четыре полустроки). При счёте по полустрокам семьдесят две строки составляют сто сорок
четыре полустроки — это число, двенадцать в квадрате, символизирует полноту Израиля29.
Прахов считал, что масореты сократили число строк, пытаясь привести песнь в соответствие
с другим символом, имеющим к ней непосредственное отношение, а именно с семидесятью
старейшинами Израиля, олицетворявшими не только сам Израиль, но и все народы земли30.
Но доводы Прахова кажутся как минимум спорными. Он сравнивает краткое «старцы колен»
масоретского текста с выражением «главы колен и старцы» в Септуагинте (аудитория,
слушавшая Моисея). Соотнося масоретский текст со стихом из Книги Исход (Исх.1:5), где
говорится о семидесяти потомках Иакова и который служит основой иудейской традиции о
семидесяти родах Израиля, Прахов делает вывод о том, что масоретская редакция проводила
идею о семидесяти представителях всех родов Израиля, внимавших Моисею31. Стремление
уточнить число слушателей вполне понятно, но при отсутствии конкретных сведений
представляется невозможным. Натянутой выглядит гипотеза ещё и из-за того, что в отрывке
Втор.31:28 Моисей призвал, кроме того, ещё «надзирателей ваших», а в Септуагинте указаны
в дополнение ко всему «судьи ваши». Об обоих дополнениях Прахов не говорит ни слова.
Предположение Прахова, что количество строк в песни Моисея символически
соотносится с количеством народов на земле и количеством потомков Иакова разделяют и
другие исследователи Писания32. Но многие из остальных утверждений Прахова имеют под
собой довольно шаткое основание. К примеру, его идея о том, что масореты убирали из
священных текстов целые выражения, не совпадает с современными сведениями об
отношении масоретов и талмудистов к копированию еврейского текста, когда точности
28 Следующие фрагменты, отсутствующие у масоретов (приводятся здесь по русскому Синодальному переводу, в котором они заключены в скобки): «и ел Иаков» (ст. 15), «и клянусь десницею Моею» (ст. 40), «веселитесь, небеса, вместе с Ним, и поклонитесь Ему, все Ангелы Божии ‹…› и да укрепятся все сыны Божии ‹…› и ненавидящим Его воздаст» (ст. 43). 29 См.: Прахов А.В. Песнь Моисея (XXXII гл. Второзакония) по текстам масоретскому-еврейскому и греческому LXX (экзегетическая заметка) // Христианское чтение. 1913. № 7–8. Сс. 1005–1010. 30 См.: Прахов А.В., c. 1015. 31 См.: Прахов А.В., cс. 1010–1012. 32 См.: Christensen D.L., pp. 785–786.
14
переписывания придавалось особое значение. Известно также, что ещё в доталмудический
период еврейскими книжниками были проведены впечатляющие математические вычисления
с текстом Пятикнижия. Книжники вычислили количество букв, стихов, средний стих, среднее
слово и среднюю букву в Торе). Таким образом, довольно весомые редакторские изменения,
предполагаемые Праховым в священном тексте, вряд ли могли быть произведены. Кроме того,
можно лишь отчасти признать справедливыми предположения Прахова о том, что в
оригинальном тексте песни содержались все отрывки, которые мы находим в Септуагинте,
поскольку в ряде случаев предпочтительными являются краткие выражения масоретского
текста. И, следовательно, слабо обоснованно предположение Прахова о преднамеренном
идеологическом сокращении оригинального текста масоретами. Его выкладки о количестве
строк оригинала, использованного при переводе на греческий, остаются лишь в поле гипотез,
не подкреплённых весомыми аргументами. С другой стороны, то, что в современном
еврейском тексте Торы песнь Моисея содержит семьдесят строк можно принять за
авторитетное свидетельство, говорящее о структуре этого гимна, являющегося как типичным
образчиком еврейской поэзии, так и прекраснейшим шедевром в среде библейской поэтики,
чья красота не была испорчена даже переводами33.
Современные исследования приписывают песни Моисея все атрибуты библейской
просодии, в числе которых хиазмы и параллелизмы. Параллелизмы встречаются в тексте с
первого стиха, разделяющегося на два полустишия:
Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
Параллелизм тут применён и во внешней форме (в еврейском тексте каждое полустишие
состоит из трёх слов), и в значениях слов: «внимай» || «слушай», «небо» || «земля», «я буду
говорить» || «слова уст моих». Эти три пары отражают три вида параллелизма: первая пара —
синонимами, словосочетания третьей пары — не полные синонимы, но близки по значению;
наконец, средняя пара («небо» || «земля») — антитетический параллелизм34. Разные формы
параллелизма появляются во всех строках еврейского текста песни и во всех стихах
Синодального перевода.
33 См.: Christensen D.L., p. 785. 34 См.: Hrushovski B. Prosody, Hebrew // Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Thomson Gale, 2007. V. 16. Pes-Qu. P. 599.
15
Кроме параллелизма, в тексте используются хиастические конструкции35. Но
хиастическая структура применена не для отдельных стихов, а для тематического построения
песни. В качестве примера, рассмотрим следующее разделение песни Моисея по содержанию,
показывающее её хиастическую конструкцию:
А. Праведность Бога и неверность Израиля (ст. 1-6).
В. Благословения Божьи на Израиле в прошедшие времена (ст. 7-14).
Х. Грех Израиля порождает наказание Божие (ст. 15-27).
В´. Решение Бога наказать врагов Израиля (ст. 28-35).
А´. Возмездие Божье и избавление Израиля (ст. 36-43)36.
Как мы видим, «осевым центром» песни Моисея является тема наказания Израиля за
грехи. Это вполне согласуется с основной идеей песни Моисея: предостеречь Израиль от
нарушения Завета; в том же ключе пророки после Моисея возвещали Израилю, что за каждое
прегрешение народа (прежде всего, за отступление от истинного Бога и обращение к иным
богам) неминуемо последует расплата.
В целом предложенная выше схема разделения песни Моисея по содержанию
представляется вполне разумной, но имеет смысл внести небольшую поправку: выделить
ст. 1-2 как введение в песнь.
Попробуем теперь дать общую характеристику содержания Великой песни Моисея. Не
станем здесь углубляться в толкование текста, лишь в целом охарактеризуем его, чтобы лучше
понять значение этого уникального отрывка. Отметим, что в русской богословской традиции
это поэтическое произведение иногда называют «обличительной песнью Моисея»37, порой
говорят, что она имеет «покаянный настрой» (так её обычно характеризуют православные
литургисты, подразумевая богослужебное употребление песни во время Великого поста).
Однако мы не можем согласиться ни с первой, ни со второй характеристикой. Песнь Моисея
нельзя назвать обличительной уже хотя бы из-за того, что обличение должно следовать за
содеянным преступлением, а не предшествовать ему. В песни же повествуется о будущих
грехах Израиля против Господа. Ещё один фактор — важное место в гимне занимают
35 Важно не смешивать понятия «хиазм» и «обратный параллелизм». Они весьма существенно отличаются друг от друга. Хиазм обязательно имеет «осевой центр», то есть строку или фразу, которая находится в центре всего отрывка (то есть схема А-В-Х-В´-А´), тогда как обратный параллелизм в чистом виде, построенный по схеме А-В-В-А, такого центра не имеет (см.: Брек Дж., прот. Хиазм в Священном Писании. М., 2006. С. 36, 41). 36 См.: Christensen D.L., p. 786. 37 Иванов В., прот. Священное Писание Ветхого Завета. М., 2006. С. 104.
16
пророчества о спасении Израиля. Кроме того, песнь Моисея невозможно отнести к категории
покаянных гимнов, поскольку как такового раскаяния и сокрушения народа о грехах в ней
почти нет. Стоит признать, что любая попытка описать суть великой песни Моисея
посредством одной характеристики представляется заведомо бесперспективной, так как
идейное послание песни Моисея отличается исключительным богатством и потому одним
словом охарактеризовать сущность всей песни не получится.
Гораздо более оправданной нам представляется попытка охарактеризовать песнь Моисея
как произведение, обладающее признаками определённой литературной формы. В частности,
предлагается взгляд на песнь Моисея как на историческое приложение к трём речам Моисея,
составляющим основу книги Второзакония (Втор.1:6–4:40, Втор.5:1–26:19, Втор.29:2–30:20).
В приложении описывается история отношений Бога со своим избранным народом. Но этот
подход отображает лишь часть гораздо большей картины, поскольку песнь Моисея заключает
в себе не только собственно исторический, но и пророческий аспект с превалирующим
преобладанием последнего.
Ещё один взгляд предлагают интерпретаторы, которые всю книгу Второзакония
рассматривают как договор между Яхве и Израилем, аналогичный договорам о патронате,
распространённым в ближневосточной политике во II тыс. до н.э. Песнь Моисея в этом случае
характеризуется как одна из типичных статей подобного соглашения, которое непременно
содержало проклятия за нарушение условий договора. Политическая измена и заключение
союза с другой державой считались главными преступлениями против договора о патронате;
в песни Моисея также основной темой является будущая неверность Израиля истинному Богу,
его связь с ложными богами. Так же, как в договорах о патронате, в песни Моисея перечислены
наказания, которые постигнут неверный народ. Единственным, но принципиальным отличием
песни Моисея является её заключение: кончается она не обещанием кары за грехи Израиля, но
словами надежды, что Яхве простит народ и искупит его грехи38.
Близким к вышеописанному представляется третий взгляд на песнь Моисея,
рассматривающий её в качестве описания судебного процесса, в котором Бог выступает
обвинителем и судьёй Израиля. Это так называемый «rîb-текст» » — от еврейского слова ריב,
которое в зависимости от контекста может быть или глаголом (в этом случае оно означает
«вести тяжбу, спорить, препираться»), или существительным («ссора, тяжба»)38 F
39; необходимо
заметить, что эта форма имеет параллели в документах II тысячелетия до н.э. Втор.32:1-43
38 См.: Brown R., pp. 291–292. 39 См.: Штейнберг О.Н. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна, 1878. Т. I. С. 447.
17
имеет все черты, которые характерны для rîb-текстов: призвание свидетелей40 (ст. 1),
обвинение в форме вопроса (ст. 6), рассказ истца о своих благодеяниях обвиняемому (ст. 7-14),
утвердительное признание нарушения договора (ст. 15-18), вынесение приговора (ст. 19
и далее). Наряду с этим в песни Моисея имеются уникальные черты, не типичные для rîb-
текстов: судебный приговор не обращён, как это принято, к обвиняемому, но превратился
в монолог (ст. 20-25), а впоследствии внезапно обращается против тех, кто должен быть
орудием Божьего правосудия, именно их Господь будет судить и наказывать. Таким образом,
приговор над Израилем становится пророчеством о спасении41. Наличие указанных особых
элементов ведёт нас к трактовке песни Моисея не как rîb-текста в его стандартном виде, но
как произведения, обладающего уникальной литературной формой, возникшей в результате
творческого осмысления и обработки rîb-текста.
Последний взгляд на песнь Моисея как на произведение, восходящее к литературной
форме rîb-текста, представляется наиболее верным (хотя в то же время песнь заслуживает
внимания и отношения к себе как к одной из статей договора о патронате). Эти две точки
зрения объединяет то обстоятельство, что они рассматривают песнь Моисея как документ,
адресованный будущим поколениям израильтян и предостерегающий избранный народ от
прегрешений против Господа. В этом случае Втор.32:1-43 представляет собой параллель
Втор.28, где перечисляются благословения хранящим верность Завету и проклятия тем, кто
его нарушает. Различие между указанными текстами состояло в их употреблении: чтение
Втор.28 было частью богослужебного ритуала, который следовало совершать ежегодно, тогда
как песнь Моисея — это своеобразная памятка, поэтическая форма которой облегчала
усвоение и запоминание содержания и его передачу из поколения к поколение42.
40 E. Merrill делает особый акцент на наличии в песни Моисея призвания свидетелей, указывая, что этот элемент присутствует во всех rîb-текстах, в том числе и в библейских. См.: Merrill E.H., p. 409. 41 См.: Moran W.L. Deuteronomy // A New Catholic Commentary on Holy Scripture. New York – Nashville, 1969. P. 274–275. 42 См.: Brown R., pp. 291–292.
18
Заключение
Итак, мы рассмотрели один из шедевров поэтического творчества древнего Израиля,
содержащийся в Пятикнижии, Великую песнь Моисея. В нашей попытке понять, насколько
она аутентична и какое значение имела песнь для аудитории, к которой она была обращена,
мы подняли ряд важных вопросов.
Отталкиваясь от исторических свидетельств о литературном наследии древнего Израиля,
мы разобрали жанровые особенности песенного творчества еврейского народа, вычленив
особый род мемориальной песни, характерные черты которой как нельзя лучше описывают
исследуемое нами произведение.
Затем мы обратились к вопросу о времени написания песни, что существенно важно для
выяснения мотивов составителей и редакторов Пятикнижия и, следовательно, аутентичности
и зоны влияния самого послания, особенно в свете наличия разнополярных мнений по
данному вопросу. Одной из гипотез, ставящей под сомнение традиционное представление об
авторстве Моисея и рассмотренной нами в этой работе, была гипотеза С.Р.Драйвера, согласно
которой песнь была написана гораздо позже времени жизни Моисея — примерно в VIII-VI вв.
до н.э. В связи с этим первым шагом логично было бы выяснить, мог ли Моисей действительно
быть автором произведения, которое ему приписывается. В ходе нашего исследования мы
выяснили, что доводы приверженцев гипотезы позднего происхождения песни Моисея не
достаточно твёрдо обоснованы и не учитывают возможного профетического характера песни,
а также наличие в тексте архаизмов, не употреблявшихся в указанный период, и, наоборот,
отсутствие некоторых исторических деталей, характерных для текстов подобного рода того
времени. Таким образом, нет серьёзных поводов для сомнений в том, что именно Моисей был
исполнителем этой песни перед израильским народом, что с высокой степенью вероятности
говорит об оригинальности песни. Поэтому следует говорить не об авторстве песни и времени
её происхождения, а лишь о времени её включения в текст Книги Второзаконие и о том, когда
она приобрела свой окончательный вид, вряд ли очень уж отличающийся от оригинала.
Затем, чтобы разобраться в том, какое значение придавалось ей в культуре Израиля и
какую роль она играет в национальной истории и традиции, мы рассмотрели структуру песни
Моисея и постарались дать ей общую экзегетическую характеристику. Проведённый анализ
позволил нам заключить, что среди разных предположений наиболее верно было бы оценить
песнь Моисея как произведение, восходящее к литературной форме rîb-текста (своеобразный
судебный процесс в стихах), хотя в то же время песнь имеет некоторые черты договора о
патронате. Эти две точки зрения объединяет взгляд на песнь Моисея как документ,
19
адресованный будущим поколениям израильтян и предостерегающий избранный народ от
отступления от Бога — своего рода памятка, поэтическая форма которой облегчала усвоение
и запоминание содержания и его передачу из рода в род.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать следующий вывод: Великая песнь Моисея
являет собой не просто уникальное произведение древнеизраильской поэзии, восхищающее
читателя эстетикой слога и стройностью структуры, но и послание свыше, данное Богом
израильскому народу, которое вполне могло быть передано через Моисея, причём в особой
литературной форме мемориальной песни, в устной культуре выполнявшей роль памятника,
призванного сохранять и передавать суть послания из рода в род. Таким образом, мы можем
говорить о высокой степени аутентичности этого произведения. Само же послание,
содержащееся в песни, имело особую важность для народа, поскольку содержало
профетическое предсказание об удалении народа от Господа, суде и наказании, но также и о
последующем прощении и восстановлении, что и совершалось на протяжении всей истории
Израиля и подтверждается многочисленными письменными источниками более поздних
времён.
20
Библиография
Брек Дж., прот. Хиазм в Священном Писании. М., 2006.
Иванов В., прот. Священное Писание Ветхого Завета. М., 2006.
Кашкин А.С. Великая песнь Моисея: экзегетический анализ Втор.32:1-43. // Христианское
чтение №3 (38), 2011. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургская православная духовная
академия. 2011.
Никон [Скарга], иеродиакон (Оптина Пустынь). Доклад «Попытка обнаружения причины
исчезновения второй песни из песенного канона и несколько мыслей по поводу ее
«реанимации» и восстановлении в песенном каноне» на конференции «Современная
православная гимнография» 9-10 февраля 2011 г. (Научный центр по изучению
церковнославянского языка при Институте русского языка им. В.В.Виноградова РАН).
Петров А.Е., Никитина И.С., Ткаченко А.А. Второзаконие // Православная энциклопедия. М.,
2005. Т. 10.
Прахов А.В. Песнь Моисея (XXXII гл. Второзакония) по текстам масоретскому-еврейскому и
греческому LXX (экзегетическая заметка) // Христианское чтение. 1913. № 7–8.
Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. СПб., 2005.
Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М., 2001.
Штейнберг О.Н. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого
Завета. Вильна, 1878. Т. I.
Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие. М.: Теревинф, 2014.
Ben-Amos D. Folklore in the Ancient Near East // Freedman D.N. ed. The Anchor Bible Dictionary,
NY: Doubleday. 1992. Vol. 2.
Brown R. The Message of Deuteronomy. Not by Bread Alone. Leicester, 1997.
Christensen D.L. Deuteronomy 21:10–34:12 // Word Biblical Commentary. Dallas, 2002. Vol. 6b.
Driver S.R. A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy. Edinburgh, 1902.
Harford J.B. Deuteronomy // A New Commentary on Holy Scripture Including the Apocrypha.
London, 1946.
Hrushovski B. Prosody, Hebrew // Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Thomson Gale, 2007. V.
16.
Keil C., Delitzsch F. Commentary on the Old Testament. Peabody, 2002. V. 1.
Merrill E.H. Deuteronomy // The New American Commentary. Nashville, 2001. V. 4.
21