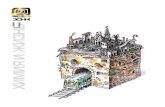Видовые очерки по дятлам из Красной книги Московской...
-
Upload
moscowstate -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Видовые очерки по дятлам из Красной книги Московской...
1. Зелёный дятел Picus viridis Linnaeus, 1758 Семейство дятловые – Picidae 2. 2я категория. Гнездящийся вид с сокращающейся численностью. 3. Распространение. Широколиственные и смешанные леса Европы,
Северной Африки, Кавказа и Ирана (8). Ареал в Московской области пульсирующий. Область устойчивого гнездования всегда охватывала южный, югозападный сектор области и Заочье (910, 17). Другая область постоянного обитания вида связана с пойменными дубравами по р.Клязьме и Воре (4, 20).
Распределение вида по территории пятнистое, очаги гнездования приурочены к наиболее привлекательным участкам пойменных ландшафтов вдоль рек Оки, Десны, Осетра, Лопасни, Цне и пр. рекам бассейна Оки, относящимся к территориям НароФоминского, Чеховского, Серпуховского, Ступинского, Каширского районов, и к прилегающим плакорным массивам широколиственных и смешанных лесов (НароФоминский, в меньшей степени Можайский и Истринский районы) (4, 7, 1516, 1820).
В периоды подъёма численности ареал P.viridis расширяется в направлении с югозапада на север и северовосток (2, 13, 17, 26). Тогда очаги гнездования появляются по всей области, при сохранении строгой привязанности вида дятла к оптимальным широколиственным и перестойным лиственным лесам. В периоды спада ареал сокращается и фрагментируется до отдельных очагов, сохраняющихся в южной и югозападной части области (7, 20).
4. Численность и тенденции её изменения. Несмотря на разнообразие заселяемых местообитаний и наличие подходящих
местообитаний по всей области численность вида низка, чему способствует высокий риск антропогенной деградации всех типов плакорных и пойменных местообитаний, населяемых данным видом.
Минимум снижения численности вида, начавшегося с 19881989 гг., был достигнут в 19971999 гг., в период 20012002 г численность зелёного дятла слегка выросла, отдельные пары вида пробовали гнездиться в тех местах, где вид исчез в период обвального падения численности (Звенигородская биостанция, окрестности ст.Снегири, Манихино, Поварово и пр.). Но после одногодвух сезонов гнездования в этих местах дятлы там снова перестали гнездиться, и наметившаяся тенденция к росту численности не была реализована. Сейчас подмосковная популяция вида стабилизировалась на минимальном уровне: численность вида в области не превышает 90100 пар.
За период регулярных фаунистических наблюдений в Подмосковье с конца XIX в. зафиксировано три продолжительных периода подъёма численности и расширения ареала в 18901910х, 1930х и 19651973 гг., с последующими периодами стабильности и спада. То есть на протяжении ХХ века зафиксировано 3 полных и один неполный цикл изменения численности обоих видов. Последний начался резким падением численности
зелёного в 19881998 гг. (19). Подъёмы и спады численности вида, также как пульсации регионального ареала, на протяжении ХХ в. происходят строго в противофазе с аналогичными изменениями численности и ареала близкого седого дятла Picus canus (20).
В периоды роста численности седого дятла происходит обвальное сокращение численности зелёного в местах постоянного гнездования (преимущественно в плакорных ландшафтах). Ареал зелёного сокращается и распадается на отдельные очаги, ареал седого дятла расширяется и седой дятел замещает зелёного в основных местообитаниях последнего. Через 23 сезона седой дятел так же оставляет местообитания зелёного дятла и отступает в свои традиционные биотопы, так что региональная популяция седого дятла стабилизируется на высоком, а зелёного – на низком уровне (1920).
В прошлом численность зелёного дятла восстанавливалась путём инвазии большого числа особей из более южных или югозападных районов (13, 26). Последний случай такого массового появления зелёных дятлов на гнездовании был в 19651973 гг. (2). Затем численность вида оставалась стабильно высокой, а распространение в области – максимальным до 19881989 гг., когда начался спад (910). Согласно соответствующей цикличности, следующий подъём численности должен был начаться в 20062008 гг. (21).
Подобная сопряжённость обнаружена во многих других регионах из области симпатрии обоих видов (9, 12, 2022). В Центральной и Восточной Европе численность вида резко упала в конце 1980начале 1990х гг. и стабилизировалась на низком уровне (Германия, Польша, Украина, Прибалтика, Белоруссия) (6; 2022, 24, 33). В тех районах Европы, где численность седого дятла низка, она стабилизировалась на среднем уровне и продолжает снижаться в районах роста численности / расширения ареала седого дятла (2122, 25, 33). Это заставляет предположить конкурентные взаимодействия видовых популяций, которые вызывают колебания и поддерживают динамическое равновесие присутствия обоих видов в мозаике местообитаний региона (20).
5. Особенности биологии и экологии. Размер тела 3234 см. Перелётный вид, часть особей оседла; происходящие
изменения климата увеличивают тенденцию к оседлости (1). Специализированный мирмекофаг, связанный с широколиственными лесами Европы.
В области населяет два ряда местообитаний: пойменных и плакорных. Среди первых наиболее существенны пойменные дубравы, ольшаники, ветляники. Среди вторых участки старовозрастных широколиственных и еловошироколиственных лесов, «берёзовые» и «вязовые» дубравы (исходно широколиственные леса с ослабленной позицией дуба в древостое), еловошироколиственные леса, разреженные полянами и рубками, со старыми осинами, участки мелколиственных лесов на стадии распада древостоя, вкрапленные в массивы ельников и еловошироколиственных лесов. Сейчас во всех них достигнуто строгое биотопическое разделение с седым дятлом, отсутствовавшее до 19971998 гг. (4, 7, 1516, 20).
Охотно гнездится в старых парках с высокой долей широколиственных пород. С 20012002 г. отдельные пары начали гнездится в придорожных лесополосах, лесных микрофрагментах и других фрагментированных лесных участках с высокой долей старых осин в древостое (в Можайском, Истринском районах).
Крупным лесным массивам предпочитает островные и фрагментированные, разреженные леса, пронизанные сетью полян, пойменные леса, но всегда связан со старовозрастными древостоями. Явно предпочитает высокомозаичные местообитания сплошным лесным массивам. Даже там, где населяет последние, выбирает места, пронизанные сетью прогалов, полян или открытые местообитания с множеством лесных микрофрагментов, поляперелески (1920, 28, 31).
Размер участка обитания обратно пропорционален его скважности, насыщенности лесного массива полянами или другими открытыми участками. Сбор корма почти всегда происходит на линии раздела между лесными и нелесными микрофрагментами, вдоль которой движутся птицы, обследуя участок изо дня в день примерно по одной и той же траектории (1920, 28).
Вид жёстко связан с оптимальными местообитаниями. Особи, поздней занимающие территории легко привлекаются вокальной активностью пар, поселившихся ранее. Таким способом возникают групповые поселения (при более высоком уровне численности). Территориальные связи вида, напротив, крайне лабильны. При избытке подходящих местообитаний поблизости на одном и том же месте гнездятся не более 12 сезонов подряд, а затем начинают гнездиться в другом месте (1920, 27, 30).
Зафиксирован перенос гнездового дупла на расстояние 300400 м. в одном гнездовом сезоне (30). Лабильность территориальных связей вида определяет резкие колебания численности вида в одной местности, включая негнездование в отдельные годы, даже в условиях постоянства локальной популяции без выраженных подъёмов и спадов численности (Окский заповедник, 56).
Многолетнее ежегодное гнездование в одном месте возможно лишь при «островном» характере подходящих местообитаний, и полном отсутствии аналогичных поблизости (20, 24). Гнездовая территория зелёного дятла очень постоянна в течение гнездового сезона, притом что может быть перенесена в другое место в следующий. Конфигурация эксплуатируемого пространства удивительно стабильна на протяжении всего сезона, не меняясь от начала яйцекладки до вылета птенцов, несмотря на изменение погоды, циклическое развитие растительности и другие факторы, влияющие на успешность кормодобывания.
Столь же характерна устойчивость эксплуатации территории на протяжении всего сезона размножения, несмотря на значительные размеры участка, высокую мозаичность местообитаний с регулярными изменениями обилия кормовых объектов в каждой мозаике. Она обеспечивается запасами отдельных видов и групп муравьёв, устраивающих небольшие, преимущественно подземные муравейники Lasius niger, L.flavus, в меньшей
степени Serviformiva, Myrmica spp. и пр. В центре и на периферии ареала показана позитивная корреляция между суммарной биомассой данных групп муравьёв и предпочтением территориальными особями соответствующих микроместообитаний внутри участка (1920, 2829).
Крупные заповедники рыжих лесных муравьёв используются преимущественно в период миграций проходящими особями. Постоянное использование территориальными особями, в период гнездования или зимовки быстро подрывает соответствующий ресурс (2, 3).
Склонен к урбанизации, легко заселяет крупные старые парки в городе и в ближних пригородах, лесные микрофрагменты и лесополосы с достаточным возрастом древостоев. Однако урбанизационные потенции реализуются преимущественно вне зоны симпатрии с седым дятлом и в районах недавнего соприкосновения этих видов – в Англии, во Франции, в ФРГ, на севере Молдавии и пр. (12, 24, 2930, 32).
Моногам. Моногам, самцы и самки занимают территории и рекламируют их независимо друг от друга. К строительству дупла приступает в конце апреля начале мая. Дупло строят оба партнёра при некотором преимуществе самца, в течение 1215 суток. 3 раза наблюдали самостоятельное выдалбливание дупла одиночными активно кричащими самками, лишь одна из которых нашла партнёра не раньше середины мая. Для строительства дупел чётко предпочитает осину (более ½ или ¾ случаев гнездования), в меньшей степени дуб и берёзу, в пойменных местообитаниях к ней добавляется ветла и ольха (6, 1920, 24, 29).
Самостоятельное выдалбливание дупла происходит не более чем в 1520% случаев. Обычно использует старые дупла большого пёстрого дятла (в Окском заповеднике также седого), расширяя и углубляя их (5, 20).
В выводке 38 птенцов, в среднем в Рязанской области 6,0±0,31 (n=11) (5). В Московской области успех размножения ниже: в периоды 19891998 и 19992005 гг. он составлял в среднем 4,98±0,23 (n=42) и 5,1±0,43 (n=18) слётка/пару соответственно (1920). У 71 пар, чьё сообитание с парами седого дятла было прослежено, успех размножения в благоприятные годы составлял 5,12±0,41 слётков/пару, n=28. В неблагоприятные годы, когда после суровой зимы или поздней «сырой» весны птицы начинали кричать лишь 28/IV успех размножения составил 4,03±0,85 слётков/пару, n=10. Сообитание гнездовых пар P.viridis с парами седого не снижало успех размножения в том же самом году, по сравнению с годами до подселения седых дятлов, но резко увеличивало вероятность оставления территории в следующие сезоны и прекращения гнездования в данной местности. С учётом нулевого успеха пар, оставивших территорию, средний успех размножения зелёных дятлов в присутствии седых снижается 3,23±0,35 слётка/пару (n = 21) (1920).
Успешность размножения определена для Литвы (87,6%: 162 птенца вылупилось из 185 яиц) и Рязанской обл. (74,3%: из 74 яиц вылетело 55 птенцов). В первые дни их
докармливает один из родителей, затем выводок распадается, и птицы начинают широко кочевать (6, 20).
Образование пары происходит соединением участков самца и самки, рекламирующих территорию по соседству. Занятие территорий и начало активного «пения» растягивается на месяц и более (5, 20). Изза резко неодновременного занятия территорий будущими партнёрами всякое падение численности увеличивает долю холостых самок и самцов, занимающих территории и активно токующих, но не находящих партнёра. В период спада она доходила до 1/3 популяции (19).
У седого дятла действие этого фактора смягчается высокой привязанностью самца и самки к прежним гнездовым территориям, у зелёного дятла и этого нет.
6. Лимитирующие факторы. Сопряжённые колебания численности близких видовмирмекофагов – зелёного и
седого дятла зафиксированы и на других территориях совместного обитания (Ленинградская область, Латвия и Эстония, Белоруссия, Южная Германия). На всех этих территориях рост численности седого дятла, расширение его ареала в западном и югозападном направлении вызывает обвальное сокращение численности зелёного (наподобие наблюдавшегося в Подмосковье, но без восстановления) (1, 14, 21, 2224).
Конкурентное взаимодействие с седым дятлом, занимающим в первую очередь крупные массивы старовозрастных лесов, рассматривается как одна из причин «отступления» зелёного дятла в антропогенно фрагментированные местообитания, лесные микрофрагменты, до заселения «островов» городских лесов в Центральной Европе (27, 30, 32).
Вне зоны симпатрии с седым численность зелёного дятла устойчиво растёт, ареал расширяется за пределы собственно лесной зоны, охватывая лесополосы, островные и байрачные леса, лесные микрофрагменты (Великобритания, Франция, север Молдавии) (12, 24, 30). Поэтому первым фактором, ограничивающим численность зелёного дятла, следует считать конкурентное взаимодействие с седым дятлом, в периоды роста численности последнего.
Второй фактор ограничения численности – мозаичный, островной характер его местообитаний в области, особенно плакорных, их временный и преходящий характер (перестойные древостои накануне распада). Он дополняется уязвимостью пойменных ландшафтов к антропогенных деградации под влиянием дачного строительства и рекреации, основное «давление» которых приходится именно на поймы (1516).
Вместе с продолжающимся усыханием широколиственных древостоев он определяет высокую уязвимость подмосковной популяции вида. Тот же фактор негативно воздействует на популяции вида в Европе (27). Численность вида сильно падает после холодных, многоснежных зим, особенно в сочетании с холодной и поздней весной (24). Восстановление численности после неблагоприятных зимних и ранневесенних сезонов
происходит уже через сезон, при сообитании с седым дятлом восстановление затягивается на 24 года (28). В других районах этого различия не отмечено (24).
Четвёртые фактор связан с негативным воздействием потепления климата, увеличивающего оседлость особей, и их подверженность зимним заморозкам после оттепелей. Пятый с хищничеством ястребатетеревятника, в последние 3040 лет существенно увеличившего численность и урбанизирующегося по всей Восточной Европе (1). В Московской области их воздействие не зафиксировано.
7. Принятые меры охраны Местообитания вида охраняются в ПриокскоТеррасном заповеднике,
национальном парке «Лосиный остров», в существующих заказниках на юге и западе области, на территории тех памятников культуры, неотъемлемой частью которых является старый парк вокруг барской усадьбы. Внесён в Красные книги Эстонии, Латвии, Литвы, Беларуси, в региональные Красные Книги Брянской, Орловской, Курской, Ленинградской и Саратовской областей РФ. Вид включён в подготовляемую Красную Книгу Тульской области (6).
8. Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях Современная стабилизированная популяция вида в области составляет примерно
1/10 популяции периода высокой численности 1970начала 1980х гг. В пространственном отношении ареал фрагментирован, представляет собой собрание разбросанных по всей области «очагов» и «русел» гнездования, преимущественно в пойменных местообитаниях (7, 18). При жёсткой связи с подходящими местообитаниями, с гнездовой территорией вид связан не жёстко, после 12 сезонов успешного гнездования место последнего легко меняется, так что все небольшие очаги и места гнездования отдельных пар являются неустойчивыми.
Поэтому основная мера охраны вида сохранение участков подходящих местообитаний в рамках отдельных «ядер» экосети с приданием статуса заказников или памятников природы соответствующим «островам». Проекты экологических сетей, включающих основные «очаги» и «русла» гнездования вида, были выполнены для территорий Подольского и Егорьевского района (1516). Необходимо продолжение этой работы для других районов области.
Поскольку восстановление подмосковной популяции до устойчивого уровня (соответствующего численности и ареалу вида в 1970х1980х гг.) происходит путём инвазий, именно сохранность островных местообитаний вида в условиях растущего антропогенного пресса в долговременном плане наиболее существенна для сохранения вида.
В качестве дополнительных мер необходим контроль за состоянием подмосковной популяции как часть глобального мониторинга вида (27), инвентаризация и охрана крупных муравейников.
9. Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры
Сведения о разведении в неволе отсутствуют 10. Источники информации 1. Белик В.П., 1998. Популяционные тренды и проблема сохранения
зелёного дятла в России// Редкие виды птиц Нечернозёмного Центра России. М.: Издво МГПИ. С. 154159.
2. Благосклонов К.Н., 1976. Некоторые новые и редкие гнездящиеся птицы Москвы// Бюлл. МОИП. Т.81. Вып.4. С. 1523.
3. Благосклонов К.Н., 1991. Гнездование и привлечение птиц в сады и парки. М.: Издво МГУ. 250 с.
4. Очагов Д.М., Райнен М.Дж., Бутовский Р.О., Алещенко Г.М., Ерёмкин Г.С., Есенова И.М.. Экологические сети и сохранение биологического разнообазия Центральной России. Исследование на примере болот Петушинского района. М.: ВНИИприрода, 2000. 80 с.
5. Иванчев В.П., 1996. Сравнительная экология дятлообразных центра европейской части России. Автореф. дисс. канд. биол. наук. М.: МПГУ. 16 с.
6. Иванчев В.П., 2005. Зелёный дятел// Птицы России и сопредельных регионов. Совообразныедятлообразные. М.: Тво научных изданий КМК. С.298305.
7. Калякин М.В., Волцит О.В., 2006. Птицы Москвы и Подмосковья: Атлас. СофияМосква: издво «Pensoft». 372 с.
8. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 256 с.
9. Королькова Г.Е., Быков А.В., 1985. Птицы и млекопитающие// Леса южного Подмосковья (ред. Л.П.Рысин). М.: Наука. С. 247277.
10. Королькова Г.Е., Корнеева Т.М., 1982. Птицы и млекопитающие. "Леса западного Подмосковья". М.: Наука". С. 192211.
11. Мальчевский А.С., Пукинский Ю.П., 1983. Птицы Ленинградской области. Т.1. Л.: Наука, 1983. 356 с.
12. Манторов О.Г., 1992. Зелёный дятел на севере Молдовы// Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинёв: Издво "Штиница". С. 6870.
13. Мосолов Н.А., 1908. Из жизни птиц Московской губернии. Дятлы. // Естествознание и география. 4. С. 2432.
14. Нанкинов Д.Н., 2003. Наблюдения за некоторыми неворобьиными птицами южного берега Финского залива в 1966–1971 гг.// Беркут. Т.12. Вип. 12. С.6171.
15. Очагов Д.М., Коротков В.Н. (ответ.ред.)., 2001. Природа Подольского края. М.: ЛЕСАРарт. 192 с.
16. Очагов Д.М., Коротков В.Н. (ответ.ред.)., 2006. Природа Егорьевской земли. М.: ВНИИПрироды. 440 с.
17. Птушенко Е.С., Иноземцев А.А., 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: Издво МГУ. 461 с.
18. Редькин Я.А., Шитиков Д.А., 1998. О распространении некоторых редких видов птиц в Москве и Московской области. "Редкие виды птиц нечернозёмного центра России" М.: издво МПГУ «Прометей». С. 111117.
19. Фридман В.С., 1998. О причинах исчезновения зелёного дятла в Московской области и предложения по его охране// Редкие виды птиц Нечернозёмного Центра России. Материалы совещания. М.: Издво МПГУ «Прометей». 1998. С. 261266.
20. Фридман В.С., 2005. Межвидовая конкуренция как регулятор жизненной стратегии вида в сообществе: конкурентные взаимодействия подмосковных популяций зелёного P.viridis и седого P..canus дятлов в 19842003 гг.// Теоретические проблемы экологии и эволюции. Матер. V Любищевских чтений. Тольятти: ИнтерВолга. С. 90123.
21. Фридман В.С., 2006. Методика долговременных наблюдений за динамикой местных популяций дятлов рода Picus // Новости программы "Птицы Москвы и Подмосковья". 2006. 3.
22. Bergmanis M., Strazds M., 1993. Rare woodpeckers species in Latvia // Ring. V.15. 12. P. 255266.
23. Blume D., 1984. Bestandsrückgang beim Grünspecht (Picus viridis) ein Alarmzeichen?// Ornit. Mitt. Bd.36. S. 37.
24. Blume D., Tiefenbach J., 1996. Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht. Die Neie BrehmBücherei. Bd.300. Magdeburg. S. 3103.
25. Christen W., 1994. Bestandentwicklung von Grünspecht Picus viridis und Grauspecht P.canus nördlich von Solothurn 19801993// Orn. Beob. V.91. S.4958.
26. Lorenz Th.K., 189294. Die Vögel des Moskauer Gouvernements. // Bulletin de la Societe des Naturalistische de Moscou. Bd.6, H.2, S. 263321; Bd.7, H.3, S. 337354, Bd.8. H.3. S. 325350.
27. Mikusinski G., Angelstam P., 1997. European woodpecker and anthropogenic habitat change: a review// Vögelwelt. Bd. 118. S. 277283.
28. Rolstad Ø., Løken B., Rolstad E., 2000. Habitat selection as a hierarchical spatial process: the green woodpecker at the northern edge of its distribution range// Oecologia. V.124. 1. Р.116129.
29. Scherzunger W., 2001. Niche separation in European woodpeckers – reflecting natural development of woodland// Int. Woodpecker Symp. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsgericht 48. S. 139154.
30. Tomek M., 2004. Grünspechtvorkommen (Picus viridis) in Oberhausen. 19552004// Electronic Publications of the Biological Station of Western Ruhrgebiet. V.15. 1. Р. 18
31. Wey H., 1983. Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen von Spechten (Picidae) und der Flächennutzung im Raum Saarbrücken// Diplomarbeit Univ. Saarbrücken (unveröffentlich). Цит. по Blume, Tiefenbach, 1996.
32. Witt K., 1996. Atlasarbeiten zur Brutvögelwelt und Wintervögelprogramm Berlin// Vögelwelt. V. 117. N. 46. S. 321327.
33. Detailed species account from Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdLife International 2004) http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp730.pdf
Составитель В.С.Фридман 1. Седой дятел Picus canus Gmelin, 1788 Семейство дятловые – Picidae 2. Статус. 3я категория. Редкий гнездящийся вид. 3. Распространение. От центральной Европы до Приморья, Индокитая и Зондский
островов (7). В Московской области гнездится преимущественно на севере, северозападе и востоке области. Наиболее значимой областью гнездования является территория Мещёрской низменности (Шатурский, Егорьевский, ОреховоЗуевский, частично Луховицкий и ПавловоПосадский районы) (2, 56, 10, 1517). Второй район постоянного гнездования и высокой численности вида охватывает пойменные, сильно заболоченные ландшафты в бассейнах рек севера и северозапада области: Сестры, Дубны, Б.Сестры, Нудоли, Ламы и Шоши на территории Талдомского, Загорского, Дмитровского, Лотошинского и Клинского районов. В южном, югозападном и западном секторе области гнездится лишь отдельными парами, неежегодно (5, 10, 1517)
В конце XIX – начале XX в. на территории нынешней Московской области седой дятел не гнездился, исключая территорию севера Талдомского района, и встречался лишь на внегнездовых кочёвках. Зелёный дятел, наоборот, был многочисленен во всех лиственных лесах области (8, 23). Сейчас седой дятел обычен по всей зоне бореальных лесов, в северной и восточной части области, особенно в заболоченных и пойменных ландшафтах, зелёный обитает лишь в южной и югозападной части Московской области, занятой широколиственными лесами (5, 1718).
В период подъёма численности 19881997 г.г. ареал P.canus распространялся на всю область, включая территорию КлинскоДмитровской гряды и широколиственные леса на юге и югозападе области (кроме Заочья). Этот максимальный ареал вида в регионе зафиксирован в 19901998 гг., в более ранние периоды в конце 1920хначале 1930х гг. и в 19401950х гг. (1, 11, 14, 1618).
С 2000 г. подъём численности сменился спадом, приведшим к сокращению ареала вида в области на север и северовосток. С 20012003 гг. ареал подмосковной популяции седого дятла стабилизирован в современном состоянии и вошёл в пределы, характерные для начала 1980х гг. прошлого века (1718).
Пульсации численности и ареала подмосковной популяции седого дятла происходили строго в противофазе с аналогичными колебаниями популяции зелёного (9, 2021). На протяжении ХХ в. было зарегистрировано три таких колебания, сейчас происходит четвёртое при общей тенденции к росту численности седого от цикла к циклу, с расширением регионального ареала и, соответственно, падении численности зелёного дятла (1718).
4. Численность и тенденции ее изменения. Численность гнездовой популяции в области можно оценить в 300370 пар. В
период подъёма 19881997 гг. максимальный уровень численности зафиксирован в основных очагах гнездования на севере области и в Мещёрской низменности (12,5 пары/км2). Территории, занятые в этот период, сперва колонизировались отдельными парами, поселявшимися по соседству с территориальными парами или групповыми поселениями зелёного дятла, так что численность была очень невысока (0.050.1 пары/км2). По мере прекращения гнездования Picus viridis в прежних местах (19921996 гг.) она возрастала до уровня 0,50,8 пары/км2 (4, 1617).
В период 19982002 численность вида в основных районах гнездования несколько упала, до 0,81,9 пар/км2 (примерно ¾ максимальной численности 19921996 гг.). На остальной территории, занятой в период подъёма, численность упала почти до нуля, исключая случаи неежегодного гнездования отдельных пар (1718). В Европе динамика численности противоречива: в Западной Европе продолжается расширение ареала вида на запад, юг и юго – запад с соответствующим увеличением численности в Бельгии, Австрии, Западной Германии, Швейцарии (21, 28). В Восточной и Центральной Европе численность стабилизировалась или снижается, во многом изза привязанности вида к крупным массивам старовозрастных лесов, уязвимым к антропогенной фрагментации (20, 24, 27).
5. Особенности биологии и экологии. Размер тела 2628 см. Специализированный мирмекофаг, в происхождении
связанный с широколиственными лесами гор Южной Палеарктики (25). Менее специализирован по сравнению с зелёным дятлом: меньшая часть корма добывается при помощи специализированных кормовых методов, требующих глубокого проникновения в субстрат (особенно почву), и существенно большая простым собиранием с субстрата. Увеличена доля кормовых объектов, собираемых путём долбления (почти отсутствующего у зелёного дятла), уменьшена доля корма, добываемого в почве или подстилке, увеличена на стволах и ветвях деревьев (21, 25).
Биотопически пластичен: несмотря на привязанность к заболоченным пойменным мелколиственным лесам, в условиях роста численности популяции и при расширении ареала легко переходит к гнездованию в плакорных и водораздельных лесах (4, 17, 25). В этом случае в Европе предпочитает крупные массивы старовозрастных и смешанных
древостоев (т.н. «старые лиственные леса»), в том числе весь спектр плакорных местообитаний зелёного дятла (1921, 25).
В целом в средней России предпочитает высокомозаичные местообитания пойм (3, 16). В восточной части Подмосковья связан с характерным мещёрским ландшафтом (сырые сосновые и берёзовые леса на плакорах), на севере и западе области – населяет пойменные ландшафты, сырые еловоберёзовоосиновые леса на террасах, мелколиственные леса собственно в поймах, лесистые болота. В период подъёма численности 19881998 гг. спектр местообитаний расширился за счёт колонизации плакорных местообитаний зелёного дятла в еловошироколиственных и смешанных лесах (2, 6, 1517).
Биотопическая пластичность вида и лёгкость вселения в биотопы конкурента сочетается с высоким консерватизмом территориальных связей. Выбрав территорию, пары седого дятла гнездятся на ней из года в год в течение 36 лет подряд и, в отличие от зелёного, им несвойственен перенос территории или гнездового дупла. Хотя пара ежегодно выдалбливает новое дупло, гнездование в старых дуплах не зафиксировано, оно делается в непосредственной близости от предыдущего (15, 26).
Гнездовая территория седого дятла постоянно пульсирует в зависимости от погодных условий, динамики состава кормовых объектов и других факторов, влияющих на эффективность сбора корма, расширяясь в неблагоприятные и сжимаясь в благоприятные периоды (15, 17, 21, 26).
Гнездящийся и зимующий вид. Дупла выдалбливают с серединыконца апреля, в равной степени самец и самка. Продолжительность выдалбливания дупла 616 дней, сильно варьирует в связи с растянутостью образования пары. Дупла размещает преимущественно в осине и дубе, в меньшей степени в ольхе, ветле, березе и липе (последние 4 породы – примерно ¼ случаев).
Откладка яиц в начале мая, у пар поздно занявших территории – с середины или даже конца мая (преимущественно у кочующих особей, оседающих на гнездование позже резидентов). Насиживают оба партнёра в течение 1215 суток. Плодовитость выше, чем у зелёного дятла: в Рязанской области в кладке 510 яиц, в среднем 8,3±0,32 яйца, в Московской области в двух кладках было 6 и 7 яиц (4).
В выводках в Московской области 49 птенцов, в среднем 4,02±0,33 слётка/пару (n=37) у пар, гнездившихся в поселениях зелёного дятла в период 19901996 гг., 6,32±0.25 слётка/пару (n=59) при гнездовании в оптимальных местообитаниях заболоченных пойменных лесах в период 19902002 г. (1617). Средний размер выводка в Рязанской области выше – 7,3±0,29 слётка/пару (34).
Успешность размножения в Окском заповеднике составила 89.4% (из 134 отложенных яиц до вылета дожили 118 птенцов), на Украине из 105 яиц, отложенных в 11 гнёздах, вылупилось 94 птенца и вылетело 86 молодых (81,7%) (4).
По сравнению с зелёным дятлом, легче восстанавливает численность после суровых, многоснежных зим, восстановление не зависит от присутствия видаконкурента,
не обнаружено отрицательного влияния сырых и поздних весен на численность популяции (2122).
6. Лимитирующие факторы. Современная стабильность численности обусловлена достигнутым в 20002002 гг.
полным разделением гнездовых биотопов седого и зелёного дятла (5, 18). Даже когда пары обоих видов гнездятся бок о бок, их гнездовые участки строго биотопически разделены, даже если перекрывается область брачной активности. Это особенно характерно для Мещёрской низменности, и заболоченных пойменных ландшафтах севера области. В Мещере седой дятел занимает плакорные местообитания (заболоченные сосняки с примесью мелколиственных пород), а зелёный – пойменные ольшанники, дубравы или ивняки (10, 17).
В Талдомском, Дмитровском, Клинском и Лотошинском районах зафиксировано обратное соотношение: территориальные пары седого дятла приурочены к пойменным ландшафтам, а зелёного – к террасным и водораздельным лесам, исключая случаи гнездования зелёного дятла в «собственных» пойменных биотопах, которых седой дятел избегает (17).
Негативное воздействие на численность седого дятла оказывает сокращение предпочитаемых сырых мелколиственных лесов в связи с сокращением площади, антропогенной фрагментацией пойменных местообитаний, садоводачным строительством, рекреацией в поймах малых рек (20, 24, 27). В Европе зафиксировано негативное влияние лесокультуры хвойных пород с вытеснением «северных лиственных лесов», фрагментация крупных массивов старовозрастных лесов дорожной и тропиночной сетью (19).
7. Принятые меры охраны. Находится под особой охраной в Московской области с 1978 г. (13). Места
обитания вида охраняются в ПриокскоТеррасном заповеднике и не менее чем в шести областных заказниках в Волоколамском, Лотошинском, Егорьевском и Шатурском районах. Вид включён в Красную книгу Литвы, Красные книги Орловской, Рязанской, Тверской, Смоленской, Ленинградской, Курской, Липецкой и Нижегородской областей РФ. Как все специализированные виды дятлов с жёсткими территориальными связями, является хорошим «зонтиковым» видом. Постоянное гнездование седого дятла, высокая численность указывает на малую нарушенность таких уязвимых природных ландшафтов Подмосковья, как леса заболоченных речных долин, сосновые леса Мещёрского типа, леса на окраинах верховых болот (24, 27).
8. Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Необходимо сохранение основных местообитаний вида в составе отдельных «ядер»
экосети с приданием статуса заказников или памятников природы соответствующим «островам». Проекты экологических сетей, включающих основные «очаги» и «русла» гнездования вида, были выполнены для территорий Егорьевского района и Мещеры в
целом (2, 10). Необходимо продолжение этой работы для других районов области. В случае прекращения антропогенной деградации местообитаний способен восстановить численность самостоятельно.
9. Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о разведении в неволе отсутствуют. 10. Источники информации. 1. Ерёмкин Г.С., 2004. Редкие виды птиц г.Москвы и ближнего Подмосковья:
динамика фауны в 19852004 гг. // Беркут. Т. 13. Вып. 2. С. 161182. 2. Очагов Д.М., Райнен М.Дж., Бутовский Р.О., Алещенко Г.М., Ерёмкин Г.С.,
Есенова И.М.. Экологические сети и сохранение биологического разнообазия Центральной России. Исследование на примере болот Петушинского района. М.: ВНИИприрода, 2000. 80 с.
3. Иванчев В.П., 1996. Сравнительная экология дятлообразных центра европейской части России. Автореф. дисс. канд. биол. наук. М.: МПГУ. 16 с.
4. Иванчев В.П., 2005. Седой дятел// Птицы России и сопредельных регионов. Совообразныедятлообразные. М.: Тво научных изданий КМК. С. 309318.
5. Калякин М.В., Волцит О.В., 2006. Птицы Москвы и Подмосковья: Атлас. СофияМосква: издво «Pensoft». 372 с.
6. Кисленко В.Г., Леонович В.В., Николаевский Л.А., 1990. О распространении и экологии редких видов птиц Московской области и сопредельных территорий// Редкие виды птиц центра Нечерноземья. М.: ЦНИЛ Главохоты. С.129133.
7. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 256 с.
8. Мосолов Н.А., 1908. Из жизни птиц Московской губернии. Дятлы. // Естествознание и география. 4. С. 2432.
9. Нанкинов Д.Н., 2003. Наблюдения за некоторыми неворобьиными птицами южного берега Финского залива в 1966–1971 гг.// Беркут. Т.12. Вип. 12. С.6171.
10. Очагов Д.М., Коротков В.Н. (ответ.ред.)., 2006. Природа Егорьевской земли. М.: ВНИИПрироды. 440 с.
11. Птушенко Е.С., Иноземцев А.А., 1968. Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий. М.: Издво МГУ. 461 с.
12. Редькин Я.А., Шитиков Д.А., 1998. О распространении некоторых редких видов птиц в Москве и Московской области. "Редкие виды птиц нечернозёмного центра России" М.: издво МПГУ «Прометей». С. 111117.
13. Решение исполнительного комитета Московского областного и Московского городского Советов народных депутатов от 25.04.1978 4971232 «Об усилении охраны диких животных в гор.Москве и Московской области»// Бюро исполкома Моск. Обл. Совета нар.депутатов. 1978. 14. С.1620.
14. Самойлов Б.Л., Морозова Г.В., 1998. Редкие птицы Центральной России на территории Москвы// Редкие виды птиц Нечернозёмного Центра России. М.: Издво МГПИ «Прометей». С.125132.
15. Фридман В.С., 1990. К биологии редких дятлов Московской области // Редкие виды птиц центра Нечерноземья. М.: ЦНИЛ Главохоты. С.148151.
16. Фридман В.С., 1998. О причинах исчезновения зелёного дятла в Московской области и предложения по его охране// Редкие виды птиц Нечернозёмного Центра России. Материалы совещания. М.: Издво МПГУ «Прометей». 1998. С. 261266.
17. Фридман В.С., 2005. Межвидовая конкуренция как регулятор жизненной стратегии вида в сообществе: конкурентные взаимодействия подмосковных популяций зелёного P.viridis и седого P..canus дятлов в 19842003 гг.// Теоретические проблемы экологии и эволюции. Матер. V Любищевских чтений. Тольятти: ИнтерВолга. С. 90123.
18. Фридман В.С., 2006. Методика долговременных наблюдений за динамикой местных популяций дятлов рода Picus // Новости программы "Птицы Москвы и Подмосковья". 2006. 3.
19. Angelstam P., Mikusinski G., 1994. Woodpeckers assemblages in natural and managed boreal and hemiboreal forest a review// Ann. Zool. Fennici. Vol.31. P.157172.
20. Bergmanis M., Strazds M., 1993. Rare woodpeckers species in Latvia // Ring. V.15. 12. P. 255266.
21. Blume D., Tiefenbach J., 1996. Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht. Die Neie BrehmBücherei. Bd.300. Magdeburg. S. 3103.
22. Christen W., 1994. Bestandentwicklung von Grünspecht Picus viridis und Grauspecht P.canus nördlich von Solothurn 19801993// Orn. Beob. V.91. S.4958.
23. Lorenz Th.K., 189294. Die Vögel des Moskauer Gouvernements. // Bulletin de la Societe des Naturalistische de Moscou. Bd.6, H.2, S. 263321; Bd.7, H.3, S. 337354, Bd.8. H.3. S. 325350.
24. Mikusinski G., Angelstam P., 1997. European woodpecker and anthropogenic habitat change: a review// Vögelwelt. Bd. 118. S.277283.
25. Scherzunger W., 2001. Niche separation in European woodpeckers – reflecting natural development of woodland// Int. Woodpecker Symp. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsgericht 48. S. 139154.
26. Südbeck P., 1989. Untersuchungen zur Revierbildung und Paarbildung beim Grauspecht (Picus canus Gmelin 1788). Diplomarbeit Univ. Kiel (unveröffentlich)
27. Wübbenhorst J., Südbeck P., 2001. Woodpeckers as indicators for sustainable forestry? First results of a study from Lower Saxony// Intern. Woodpecker Symp. 2325 March 2001. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsbericht 48. P.179192.
28. Detailed species account from Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdLife International 2004) http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp734.pdf
Составитель: В.С.Фридман. 1. Трёхпалый дятел – Picoides tridactylus Семейство Дятловые Picidae. 2. Статус. 3я категория. Редкий гнездящийся вид на периферии ареала. 3. Распространение. Таежная зона Евразии и Северной Америки (6). В начале 1980х гг. подмосковный
ареал трёхпалого дятла был ограничен только еловыми лесами КлинскоДмитровской гряды и приболотными лесами, сосновоберёзовыми и еловыми, на севере "мещёрской" части области (Талдомский, Шатурский, ОреховоЗуевский, север ПавловоПосадского района). Даже на этой территории до 19851986 гг. не фиксировали постоянных гнездовых поселений P.tridactylus. В наиболее крупных и глухих массивах старовозрастных ельников гнездились только отдельные пары, и обычно не ежегодно.
С 1989 г. зарегистрирован рост численности вида в местах традиционного гнездования P.tridactylus, одновременно с интенсивным расселением оттуда сперва в ближайшие, а затем и более удалённые массивы еловых лесов. В районе КлинскоДмитровской гряды этот процесс происходил в восточном и южном, в остальных регионах в южном и юговосточном направлении (14).
Сейчас вид гнездится во всех крупных массивах старовозрастных еловых лесов на севере области, в районе КлинскоДмитровской гряды, на территории Мещёрской низменности. Также постоянно гнездится в сосновых лесах на крупных массивах верховых болот, в приболотных сосновоеловых лесах в Мещере и на севере области (Загорский, Талдомский и Лотошинский районы) (1, 4, 8, 5, 10, 14).
Рост численности в начале 1990х гг. привёл к началу регулярного гнездования вида в рекреационных лесах ближнего Подмосковья, как только они восстанавливают характерный «таёжный облик». В этот период вид загнездился в заказниках Звенигородской биостанции МГУ, биостанции ИПЭЭ «Малинки», биостанции МОПИ близ ст. Крюково в восточной части национального парка «Лосиный остров» (Алёшкинский лес) и пр. (34, 7, 13). К началу 2000х гг. вид расселился по всей территории области севернее Оки, перешёл к постоянному гнездованию в существующих массивах старовозрастных хвойных лесов, включая островные (14).
4. Численность и тенденции ее изменения. Численность вида в Московской области существенно возросла в период 19901997
гг., с расширением регионального ареала на все подходящие местообитания. Вид продолжает оставаться немногочисленным на севере, северовостоке области, в еловых лесах КлинскоДмитровской гряды и в Мещере, редким или очень редким видом – в ближнем Подмосковье, в южном и в югозападном секторе, где вид связан
преимущественно с «островными» массивами ельников. Уровень численности в оптимальных местообитаниях (крупные массивы старовозрастных ельников) достигает 1,52 пары/км2, в смешанных и еловошироколиственных (также старовозрастных) лесах она ниже – 0,31 пары/км2. Уровень численности в «мещёрских» местообитаниях (сосновые леса на верховых болотах, сосновоеловые приболотные леса) ниже чем в ельниках – 0,51,3 пары/км2. (1, 10, 14). Омоложение и фрагментация хвойных древостоев приводят к исчезновению сплошного населения вида, в таких местообитаниях P.tridactylus гнездится только отдельными парами и неежегодно (34, 10, 14).
К концу 1990х гг. численность вида в области стабилизировалась и более не росла (14). Даже вспышка размножения массового размножения короедатипографа, вызвавшая повсеместное усыхание ельников на западе, севере и северовостоке области в 19982003 гг., не вызвала увеличения численности гнездового населения вида в контролируемых группировках. Увеличилась только численность кочующих особей в течение осени и зимы, и только на самих «короедниках». Территориальные пары трёхпалых дятлов, напротив, придерживались участков с преобладанием живых хвойных деревьев (13).
В Европе численность вида стабильна, падение численности в Фенноскандии связаны с вытеснением старовозрастных ельников коммерческими лесами (19, 22).
5. Особенности биологии и экологии. По своим биотопическим предпочтениям вид нуждается одновременно в
значительной доле усыхающих и отмерших деревьев в составе хвойного древостоя, в значительных площадях сплошных еловых насаждений, и наличии в составе ельника полян и прогалин (например, по вырубкам, гарям, по долинам ручьёв). Существенно также присутствие мелколиственных пород, перестойных берез и осин, как на полянах и в «окнах» внутри массивов, так и в виде «коридоров», соединяющих изолированных массивы хвойных водораздельных лесов (2, 1617, 21).
На сухих и усыхающих мелколиственных породах собирается значительная часть корма в период выкармивания птенцов и докармливания выводка, старые мелколиственные леса с примесью ели в поймах малых рек и ручьёв играют важную роль транзитных местообитаний вида, соединяющих «острова» старых ельников и верховых болот. (2, 14, 17).
Резидентные особи связаны именно и только с хвойными древостоями, с большим количетсвом мёртвых и усыхающих деревьев. Наибольшая стабильность гнездовых популяций вида отмечена при равенстве скоростей вывала елового сухостоя и появления "окон" в пологе ельников (14, 1617). Вид охотно поселяется на участках с ветровалом, на гарях с отдельными оставшимися деревьями.
Наряду с белоспинным дятлом трёхпалый наиболее специализирован к долблению из всех пёстрых дятлов, и к круглогодичному питанию ксилофагами хвойных пород (в первую очередь короедами рода Ips). Стратегия кормодобывания предполагает быстрое «ошкуривание» усыхающих елей боковыми, отковыривающими ударами, с последующим
сбором личинок. Подолгу кормится на одном дереве, но в отличие от белоспинного дятла не долбит больших «ниш», а ошкуривает значительную площадь коры, иногда ствол целиком, и затем перемещается на соседний (2, 12, 21, 17).
Как и другие специализированные виды дятлов (седой, белоспинный), обладает консервативными территориальными и биотопическими связями (1213, 15, 18). В качестве гнездовых деревьев предпочитает сухие, трухлявые или обгоревшие деревья, хвойные, реже мелколиственные породы. Часто долбит дупла в гнилых трухлявых пнях (2, 12).
Характерно многолетнее постоянство пар, занимающих обширные неохраняемые участки до 0,20,3 км2. Конфигурация и структура использования участков постоянны из года в год и закономерно меняются на протяжении годового цикла (2, 1314). В период весеннего токования к парам могут присоединяться нетерриториальные токующие особи, обычно самцы, образуя «трио», где члены постоянной пары доминируют над пришлой особью (2, 14).
Зафиксированы случаи бигамии самцов и «сдвоенного гнездования» (последовательной полиандрии») самок (20). По всей видимости, они возникают из развития отношений в подобных трио, когда самцу из пары не удаётся помешать ухаживанию пришлого самца (2, 12). Образование пар происходит в начале середине апреля, гнездостроение – в середине апреляначале мая, яйцекладка с начала мая. Кладка уменьшена, как и у других специализированных пёстрых дятлов (35 яиц, в среднем 3,4, редко до 7) (2, 12, 16).
Вылет в конце июняначала июля. В оптимальных местообитаниях обычная величина выводка – 34 слётка/пару, выводки из 12 птенцов встречаются редко, но преобладают в коммерческих, фрагментированных или омоложенных еловых лесах (2, 17, 19).
Птенцы вылетают на 2225 день. Выводок до двух месяцев не распадается, ночуя в окрестностях гнезда, родители докармливают выпрашивающих птенцов. Это отражает жёсткие территориальные связи вида и отсутствие охраны индивидуального пространства (2, 16). Оседлокочующий вид, склонный к инвазиям, за счёт которых во многом поддерживается население вида в южных частях ареала (2).
6. Лимитирующие факторы. Как все специализированные виды дятлов с консервативными территориальными
связями, вид исключительно уязвим к фрагментации местообитаний, омоложению древостоев, к «окультуриванию» лесных участков с удалением сухих и усыхающих деревьев, ветровала и т.п. субстратов, необходимых для кормодобывания и гнездования вида (15, 1819). В Московской области негативное действие данных факторов связано с рекреационной нагрузкой на еловые леса, особенно западного и северозападного Подмосковья (7, 10). Исчезает при замене старовозрастных ельников с высокой мозаичностью, сложной яруснооконной структурой древостоев монокультурами хвойных.
Именно этот фактор наиболее существенен для сокращения численности видов в Европе (1819). Сокращает численность и исчезает при хозяйственном освоении верховых болот, при мелиорации, добыче торфа, рекреационной нагрузке на болота и окужающие лесные местообитания (12).
7. Принятые меры охраны. В Московской обл. находится под особой охраной с 1978 г. (11). Местообитания
вида охраняются на территории северной части Приокскотеррасного заповедника, восточной части национального парка «Лосиный остров», и в четырех областных заказниках в СергиевоПосадском, Волоколамском, Истринском и Одинцовском рнах. Вид включен в Красные книги Латвии, Литвы, Эстонии, и Беларуси, в региональные Красные книги Рязанской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Нижегородской областей. Как все специализированные виды дятлов с жёсткими территориальными связями, является хорошим «зонтиковым» видом (, 15, 1819). Постоянное гнездование, высокая численность трёхпалых дятлов указывает на малую нарушенность таких уязвимых природных ландшафтов Подмосковья, как крупные массивы старовозрастных водораздельных лесов (еловых и еловошикоролиственных), верховые болота и приболотные леса (1, 10).
8. Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. В настоящее время вид способен восстанавливать численность, заселять
подходящие местообитания самостоятельно. Сохранение вида в области определяется наличием крупных массивов старовозрастных ельников, крупных массивов верховых болот с сохранившимися приболотными лесами. Все соответствующие участки должны быть выделены как «ядра» экосети соответствующих территорий и взяты под охрану, защищены от фрагментации дорожнотропиночной сетью, санитарных рубок, изъятия сухостоя и бурелома и пр. Такая работа по инвентаризации местообитаний вида, определения экологической ёмкости отдельных угодий была проведена для территории Егорьевского района, и для массивов верховых болот подмосковной Мещеры (1, 10). Необходимо её распространение на другие районы области.
9. Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о разведении вида в неволе отсутствуют. 10. Источники информации. 1. Бутовский Р.О., Райнен Р., Очагов Д.М., Алещенко Г.М., МеликБагдасаров Е.М.,
Ерёмкин Г.С., Есенова И.М. Сохранение природы торфяных болот центральной и северной Мещеры. М.: издво ВНИИЦлесресурс, 2001. 120 с.
2. Бутьев В.Т., Фридман В.С., 2005. Трёхпалый дятел. // Птицы России и сопредельных регионов. Совообразныедятлообразные. М.: Тво научных изданий КМК. С.423434.
3. Ерёмкин Г.С., 2004. Редкие виды птиц г.Москвы и ближнего Подмосковья: динамика фауны в 19852004 гг. // Беркут. Т. 13. Вып. 2. С. 161182.
4. Иноземцев А.А. Изменение сообществ наземных позвоночных в новых условиях природопользования// Доклады РАН. 1997. Т.357, 6. С.844846.
5. Калякин М.В., Волцит О.В., 2006. Птицы Москвы и Подмосковья: Атлас. СофияМосква: издво «Pensoft». 372 с.
6. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 256 с.
7. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Лебедев И.Г. Состояние и перспективы сохранения лесного орнитологического комплекса и редких видов птиц в ближайшем Подмосковье// Редкие виды птиц Нечернозёмного Центра России (Материалы совещания). М.: МПГУ, 1998. С.8385.
8. Конторщиков В.В., Ярошенко А.Ю. Новые данные по распространению и численности трёхпалого дятла и кедровки в Московской области// Редкие виды птиц Нечернозёмного Центра России. М., 1998. С.213216.
9. Мальчевский А.С., Пукинский Ю.П., 1983. Птицы Ленинградской области. Т.1. Л.: Наука, 1983. 356 с.
10. Очагов Д.М., Коротков В.Н. (ответ.ред.)., 2006. Природа Егорьевской земли. М.: ВНИИПрироды. 440 с.
11. Решение исполнительного комитета Московского областного и Московского городского Советов народных депутатов от 25.04.1978 4971232 «Об усилении охраны диких животных в гор.Москве и Московской области»// Бюро исполкома Моск. Обл. Совета нар.депутатов. 1978. 14. С.1620.
12. Фридман В.С. Разнообразие территориального и брачного поведения пёстрых дятлов (рода Dendrocopos Koch, 1816 и Picoides Lacepede, 1799) фауны Северной Евразии. Автореф. дисс. канд. биол. наук. М.: МПГУ, 1996. 23 с.
13. Фридман В.С., 2001. Реакция популяций трёхпалого дятла (Picoides tridactylus) на вспышку размножения короедатипографа на западе Подмосковья: стабильность гнездового населения, мобилизация кочующих неместных птиц в начале зимы// Роль биостанций в сохранении биоразнообразия России. Мат. конф. посвящ.. 250летию МГУ и 90летию ЗБС МГУ. Москва, 2001. С.167170.
14. Фридман В.С., Ерёмкин Г.С., 2003. Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus) в Подмосковье: популяционные тренды за последние 15 лет// Бюллетень МОИП. Т.108. Вып.3. С.315.
15. Angelstam P., Mikusinski G., 1994. Woodpeckers assemblages in natural and managed boreal and hemiboreal forest a review// Ann. Zool. Fennici. Vol.31. P.157172.
16. Blume D., Tiefenbach J., 1997. Die Buntspechte // Die Neue BrehmBücherei Bd. 315. Westarp Wissenschaften. Magdeburg. 152 ss.
17. Fayt Ph., 2003. Population ecology of the Threetoed Woodpecker under varying food supplies// University of Joensuu, PhD Dissertations in Biology. No.21. 126 pp.
18. Mikusinski G., Angelstam P., 1997. European woodpecker and anthropogenic habitat change: a review// Vögelwelt. Bd. 118. S. 277283.
19. Pakkala T., Hanski I., Tomppo E., 2002. Spatial ecology of the threetoed woodpecker in managed forest landscapes// Silva Fennica. V.36. 1. Р.279–288.
20. Pechacek P, Michalek K. G., Winkler H., Blomqvist D., 2005. Monogamy with exceptions: Social and genetic mating system in a bird species with high paternal investment// Behaviour. V.142, 8. Р. 10931114.
21. Scherzunger W., 2001. Niche separation in European woodpeckers – reflecting natural development of woodland// Int. Woodpecker Symp. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsgericht 48. S. 139154.
22. Detailed species account from Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdLife International 2004). http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp657.pdf
Составитель. В.С.Фридман
1. Средний пёстрый дятел – Dendrocopos medius L., 1758. Семейство Дятловые Picidae Статус. 4ая категория. Редкий малоизученный гнездящийся вид на границе ареала. Европейский подвид D. medius medius вид включен в Красную книгу Российской
Федерации (2000), категория 2 2 сокращающийся в численности подвид (9). 3. Распространение. Ареал охватывает широколиственные и смешанные леса Европы, Кавказа и
Западного Ирана (4). До начала 1990х г. вид в области не гнездился, отмечены лишь отдельные встречи в гнездовое и (чаще) во внегнездовое время.
Факт гнездования доказан находкой двух гнезд и встречей трех выводков 6 7 июня 1994 г. в пойме р.Осётр близ ст. Узуново СеребряноПрудского рна. В том же районе гнезда и выводки среднего дятла находили повторно в 1997 (1 гнездо в июне, 5 «выводков» групп из 12 молодых, докармливаемых взрослыми – в июле) и в 1998 г. (2 гнезда, 6 «выводков») (12). 26.04.1998 оплодотворённая самка D.medius была добыта у г.Ступина, в последующие там же наблюдали несколько птиц, причём вид также наблюдался впервые (7).
В 1995 г. попытка гнездования вида отмечена в национальном парке «Лосиный остров» (одиночный самец выдолбил дупло, но не смог привлечь партнёра и в конце концов уступил его паре больших пёстрых дятлов), в 1997 г. у с.Толстопальцево Киевской ж.д. и (12). После 20012002 гг. происходит резкое учащение встреч вида на
зимовке в г.Москве и круглогодичных встреч на юге области, в Заочье, близ г.Пущино и в ПриокскоТеррасном заповеднике (3, 12).
Таким образом, вид заселяет территорию заселяет территорию Московской области с юга и юговостока, распространяясь по «островам» пойменных и балочных дубрав, в также лиственных лесов. Все поиски мест гнездования средних дятлов, зимующих в московских парках в 20022007 гг., не дали никаких результатов (11). Возможно, что эти птицы зимуют много севернее гнездового ареала (предпочтение городских парков как зимовочных биотопов обнаруживается во многих частях ареала, 10, 13), тогда как гнездятся на юге области.
4. Численность и тенденции ее изменения. Заселение Московской области средним дятлом происходит на фоне значительного
увеличения численности вида в северной части Тульской области, в Заокском и Венёвском районе (3). В районе ст.Заокская и музеязаповедника «Поленово» в период с 2001 по 2006 гг. наблюдали лишь отдельных особей, достоверное гнездование обнаружено лишь в два последних года (по одной паре в каждый сезон). В 2007 г. здесь же отмечен существенный рост численности D.medius. 30.044.05.2007 средний дятел постоянно отмечался в треугольнике между ст.Тарусская, музеемзаповедником «Поленово» и р.Окой в широколиственных и пойменных лиственных лесах, с численностью 0,80,9 особи/км2. Наблюдали токующих птиц, птиц, инспектирующих дупло, но достоверных доказательств гнездования не найдено (22).
Расширение области распространения вида в Подмосковье практически не ведёт к увеличению численности. На заселённой территории вид попрежнему гнездится отдельными парами и, скорей всего, неежегодно (10, 12). По всей видимости, численность вида в области, не превышает 5070 гнездящихся пар.
Динамика численности вида в Европе противоречива. Одни популяции сохраняют консервативную привязанность к крупным массивам старовозрастных широколиственных лесов. Они остаются уязвимыми к антропогенной фрагментации, сокращают численность и исчезают по мере сокращения площади местообитаний, деградации яруснооконной структуры древостоя и пр. (56). Другие популяции, начиная с конца 1980х гг. разрывают жёсткую связь с сохранившимися «островами» малонарушенных широколиственных лесов, начинают интенсивно осваивать лесные микрофрагменты, островные и балочные леса, рекреационные леса и старые парки в пригородах крупных городов. В отдельных районах Европы (Германия, Прибалтика), можно говорить о начале урбанизации вида (1, 14, 1618).
За счёт этих популяций, повернувших от консерватизма к лабильности в выборе местообитаний, в серединеконце 1990х гг. в ряде районов Европы достигается значительный рост численности и расширение ареала в северном и северовосточном направлении, особенно в Прибалтике, в Западной Германии, во Франции, и в Поволжье (Саратовская, Пензенская обл.). (2, 13, 1416). Рост численности вида в Тульской области,
заселение Московской области представляется составной частью общего процесса «возвратной урбанизации», роста численности, расширения ареала вида в Европе (14, 21).
5. Особенности биологии и экологии. Длина тела 2022 см. Из европейских видов рода Dendrocopos средний дятел
единственный специализированный собиратель, приспособленный к исключительно быстрому и поверхностному обследованию субстратов (20). Отсюда привязанность вида к старовозрастным дубравам, избегание фрагментированных и омоложенных дубрав, а также мелколиственных и смешанных древостоев. «Насыщенность пищей» подходящих субстратов там существенно ниже, чем в старовозрастных дубравах в силу меньшего развития толстых скелетных ветвей, меньшего диаметра ветви и, главное, её гладкой поверхности (8, 10, 15, 1920).
Как специализированный собиратель, средний дятел демонстрирует наиболее быстрое и поверхностное обследование субстратов. Птицы очень подвижны и обследуют поверхности коры быстрей всех остальных пёстрых дятлов, точно также как быстрей перемещаются в кроне дерева и в целом по участку. В «пятнах» старовозрастных древостоев дятел задерживается надолго – на 36 дней – и затем перемещается в другой аналогичный участок, быстро обследуя территорию.
Время задержки пропорционально величине поверхности «насыщенных пищей» субстратов. Она максимальна в куртинах живых деревьев с изобилием в кроне толстых скелетных ветвей, с хорошо развитой коркой, особенно покрытой мхом (т.е. с максимальной поверхностью при данном радиусе ветви). Эти куртины старых дубов и буков достаточно немногочисленны, и даже в старовозрастном лесу друг от друга изолированы расстоянием в 200900 м. (8, 15).
Исследование (19) позволяет выделить трофические факторы, которые привязывают эффективное кормление средних дятлов к куртинам старых дубов возраста g3 и конкретно к обследованию толстых сучьев в верхней части кроны. Эти сучья обладают наибольшей поверхностью при данном радиусе. Соответственно на таких осях, на ближайших к ним листьях или тонких побегах максимальна концентрация тех беспозвоночных, что доступны такому специализированному собирателю, как D.medius.
Предпочитаемые места кормления резидентных особей D.medius в популяциях старовозрастных дубрав точно совпадают с максимальной концентрацией данных жертв и, соответственно, с куртинами тех деревьев, что способствуют возникновению мест повышенной плотности и доступности корма (8, 19). Но умеренная фрагментация лесных участков, появление мозаики микрофрагментов вместо непрерывных массивов увеличивает биомассу тех же самых групп беспозвоночных, что предпочитаются средним дятлом, и именно на тех субстратах, которые он обследует в поисках корма (12). Среди таких субстратов поверхность листьев, трещины коры толстых сучьев или стволов, в меньшей степени тонкие веточки и почки (19). Это создаёт предпосылки освоения «нетипичных» местообитаний лабильными популяциями вида.
Вид номаден. Резидентные особи во внегнездовое время не привязаны к постоянным участкам обитания (единственный из всех пёстрых дятлов). В течение всего годового цикла, исключая насиживание и выкармливание птенцов особи осуществляют постоянные перекочёвки. Им препятствует фрагментация местообитаний, она «запирает» особей в возникающих «островах» отсюда чувствительность вида к данному фактору. Прочная связь партнёров с определённой территорией возникает только после выбора будущего гнездового дерева, в то время как у других видов рода ещё до первой встречи самец и самка имеют собственные участки, без наличия и постоянства которых просто не начинается брачное поведение, направленное на соседей (1,8).
Поэтому до строительства гнезда у D.medius образующаяся «пара» легко распадается с откочёвкой в другую часть лесного массива. При сохранении же прежнего местонахождения «пары» самец или самка в ней до начала гнездостроения может смениться 24 раза (при высокой плотности населения вида). (8).
Гнездостроение начинается в серединеконце апреля и растягивается на 1720 дней. Поздно образовавшиеся пары или поздно прибывшие в область гнездования, нчинают гнездостроение существенно позже – до конца маяначала июня. Дупла выдалбливает в лиственных деревьях, прежде всего дубе, следующие по предпочтению ольха, осина, вяз, старые плодовые деревья. Очень характерно устройство гнёзд в одиночно стоящих деревьях на крупных полянах внутри лесного массива, или в открытом поле, в 100200 м от границы леса (1, 10).
В Центре Нечерноземья кладка состоит из 49, в среднем 6,6±0,2 яиц (n=67) (6.). Насиживание длится 1417 дней, выкармливание птенцов – 1718 дней, по другим данным 2123 суток (1). Корм собирается либо не далее 50100 м. от гнезда (мелкие, часто приносимые порции) или в ходе дальних вылетов, за 300500 м от гнезда (во фрагментированных местообитаниях это связано с перелётами в другой массив). В зависимости из колебаний обилия и доступности корма каждая пара выдерживает определённую пропорцию полётов первого и второго типа (1, 10).
Вылетевших слётков родители докармливают в течение 23 недель, пока у тех не угасает поведение выпрашивания и они не начинают кочевать (12). Успех размножения в Приднепровской лесостепи составил 56,8% (из 168 яиц в 25 гнёздах вылетело 95 молодых). В Брянской области успех размножения составил 78,4% (412 яиц под наблюдением), сохранность гнёзд 89,7% (1).
6. Лимитирующие факторы. Сейчас в среднерусской популяции D.m.medius одновременно идут два
противоположных процесса. 1. Растёт уязвимость «консервативных» популяций, «отступающих» в
крупные массивы «первичных» лесов. Сохранение жёстких территориальных / биотопических связей в условиях естественного ослабления позиций дуба в древостоях, при дальнейшем продолжении фрагментации внутри крупных массивов, и – главное,
растущей изоляции друг от друга самих массивов угрожает резким падением численности и исчезновением охраняемых группировок (56).
2. Начиная с 1990х гг. в среднерусской популяции D.medius происходит «обращение» популяционных трендов в сторону освоения «островных» и пригородных лесов, наиболее изменённых человеком (1, 1012). Видимо, оно не было замечено специалистами, исходившими из представления о жёсткой связи вида с крупными массивами первичных лесов или наблюдавших только в заповедниках (6). Происходит активное расселение средних дятлов по фрагментам изменённых лесов в полосе «антропогенной лесостепи» южнее Ржева, Старицы, Москвы. Здесь средний дятел использует всё разнообразие участков лиственных лесов: от мелких фрагментов до лесополос, от дубрав в старых парках до распадающихся березняков с отдельными дубами и вязами, от заповедных территорий до рекреационных лесов. Собственно, статья написана в доказательство существования данной тенденции, перспективности её использования в сохранении вида.
Жизнеспособность популяций D.m.medius центра Нечерноземья связана именно со второй тенденцией. Первая вносит свой вклад в сохранение «стаций переживания» и формирование «очагов расселения» вида на соседние территории, но он не так велик, как представляется авторам, работающим в таких «очагах» (6). «Консервативные» популяции D.medius наиболее уязвимы в условиях сокращения площади и к фрагментации «островов» соответствующих местообитаний. Они в наибольшей степени страдают при интенсификации лесного хозяйства, при котором старые и усохшие деревья быстро выбираются. Для них губительна фрагментация дубрав, особенно в связи с их омоложением (1).
Во всех случаях рост численности/расширение ареала D.medius связано с освоением «лабильными» популяциями местообитаний, нехарактерных для вида прежде: коммерческих и «островных» лесов, перелесков, городских парков, плодовых садов, рекреационных лесов и т.д. После этого вид освобождается от «островного эффекта» наибольшей угрозы в «типичных» местообитаниях, и реализует открывшиеся возможности расселения по новым биотопам (10).
«Лабильные» популяции устойчивы к воздействию фрагментации, но чувствительны к качеству местообитаний. В них должны присутствовать группы старовозрастных дубов или других широколиственных пород в достаточно высокой концентрации, позволяющей птице после раунда кормления перелетать от одной куртины деревьев к другой, тратя минимум времени на поиски подходящих субстратов (1). Столь же привлекательными местообитаниями являются пойменные и байрачные леса (ольшаники, дубравы, тополёвники), старые плодовые сады (10, 14, 1618). Даже самые процветающие популяции вида в Средней Европе и тем более в Центре Нечерноземья достаточно немногочисленны, так что их сохранение определяется наличием и непрерывностью «сети» местообитаний (10, 21).
В Брянской обл. обнаружено негативное воздействие на зимующую популяцию низких зимних температур (ниже 200С) и непогоды в период выкармливания птенцов (6). Негативное влияние также оказывает конкуренция за дупла с большим пёстрым дятлом: последний отнимает и заселяет сам строящиеся дупла D.medius, изза чего срок размножения таких пар сдвигается на существенно более поздний (6).
7. Принятые меры охраны. Местообитания вида охраняются в ПриокскоТеррасном заповеднике. Вид занесен Красную книгу Российской Федерации, в Красные Книги Латвии, и в
региональные Красные Книги Брянской, Орловской, Тульской, Курской, Калужской областей. Специальные меры охраны в Московской обл. не предпринимались.
8. Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Благоприятную перспективу сохранения «краснокнижного» подвида D.m.medius в
Европейском Центре России следует связывать не с уязвимыми «консервативными», а с устойчивыми и растущими «лабильными» популяциями (1, 10). При наличии подходящих местообитаний они способны поддерживать численность самостоятельно.
Однако и у них распределение местообитаний носит «островной» характер: устойчивость видовой популяции достигается, если биотопическая мозаика непрерывна. Соответственно, все «острова» и «русла» наиболее привлекательных ландшафтов должны быть взяты под охрану в рамках проектов экосети для соответствующих территорий области (1, 10).
Основной мерой по сохранению «консервативных» популяций вида является заповедание крупных массивов старовозрастных дубрав, и сохранение местообитаний, служащих «руслами расселения» вида между соответствующими «островами» черноольшанников и пойменных лиственных лесов (5, 6). В Московской области второе неактуально.
Необходимы специальные поиски мест гнездования вида, мониторинг существующих популяций, и при выявлении новых очагов устойчивого гнездования создание в подобных местах особо охраняемых природных территорий (11).
9. Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о разведении в неволе отсутствуют. 10. Источники информации. 1. Бутьев В.Т., Фридман В.С., 2005. Средний пёстрый дятел // Птицы России и
сопредельных регионов. Совообразныедятлообразные. М.: Тво научных изданий КМК. С.371382.
2. Завьялов Е.В., Табачишин В.Г., 2001. Распространение и морфологическая характеристика среднего дятла (Dendrocopos medius (L.)) в Нижнем Поволжье // Известия Саратовского Гос.унта. Сер.биол. Спец.выпуск. C. 293301.
3. Калякин М.В., Волцит О.В., 2006. Птицы Москвы и Подмосковья: Атлас. СофияМосква: издво «Pensoft». 372 с.
4. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 256 с.
5. Косенко С.М., Галчёнков Ю.Д., 2003. Материалы к характеристике популяции среднего дятла в заповеднике «Калужские засеки»// Калуга, издво «Полиграфинформ». С. 175183.
6. Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю., 2003. Особенности экологии среднего пёстрого дятла в Деснянском Полесье // Орнитология. Вып.30. М.: издво МГУ. С. 94103.
7. Редькин Я.А., 1998. Первая документированная находка среднего пёстрого дятла Dendrocopos medius в Московской области в гнездовой период // Русский орнитол. журнал. Экспрессвыпуск 54. С. 1921.
8. Фридман В.С., 1996. Разнообразие территориального и брачного поведения пёстрых дятлов (Genera Dendrocopos Koch 1816 и Picoides Lacepede, 1799) Северной Евразии. Автореф. дисс. канд. биол. наук. М.: МПГУ. 23 с.
9. Фридман В.С., 1998. Средний дятел.// Красная Книга России. Птицы. М.: С. 125127
10. Фридман В.С., 2005а. Состояние популяций среднего дятла в Европе: новые и неожиданные изменения// Беркут. Т.14. 1. С. 123.
11. Фридман В.С., 2005б. Где гнездятся средние дятлы, зимующие в Москве?// Новости программы «Птицы Москвы и Подмосковья». 2. С. 1012.
12. Фридман В.С., 2006. Средний пёстрый дятел Dendocopos medius L. в Подмосковье и тенденции расширения ареала вида// Бюллетень МОИП. Т.111. 4. С. 2332.
13. Фролов В.В., Коркина С.А., Фролов А.В., Лысенков Е.В., Лапшин А.С., Бородин О.В., 2001. Анализ состояния фауны неворобьиных птиц юга лесостепной зоны правобережного Поволжья в ХХ веке// Беркут. Т.10. Вып.2. С. 156183.
14. Blume D., Tiefenbach J., 1997. Die Buntspechte // Die Neue BrehmBücherei Bd. 315. Westarp Wissenschaften. Magdeburg. 152 ss.
15. Hertel F., 2001. Habitatnutzung und Nahrungserwerb von Mittelspecht und Buntspecht in bewirtschafteten und unbewirtschafteten Buchenwäldern des nordostdeutschen Tieflandes // International Woodpeckers Symp. Eds. Pechachek P.& d’OleireOltmans W. Nationalpark Bertechsgaden. Bd.48. S. 6980.
16. Hansbauer M., Langer W., 2001. Bestand des Mittelspechtes Dendrocopos medius im Feilenforst, nördlicher Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm // Ornithologischer Anzeiger (Ornithologische Gesellschaft in Bayern e.V.). Bd.41. S. 3140.
17. Hochebner T., 1993. Siedlungsdichte und Lebensraum einer randalpinen Population des Mittelspechts (Dendrocopos medius) in niederösterreichische Vorland // Egretta. Bd.36. S. 2537.
18. Lovaty F., 2002. Les densités remarquables du pic mar, Dendrocopos medius dans les futaies de chênes âgés de l’allier (France): un effet des altérations anthropiques de la forêt. // Alauda. V.70. 2. Р. 311322
19. Müller J., 2004. Der Mittelspecht Urwaldspecht oder Leitart für Eichenmittelwälder? Eine Betrachtung unter Berücksichtigung der Kronenarthropoden // Tagung Argeitsgruppe Spechte der Deutsche Ornitologische Gesellschaft, http:// www.spechtenet.de/ag0243tx04.htm
20. Scherzunger W., 2001. Niche separation in European woodpeckers – reflecting natural development of woodland// Int. Woodpecker Symp. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsgericht 48. S. 139154.
21. Detailed species account from Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdLife International 2004). http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp641.pdf
22. Данные составителя очерка Составитель: В.С.Фридман
1. Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos; Семейство Дятловые Picidae. 2. Статус. 3я категория. Редкий гнездящийся вид. 3. Распространение. Транспалеарктический ареал, полностью
охватывающий зону бореальных и широколиственных лесов Евразии, островные ареалы в лесах гор южной Палеарктики (5). Распространён по всей территории области в подходящих местообитаниях, хотя везде немногочисленен (4, 78, 11). В период депрессии численности 19891997 гг. распространение вида было очаговым, с постепенным уменьшением числа очагов даже в подходящих местообитаниях. Сплошное распространение восстановилось в период 19982003 гг. и сохраняется в настоящее время (1, 4, 13). В те же годы вид стал распространяться на урбанизированные территории области: стал гнездиться в лесопарках Москвы и других городов, в старых лесополосах, лесахперелесках, везде где есть фрагменты спелых и перестойных мелколиственных древостоев (2, 9, 13).
4. Численность и тенденции ее изменения. Всегда был немногочисленен даже в подходящих местообитаниях. В сырых
мелколиственных лесах, приуроченных к пойменным ландшафтам, уровень численности до начала депрессии 19891997 гг. составлял 0,40,9 пары/км2, в плакорных перестойных березняках и смешанных лесах – 0,050,65 пар/км2, в зависимости от возраста, состояния древостоев, доли сухих деревьев и степени участия мелколиственных пород. Достигает большей плотности населения в широколиственных лесах запада и югозапада области (дубравы, берёзовые и вязовые дубравы) – 2,54 особи/км2, но распространение здесь очаговое, так что общий уровень численности таков же или ниже (0,50,75 пары/км2). В пойменных ольшаниках и ветлянниках, чередующихся с участками широколиственных и еловошироколиственных лесов на плакорах, распространён повсеместно, но с низкой
численностью – 0,20,6 пары/км2. Последующая депрессия численности 19891997 гг. привела к исчезновению значительной части поселений вида во всех заселяемых типах ландшафтов, к превращению сплошного ареала в очаговый, так что численность D.leucotos на всех территориях области снизилась в 35 раз (1, 3, 1113).
В период 19982003 гг. происходило восстановление численности и ареала, освоение урбанизированных территорий, начало регулярного гнездования в «островах» городских лесов, в «островных» местообитаниях области. Уровень численности «до депрессии» восстановлен к 20022003 гг., в последующие годы численность вида продолжает расти, ареал – включать новые типы фрагментированных местообитаний, где вид ранее не гнездился (2, 4, 78, 13). Современная численность ориентировочно составляет 2000 пар.
В большинстве европейских стран в последние 2530 лет происходило быстрое сокращение численности, сделавшее белоспинного дятла одним из самых угрожаемых видов (1, 1417). Максимальное сокращение зафиксировано в Финляндии и Швеции, где D.leucotos оказался на грани вымирания, в Прибалтике и Польше, где распространение вида стало сильно фрагментированным, приуроченным к небольшому числу крупных «островов» в виде изолированных массивов первичных широколиственных и еловошироколиственных лесов (Беловежская пуща и пр.) (1, 17, 2122). Современное состояние вида в Европе противоречиво: продолжается падение численности, деградация популяций в Швеции, Норвегии и Эстонии. В Финляндии и Латвии происходит восстановление популяций, зафиксирован некоторый рост численности, в Польше, Литве, в других странах Восточной Европы численность стабилизировалась на низком уровне (23)
5. Особенности биологии и экологии. Размеры тела 2426 см. Их всех видов пёстрых дятлов наиболее специализирован к
долблению ксилофагов лиственных пород. Белоспинный дятел потребляет их круглый год, даже в гнездовой период ксилофаги составляют заметную часть корма взрослых и птенцов, в отличие от остальных видов весной и летом в слабой степени переходит на питание голыми гусеницами и другими открытоживущими потребителями фитомассы (1, 1415, 20). Стратегия кормодобывания предполагает продолжительное долбление на одном месте, с выдалбливанием глубоких ниш (к чему приспособлена специфика удара птицы, несколько напоминающего «отламывающее» долбление желны), с последующим дальним перелётом на другое постоянное место кормление, хорошо известное резиденту многолетнепостоянной территории (1, 15, 20)
На малонарушенных природных территориях доминирующая жизненная стратегия вида предполагает многолетнее постоянство пар при многолетней привязанности пар к обширным неохраняемым участкам обитания площадью 0,150,3 км2. Утрата территории (например, изза деградации местообитаний, не позволяющей дальше устойчиво эксплуатировать это пространство) автоматически ведёт к распаду пары и перемещениям в
поисках подходящей территории, также как постоянные пары образуются осенью между птицами, уже закрепившимися на участке (1, 1112, 22).
При обитании в мелколиственных лесах, особенно пойменных, эти многолетне постоянные территории вытянуты в линию вдоль малых рек и ручьёв, при обитании в широколиственных лесах – агрегированными в групповые поселения нескольких пар (1, 13).
Оседлый вид, нетерриториальные особи кочуют в поисках подходящих участков обитания. Возможно образование пары через оседание нерезидентых особей (обычно самок) на уже существующих участках обитания. Наиболее обычный способ образования многолетнепостоянных пар объединение одиночных неохраняемых участков, занятых самцом и самкой в начале августасентябре в непосредственной близости друг от друга (1, 1213; 22).
Дупла предпочитают выдалбливать в стволах берёзы, ольхи, ивы, поражённых грибами, усыхающих или усохших. Долбят там, где гниль ближе всего подходит к поверхности ствола (1, 3, 6).
Как у всех специализированных видов дятлов, размер кладки D.leucotos уменьшен до 35 яиц (у неспециализированных видов рода – 59 яиц). Начало размножения на 1014 дней раньше, чем у других пёстрых дятлов, в серединеконце апреля (18), птенцы вылетают в началесередине июня или даже в конце мая. Корм для птенцов собирается с более обширной площади, нежели многолетний участок обитания пары – 0,52 км2. (1, 3)
Успех размножения равен 23 слётка/пару, в среднем 2,42,5. Выводки из 4 слётков встречаются не более чем в 1015% случаев (1, 3, 6, 13, 15, 2122)
6. Лимитирующие факторы. Факторы уязвимости популяций вида общие со странами Фенноскандии и
центральной Европы – фрагментация местообитаний, расчленение популяционной системы на этом «архипелаге», изоляция обречённых угасанию поселений на отдельных «островах» (14, 19). Резкое падение численности, деградация популяционной системы вида в Фенноскандии, Прибалтике и Восточной Польше под действием соответствующих факторов были усилены и ускорены распространением монокультур хвойных, вытесняющих крупные массивы мелколиственные леса на стадии распада древостоя (1, 1417, 2122). Для Московской области данный фактор воздействия пока не актуален.
Депрессия подмосковной популяции в 19891997 гг. отражала уязвимость популяционной структуры вида к увеличению мозаичности местообитаний и их прямой фрагментации, связанной с массовым выделением угодий в пойменных и заболоченных местообитаниях под садовые участки. В наибольшей степени пострадали поселения вида в пойменных ландшафтах, где участки обитания линейно вытянуты вдоль русла, подо6но «бусинам на нитке» (1213).
Фрагментационный эффект самих «пятен» садоводачных товариществ невелик, но расходящаяся от них дорожнотропиночная сеть вела к инсуляризации местообитаний в
радиусе около 15 км. Деградация местообитаний под действием инсуляризации местной сетью дорожек усиливается вследствие повышенной привлекательности пойменных ландшафтов для рекреантов, приезжающих из г.Москвы (78).
Непрерывное распределение оптимальных кормовых субстратов (мёртвые обломанные стволы и пни берёзы, ивы, др. лиственных пород) в этом случае заменялось пятнистым. Кормовая, а затем социальная активность территориальные птиц из постоянных пар оказалась замкнута в этих «островах», что вело к невозобновлению отношений партнёров весной и негнездованию постоянной пары, продолжающей тем не менее занимать участок ещё 13 сезона (1, 13).
В сочетании со следованием большинства особей видоспецифической стратегии поведения это ведёт к деградации пространственноэтологической структуры подмосковных популяций вида. При увеличении степени фрагментации местообитаний линейные участки подавляющего большинства пар оказываются «разорванными» на несколько изолированных «отрезков». Самец и самка, о кормящиеся сенью и зимой каждый в своей половине участка, оказываются «заперты» в одном из таких фрагментов. Этим нарушается регулярность брачных контактов партнёров в постоянной паре в течение осени и зимы, что ведёт к неэффективности токования весной, прохолостованию и распаду пары. Степень привязанности к собственным территориям в этом случае не снижается, но даже возрастает: особи из «распавшихся» пар ещё 13 сезона держатся на своих участках, препятствуя обновлению поселений. (1213)
В этом случае даже при достаточной площади местообитаний всё большая часть особей выводится из репродукции изза долговременной деградации социальных связей. Разрушение популяционной структуры вида в период депрессии проявлялось в последовательном исчезновении поселений вида, разрушение устойчивой сети поселений, наблюдавшейся в соответствующих местностях до депрессии, притом что успех размножения пар в сохранившихся поселениях не снижается по сравнению с периодом до 19861989 гг. (1, 1113).
Выход из депрессии связан с восстановлением устойчивости популяционной системы вида к фрагментации местообитаний вследствие распространения в популяции трёх лабильных стратегий, альтернативных консервативной «видоспецифической», последняя же становится всё более редкой. Три лабильные стратегии поведения более устойчивы к фрагментации. Они состоят в образовании "клубов", куда особи, изолированные в отдельных фрагментах местообитаний, регулярно слетаются для образования пар (в трёх вариантах – самки собираются в одном месте и токуют, а самцы летают к ним для ухаживания, самцы собираются, а самки летают к ним со своих участков, и полигинандрический клуб, когда птицы обоих полов утром и вечером слетаются для активных демонстраций, после чего переходят к кормлению) (1, 13).
На увеличении популяционной устойчивости вида в 19982005 гг. также благоприятно сказалось увеличение доли старых мелколиственных лесов в области.
Ещё один лимитирующий фактор – гибель гнёзд от хищничества лесной куницы и других хищных млекопитающих, переключающейся на питание птенцами дятлов в годы, бедные рыжими полёвками (22)
7. Принятые меры охраны. Вид находится под особой охраной в области с 1978 (10). Очаги размножения вида
охраняются на территории ПриокскоТеррасного заповедника, национального парка «Лосиный остров», и не менее чем в девяти областных заказниках в Талдомском, СергиевоПосадском, Волоколамском, Истринском, Ногинском, Шатурском и Луховицком районах. Вид включен в Красные книги Латвии, Литвы и Эстонии, а также в региональные Красные книги Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тверской и Ленинградской областей. Как все специализированные виды дятлов с жёсткими территориальными связями, является хорошим «зонтиковым» видом. Постоянное гнездование белоспинного дятла, высокая численность вида указывает на малую нарушенность таких уязвимых природных ландшафтов Подмосковья, как плакорные широколиственные леса, пойменные дубравы, ольшаники и ветлянники (14, 19).
8. Рекомендации по сохранению вида в естественных условиях. Ввиду жёсткой связи с определёнными биотопами основная мера охраны вида
сохранение участков оптимальных местообитаний в рамках отдельных «ядер» экосети с приданием статуса заказников или памятников природы соответствующим «островам». Проекты экологических сетей, включающих основные «очаги» и «русла» гнездования вида, были выполнены для территорий Подольского и Егорьевского района (7, 8). Необходимо продолжение этой работы для других районов области.
В настоящее время вид благополучен. Ввиду обретённой устойчивости к антропогенной фрагментации и благоприятной динамики местообитаний, увеличения доли старых мелколиственных лесов в структуре древостоев вид не нуждается в специальных мерах охраны, способен восстанавливать численность самостоятельно.
9. Рекомендации по сохранению вида в условиях культуры. Сведения о разведении в неволе отсутствуют 10. Источники информации. 1. Бутьев В.Т., Фридман В.С., 2005. Белоспинный дятел. // Птицы России и
сопредельных регионов. Совообразныедятлообразные. М.: Тво научных изданий КМК. С.383397.
2. Ерёмкин Г.С., 2004. Редкие виды птиц г.Москвы и ближнего Подмосковья: динамика фауны в 19852004 гг. // Беркут. Т. 13. Вып. 2. С. 161182.
3. Иванчев В.П., 1996. Распространение, численность и экология белоспинного дятла Dendrocopos leucotos в европейской части России // Рус. орнитол. журн. Т. 5. Вып. 3/4. С. 117–128.
4. Калякин М.В., Волцит О.В., 2006. Птицы Москвы и Подмосковья: Атлас. СофияМосква: издво «Pensoft». 372 с.
5. Коблик Е. А., Редькин Я. А., Архипов В. Ю., 2006. Список птиц Российской Федерации. М.: Товарищество научных изданий КМК. 256 с.
6. Мальчевский А.С., Пукинский Ю.П., 1983. Птицы Ленинградской области. Т.1. Л.: Наука, 1983. 356 с.
7. Очагов Д.М., Коротков В.Н. (ответ.ред.)., 2001. Природа Подольского края. М.: ЛЕСАРарт. 192 с.
8. Очагов Д.М., Коротков В.Н. (ответ.ред.)., 2006. Природа Егорьевской земли. М.: ВНИИПрироды. 440 с.
9. Редькин Я.А., Шитиков Д.А., 1998. О распространении некоторых редких видов птиц в Москве и Московской области. "Редкие виды птиц нечернозёмного центра России" М.: издво МПГУ «Прометей». С. 111117.
10. Решение исполнительного комитета Московского областного и Московского городского Советов народных депутатов от 25.04.1978 4971232 «Об усилении охраны диких животных в гор.Москве и Московской области»// Бюро исполкома Моск. Обл. Совета нар.депутатов. 1978. 14. С.1620.
11. Фридман В.С., 1990. К биологии редких дятлов Московской области // Редкие виды птиц центра Нечерноземья. М.: ЦНИЛ Главохоты. С.148151.
12. Фридман В.С. 1994. О территориальном и токовом поведении белоспинного дятла// Бюлл. Московск. обва испыт. природы. Сер. биол. Т.99. Вып.4. С.1836.
13. Фридман В.С., 1999. Рост локального разнообразия социальных стратегий – способ выхода из депрессии подмосковной популяции белоспинного дятла Dendrocopos leucotos// Русский Орнитол. Журнал. 1999. Экспрессвыпуск 59. С.312.
14. Angelstam P., Mikusinski G., 1994. Woodpeckers assemblages in natural and managed boreal and hemiboreal forest a review// Ann. Zool. Fennici. Vol.31. P.157172.
15. Aulen G., 1988. The ecology and distribution of whithebacked woodpecker in Sweden// Rept. Dept. Wildlife Ecol. Swed. Univ. Agr. Sci. Rapport 14. P.1276.
16. Bergmanis M., Strazds M., 1993. Rare woodpeckers species in Latvia // Ring. V.15. 12. P. 255266.
17. Frank G., 2001. Population census and ecology of the WhiteBacked Woodpecker in the NATURA 2000 area ”OtscherDurrenstein” (Lower Austria)// Int. Woodpecker Symp. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsgericht 48. .S.4956.
18. Matsuoka S., 1979. Ecological significancee of the early breeding in the WhiteBacked Woodpeckeer Dendrocopos leucotos// Tori. Vol.28. P.6375.
19. Mikusinski G., Angelstam P., 1997. European woodpecker and anthropogenic habitat change: a review// Vögelwelt. Bd. 118. S. 277283.
20. Scherzunger W., 2001. Niche separation in European woodpeckers – reflecting natural development of woodland// Int. Woodpecker Symp. Nat. Park Bertechsgaden. Forschungsgericht 48. S. 139154.
21. Virkkala R., Alanko T., Laine T., Tiainen J., 1993. Population contraction of the WhiteBacked Woodpecker in Finland as a consequence of habitat alternation// Biol. Conserv. Vol.66. P. 4753.
22. Wesolowski T., 1995. Ecology and behaviour of whitebacked woodpecker (Dendrocopos leucotos) in a primaeval temperate forest (Bialowieza National Park, Poland)// Vogelwarte. Bd.39. H.2. S.6175.
23. Detailed species account from Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status (BirdLife International 2004) http://www.birdlife.org/datazone/species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp642.pdf
Составитель В.С.Фридман.