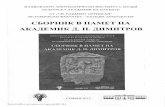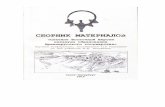Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2010 году
Отношения донского казачества с Крымским ханством в...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Отношения донского казачества с Крымским ханством в...
536
Дмитрий СеньДмитрий СеньДмитрий СеньДмитрий Сень
ОТНОШЕНИЯ ДОНСКОГО КОТНОШЕНИЯ ДОНСКОГО КОТНОШЕНИЯ ДОНСКОГО КОТНОШЕНИЯ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА АЗАЧЕСТВА АЗАЧЕСТВА АЗАЧЕСТВА
С КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ С КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ С КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ С КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ В НАЧАЛЕ В НАЧАЛЕ В НАЧАЛЕ В НАЧАЛЕ XVIIIXVIIIXVIIIXVIII в.в.в.в. История восстания под предводительством К.А. Булавина получила в целом
основательное освещение в отечественной исторической науке1. В последние годы наметилась тенденция к уточнению и расширению отдельных трактовок2 указанного крупного народного движения России начала XVIII в. Зачастую это обусловлено вводом в научный оборот неизвестных ранее источников, использо-ванием учеными новых подходов, концептов, а также осмыслением лучших достижений советской историографии.
Все сказанное вполне применимо к изучению завершающего этапа этого восстания, его последствий, исторического значения. В частности, вплоть до недавнего времени окказиональный в целом характер носило обращение специалистов к такому аспекту восстания, как связи булавинцев с Крымским ханством, а также с кубанскими казаками, проживавшими в регионе3 с конца XVII в. Это при том, подчеркну особо, что советские специалисты внесли основополагающий вклад в источниковое обоснование вывода (сделанного на современном этапе изучения проблематики, вынесенной в заголовок) о страте-гическом, сознательном, исторически обусловленном характере намерения К.А. Булавина отступить на Кубань в случае поражения; что план такого ухода как исхода осуществил в итоге один из крупнейших его сподвижников –
1 Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707–1708). – М., 1967; Смирнов И.И.,
Маньков А.Г., Подъяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьянские войны в России XVII–XVIII вв. – М., 1966; Пронштейн А.П., Мининков Н.А. Крестьян-ские войны в России XVII–XVIII вв. и донское казачество. – Ростов на/Д., 1983.
2 Усенко О.Г. К уточнению биографии К.А. Булавина // Россия в XVIII столе- тии. – М., 2002. – Вып. 1.
3 Боук Б.М. К истории первого Кубанского казачьего войска: поиски убежища на Северном Кавказе // Восток. – 2001. – № 4; Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества (1692–1708 гг.) // Из архива тверских историков: Сб. науч. ст. – Тверь, 2000. – Вып. 2.
Отношения донского казачества…
537
И. Некрасов1. Перед автором статьи стоит несколько задач, некоторые из
которых он намерен обозначить в качестве перспективных к дальнейшему изучению, некоторые – постараться решить в настоящей работе. Отдельные же задачи (рассмотренные автором ранее) необходимо поставить в более четкую связь с общим содержанием научной проблемы – «Казачество Дона и Северо-Восточного Причерноморья в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья». Итак, вот на какие вопросы (они же исходно – задачи статьи) необходимо обратить внимание прежде всего:
– определение случайного / закономерного характера таких именно пере-говоров донских казаков со своим непростым соседом – Крымом, когда речь шла о выборе ими стратегии выживания; смежная проблема – изучение вопроса о психологическом преодолении казаками векового груза отношения к татарам / ногайцам как к врагам христианского мира, России etc.
– определение возможной личной инициативы / решимости (связанной с воспитанием, особенностями психологического склада личности и т.п.) самого К.А. Булавина в истории реализации повстанцами плана – осмелиться уйти в пределы Крымского ханства, рискуя при этом жизнью;
– установление возможной связи между видимым желанием вождя вос-стания отступить на Кубань и готовностью Гиреев принять повстанцев на своей территории; смежная с этим проблема – наличие в числе прочих мотивационных оснований в среде инициаторов замысла об уходе на Кубань неготовности конформистски принять условия прощения их царем;
– выявление механизмов воплощения плана ухода на Кубань в жизнь, а в целом – поиски ответа на вопрос о реалистичности и степени реализуемости данного замысла;
– изучение возможной связи между актуализацией планов повстанцев уйти с Дона и фактом благоприятного в целом проживания на Кубани казаков, в недавнем – выходцев с Дона;
– рассмотрение сложнейшей проблемы относительно определения перспек-тивных планов повстанцев после своего возможного появления на Кубани, их видения дилеммы – укрыться здесь на время или принять подданство крымских ханов?
В качестве предлагаемых к рассмотрению положений советской историо-графии изберем два интересных высказывания, принадлежащих Н.С. Чаеву и Е.П. Подъяпольской. В первом случае ученый указывает: «Едва ли, однако,
1 Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»: исторические пути
казаков-некрасовцев (1708 г. – конец 1920-х гг.). – Изд. 2-е, испр. и доп. – Краснодар, 2002. – С. 19–36; Его же. Начальный этап адаптации донских казаков на территории Крымского ханства (1708–1712 гг.) // Известия вузов. Северо–Кавказский регион. Сер. Общественные науки. – 2008. – № 4.
Дмитрий Сень
538
отмеченная политика Булавина (речь идет об известной переписке Булавина с Хасаном-пашей, кубанскими казаками и пр. – Д. С.) являлась самоцелью для представляемых последним слоев казачества; она, нам думается, прежде всего была призвана служить известным вспомогательным средством к отстаиванию Войском Донским своей «самостоятельности» от попыток Москвы более прочно освоить Дон как колонию»1. Во втором случае Е.П. Подъяпольская пишет в коллективной монографии о «своего рода казачьей республике» на Кубани – как осуществленной мечте о «казацком государстве с атаманом во главе»2. Итак, в трактовке советских историков налицо такие объяснительные мотивы со стороны повстанцев (и лично, надо думать, К.А. Булавина) в их стремлении уйти на Кубань (или вести об этом переговоры): найти еще одно основание для достижения компромисса с царизмом (элемент шантажа / торга) или, напротив, желание и готовность реализовать (ситуативно) некие давние настроения казаков по достижению идеального социального устройства. В последнем случае (мнение Е.П. Подъяпольской) очевиден идеализм самой трактовки сюжета; ведь маститый историк не могла не знать об особенностях государственного строя ханства и об особо пристальном отношении со стороны Гиреев к кубанской части своих владений (институт сераскерства и пр.). В любом случае, дальше частных рассуждений об окказиональной, по существу, связи между «булавинщиной» и уходом части донских казаков на Кубань на излете лета 1708 г. ученые никогда не шли. Напротив, в настоящее время наука располагает всеми возможностями для утверждения о том, что между интересующими нас явлениями – актуализацией замысла об отступлении на Кубань / его реализацией И. Некрасовым и расширяющимся полем практик отношений казачества с крымскими ханами на рубеже XVII–XVIII вв. существует прямая причинно-следственная связь. При этом истоки такому примечательному факту можно уверенно искать в XVII в.
Например, неслучайной видится автору реализация донскими казаками уже в XVII в. их угрожающего для Москвы тезиса о готовности перейти на сторону «врагов христианства». Так, еще в 1626 г. донцы, недовольные притеснениями со стороны М.Ф. Романова и царской администрации в Астрахани, заявили о своей готовности уйти «в турского царя землю и учнут жить у турского царя»3. В конце
1 Чаев Н.С. Булавинское восстание (1707–1708) // Труды историко–архео-
графического института Академии наук СССР. – М., 1935. – Т. XII: Булавинское восстание (1707–1708 гг.). – С. 52.
2 Смирнов И.И., Маньков А.Г, Подъяпольская Е.П., Мавродин В.В. Крестьянские войны в России XVII–XVIII вв. – С. 202.
3 Крестьянские войны в России XVII–XVIII вв. – С. 202. 3 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). – Ф. 127. –
Оп. 1: 1626 г. – Д. 1. – Л. 336–337.
Отношения донского казачества…
539
1680-х гг. представители донских старообрядцев вновь заговорили о том, что «у нас-де свои горше Крыму… лучше-де ныне крымской, нежели наши цари на Москве»; «если роззорят Крым, то-де и… им… житья не будет»1. Пред-ставляется, что говорить о приоритете в этих словах провокационной риторики не приходится – данный тезис казаки реализовали на практике в пределах нескольких поколений еще до восстания К.А. Булавина, со времен которого до нас дошло едва ли не самое громкое заявление донцов об их готовности сменить подданство. Уже в 1689 или 1690 г., как установил Б. Боук, первые группы донских казаков появляются на Кубани. Еще более активно донцы, потерпевшие поражение на Дону в результате ожесточенной братоубийственной войны 1680-х гг., осваивают Северо-Восточный Кавказ
2. Подчеркну, что местные феодалы превосходно понимали всю силу обретения власти над этим новым участником региональных процессов. Например, Тарковский шамхал предпола-гал использовать казаков в реализации своих планов по нападению на Иран, грабежам шахских кораблей на Каспии, также приглашая на Аграхань с Дона новые группы казаков3. Свою роль сыграли в этом и сами кавказские казаки, совершившие осенью 1691 г. во главе с атаманом С. Жмурой нападение на донские городки и заявившие: «Нам тут на реке Аграхани жить не тесно. К нам милость кажут басурманы лучше вас православных христиан»4. Пополнялся новыми выходцами с Дона и центр казаков на р. Куме – так, например, случилось в 1689 г., когда казаки Кавказа участвовали в походе войск азовского бея на Дон. Под воздействием на донцов со стороны их былых товарищей (помимо оружия, как «аргумента» в уговорах, те прибегли еще к авторитету воззваний попа Пафнутия) произошло следующее – «многие городки передались на сторону куминцев»5. Конечно, обратное возвращение на Дон не было тогда явлением исключительным, но нельзя не отметить: произошел окончательный разрыв части казаков с Доном – знаменуя те серьезные изменения, которые происходят в казачьей среде в последней четверти XVII в. Реакция этих нонконформистов на подавление разинского восстания, на церковный раскол, выразившаяся прежде всего в исходе на Кавказ, вызвала не простое количествен-ное изменение населения в этом регионе, но качественное изменение состава
1 Дружинин В.Г. Раскол на Дону в конце XVII столетия. – СПб., 1889. – С. 180, 182. 2 Дружинин В.Г. Указ. соч.; Сень Д.В. Славянское население Дона и Северо–
Западного Кавказа в конце XVII в. – начале XVIII в.: к вопросу о новых практиках освоения пространства и преодоления «границы миров» (на примере казачьих сообществ) // Славянские форумы и проблемы славяноведения: Сб. ст. – М., 2008.
3 Боук Б.М. Указ. соч. – С. 32; Дружинин В.Г. Указ. соч. – С. 195. 4 РГАДА. – Ф. 111: 1691 г. – Д. 4. – Л. 4. 5 Дружинин В.Г. Указ. соч. – С. 205.
Дмитрий Сень
540
региональных актёров, активизировавших свои действия против России. Недавние выходцы с Дона, кумские, например, казаки вновь актуализируют в конце 1680-х гг. тезис о готовности «не токмо не возвращаться на Дон, но, соединяясь с кабардинцами и другими народами, взять Черкасской, разорить казачьи городки по Дону лежащие и, поселясь в оных, признать над собою власть турецкого султана»1.
Содержание данных сообщений позволяет уточнить вывод ученых о том, что до Булавинского восстания история не знала случаев, чтобы донские казаки «вмешивали турок в свои отношения с царскими властями и пытались привлечь их на свою сторону, хотя и в первой половине XVII в. на Дону иногда говорили о возможности своего ухода с «реки»». Вероятно, у нас еще мало данных, которые позволили бы говорить, например, о сравнении уровня статусности в казачьей среде русского царя и турецкого султана. Впрочем, сама постановка проблемы – о поисках казаками иных, нежели никонианская Россия, векторов притяжения (персонифицированных, быть может, в лице мусульманских государей), проистекает логически из условий пребывания донских казаков во фронтирном пространстве Поля.
Интересно отметить, что еще С. Разин намеревался вступить в контакт с крымским ханом летом 1670 г.2 – «…и в Крым де от него, Стеньки, присылка, чаять, будет же»∗. Известно также, что тот же Разин разговоры о переселении «вел в свое время… с персидским шахом и противником Москвы – украинским гетманом Дорошенко»3. В 1650 г. Войско Донское столкнулось с необходи-мостью «перезывания» на Дон от калмыков группы донских казаков во главе с И. Кондыревым – перешедшей в улусы Аулузан (Каулузан)-тайши после «воровства» на Каспийском море. Весной того же года эти казаки участвовали в походе калмыков под Астрахань (улусы ногайцев), где активно бились не только с ногайцами, но и с «государевыми людьми»4. О.Ю. Куц отмечает, что калмыки в то время находились во враждебных отношениях с Россией, и что
1 Сухоруков В. Историческое описание Земли Войска Донского. – Ростов на/Д.,
2001. – С. 353. 2 Крестьянская война под предводительством Степана Разина: Сб. док. – М.,
1957. – Т. 2. – Ч. 1. – С. 552. ∗ Составители сборника «Крестьянская война…» (Т.2. – Ч.1.) скептически отнес-
лись к данному известию, ссылаясь, в частности, на двоякое прочтение аналогичного сообщения (см.: с.552). Между тем тут же, рядом со словами толмача П. Кучюмова, приводимыми в сноске №11, находим: «Жилец Кузьма Коржавин про вора сказал те ж речи». Вопрос о сношениях Разина с ханским двором, впрочем, остается открытым.
3 Лебедев В.И. Указ. соч. – С. 73. 4 Донские дела. – СПб., 1913. – Кн. 4. – Стб. 495–496.
Отношения донского казачества…
541
калмыцкий тайша (князь) Дайчин предоставил казакам лошадей, овец и коров. После такого приема со стороны калмыков «учали де они (казаки. – Д. С.) с калмыки вместе кочевать»1. В итоге посланцы Войска Донского не сумели найти «вора и изменника Ивашку Кондырева с товарыщи», поскольку сами калмыки «государю изменили и прочь отошли»2. Косвенно это свидетельствует о том, что донцы продолжали в то время находиться среди калмыков; или, по крайней мере, весной 1650 г. на Дон возвращаться не собирались.
Говоря о развитии практик отношений с крымскими ханами, например, со стороны аграханских казаков, отмечу – решив осенью 1692 г. переселиться на Кубань, они приступили к воплощению замысла только после того, как получили соответствующее согласие крымского хана. Подчеркну, что 18 сентября 1692 г. к аграханским казакам из Крыма вернулись не только их посланцы, но и «кубанские казаки… которые живут на реке Кубане… хотели их проводить до Крыму…»3. Впоследствии крымский хан Девлет-Гирей II даровал казакам специальную охранную грамоту
4. Нельзя не обратить внимания на факт быстрого налаживания контактов казаков Кубани с донским казачеством – причем последняя сторона получала все больше свидетельств об успешной адаптации казаков на землях крымского хана. Уже в октябре 1693 г. казаки двух донских городков, доносил в Москву астраханский воевода П.И. Хованский, собрались уйти на Кубань к «казакам-раскольникам, где Кубек-ага построил им городок»5. В 1702 г. масштабы сношений донцов с Кубанью встревожили царскую власть – на Дон была отправлена специальная грамота царя Петра I. Оказалось, что к казакам на Кубань собирались бежать казаки Бурлацкой, Черногайской станиц. Инициаторами сговора на Дону выступили атаман Бурлацкой станицы «Яков Савельев сын Чора» и «казак-раскольщик» той же станицы «Дмитрий Игнатьев сын Татаркин», которые «призывают к себе на помощь многих людей и к тому сроку (Воскресение Христово. – Д. С.) идти готовятца и лошадей кормят»6.
1 Из письма О.Ю. Куца Д.В. Сеню от 9.06.2003 г., в котором отправитель
ссылается на свою кандидатскую диссертацию (с. 252–254) и документы РГАДА (Ф. 119: 1650 г. – Д. 1. – Л. 185).
2 Донские дела. – Кн. 4. – Стб. 525. 3 Руссо-чеченские отношения. Вторая половина XVI–XVII в.: Сб. док. – М.,
1997. – С. 256. 4 Боук Б.М. Указ. соч. – С. 35. 5 Архив Санкт–Петербургского Института истории РАН (далее – Архив СПб. ИИ
РАН). – Ф. 135. – Оп. 1. – Д. 12449, 12450. 6 Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные генерал–майором
А.А. Лишиным (далее – Акты Лишина). – Новочеркасск, 1891. – Т. 1. С. 204.
Дмитрий Сень
542
Среди кубанских казаков были те, с кем в приятельских отношениях состоял сам К.А. Булавин. В отписке за май 1708 г. он поименно обращается к атаману кубанских казаков – «Савелью Пафомовичю, Федору Васильевичю з Донца, Луганской станицы Мирону Никитичю, да брату ево Афонасью Зиновьевичю да Трехизбенской станицы Ивану Астафьевичю, Горбун прозвища, да Мятякинской станице Карпу Ерше Аристу…»1. К слову сказать, нельзя согласиться с О.Г. Усенко в трактовке им еще одного списка имен, якобы знакомых тому же Булавину
2. При внимательном прочтении текста оказывается, что приятелем «Севастьяна Васильевича, Мартина Раздорского, Евметьевых детей, Панфило-вых детей, Максима Кривого с детьми Кабылинской станицы» выступает не атаман, а Антон Ерофеев, племянник С. Пахомова
*. В любом случае кубанские казаки обладали возможностями для передачи на Дон информации о своем положении, общем состоянии дел в регионе; причем, как справедливо пишет О.Г. Усенко, «родство с «окреанами» могло оказаться полезным… для донцов, попавших в плен к татарам»3.
Тем более подробную информацию о контактах с ханами могли ему пре-доставить запорожцы, общение которых с Крымом носило, несомненно, более системный характер, нежели у донцов. Для подтверждения логичности этой мысли приведу важное свидетельство, ранее не отмеченное в трудах ученых по интересующей нас проблематике. Речь идет о полученных от запорожцев российской стороной сведениях за декабрь 1707 г. Оказывается, что, приехав в Сечь из Кодака, К.А. Булавин стал просить кошевого атамана дать «ему с кошу лист и казаков до Крымского хана, чтоб… ехать ему в Крым и просить у Крымского хана орды на вспоможение себе…»4. Ханский трон тогда занимал Девлет-Гирей II, известный своей заботой о кубанских казаках и отказавшийся, кстати, в 1709 г. выдать российской стороне казаков И. Некрасова
5. Кошевой атаман тогда отказался, не помог К.А. Булавину, хотя через некоторое время, при гетманстве И. Мазепы, запорожцы, сражаясь с российскими войсками
6, сами отправили к хану гонцов – «чтоб орду к себе привесть на вспоможение».
1 Булавинское восстание… – С. 463. 2 Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества… – С. 67. * Вывод следует из анализа конструкции фразы, в которой А. Ерофеев бьет
челом своему «дядюшке» Савелию Пахомовичу, после чего он обращается к «прочим своим», Антона, приятелям – список имен которых см. на с. 464 сборника «Булавинское восстание».
3 Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества… – С. 67. 4 Булавинское восстание… – С. 363. 5 Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»… – С. 82–84. 6 Булавинское восстание… – С. 398.
Отношения донского казачества…
543
Делая промежуточный вывод, скажу, что К.А. Булавину вполне могла быть доступна информация о возможностях контактировать напрямую с ханами, отношения которых с донскими / кубанскими казаками на рубеже XVII–XVIII вв. были отмечены новыми, позитивными / неконфронтационными (прежде всего – для самих казаков) практиками. Логично полагать и то, что К.А. Булавину было известно о фактах прямых контактов представителей различных казачьих групп с правящими крымскими ханами, самым ярким примером чего служило поло-жение новых подданных Крыма – казаков, выходцев с Дона; тех казаков, которые вполне уверенно, например, чувствовали себя в Копыле в начале XVIII в. и имели свойственников на Дону
1. В целом полагаю, что план отступ-ления на Кубань носил в понимании Булавина характер стратегии, а это свидетельствует о масштабности личности вождя движения, его способности к видению всей картины борьбы, включая перспективы проблемы, а именно – определение действий повстанцев в случае вероятного разгрома.
Впервые, пожалуй, о стратегическом характере этого замысла речь зашла в ведомости, полученной кн. В.В. Долгоруким 18 мая 1708 г. из Черкасска: «А буде ратные государевы полки тех ево единомышленников побьют, и у него вора с Некрасовым положено збиратца по Дону в Цымле, а собрався итить на Кубань. И ныне вскоре на Кубань он вор с письмами посылает з Дону ис Кобылинка городка казака Антона Дорофеева да кубанского татарина»2. Интересная деталь – Булавин с самого начала решает отправить на Кубань племянника лидера (атамана) кубанских казаков С. Пахомова – Антона Дорофе-ева (Ерофеева). Таким образом, налицо стремление вождя достичь более доверительных отношений с сообществом казаков Кубани. Примечательно, что, еще не зная о поимке посланцев Булавина, канцлер Г.И. Головкин пишет Петру I о том, что приняты меры к извещению посла России в Турции П.А. Толстого о «воровстве» Булавина – «и ежели то у Порты отзовется, то б он то старался уничтожывать, и с прилежанием тамо у турков предусматривать, не будет ли от него Булавина какой к Порте или татаром подсылки, или их ко оному склонности. И ежели о сем что увидит немедленно б к нам писал…»3.
Проблема доставки писем на Кубань и вообще вопрос о письмах на Кубань, либо обратно волновал обе стороны. Из Азова, например, в степь были отправлены офицеры с командой из 60 человек; тревожился, несомненно, и сам атаман Булавин. Речь идет об изменении состава группы, которой надлежало доставить на Кубань три письма «за войсковой печатью» – казакам-«ахриянам», ачуевскому Хасану-паше и мурзе Кубанской орды Сартлану. Итак, вместо
1 Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества… – С.63, 72–77. 2 Булавинское восстание… – С. 244. 3 Там же. – С. 256.
Дмитрий Сень
544
предполагавшихся ранее лиц это должны были сделать черкасский казак Васька Шильца, два человека из верховых городков (казаки?), четыре «торговых армянина» и один кубанский татарин1. И вновь – новый состав; когда 28 мая 1708 г. по пути на Кубань посланцев поймали, то ими оказались турки, татары и армянин – всего 6 человек, при которых пребывало еще 23 человека «калмыцкого ясыря»2. Интересно, как сам Булавин объяснял кубанским казакам, что письмо должен был доставить не А. Ерофеев: «… и мы паопасались с сим письмом ево Антона к вам послать, потому что от неправедных бывших наших старшин с кубанцы многия ссоры и разорения»3.
Содержание писем, о которых речь пойдет ниже, настолько встревожило азовского губернатора И.А. Толстого, что он приказал отправить команду к Черкасску «для отгону воровских ево конских табунов, чтоб оному вору бежать было не на чем»4. Задача была выполнена при поддержке «знатных» черкасских казаков во главе с В. Фроловым, прибывших вскоре в Азов. Подчеркну, что сведения о готовящемся отступлении Булавина на Кубань царские администра-торы получили из нескольких источников5, что, конечно, позволяет сравнить внешнюю «провокационность» риторики отправителей писем на Кубань со степенью готовности донцов воплотить план в жизнь. Например, очевидна решимость следовать этому плану казаков Рыковских станиц (минимум из двух, поскольку всего насчитывалось три таких станицы – верхняя, средняя и нижняя), готовивших лошадей и телеги еще до отправки группы с письмами от Булавина на Кубань. Еще одна деталь – уверенность самого Булавина в том, что адресаты ему непременно ответят; недаром он просит кубанских казаков поторопиться с ответом: «И вам бы пожаловать приехать к нам в Черкасской не помешкав с тем вместе, как посланы будут из Ачюева от Хасана паши и от Сартлана мурзы с письмами татары»6.
Итак – что же так встревожило царизм, не готовый, как выясняеться, позволить «вору» Булавину укрыться на Кубани – что, казалось бы, могло свести на нет «булавинщину», либо, как минимум, снизить на Дону степень напряженности. Оказывается, казаки-булавинцы писали кубанским казакам следующее: «А есть ли царь наш не станет жаловать, как жаловал отцов наших дедов и прадедов, или станет нам на реке какое утеснения чинить, мы Войском от него отложимся и будем милости просить у вышнего творца нашего владыки, а также и у турского царя…». Кроме того, булавинцы пытались
1 Новое о восстании Булавина // Исторический архив. – 1960. – № 6. – С. 127. 2 Там же. – С. 127. 3 Булавинское восстание… – С. 463. 4 Там же. – С. 258. 5 Там же. – С. 258, 261; Новое о восстании Булавина… – С. 127. 6 Булавинское восстание. – С. 464.
Отношения донского казачества…
545
наладить связи через кубанских казаков не только с турецкими властями в Ачуеве, но самим султаном Ахмедом III. Причем, эта приписка на имя султана, приложенная к отписке на имя кубанских казаков, по форме своей – челобитная, содержащая к тому же сведения явно провокационного характера, поскольку Петр I не собирался в то время воевать с Османской империй. Еще более опасны для российской стороны оказываются претензии Булавина на роль политика, готового изменить баланс сил в регионе вот каким способом: «А есть ли наш царь на нас с гневом поступит, и то будет турской царь владеть Азовом и Троиц-ким городами. А мы ныне в Азов и в Троицкой с Руси никаких припасов не пропущаем покамест с нами азовский и троецкой воевода в согласия к нам придет»1. Н.С. Чаев справедливо пишет об огромной стратегической важности Азова для отношений России и Турции, закрепленной Константинопольским договором 1700 г. – недаром этому городу-крепости там посвящена отдельная статья
2. Контролировавшая положение в Приазовье и запирающая выход в море, эта турецкая крепость, наряду с российской Троицкой крепостью (Троицким-на-Таганроге), превращается у Булавина «в один из объектов намечающихся у него переговоров с Турцией»3. Вождь повстанцев бьет в точку – недаром тот же Таганрог турки требуют срыть по Прутскому договору 1711 г., что в итоге и было сделано. Всю глубину изощреннейшей риторики Булавина подкрепляла серьезность его намерений взять штурмом Азов и Троицкую крепость, о чем письменно атаман известил азовского губернатора И.А. Толстого своей отпиской, присланной из Черкасска 8 июня 1708 г.4.
Подчеркну, что, выражая готовность принять подданство Османов, Булавин не мог не понимать, что подыгрывал ее вековым экспансионистским устремле-ниям – «свести» казаков с «крымской» стороны Дона. Еще в 1551 г. русский посол, отправленный к ногайцам, сообщал о содержании письма турецкого султана к ногайскому Самаил мирзе, «в котором султан... указывал, что «рука» царя Ивана над бусурманы высока… Поле де все да и реки у меня поотымал… поотымал всю волю в Озове: казаки его с Озова оброк емлют и воды из Дону пить не дадут»5. Азов для турок являлся вековой опорой их владычества в Северо-Восточном Причерноморье, одновременно – центром одноименного санджака, т.е. частью административно-территориальной системы Османской империи. Его потеря в конце XVII в. лишила Турцию «важнейшего, если не
1 Там же. – С. 464. 2 Юзефович Т. Договоры России с Востоком. Политические и торговые. – М.,
2005. – С. 28. 3 Чаев Н.С. Указ. соч. – С. 51. 4 Булавинское восстание… – С.264. 5 Робинсон А.Н. Повести об Азовском взятии и осадном сидении // Воинские
повести Древней Руси. – М.–Л., 1949. – С. 173–174.
Дмитрий Сень
546
ключевого пункта в Северо-Восточном Причерноморье, обеспечивавшего связь османской метрополии и Крыма с Северо-Западным Кавказом»1. Исследователи отмечают, что как раз после утраты Азова на севере Черного моря стала развиваться вторая линия обороны империи, включавшая в себя крепости Тамань, Темрюк, Керчь, Озю
2. Стоит также добавить, что именно из Азова направлялись многие масштабные акции татар и турок против южных окраин России, сюда же, на богатейший невольничий рынок, свозили полон. Весьма точно и образно характеризовали значение Азова в 1644 г. донские казаки: «А ис Крыму… воинские люди и Черкесы Темрюцкие и Ногайцы съезды и скопы у них все в Азове бывают, а из Азова… оне с Азовским людьми большим собраньем на Русь, на твои государевы отчины… и под наши казачьи городки, а с Руси… с полоном и з животиною все оне в Азов приводят»3. Еще одна любопытная деталь: русский посол Андрей Шеин, отправленный «с товарищами» в Стамбул И. Грозным, именует Топраков (Топрак-калу) – важную составляющую единой системы укреплений Азовской крепости – «любимым градом» султана4.
Вероятно, именно «кубанская переписка» могла подтолкнуть царизм к изменению планов достижения возможной договоренности с Булавиным – ведь в мае правительство было готово пойти тому на уступки5. Еще 28 мая 1708 г. указом царя на имя кн. В.В. Долгорукого повелевалось «ничего не делать над казаками и их жилищами»6. Но уже 5 июня И.А. Толстой пишет Петру I о новых замыслах Булавина, прилагая оригиналы писем атамана на Кубань. Реакция царя оказалась вполне закономерной – 28 июня последовал новый указ о походе на Черкасск и разорении (по списку!) казачьих городков7. В свою очередь, Булавин, получив известие о выступлении Долгорукого на Дон, созвал круг и заявил, «чтоб «никто проименование великого государя не воспоминал», тем более о том, «чтоб принесть… повинную» царю»8.
Возвращаясь к анализу переписки донцов с «посредниками» – кубанскими казаками (как будущими участниками совместного совета с татарами и турками в Ачуеве), отмечу, что Булавин (как один из авторов отписок) был гибок
1 Приймак Ю.В. Семеро-Западный Кавказ в системе Османской империи
XVIII – первая треть XIX в.: Дис. … канд. ист. наук. – Краснодар, 2000. – С. 107.
2 Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России. – М., 1984. – С. 15.
3 Донские дела. – СПб., 1906. – Кн. 2. – Стб. 915. 4 Отдел рукописей РНБ. – Ф. 905. – Д. Q–354. – Л. 133 об. 5 Чаев Н.С. Указ. соч. – С. 52. 6 Сборник Русского исторического общества. – 1873. – Т. 2. – С. 32. 7 Булавинское восстание… – С. 281–282. 8 Лебедев В.И. Указ. соч. – С. 74.
Отношения донского казачества…
547
и, должно быть, убедителен. В частности, это могло достигаться путем вставки в самое начало послания сакральной формулы «Господи Исусе (выделено мной. – Д. С.) Христе, сыне божи, помилуй нас. Аминь». Здесь хотелось бы под-черкнуть значение «правильного», с точки зрения старообрядцев, написания имени Бога, поскольку еще одна буква, «приложенная к имени Иисус, являет «инаго Иисуса», не Христа, а Антихриста»1. Расчетливость применения именно такой формы написания имени Бога подчеркивается, по-моему мнению, тем, что сам Булавин старообрядцем не был
2, между тем как значительная часть кубанских казаков как раз сохраняла «древлее благочестие»3. Эти казаки вышли из среды тех нонконформистов, которые еще в 1687 г. решением казачьего круга приговорили на Дону: «Сверх старых книг ничего не прибавливать и не убавливать, и новых книг не держать», а несогласных с таким решением «побивати до смерти»4. Другое дело, и об этом необходимо сказать особо, что сам Булавин, скорее всего, был неграмотным и лишь по прочтении ему текста грамоты указывал заверить ее войсковой печатью. Поэтому в целом вопрос о личном участии Булавина в выборе формы написания Бога остается открытым; хотя уже сейчас трудно отрицать факт его знакомства с текстом документа.
Развивая разговор о символизме риторики, фразеологии отписок, адресо-ванных кубанским казакам, отмечу, что совершенно неслучайно булавинцы апеллируют к «перемене веры» на Дону «старшиной и боярами» (при поддержке войска Долгорукого), как основанию для сопротивления им. Примечательно, что главные репрессалии приписываются не царю, а именно «старой» войсковой старшине – что должно было, по мысли булавинцев, добавить оснований для легитимации последующей над «знатными» казаками расправы в Черкасске. Итак, все эти лица «стали была бороды и усы брить, также и веру хриятиянскую переменить, и пустынников, которыя живут в пустыни ради имени господни, и хотели была христианскую веру ввесть в елинскую веру»5. Здесь маркируется борьба булавинцев с новообрядцами, никонианами (стремившимся привести русские обряды в соответствие с греческими – эллинскими), вообще – всеми «немцами», врагами казачества. Любопытно, что за «скобки» обвинения здесь и в других документах, вышедших из булавинского лагеря, «выводится» сам царь, антиповедение которого породило уже в начале XVIII в. представления о нем, как об антихристе.
1 Успенский Б.А. Раскол и культурный конфликт XVII века // Успенский Б.А.
Избр. труды. – М., 1996. – Т. 1. – С. 490. 2 Усенко О.Г. К уточнению биографии К.А. Булавина… – С. 104–105. 3 Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества… – С. 68; Сень Д.В.
«Войско Кубанское Игнатово Кавказское»… – С. 69. 4 Дополнения к актам историческим. – Т. 12. – С. 138. 5 Булавинское восстание… – С. 461.
Дмитрий Сень
548
Впрочем, в другом месте отписки (точнее, второй отписке – см. с. 463–465 цитируемого сб. «Булавинское восстание») находим приписывание тех же преступлений Петру I, который «нашу веру християнскую… перевел, а у нас ныне отнимает бороды и усы, также и тайные уды у жон и детей насильно бреют»1. Символика первого замечания увязывается автором с наиболее вероятной трактовкой карательной акции, как сводящей на нет образ человека, созданного «по образу и подобию Божию» – путем приписывания ему античеловеческих, бесовских черт. Брадобритие, замечает Б.А. Успенский, «могло непосредственно связываться с еретичеством: характерно, что патриарх Филарет соборне проклинал «псовидное безобразие», против него выступали и оба патриарха петровского времени – Иоаким и Адриан, причем последний прямо грозил брадобрийцам церковным отлучением»2. Во втором случае, полагаю, речь идет о символическом характере расправы, применяемой царскими войсками к членам семей донских казаков, а именно – насильственном удалении, скорее всего, половых органов∗ (см. значение слов – «уд», «уды»3). Вероятно, данный вид физического насилия можно расценивать как обозначение расправы над жизненной силой донского казачества, а само оскопление – как семиотическое (знаковое) указание на неминуемую смерть донского казачества в результате прекращения воспроизводства. Кроме того, в обоих случаях можно, на мой взгляд, говорить о совершении карателями актов символического анти-поведения, исключительно характерного для ритуала наказания – «поскольку наказания были направлены на публичное осмеяние (бесчестье) и в конечном счете на принудительное или разоблачительное приобщение к «кромешному» перевернутому миру»4. Так, например, в XVII вв. бритыми (с безволосыми «лицами») на иконах либо храмовых росписях в России обычно изображали
1 Булавинское восстание… – С. 464. 2 Успенский Б.А. Historia sub specie semioticae // Успенский Б.А. Избр. труды. –
М., 1996. – Т. 1. – С. 78. ∗ См. также описание мучений Епифания Соловецкого, «когда однажды в его
хижину вторглись полчища муравьев и стали кусать его детородные органы («И начаша у мене те черьви–мураши тайныя уды ясти»)» (Зарецкий Ю.П. Тело и его казни (Об автобиографизме Епифания Соловецкого) // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. – М., 2000. – С. 332 и далее).
3 Толковый словарь живого великорусскаго языка Владимира Даля. – СПб. – М., 1909. – Т. 4. – Стб. 962; Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. – М., 1989. – Стб. 1155–1156.
4 Успенский Б.А. Анти–поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избр. труды. – М., 1996. – Т. 1. – С. 466.
Отношения донского казачества…
549
бесов, чертей1. Попутно отмечу, что наличие у беса на таких изображениях «козлиной бороды» также может быть внесено в «ряд» свидетельств, трактуемых автором в свете обозначенной выше символики.
Интересен в отписке призыв булавинцев (еще раз повторюсь, писавших текст, надо думать, с одобрения Булавина) «стоять нам… за предания 7-ми вселенских собор, как они святыя над 7-ми вселенских соборех утвердили веру християнскую и во атеческих книгах положили»2. Вопрос о роли религии в жизни донского казачества как маркера и основания их идентичности остается открытым, в целом изученным недостаточно. С середины XVII в. резко усиливаются религиозные связи донцов с «метропольным православием» – отправка казаков на богомолье в монастыри, пребывание их там же для «исправления веры», создаются «войсковые» монастыри (Борщевский, Мигулинский), активизируется возведение храмов собственно на Дону – причем церквей, а не одних лишь часовен и т.п.3. Впрочем, ученые также обращают внимание, что казачья религиозность не шла в целом дальше «внешнего» понимания религии, выливаясь в форму «обрядоверия», когда казаки относились к религиозному культу с позиций утилитарного, практического подхода4. Вместе с тем трудно отрицать роль религиозного фактора (восприятие частью казаков эсхатологических настроений выходцев из России, проповедей «расколо-учителей» и т.п. фактов) в событиях, приведших к первой в истории Дона братоубийственной войне 1686–1688 гг., «когда дело доходило до поголовного истребления казачьих поселений самими же казаками»5. Обострение религиоз-ного чувства под воздействием проповедей старообрядческих священников достигало такого масштаба, что «многие казаки умирали, не принимая покаяния от других попов»6.
1 Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. – М., 1984. – С. 74 и др., а также
цв. вклейки № 11, 96, 181 и др. 2 Булавинское восстание… – С. 463. 3 Донские дела. – Кн. 4. – Стб. 5–15, 311–322, 439–442, 608–609; Кириллов А.
Часовни, церкви и монастыри на Дону от начала их появления до конца XIX века // Сборник Областного Войска Донского Статистического Комитета. – Новочеркасск, 1906. – Вып. 6. – С. 165–167.
4 Усенко О.Г. Некоторые черты массового сознания донского казачества в XVII – начале XVIII вв. («субидеологические» представления, установки, стереотипы) // Казачество России: прошлое и настоящее: Сб. ст. – Ростов на/Д., 2006. – С. 101 и др.
5 Мининков Н.А. Основы взаимоотношений Русского государства и донского казачества в XVI – начале XVIII вв. // Казачество России: прошлое и настоящее. – С. 34.
6 Дружинин В.Г. Указ. соч. – С. 142.
Дмитрий Сень
550
Поэтому (оставляя подробный анализ духовных практик донских казаков на будущее) отмечу еще одно: если знаковое, визуальное перевоплощение мысли, образа (вызванное к жизни никонианами-«еретиками»), относящегося к сфере сакрального, так обостренно влияло на содержание культурного конфликта в среде донских казаков, то на повестку дня может быть вынесен вопрос о значении религиозной идентичности в сумме идентичностей казачьего социума последней четверти XVII в. Кроме всего прочего, налицо семиотический конфликт, проявляющийся в различном отношении верующих к сакральному знаку, когда старообрядцы, как указывает Б.А. Успенский, всегда исходят из того основания, что защищаемые ими формы безусловно правильны. Все вышесказанное, вероятно, требует уточнения вывода О.Г. Усенко о примате «внешнего» понимания религии донскими казаками, когда во главу угла ставится их повседневная религиозность. По крайней мере, речь может идти об установлении связи наблюдаемого явления («ортодоксальность» религиозных чувств казаков) с качественными изменениями казачьего социума именно в последней четверти XVII в. – распространением семейно-брачных отношений, новым уровнем усвоения казаками единства формы и содержания религиозных обрядов и т.п. Конечно, было бы упрощением (минимум!) связывать мотивацию действий участников Булавинского восстания с определяющим влиянием старообрядческой эсхатологии и т.п. основаниями. Но нельзя не отметить, что Булавин старается в отписках разговаривать с кубанскими казаками на понятном им языке символов и образов, в т.ч. апеллируя к святоотеческой литературе и решениям вселенских соборов, к авторитету которых старообрядцы охотно обращались, например, полемизируя с новообрядцами.
Еще одна отписка (также – за май 1708 г.) адресована владетелю Кубанской орды (ногайцы) Сартлану-мурзе и «всем кубанским мурзам». Любопытно, что на этот раз, объясняя причины казни повстанцами атамана Л. Максимова и старшин, Булавин вновь прибегает к риторической уловке: «… потому что они… нам и вам многое разорения и неправды чинили, и за мирным состоянием юртовых калмык и козаков без ведома нашего войскового под ваши жилища посылали, и ясырь у вас, также и конныя табуны к себе брали»1. Возможно, здесь идет речь об отголосках прикочевки на Дон в 1697–1698 гг. калмыцких тайшей Мункотемира и Баки, когда хан Аюка продолжал терять свое улусное население. Позже, в 1711 г., калмыки примут активное участие в реализации планов российского правительства по уничтожению Кубанской орды. В конце августа – начале сентября команда российских войск и 20 тыс. калмыков под началом астраханского губернатора П.М. Апраксина нанесла сокрушительный удар по Кубанской орде. Русско-калмыцкое войско
1 Булавинское восстание… – С. 460.
Отношения донского казачества…
551
методично уничтожало ногайские улусы на Кубани «для самаго [их] оскудения». В ходе операции погибло более 16 тыс. кубанских ногайцев, около 22 тыс. были взяты в плен калмыками. Таким образом, убыль населения Прикубанья составила около 40 тысяч человек. Кроме того, в качестве военной добычи калмыки захватили 2 тыс. голов верблюдов, 40 тыс. лошадей, почти 200 тыс. голов крупного рогатого скота1. Вследствие похода П.М. Апраксина Прикубанье превратилось в опустошенный регион, выпавший из-под серьезного контроля Крымского ханства почти на два десятилетия. Таким образом, и здесь дипломатическое мастерство Булавина бьет в точку – «нерв» почти всегда напряженных ногайско-калмыцких отношений. Недаром, предлагая развитие торговых и политических договорных отношений, донцы делают ногайцам лестное предложение: «А есть ли вы похотитя за многия… от колмык абиды и многое разорения на них итить войною, и вы с нами Войском согласясь заедино в поход за Волгу пойдем»2. Еще одна деталь – оказывается, к кубанским ногайцам булавинцы отправили еще одно письмо – «с вашими людьми и своим козаком Васильем Борисовым». Сравнение данной фразы с указанием на отсутствие при возможной передаче анализируемой отписки представителей Войска
3 наводит на мысль, что этот документ из лагеря повстанцев в адрес ногайцев первым не был. И тому есть некоторые подтверждения.
Что касается последнего документа, адресованного ачуевскому Хасану-паше, то его судьба представляется неясной. С одной стороны, документ в числе прочих был захвачен и отправлен И.А. Толстым царю4; с другой – его текст отсутствует в капитальном сборнике «Булавинское восстание». Впрочем, некоторые соображения и вопросы высказать и задать можно. Во-первых, непонятно, почему Булавин обращается к хозяину ачуевского санджака – далеко не главного и не самого богатого в системе османских владений на Северо-Западном Кавказе. Конечно, Ачуев был несколько ближе к Дону, нежели Темрюк и Тамань, но трудно даже предположить, что Булавин намеревался укрыться за стенами именно этой крепости. Во-вторых, осторожно выскажусь в том смысле, что в данном конкретном случае Булавина все же связывали нити каких-то интересов к турецкой администрации Ачуева, причем дело даже не в том, что одним из посланцев на Кубань оказывается «турченин, житель города Ачуева»5. Итак, речь идет о малоизвестном
1 Бранденург Н. Кубанский поход 1711 года // Военный сборник. – 1867. –
Кн. 3. Март. – Отд. ІІ. – С. 38–40. 2 Булавинское восстание… – С. 461. 3 Там же. – С. 460. 4 Там же. – С. 458. 5 Новое о восстании Булавина… – С. 127.
Дмитрий Сень
552
специалистам факте – прибытии на Дон от Хасана-паши (и от кубанских мурз) двух ногайцев с письмами для Булавина1. Случилось это до 8 июня 1708 г., т.е. прибытие посланцев с Кубани нельзя считать реакцией на письма того же Булавина за конец мая 1708 г. – мы знаем, что до адресатов они не дошли. Следовательно, можно полагать, что турки и татары были не менее казаков заинтересованы в налаживании контактов с «новой» властью на Дону – почему они и выражают свой интерес в письмах, имевших, как оказалось потом, последствия в реакции К.А. Булавина на их получение. Любопытно также, что Булавин желал видеть реализацию переговоров всех трех сторон – турок, ногайцев и «старых» кубанских казаков – именно в Ачуеве
*, рекомендуя казакам переправить в Стамбул адресованную им отписку (см. выше) вместе с припиской Войска на имя султана Ахмеда III 2.
В целом анализ войсковых отписок, направленных на Кубань, свидетель-ствует о стремлении Булавина вернуться к практикам войсковых атаманов (Войска – в целом) самостоятельно определять уровень и содержание отношений с соседями. Обретение этой сакральной во многом власти, по-видимому, влияло и на психологию поведения К.А. Булавина, переход которого в новый статус (в известном смысле – перерождение) влекло за собой принятие решений, в которых трудно искать порой примат рационалистической основы. Поэтому хотелось бы прокомментировать «удивление» В.И. Лебедева, высказанное при описании вот какого сюжета: «Для нас является загадкой, почему Булавин отпустил большую часть повстанческого войска (речь идет о событиях после захвата Черкасска в мае 1708 г. – Д. С.) и остался в Черкасске с небольшим отрядом. <…> Это позволило противникам Булавина развернуть отчаянную борьбу за переговоры с Петром I о мире»3. Не менее «удивительна» та степень доверия, которую оказывал вождь восстания представителям «домовитого» казачества – предавшим его в итоге и подчас, кстати, именовавшим в письмах дураком.
Полагаю, что такое поведение Булавина предполагает при объяснении его причин обращения к символическим (семиотическим) аспектам функциони-рования атаманской власти, вследствие чего перед современными исследова-
1 Булавинское восстание… – С. 269. * Здесь автор считает возможной такую трактовку той части документа, когда
часть фразы в отношении кубанских казаков: «оставьтя у себя в Ачюеве…» не означает проживания там этих казаков; их туда должны были всего лишь пригласить на совет. Следовательно, не мог позже И. Некрасов, отступавший с Дона в августе 1708 г., двинуть именно в Ачуев свой отряд – якобы потому, что там находились «старые» казаки.
2 Там же. – С. 465. 3 Лебедев В.И. Указ. соч. – С. 71.
Отношения донского казачества…
553
телями появятся новые перспективы к изучению внутренней природы Булавин-ского восстания, его истории как истории социальной. Кажется, не ошибусь, если в подтверждение мысли приведу пример из вдумчивого исследования М.А. Рыбловой, связывающей атаманскую власть с общебратской, общеказачьей долей, а самих атаманов характеризующей как символических и временных хранителей общеобщинной доли. При этом первостепенную ценность для казаков представляла именно «эта доля (ее целостность, сохранность), а не личность атамана, который легко мог быть заменен другим таким же символом-хранителем»1. Еще одним подтверждением вышесказанного, правда, косвенным, является тот факт, что Булавин открыто не просит военной помощи у адресатов, хотя, конечно, и нуждается в ней – ведь впереди, например, еще штурм Азова. Создается впечатление, что вождь восстания озабочен более легитимацией своего положения в глазах сторонних наблюдателей, как войскового атамана.
Переписка, так или иначе развернувшаяся между Кубанью и Доном, привела к интересному результату – стороны сумели наладить регулярное сообщение, а ногайцы оказали весомую помощь повстанцам. Оказывается, что, не получив подтверждение получения кубанцами майских отписок, Булавин, однако, вскоре встречал гонцов с той же Кубани (см. выше). События тогда разворачивались не в лучшую для повстанцев сторону, включая отгон лошадиных табунов от Черкасска. Отвечая на послания ногайцев и турок, Булавин 8 июня 1708 г. отправляет на Кубань новое письмо – «в письме де ево написано, чтоб кубанская орда собрався пришли к нему в Черкасской, и чтоб с ним заодно итить к Азову»2. Более того, Булавин выражает готовность получить от ногайцев так нужных ему лошадей (в количестве 2 тыс. голов) – «и кубанцы к нему вору лошадей с 500 пригнали для продажи». В середине июня 1708 г. бригадир Ф.В. Шидловский получил от донских казаков сведения о приходе к Булавину «кубанской орды 2000 человек, да их донских раскольщиков с Кубану и с Орокани 1100 человек»3, что происходило в период подготовки штурма повстанцами Азова. Приход этих сил выглядит вполне естественной реакцией ногайцев и казаков Кубани на стремление Булавина наладить связи со всеми антироссийскими силами в регионе.
Обращаю внимание на тот факт, что в майской отписке на имя Сартлан-мурзы атаман пишет, что отправляет на Кубань еще одно письмо (см. выше), вероятно, предполагая при этом, что первый документ может до адресата не дойти; так в итоге и случилось. Полагаю, что в отношении кубанских казаков
1 Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества на Дону в XVI – первой
трети XIX в. – Волгоград, 2006. – С. 370. 2 Булавинское восстание. – С. 269. 3 Там же. – С. 275.
Дмитрий Сень
554
Булавин мог поступить точно таким образом. В свое время автор указал на данный эпизод прихода ногайцев и казаков как на часть истории кубано-донских связей
1, что, в свою очередь, вызвало скепсис со стороны О.Г. Усенко. Ученый посчитал «парадоксальным» указанное свидетельство, отвергая его на том, например, основании, что никто из очевидцев не видел в числе осаждавших Черкасск представителей групп с Кубани
2. Вероятно, на том же основании можно опровергать многие другие факты, что, конечно, является не менее «парадоксальным» способом уточнения реальности (совершенности) истори-ческих событий. В данном, подчеркну, случае, мы располагаем основаниями для определения причинно-следственной связи между непреложным фактом установочного посыла со стороны Булавина – «я жду помощь» – и неслучайным свидетельством о приходе именно к Булавину крупной вооруженной группировки с Кубани. Напомню, все это происходит в тот момент, когда атаман и повстанцы готовятся к штурму Азова. Конечно, вопрос об участии сторонних сил в штурме Черкасска не менее дискуссионен, но сейчас остановлюсь на «азовской» составляющей известий о ногайцах и казаках. Итак, определенное подтверждение авторской точке зрения находим еще и в известии турецкого Анонима начала XVIII в. Оказывается, этот сторонний наблюдатель опери- ровал весьма обширными данными о Булавинском восстании; ему были знакомы такие «мелкие» детали, как имя Некрасова – Инад (Игнат), подробности штурма Азова
3. Замечательное подтверждение историчности сведений Анонима (указываю-
щего, в частности, на хитрость казаков из Азова, решивших обмануть булавинцев), находим в капитальном издании документов «Булавинское восстание». Выдумывать турку такой изощренный эпизод борьбы за Азов, считаю, было незачем. Итак, казак-запорожец Т.И. Верховир, как очевидец событий, показал в канцелярии кн. В.В. Долгорукого, что перед штурмом крепости «из Озова были в Черкаском переметчиков человек з 20 тумов («тума» – «полукровка». – Д. С.) и говорили, чтоб они пришли к Озову и они де Озов здадут (выделено мной. – Д. С.). И как де оне пришли к Озову, и те переметчики пошли с ним и стояли под Озовом сутки. И из Озова де выходили к ним озовские жители и з донскими казаками меж себя говорили, а что говорили,
1 Сень Д.В. «Войско Кубанское Игнатово Кавказское»… – С. 26. 2 Усенко О.Г. Рецензия на монографию Д.В. Сеня ««Войско Кубанское
Игнатово Кавказское»: исторические пути казаков-некрасовцев (1708 г. – конец 1920-х гг.)». 2-е изд., испр. и доп. Краснодар, 2002 // Клио. Журнал для ученых. – СПб., 2003. – С. 241.
3 Весела З. Турецкий трактат об османских крепостях Северного Причерно-морья в начале XVIII века // Восточные источники по истории народов Юго–Восточной и Центральной Европы. – М., 1969. – Ч. 2. – С. 128–129 и др.
Отношения донского казачества…
555
того де он не знает, стоя долече»1. А вот как этот же эпизод представлен в трактовке Анонима: «Казаки, находившиеся в крепости Азак, вступили на путь хитрости и, послав человека, сообщили тем (булавинцам. – Д. С.): “Если вы захотите, мы покоримся вам, откроем ворота и передадим вам крепость”. Пулавина (Булавин. – Д. С.), приняв за истину все их ответы, сам остался в Черкес-кермане, а во главе казацких войск был поставлен казак по имени Инад… и направлен к Азаку. <…> Хитрое намерение казаков, которые сидели в Азаке, состояло в том, чтобы сломить [нападавших] своим обычным маневром»2. Печальным стал для повстанцев итог всех этих «странных» событий – их ждало сокрушительное поражение. Так или иначе, но весьма проблематично отрицать несомненную близость обеих трактовок, что в числе прочих аргументов добавляет доверия к труду Анонима. Любопытно свидетельство Анонима о казаках из Азова – надо думать, как «ахриянах», так и «тумах», прибывающих туда с Дона, например, еще в середине ХVІІІ в.; это все – к вопросу о формах практик преодоления донскими казаками «границы миров» и освоения смежных с Полем пространств3. Обобщая результаты анализа сюжета с участием казаков Кубани и ногайцев в событиях на Дону (зоне Булавинского восстания) весной-летом 1708 г., считаю такой факт имевшим место. Природа указанного факта была определена логикой восстания, всей совокупностью связей атамана Булавина (выражающего интересы крупной части донского казачества) с такими активными региональными актерами, как ногайцы и кубанские казаки.
Что касается указания в документе (см. сноску №77) на «Орокань», т.е. р. Аграхань на Северном Кавказе, то здесь необходимо внимательно отнестись к изучению важных для донских казаков пространственных (при этом –статусных?) локусов, которые они могли рассматривать в числе спасительных для себя мест. Неслучайно об Аграхани, встретившей донцов еще в конце XVII в., зашла речь уже во время восстания в мае 1708 г.: «А есть ли пойдут войски русские великие против которых и стоять будет невмочь, и они же хотят идти с реки Дону на Аракан
4. Перед автором стоит еще одна задача (дело будущей, главным образом, работы) – изучение социальных сетей всех групп казаков Дона и Кавказа, бурно развивавшихся как раз на рубеже XVII–XVIII вв. Ведь что примечательно – не все казаки ушли с Кумы (может быть, и с Аграхани) на Кубань в конце XVII в. Оказывается, что еще в 1694 г. кумские
1 Булавинское восстание… – С. 297. 2 Весела З. Указ. соч. – С. 129. 3 Сень Д.В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в конце ХVІІ–
ХVІІІ вв.: практики взаимоотношений фронтирных сообществ с мусульман-скими государствами Причерномор’я (в контексте задач и перспектив изучения международных отношений в регионе) // Кавказ в российской политике: история и современность / Мат-лы межд. науч. конф. (г. Москва, МГИМО (У) МИД России, 16–17 мая 2006 г.). – М., 2007.
4 Булавинское восстание. – С. 250.
Дмитрий Сень
556
казаки проявили свою активность – напав в союзе с калмыками и татарами «на саратовского стрельца Пронку Гулина с товарищами, тянувших рыбный струг»1. Не менее примечательно, что кавказские владетели, «потеряв» тогда такую силу, как казаки, не желают терять с ними связей даже в начале XVIII в. Так, в 1703 г. владетель дер. Эндери (Дагестан) Муртазалей мурза, хорошо известный по источникам конца XVII в., отправил «узденей своих со многими пожитками на Дон и на Кубань подзывать воровских казаков и мусулман для воровского вымысла к себе во владении»2. А в 1707 г. кубанские казаки поддержали «султана» Мурата, сына каракалпакского хана Кучука
3, который «учинился» владельцем «горских народов «близ Терка», т.е. российской крепости Терки. Тогда пришли к нему «и кумыки и воры, прежние акрагаиские (аграханские. – Д. С.) осталые ис Кубани, казаки-раскольщики»4; а вскоре состоялся и штурм крепости, закончившийся, впрочем, поражением осаждавших и пленением «владетеля их Салтана».
В целом полагаю, что нельзя согласиться с В.Г. Дружининым в той его мысли, что ушедшие на Кубань казаки перестали представлять собой опасность и для Войска Донского, и для Москвы. Не меньшую роль уже на рубеже XVII–XVIII вв. стало играть кубанское казачество в актуализации и реализации донскими казаками новых переходов на Кавказ, набегах (теперь – часто в союзе с ногайцами) на окраины Российского государства, владения иранского шаха. Очевидна весомая роль казаков Кавказа, в т.ч. Кубани, в процессах общего повышения внимания Крыма, Османской империи и России к казачеству, как важному игроку на пространстве Дикого Поля и сопредельных территорий. Не могли не учитывать данного обстоятельства и булавинцы, сам К.А. Булавин, готовившие стратегический план отступления на Кубань уже в 1708 г. «Неожиданная» для многих гибель вождя движения летом 1708 г., впрочем, не могла уже ничего изменить – часть донского казачества, подготовив для этого определенную основу, решает оставить Дон навсегда. В заключение подчеркну, что указанный план носил характер, обусловленный логикой самого восстания, «подпитываемый» при этом тремя важными основаниями:
– принципиально изменившимся отношением крымских ханов к перспек-тивам обретения новых подданных в лице донских казаков;
– психологической готовностью части донского казачества уйти с Дона навсегда, причем «семейным образом»;
– достаточно прочным присутствием на кубанской земле уже с конца XVII в. группы казаков, недавних выходцев с Дона.
1 Архив СПб. ИИ РАН. – Ф. 135. – Оп. 1. – Ч. 13. – Д. 12589. – Л. 1–1 об. 2 Акты Лишина. – Т. 1. – С. 205. 3 Усенко О.Г. Начальная история кубанского казачества… – С. 65. 4 Булавинское восстание. – С. 414.