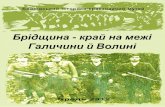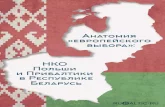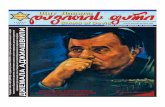В. Р. Гущин, А. В. Колобов, А. В. Михалева, С. В....
Transcript of В. Р. Гущин, А. В. Колобов, А. В. Михалева, С. В....
36
Глава II. ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЯ: ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ
Классическим образцом традиционных моделей воплощения
идеального управления являются, на наш взгляд, именно восточ-ные культуры древности, еще не трансформированные западным влиянием и дающие образцы архетипической трактовки субъекта осуществления власти. Представляется возможным выделить не-сколько вариантов таких образцов, каждый из которых обладает своей, ярко выраженной спецификой.
Древний Египет: человек растворен в божестве Одной из самых древних является египетская модель, эволю-
ционирующая в ходе своего существования, но сохраняющая базо-вые, характерные черты. Поскольку социальный порядок являлся аспектом космического порядка, считалось, что царская власть существовала с начала мира. Первым царем был сам демиург, раз-нящийся в многочисленных вариантах космогоний. Он и становит-ся некоторой парадигмой государя.
Жесты и деяния фараона описываются в тех же терминах, что и деяния бога Ра: «…он заменил хаос порядком»1. Образ фараона, таким образом, подчинен некой дихотомии: при наличии опреде-ленной доли человеческой природы (свидетельством чего является антропоморфный облик правителя) приоритет, естественно, отда-ется божественному началу, задающему стратегию и вектор пове-дения носителя власти. Его отцом считался верховный бог, а мать признавалась женой бога. Во время церемонии бракосочетания царь представлял бога, и его сопровождала божественная свита. Это начало в некоторых аспектах могло быть даже опасным для человека. Сохранился рассказ об одном из придворных, которого коснулся церемониальный жезл царя. Фараон заверил подданного, что несмотря на это обстоятельство ничего страшного с ним не случится2. Случай такого рода подчеркивает неотмирную природу
1 Малявин В.В. Сумерки Дао. … С. 88. 2 Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. Указ. соч. С. 98.
37
монарха. Об этом же косвенно свидетельствует и практика инце-стуальных браков фараонов, видимо, ориентированная на сохране-ние в чистоте их божественной природы.
На памятниках первым царям значатся чаще всего такие имена, которые являются разновидностями наименования царско-го бога Гора: Гор Боец, Гор Змей, Гор Высокий рукою. Личные же имена приводились достаточно редко1. Такое обстоятельство вполне допускает следующее толкование: все правители Древнего Египта по сути являлись своеобразными теофаниями, определяю-щими, наряду с политическим аспектом, и другие стороны жизни общества. Фараон для древних египтян также является воплоще-нием маат, что можно перевести как «истина», «добрый порядок». Маат относится к первоначальному творению и отражает совер-шенство «Золотого Века». Это основа космоса и жизни, которая может познаваться каждым индивидом. Молитва к Ра говорит: «Вложи маат в мое сердце»2. Отождествление правителя и маат также снимает проблему индивидуальности носителя власти.
Фараон – не только воплощение маат, но и образец для всех своих подданных. «Вот Его Величество знает (все) свершающее-ся (в мире), и нет ничего, чего бы он не ведал, совершенно, (ибо) это (бог мудрости) Тот во всем (решительно) и нет дела, которое бы он не знал исчерпывающе»3. Даже во время политических волнений институт монархии не ставился под сомнение. Подра-зумевалось, что деятельность фараона была направлена на под-держание космического порядка и защиту от хаоса, которому уподобляются все враги Египта. Фараон был единственным геро-ем исторических событий. Подвиги одного фараона наследова-лись другим. Именно он руководил закладкой и открытием хра-мов, одерживал победы, издавал законы, собирал налоги и являл-ся главным участником ритуалов. Строго говоря, при такой трак-товке государя сама идея истории как движения от начала к кон-цу, вмещающего некоторую совокупность событий, не имеет смысла. Нет не только фараона – индивидуальности (а тем более – личности), он не существует даже как отдельно взятый индивид, социальный атом. Правители символически сливаются в единого
1Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. … С. 297. 2 Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 88. 3 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. … С. 100.
38
персонажа, наделенного сакральными полномочиями и вопло-щающего социальное устройство в целом.
Фактически фараон сам являлся государством, о чем говорит его имя – «пер-о» («большой дом»). Царское местожительство на-делялось эпитетом «внутреннего», а остальное считалось «сторон-ним». Поэтому фараону приписывали сверхъестественные качест-ва: «Если ты скажешь своему отцу, Нилу, отцу всех богов: «Дай, чтобы потекла вода по вершинам гор», – то он (и) сделает сообраз-но со всем тем, что ты сказал ему»1. Все в природе, что имело от-ношение к процветанию Египта, находилось под властью фараона. Идея политического совпадала с обязательными космологически-ми характеристиками социума.
Отсутствие индивидуальности правителя отслеживается и по изображениям на монументах и описаниям в тексте. Все они под-гоняются под портрет идеального властителя, видимо, имеющий архетипическую природу. По Диодору, «день и ночь были распи-саны по часам, в которые царю надлежало неукоснительно испол-нять предписания законов, а не собственные желания»2. Это каса-лось и личной жизни, и отправления государственных функций. Ряд источников указывает и на более тотальное вмешательство в жизнь монарха на самых ранних этапах египетской истории. В свя-зи с нахождением в царских гробницах обглоданных костей ряд исследователей делает вывод о том, что изначально фараоны пра-вили в течение ограниченного промежутка времени, после чего на празднике хеб-сед их убивали и съедали с целью передачи духа власти наследнику. Несмотря на критику, которой подвергается данная концепция, необходимо отметить, что сама идея непосред-ственной преемственности в политической сфере в сочетании с представлениями о периодическом истощении космической энер-гетики должна была быть актуальной для традиционной культуры. Участь монарха в таком случае могла определяться центрально-стью его положения и значимостью социального статуса.
В более поздние периоды символическая смерть царя стала одним из обязательных сюжетов данного праздника и компенсиро-вала реальное событие заместительной жертвой из животных.
1 Франкфорт Г., Франкфорт Г. А., Уилсон Дж., Якобсен Т. … С. 100. 2 Там же. С. 106.
39
Надпись в Абидосе, посвященная данному событию, гласит: «Ты начинаешь свои дни заново; словно святому лунному младенцу, тебе дозволено процветать… ты становишься молодым и возвра-щаешься к жизни снова»1.
Церемония вступления фараона на трон проводилась всегда в Мемфисе. Она воспроизводила ту, которая была проведена пер-вым правителем Менесом. Главной идеей церемонии было не на-поминание о деяниях первого царя, а обновление того созида-тельного источника, который присутствовал в первоначальном событии2.
Сплочение государства как акт равнялось космогонии; фара-он, воплощенный бог, устанавливал новый-старый мир. Именно следуя идее воплощения в монархе порядка, Тутмос III расставлял свои статуи на покоренных территориях. Такое действие означало включение новых земель в культурное пространство Та Кемет. Божественная сущность фараона являлась гарантией сохранения мирового устройства. После смерти фараон не умирал, как осталь-ные люди, а перемещался на небо. Так обеспечивалась преемст-венность божественных воплощений и незыблемость космическо-го принципа.
С фараоном было связано несколько праздничных церемо-ний, подкрепляющих его демиургическую сущность:
– праздник Нового года, повторяющий космогонию; – тридцатая годовщина интронизации, символизирующая об-
новление энергии правителя; – торжества, посвященные отдельным богам. Цельность образа фараона нарушалась еще одной дихото-
мией. С одной стороны, он являлся сыном Ра, а с другой – на-следовал власть как Осирис-Гор. Имела место разновекторность правления – к солярному божеству и в подземный мир. В «Мо-лебствии Ра» солнечный бог именуется «Тот, кто един в двух лицах»; он представлен в виде мумии Осириса, увенчанной ко-роной Верхнего Египта3. Отождествление двух богов осуществ-ляется в личности умершего фараона: после осирификации царь
1 Египетская мифология: Энциклопедия. М.: Изд-во Эксмо, 2002.
С. 72, 75. 2 Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 83. 3 Там же. С. 104.
40
оживает в облике молодого Ра. В одном из текстов говорится о «Ра, который отправляется покоиться в Осирисе, и об Осирисе, который отправляется покоиться в Ра».
Думается, такая раздвоенность не противоречит изложенной выше концепции символического единства пантеона и указывает на всепроникающую природу власти как гарантии сохранения Космоса. Подробный анализ многочисленных смысловых пластов, связанных с солярным и хтоническим персонажами, логически приводит члена социума к выводам о бессмертии монарха, об его уникальном онтологическом статусе, о наличии креационистской и фертильной функций как основы для развертывания системы социальной иерархии.
Кризис культа фараона приходится на период Первого Меж-дуцарствия. Теряется сама идея управления в отсутствие ее реаль-ного воплощения. В социальном аспекте это приводит к слому (на уровне культурного образца) всей социальной пирамиды. Фараон был скрепляющим началом, пронизывающим систему обществен-ных коммуникаций и межчеловеческих взаимоотношений. Инте-ресно, что здесь вершина пирамиды одновременно выполняла роль своеобразного фундамента, исчезновение которого могло стать причиной деформации культурного кода. Особенно отчетливо это прослеживается на материалах захоронений, наглядно иллюстри-рующих особенности функционирования культуры Египта.
Происходит «демократизация» загробной жизни, когда знат-ные люди воспроизводили на своих саркофагах «Тексты пирамид», предназначенные для фараонов. Это был единственный период в истории Египта, когда фараона обвиняли в слабости и безнравст-венности. Люди разрушали некрополи, а камни забирали для соб-ственных могил. Широко распространились агностицизм, песси-мизм и экзальтированная радость. Под сомнение ставился смысл жизни и реальность загробного существования. И даже в такой си-туации монарх, даже в негативном аспекте, продолжает оставаться центральным звеном культурного механизма. Так, автор «Речений Ипувера» именно фараона обвиняет во всеобщей анархии: «С то-бой власть и правосудие, (но) ты приносишь в страну смятение вместе с голосом раздора. Смотри, один набрасывается на другого. Люди подчиняются твоим командам. Это означает, что твои дея-ния породили такое, и ты говорил ложь».
41
Такое отношение характерно и для самих объектов критики. Один из царей этого периода составил трактат для своего сына. Он смиренно признавал: «Египет сражается даже в некрополе… Я де-лал то же самое!…(бедствия) случились из-за моих поступков, и я узнал (о зле, которое содеял), лишь после содеянного!». Он реко-мендует своему сыну: «Осуществляй справедливость (маат), пока ты живешь на земле … не делай зла… Вместо того, чтобы воздви-гать монумент из камня, сделай так, чтобы память о тебе продли-лась благодаря любви к тебе»1. Элиаде отмечает, что именно рас-шатывание культа фараона стало основой для утери смысла жизни и веры в реальность загробного существования.
Данный эпизод, на наш взгляд, нельзя считать свидетельст-вом падения статуса фараона в ходе существования древнеегипет-ского общества. Скорее он лишь подтверждает тот факт, что вся общественно-политическая и мировоззренческая система Египта была замкнута на фигуре правителя. Здесь даже не стоит говорить об обожествлении, поскольку оно подразумевает изначально про-фанную природу объекта. Фараон не наделяется сакральной сущ-ностью, а обладает ею a priori – в той мере, насколько священным является само священное. Можно сказать, что сакральная природа власти в этой культуре представлена наиболее наглядно. Она поч-ти не заслонена тем носителем, который в себе превращает прин-цип устройства Космоса в непререкаемый закон существования общества.
Обобщая рассмотрение египетской модели, можно сказать, что она предельно архетипична – если сакральную сущность вла-сти отнести к архетипам мировосприятия, что, на наш взгляд, яв-ляется верным. Это концентрированное выражение идеи компли-ментарности человеческого существования по отношению к Кос-мосу, что в социальном плане становится приоритетом общего по отношению к единичному, и даже с ущербом для последнего. Аб-солютный детерминизм такой системы практически не создает внутренних, эндогенных условий для ее эволюции, если не считать проявлением таковой попытки Аменхотепа IV поменять часть па-раметров культурного механизма. Быстрое свертывание «револю-ции Амарны» стало достаточно ярким индикатором ригидности
1Элиаде М. Указ. соч. С. 97
42
традиционной модели управления обществом – в собственно поли-тическом, религиозном и даже эстетическом планах.
Позднее эта устойчивость проявится еще раз – когда дина-стия Птолемеев, имеющая теснейшие связи с античной традицией, невольно подчинит своих представителей образцам так называе-мых восточных деспотов. Слом такого восприятия вершины со-циума придется уже на долю коптского христианства.
От Бога к обожествленному человеку Цивилизация Двуречья, соперничающая по возрасту с еги-
петской, уже на самых ранних этапах своего существования поро-ждает феномены, позволяющие, хотя и с оговорками, судить о на-личии специфики в сфере политического в данном регионе. Более скромный по объему по сравнению с египетским материалом текст шумерской культуры тем не менее дает абрис идеальной модели правления, устанавливая таким образом символические связи с мирозданием. Не объявляя себя воплощениями божества на земле, в отличие от властителей Та Кемет, правители древнего Двуречья все же претендовали на обладание сакральной природой. «Стела коршунов» – один из наиболее полных памятников шумерской письменности – весьма торжественно описывает появление одного из царей и установление его власти (здесь приводятся только зна-чимые для данного исследования отрывки):
IV. 9. Нингирсу 10. Семя Эанатума 11. В утробу 12. Ввел. 18. Инанна 19. (На руки) его взяла 20. «Эанны» 21. Инанны 22. Ибгалю подходящий 23. Именем назвала, 24. Богине Нинхурсаг 25. На правое колено 26. Посадила. 27. Нинхурсаг 28. Свою правую грудь 29. Ему дала.
43
V. 1. Эанатум 2. Порожденный 3. Богом Нингирсу, 4. Нингирсу 5. Обрадовал. 6. Нингирсу 7. Надел его 8. Отмерил, 9. Пять 10. Локтей его 11. Отмерил, 12. Пять локтей – один надел. 13. Нингирсу 14. С великой радостью 15. Царственность 16. Лагаша 17. Ему вручил. 19. Нингирсу 20. «Эанатум – 21. Имеющий власть, 22. Чужая страна принадлежит ему» сказал, 23. Эанатуму 24. Имя, ему Инанной 25. Данное, - 26. «Эанны» 27. Инанны1.
Если считать, что процедура интронизации была устойчи-вой, сохраняясь на протяжении поколений (а это, на наш взгляд, является нормой для традиционной культуры), то перед нами предстает подробная развертка социального и онтологического статусов монарха, максимально соотнесенная с наиболее значи-мыми персонажами пантеона.
В тексте присутствуют все необходимые характеристики, ле-гитимизирующие установление правления нового фигуранта. Он рожден богом, благословлен ведущими божествами пантеона дан-ного нома. Даже границы его государства очерчены сакральными силами. Подробное перечисление богов, принимавших участие в интронизации Эанатума, явно ставит своей целью фиксирование дистанции между обожествленной персонификацией власти и ос-
1 Емельянов В.В. Указ. соч. С. 59.
44
тальной совокупностью людей. Сам царь в одной из надписей ут-верждает, что его как правителя Лагаша «Энлиль нарек именем, Нингирсу дал силу, Нанше нашла в своем сердце, Нинхурсаг свя-щенным молоком накормила, Инанна благоприятным именем на-рекла, Энки разум дал, а Думузи-Абзу возлюбил, Хендурсанг дал знамение жизни, а Лугальурукар – свою дружбу и любовь»1. Са-кральность царской власти подтверждалась еще и тем, что ее инсти-тут был спущен с неба в виде тиары и трона. Это установление фи-гуры правителя и образа власти производилось дважды – до и после потопа2, следовательно, являлось необходимой частью космогони-ческого процесса.
На царя переносятся характеристики демиурга – космоу-строителя, созидающего общественный порядок по образцу космо-гонического процесса. Один из первых царей Лагаша Ур-Нанше изображается с корзиной для строительных материалов, которую он держит на голове. В одном из его текстов такую корзину под-нимает и ставит ему на голову Шуль-Утуль – бог-покровитель се-мьи, из которой происходит Ур-Нанше. Правитель становится символом города и в пространственно-временном плане. Недаром понятия «граница» и «власть» в шумерских текстах предельно сближаются3. Поразумевается, что царствует тот, кто имеет огра-ниченную территорию. Вернее, только в определенных границах – космических, в противовес неоформленности Хаоса – возможно осуществление власти.
Данный процесс подчинялся двум идеям – замкнутого вре-менного цикла и истощения, разрушения изначального образца. В связи с этим существовал особый весенний ритуал, который де-лился на несколько этапов:
– путешествие городского бога к своему отцу с просьбой об обновлении царственности в городе и получением им МЕ, дающих возможность власти;
– выдвижение царя как молодого героя на битву с чудовища-ми, желающими захватить город и лишить его жизни;
– борьба и победа царя и принесение военных трофеев в храм своего бога;
1 Емельянов В.В. Указ. соч. С. 57. 2 Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 62. 3 Там же. С. 67.
45
– интронизация царя; – священный брак царя и жрицы в священном загоне1. Интронизация осуществляется по традиционным образцам,
ничем в этом смысле не выделяющем правителя из других членов социума. Наиболее яркой чертой становится лишь брак с иеродулой как способ наделения города новой энергией, живительной силой, плодородным началом. В царе в ходе обряда сочетаются дивинатор-ская, посредническая функция – он становится своеобразным кана-лом для распространения божественной энергии – и демиургиче-ская, поскольку он сам как минимум наполовину является сакраль-ным персонажем по происхождению. Недаром царские гимны, им-плицитно подчеркивающие это обстоятельство, наряду с гимнами старым богам Шумера были широко распространены при дворах Ура, Исина и Ларсы2.
Несмотря на то, что царю изначально предписывалось риту-альное поведение, включающее в себя неукоснительное следова-ние всем распоряжениям богов, в более поздних текстах атрибуты полновластия правителя все более усиливаются. Священная со-ставляющая монарха начинает доминировать с тенденциями отры-ва от изначального источника святости:
«Царь! Судьбу я тебе определю! Благую судьбу я тебе определю! Геройство судьбой я тебе определю! Энство и царственность на долгие дни судьбой я тебе определю! В ужасном блеске шею свою подними! Перед яростным взором твоим пусть никто не устоит! Корона твоей царственности пусть сияние испускает! Скипетр твой знаком владычества пусть будет! В сердце твоем пусть радость пребудет, не утомишься ты! Царем, живящим народ свой, да пребудешь!»
(Гимн Шульги)3.
Положения, развиваемые в этом, несомненно, апологетиче-ском тексте, уже противопоставляют для исследователя месопо-тамскую модель египетской. Наряду с трактовкой власти как бого-данного состояния, вырисовывается образ властителя – человека,
1 Там же. С. 86. 2 Емельянов В.В. Указ. соч. С. 85. 3 Там же. С. 91.
46
наделенного исключительными свойствами, но все-таки человека. Он по-прежнему подчинен судьбе, божественному предначертанию и является проводником мироустроительного начала. Однако сами характеристики власти уже более соответствуют монарху как ан-тропоморфному персонажу. Определение судьбы царя имплицит-но создает дистанцию между самим правителем и породившим его нуминозным началом.
Идея «подлинного царя» не исчезает, когда шумеров погло-щает семитская культура. Этот образ еще больше кристаллизуется, развиваясь как подтверждение исконности власти того или иного монарха. Так, аккадцы считали, что если царь разделяет божест-венную природу (других альтернатив для «настоящего» правителя и не предполагалось), то он излучает божественный свет. Это сви-детельствует о сохранении архетипических представлений о роли правителя, сближающих культуры Междуречья и Египта. Антроп-ность некоторых черт царя еще была скорее исключением из об-щего облика мира, порожденного сакральной природой Космоса. Тем не менее, эти тенденции получили некоторое развитие в пери-од господства в регионе вавилонской культуры.
В Вавилоне празднование Нового Года включало в себя про-игрывание царем содержания космогонического текста «Энума элиш» – от потери символов власти и символической смерти до возрождения и иерогамии. В некоторые моменты этого действа правитель отождествлялся с Мардуком – центральным божеством господствующей мифологической системы.
Вавилонского монарха называли «царем стран», то есть тем титулом, который изначально принадлежал божеству. Считалось, что вокруг его головы сияет божественный свет. Еще до рождения боги предопределяли его верховность. Земное происхождение царя было очевидным, но он все же считался «сыном богов» – это не вы-текало из толкований священных текстов, а признавалось открыто. Он выступал как наилучший посредник между богами и людьми, представлял народ перед сообществом сакральных персонажей и брал на себя грехи своих подданных. Вавилоняне полагали, что иногда монарх даже должен был принять смерть за их преступле-ния. Поэтому фигура вавилонского правителя не полновластна, не абсолютна в западном понимании этого термина. В большинстве случаев – по крайней мере в идеальной модели – абсолютизм в
47
восточных культурах древности отсутствует. Царь абсолютен как ключевая точка в отношениях богов и людей, как средоточие от-ветственности за все человеческое сообщество. Он неограничен в своих властных полномочиях по отношению к подданным и пол-ностью бесправен в ритуальном аспекте, если рассматривать его через призму индивидуальности.
Возможно, апелляция к божественному источнику власти становится все более слабой и ненужной, поскольку у ассирийских правителей она уже вытесняется принципом наследования. Монарх так и занимает свой пост по праву рождения, но само право реали-зуется уже более «естественным» путем. Это можно считать одной из причин того, что цари Ассирии, не избежавшие приобретения базовых характеристик культур завоеванных народов, уже не при-нимали участие в церемонии священного брака. Они подобрали се-бе «заместителей» и для обряда очистительной жертвы за грехи страны, имплицитно освободившись тем самым от ряда ритуальных предписаний, но сохранив весь набор священных прав. Образ царя, наделенного сакральным началом по воле богов, сменился фигурой правителя, сакрального уже в большей мере по своей собственной природе. В текстах упоминается, что правитель живет в непосредст-венной связи с богами, в сказочных садах, где растет Древо Жизни и течет Живая Вода. Именно он заботится об этом Древе. Царь счи-тался и посланцем бога, призванным установить справедливость и мир. Однако необходимо отметить, что не произошло полной сакра-лизации образа, вторичной по сравнению с египетским вариантом, где монарх не считался членом пантеона, и верующие должны были просить у богов благословения для своего царя1.
Таким образом, в развитии месопотамской модели идеально-го правителя можно отметить нарастающую сакрализацию его об-раза, приходящую в независимость от изначального божественно-го источника власти. При этом положение монарха по отношению к богам и возглавляемому им сообществу оставалось традиционно промежуточным, связанным с космогоническими и социообра-зующими функциями.
Среди прочего следует отметить черту, сближающую «по-литическое сознание» египтян и жителей Междуречья. Оно формируется исключительно «сверху», в отсутствие того, что на
1 Элиаде М. Указ. соч. Т. 1. С. 68, 72 и далее.
48
Западе принято называть политическими учениями. Вернее, конструируемый общественным мировоззрением и воспроизво-димый монархами миф полностью поглощает все идеи, охваты-вающие институты власти и возможные политические отноше-ния. Речь даже не идет об альтернативных школах. Стержневая для мифа идея сущностного единства Космоса и социума в дан-ном случае отрицает даже какие-либо истолкования или коррек-тировки идеи политического, выражаемые в образе властителя и не выходящие за рамки традиции. Собственно, как уже говори-лось, и сама идея политики с большой натяжкой вычленяется из грандиозных мифологических конструкций древнейших циви-лизаций человечества.
Китайская традиция: ритуал отсутствия
Рассматривая варианты концепций идеального монарха, нельзя проигнорировать древнекитайский опыт. Такое отношение определено не только древностью данной культурной модели и сохранением в ней преемственности, но и тем, что Поднебесная, в отличие от цивилизаций, рассмотренных выше, как раз знаменита оригинальными трактовками различных элементов политического в социуме.
Как уже упоминалось, китайская традиция уделяет особое внимание фигуре правителя в обществе и Космосе. В наибольшей степени это относится к учению Конфуция. В какой-то мере это объясняется самой природой конфуцианства как учения, ориенти-рованного на совершенствование социального устройства. Однако сам образ идеального монарха имеет более древнюю природу.
К древнейшим мифологическим образам относятся антропо-морфные божественные персонажи, под которыми подразумева-ются «пять небесных императоров», т.е. пять божеств-покрови-телей (повелителей) частей света, окрашенных сообразно соответ-ствующим зонам: Хуан-ди – центр, Цин-ди – восток, Янь-ди – юг, Бай-ди – запад, Хэй-ди – север.
Одним из самых ранних описаний «истинного» правителя в культуре Поднебесной можно считать образ Желтого императора – Юя. Он, как и властители шумерской традиции и египетские фа-
49
раоны, в определенной мере относится к изначальному, хтониче-скому устройству мира, поскольку «юй» – графема, стандартно входящая в название пресмыкающихся, насекомых и подобных им существ. К тому же, согласно сюжету, Юй имел облик дракона и мог превращаться в любое животное1. Неоформленность, вернее, отсутствие устойчивой формы, является характерной чертой, свя-зывающей нуминозную сущность с подземным, недокосмизиро-ванным миром.
В китайской космогонии, как в любой другой, фиксируется переход к социальному мироупорядочению, которое осуществля-ется непосредственно через фигуру императора: «И даровало Небо Юю великий план девяти разделений, и пришел тогда в порядок закон отношений». Центр пространства обязательно совпадает с сакрально-политическим фокусом культуры. Это место персони-фицировалось правителем и соотносилось с царской резиденцией и столицей. Через такое отношение определялась вся ойкумена, что находит отражение в самоназвании Китая – Центральное (Сре-динное) государство (Чжунго).
Космологическую семантику и сакральный смысл имели практически все виды общественно-прикладной и интеллектуаль-ной деятельности китайцев, также тесно связанной с образом пра-вителя уже на уровне мифологии. Так, идеальным административ-но-территориальным устройством Поднебесной полагалось ее подразделение на 9 областей, что стало еще одним самоназванием Китая. Административно-бюрократическая система возникла как состоящая из пяти центральных ведомств, соотносящихся с про-странственно-временными зонами: Срединное – министерство двора, Весеннее – министерство церемоний, Летнее – министерст-во военных дел, Осеннее – министерство юстиции, Зимнее – мини-стерство общественных работ.
В устройстве управленческого аппарата также присутство-вало следование числу «9», а аристократическое сословие объеди-няло носителей пяти титулов. Согласно правилам, в каждый кон-кретный сезон и месяц государю полагалось проживать в строго определенных апартаментах, носить одеяния нужного цвета, есть соответствующую пищу.
1 Кравцова М. История культуры Китая. СПб., 1999. С.158-168.
50
Особое значение для поддержания космического порядка, как считалось, имело музицирование, также подчиненное числу «5» (музыкальная пентатоника). Предполагалось, что через музыку приводятся в гармонию Небо и Земля и осуществляются принципы управления человеческим обществом: «…тот, кто разбирается в голосах, тем самым познает звук; тот, кто разбирается в звуках, тем самым познает музыку; тот, кто разбирается в музыке, тем са-мым познает способы управления государством». Музыка в дан-ном случае служит примером процесса перехода от состояния природного хаоса к гармонии1. Поэтому владение музыкальными инструментами было желательным для монарха и других правите-лей и чиновников.
Понятия «музыка» и «радость» записываются одним иерог-лифом «лэ». Впоследствии как радость определялось качественное внутреннее состояние правителя или истинного мудреца: «знаю-щий – радуется». Данное высказывание можно трактовать сле-дующим образом: «постигнувший истинное положение вещей сле-дует истинному ритму». При этом под знанием понимается не ра-ционально усвоенная совокупность положений, а интуитивное ощущение правильности своего поведения: «Если правитель лю-бит знания, но не следует Пути, в Поднебесной начнется великая смута» (Чжуан-цзы).
В древнейших памятниках китайской письменности уже встречается ряд понятий, дающих представление о взглядах ки-тайцев на систему управления. Так, термин «ли», традиционно трактуемый как ритуал, в политическом аспекте означал обряды, дающие возможность преодолеть политические конфликты и от-ражающие единство мира. Сюда входили также храмовые и двор-цовые ритуалы и формы поведения сановников по отношению к народу. В самом древнем из дошедших до современности текстов – «Ши цзин» упоминается дэ – добродетель государя, беспристраст-ного, заботящегося о жертвоприношениях, служащего образцом для народа, объединяющего империю и распространяющего на нее эту добродетель. Согласно «Книге истории» – «Шу цзин», небо «дает начало всем вещам и принципам, направляет ход истории посредством добродетельных государей, за чьими действиями оно
1 Кравцова М. История культуры Китая. ... С. 125.
51
наблюдает глазами народа. Если власть приобретает аморальные черты и вносит в мир дисгармонию, Небо восстанавливает поря-док, сменяя правителя (династию) или пуская в ход воспитатель-ные или наказующие меры». В этих же памятниках разворачивает-ся термин «и» как умение правителей и чиновников приносить благо своей стране1. Эта традиция в дальнейшем развитии культу-ры не исчезает, находя новые трактовки у конфуцианских и даос-ских мудрецов.
Хотелось бы особо отметить тот факт, что представления об идеальном правителе в конфуцианской и даосской традициях не противоречат друг другу, а скорее дополняются одна другой, фор-мируя онтологическую и социальную стратегии поведения монар-ха2. Так, даосская концепция совершенного правления была парал-лельна конфуцианской, причем вера в разработанную в конфуци-анстве идею «мандата Неба» была органической частью народного даосизма3.
И в том, и в другом аспекте правитель является центральной фигурой макрокосма, в соответствии с которой выстраиваются все базовые отношения: «Мудрый … сначала выправляет себя, а уже потом действует и делает лишь то, что может сделать безупречно»4. Это условие безупречности является одним из отправных, посколь-ку в фигуре государя, как в зародыше, закладываются законы суще-ствования социума: «Правитель – самый почитаемый из всех людей, так может ли он легкомысленно относиться к себе? Возбужденный правитель будет легко смотреть на распутство, а если правитель легко смотрит на распутство, он потеряет своих подданных» (Хэ-шан-гун). Ему вторит Ли Сичжай: «…Из-за легкомыслия теряют только то, что легко, а из-за волнения теряют господина внутри се-бя. Вот почему от легкомыслия теряют подданных, а от волнения теряют государя»5.
Е. Торчинов указывает, что для даоса личность миродержав-ного монарха являлась первообразом священнослужителя, видимо,
1 Кобзев А.И. Указ. соч. С. 176, 220, 245. 2 Антология даосской философии. М., 1994. С. 90. 3 Торчинов Е. Указ. соч. С. 35. 4 Антология даосской философии. С. 91. 5 Дао Дэ цзин. Указ. изд. С. 166.
52
в той мере, насколько он обеспечивал сохранение сакрального на-чала в мире. Об этом говорит и сам канон:
«Кто беспристрастен, тот царствен, Кто царствен, тот подобен Небу. Кто подобен Небу, тот претворяет Путь».
(Дао Дэ цзин, XVI) Устраивание мира по священному образцу становилось для
правителя вариантом естественного, почти физиологического от-правления, в том смысле, что это не должно было противоречить естеству самого императора: «Коли сердце покойно, и государство покойно. Коли в сердце порядок, и в государстве порядок. И поря-док, и спокойствие зависят от сердца. Когда сердце праведно внут-ри, из уст исходят праведные речи, и в народе все дела вершатся праведно. И вот когда правитель делает духовное усилие, народ ему следует. А потому воспитывают людей не наказания, устра-шают людей не угрозы» (Гуань-цзы)1.
В своем комментарии к «Дао Дэ цзин» Хэшан-гун развивает социальный аспект этой идеи: «Премудрый человек управляет госу-дарством как своим телом. Он устраняет желания и прогоняет забо-ты. Он умиротворен и безмятежен, скромен и уступчив и не прибе-гает к силе. Если преобразующее влияние внутреннего совершенст-ва (дэ) достигает своего предела, люди обретут покой»2. Аналогич-ное высказывание встречается у Ли Сичжая: «Мудрые цари древно-сти умели ко всему миру относиться, как к самому себе, и на все Срединное царство смотреть как на одного человека. Их правление проистекало из сердца»3. Идеальный государь выполняет функции космократа и демиурга уже самим своим присутствием. Дополни-тельные меры, применяемые правителем, только свидетельствуют о его несовершенстве:
«С наивысшими было так: низы просто знали, что они есть. Ниже стояли те, кого все любили и прославляли. Еще ниже стояли те, кого боялись, А ниже всех – те, кого презирали».
(Дао Дэ цзин, XVII) Идеальным состоянием для правителя становится ощущение
себя находящимся в неразрывном единстве с окружающим миром,
1 Дао Дэ цзин. Указ. изд. С. 525. 2 Там же. С. 72. 3 Там же. С. 286.
53
когда за многообразием конечных и несовершенных вещей находится нечто единое, несотворенное, совершенное начало:
«Предвечное совершенство не оставит тебя.
Тогда будешь как новорожденный младенец».
(Дао Дэ цзин, XVIII)
Об образе младенца и причинах возведения его в идеал для государя во многих культурах древности будет упомянуто ниже. Здесь отметим только исключительность такого состояния, его не-соизмеримую сложность, рождающую чувство противопоставлен-ности профанному миру:
«То, чего люди не любят, –
Это быть «сиротой», «одиноким», «беспомощным»,
Но так называют себя цари и князья».
(Дао Дэ цзин, XLII)
Примечательно, что высокий уровень интеллекта, развитое мышление не являются необходимыми характеристиками прави-теля: «Секрет мудрого правления состоит в том, чтобы распозна-вать умных, а не быть умным самому» (Ле цзы)1. Такова древнеки-тайская тактика менеджмента – уметь подобрать необходимых для успешного управления людей, ставя целью совершение минимума действий волевого личностного характера, перекладывая этот род деятельности на других. Отлаженная государственная машина по логике такого отношения должна функционировать как идеально настроенный музыкальный инструмент, уже не требующий допол-нительного вмешательства: «При мудром правлении… начальники в раздачах не упускают необходимого каждому, выдвигают (лю-дей), не упуская способностей каждого; видят все дела в целом и творят должное. Дела сами собой совершаются, слова сами собой произносятся, и Поднебесная развивается. (Один взгляд), взмах руки – и со (всех) четырех сторон народ прибывает. Вот это и на-зывается мудрым правлением» (Чжуан-цзы)2.
Согласно даосской традиции, личностное начало монарха растворяется в невыразимом вербально и ощущаемом на уровне интуиции принципе существования Космоса: «Следуй естеству всех вещей и не имей в себе ничего личного. Вот тогда в Поднебес-
1 Там же. С. 493. 2 Мудрецы Китая … С. 199.
54
ной будет порядок» (Чжуан-цзы)1. В другой формулировке это со-держится в самом даосском священном каноне: «В правлении бла-готворно смирение» (Дао Дэ цзин, VIII). Широко известная в за-падной синологии концепция недеяния – «у вэй» – внешне вроде бы абсолютно противоречит самой идее управления. Однако управление все равно осуществляется, только в непривычной для западной культуры форме: «Люби народ, блюди порядок в царстве – можешь ли пребывать в недеянии?» (Дао Дэ цзин, X). Недеяние кажется таковым только внешнему, непонимающему сути вещей наблюдателю. По своей истинной сути Космос выполняет своеоб-разный танец под нерасслышимый непривычным ухом аккомпа-немент. Именно это нефиксируемое рационально начало со своим ритмом определяет гармоничность существования государства.
Любые волевые действия правителя в такой ситуации явля-ются в той же мере нелепыми, как и сформулированные людьми политические учения, о чем уже упоминалось выше: «Только то-му, кто не заботится о Поднебесной, и можно доверить власть над нею» (Чжуан-цзы)2. Этот же мыслитель в комментариях к канону утверждает, что истинный правитель «предоставляет мир самому себе»3. Основным правилом для государя становится своеобразная экономность – не столько (или даже совсем) не экономического характера, а скорее психологическая, поведенческая:
«В управлении людьми и служении Небу Нет ничего лучше, чем быть бережливым».
(Дао Дэ цзин, LIX)
О бережливости здесь идет речь, скорее всего потому, что она является залогом несовершения лишних действий (под катего-рию таковых попадает вся мотивированная деятельность правите-ля), а также избавляет от излишней эмоциональности, неуместной в ситуации спонтанного следования космическим законам. Неда-ром трактат «Ле цзы» напоминает: «Тот, кто любит повелевать людьми, едва ли преуспеет в своем занятии, зато сам себя обречет на тяготы. А тот, кто умеет владеть собой, едва ли ввергнет мир в смуту, зато даст волю своей природе»4. И чем большими масшта-
1 Антология даосской философии. … С. 92. 2 Там же. С. 96. 3 Дао Дэ цзин. Указ. изд. С. 128. 4 Там же. С. 481.
55
бами характеризуется государство, тем меньше шансов навести в нем порядок путем увеличения активности: «Управлять большим царством – все равно что варить мелкую рыбу» (Дао Дэ цзин, LX). Значение недеяния в данном случае приобретает по смыслу отте-нок невмешательства. Последнее становится залогом полной само-реализации каждого элемента внутри социальной системы: «Не отнимай у способностей то, что они могут, и не вмешивайся в дела нижестоящих» (Гуань-цзы)1.
Практически ориентированная конфуцианская модель дея-тельности монарха не противоречит даосской уже потому, что по-следняя не соотносит концепцию недеяния с реальной системой связей социума. Отсутствие целенаправленных действий скрыва-ется за внешней ритуализированной деятельностью правителя: «А то, что приносит царству благо, нельзя показывать людям» (Дао Дэ цзин, XXXVI). Поэтому и у даосов можно найти формулы идеаль-ного правления, разнообразные аналоги которых находятся в фи-лософских построениях других культур древнего Востока:
«Когда в народе не страшатся грозной власти, Придет великая гроза. Не стесняй людей в их жилищах, Не причиняй вреда жизни других».
(Дао Дэ цзин, LXXII)
Можно привести и более развернутое руководство: «Государством управляй прямо, На войне применяй хитрость И посредством бездействия завладевай Поднебесной. Отчего мне известно, что это так? Вот отчего: Чем больше в мире запретов, тем люди беднее. Чем больше народ знает о выгоде, тем больше в царстве смуты. Чем больше в народе мастерства и сноровки, тем больше безделиц. Чем больше в стране законов и приказов, тем больше разбойников. Посему мудрые люди говорили: Я не действую, а люди сами становятся лучше, Я привержен покою, а люди сами себя выправляют, Я не вмешиваюсь в дела, а люди сами богатеют, Я не имею желаний, а люди сами блюдут простоту».
(Дао Дэ цзин, LVII)
1 Там же. С. 521.
56
Так вырисовывается даосская утопия – модель идеального саморазвивающегося государства, подчиняющегося изначально заложенному в Космосе порядку и ритму, проводником которых является стержневая для социума фигура государя. Последний при этом не должен преисполняться чувства собственной значимости, поскольку он выступает лишь в качестве своеобразного резонатора заложенной в мире музыкальности: «Умеющий управлять людьми, ставит себя ниже их» (Дао Дэ цзин, LXVIII). Древность считается тем временем, когда внешнее самоустранение государя из общест-венной жизни становилось залогом процветания страны: «Когда правил мудрый царь, успехи распространялись на всю Поднебес-ную, а не уподоблялись его личным; преобразования доходили до каждого, а народ не опирался (на царя); никто не называл его име-ни, и каждый радовался по-своему. (Сам же царь) стоял в неизме-римом и странствовал в небытии» (Чжуан-цзы)1.
Все функционирование устройства такого государства как раз и ориентировано на традиционно мифологическое следование изначально заложенному в древности образцу единства: «…путь управления государством и основа жизни народа – это быть бе-режным по отношению к предку. Посему мудрый правитель скры-вает свой облик, живет в убогом жилище, отказывается от пяти ароматов, устраняет звуки и цвета, знание свое черпает в неведе-нии, понимание находит в безмолвствующей речи» (Янь Цзунь)2.
По определенной модели должны строиться и отношения между государем и подданными (в конфуцианской традиции это – концепция «сыновней почтительности» – «сяо»). Даосские мысли-тели также помещают подчиняющиеся низы в созданную для кос-моса и общества ритмическую модель:
«Дает нам, простым людям, кормиться привольно. Не иначе как твоя державная власть. Ничего не ведая, ничего не помня, Следуем заветам царственных предков».
(Ле цзы)3
Предполагается, что достойное поведение и подчинение яв-ляются природным свойством любого человека:
1 Мудрецы Китая ... С. 170. 2 Дао Дэ цзин. Указ. изд. С. 295. 3 Там же. С. 441.
57
«Когда миром правят отстраненно – спокойно, Люди просты и добродушны. Когда миром правят придирчиво – строго, Люди хитры и коварны».
(Дао Дэ цзин, LVIII)
Как и деятельность монарха, поведение подданных в реаль-ной жизни далеко от задуманного идеала. «Дао Дэ цзин» скорбит: «Когда государство во мраке и смуте, являются «преданные под-данные» (XVIII). Здесь осуждается и неестественность усилия, де-лаемого для выражения преданности, и сама мысль о том, что у подданых возникает проблема выбора стратегии поведения. Ос-новной причиной отступления простых людей от заложенного из-начально порядка является опять же несоответствующее социаль-ной и онтологической роли поведение монарха: «Когда господин от-ходит от пути, слуга не способен действовать правильно» (Гуань-цзы)1. Тот же текст имеет и другой вариант перевода: «Когда верхи отходят от своего пути, низы не знают, как делать свое дело».
Забота о подчиненных людях, согласно даосской тради-ции, базируется отнюдь не на любви к ним. Любое чувство яв-ляется всего лишь эмоцией, не имеющей отношения к истинной причине всего происходящего: «В любви (правителя) к народу – начало погибели народа. Прекратить войны во имя справедливо-сти – означает создать предлог для (новых) войн… (Если Вы), государь, с этим покончите, будете совершенствовать в себе (чувство) верности, отвечая собственной природе, перестанете теснить (других), то люди уже избавятся от убийства, зачем же тогда (Вам), государь, кончать с войнами?» (Чжуан-цзы)2.
Определенная ответственность возлагается и на самих под-данных: «Долг велит слуге служить государю. Государь всюду, куда бы (ты) ни пришел; нигде в Поднебесной (от него) не укро-ешься… полная преданность государю – в том, чтобы служить ему и покоить его при любых условиях. Служить всеми помыслами, не изменяясь, радость ли перед (тобой) или горе, и даже в безвыход-ном положении принимать (все) спокойно как судьбу – это высшая добродетель» (Чжуан-цзы)3. Таким образом, правитель и подчи-
1 Дао Дэ цзин. Указ. изд. С. 520. 2 Мудрецы Китая ... С. 287. 3 Там же. С. 144.
58
ненный, господин и слуга представляют собой две равновесные крайние точки гармоничного социального образования, ориенти-рованные на одну цель – достижение гармонии в единстве общест-ва и Космоса.
Детально разработанной концепцией идеального правителя и соответствующего ему государственного устройства отличалось конфуцианство. Оно во многом отталкивается от базовых понятий древнекитайской мифологии, трансформируя их значение в сторону их социальной значимости. Так, для Конфуция одним из ключевых понятий становится «ли». Оно предстает «самой общей характери-стикой правильного общественного устройства и поведения челове-ка по отношению к другим и себе» и, как и «и», превращается в ка-чество «благородного мужа»1.
«Лунь юй» закладывает своеобразный костяк конфуцианской теории, формулируя основные положения во всех аспектах деятель-ности правителя. Поскольку учение Кун-цзы принципиально социа-лизировано, принцип Великого Пути заменяется следованием ри-туалу: «Путь древних правителей был прекрасен. Свои большие и малые дела они совершали в соответствии с ритуалом» (I, 12).
Формулируются и личностные характеристики государя: «Конфуций сказал: «(Кто) управляет с доблестью, (того можно) уподобить северному созвездию (Медведица – Полярная Звезда), которая остается (неподвижно) на своем месте, тогда как все звез-ды окружают (его в знак почтения или обращаются вокруг)» (II, 1). Налицо идея, схожая с даосским недеянием, трактуемым, однако, уже как неизменность, стабильность. Та же мысль прослеживается и в методах управления человеческим сообществом: «Если руко-водить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться (от наказа-ний) и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится» (II, 3). Ритуал здесь выступает в качестве сублимации мирового ритма, гораздо более доступного рядовому восприятию в этой модификации.
Организатором ритуальной практики должен быть реши-тельный, проницательный и одаренный человек, которому подхо-
1 Кобзев А.И. Указ. соч. С. 176, 245.
59
дит исполнять роль монарха (VI, 7). Упоминается пять прекрасных и четверо дурных характеристик государя, свидетельствующих о степени успешности его правления. К прекрасным относятся: бла-годетельствовать, не расходуясь; давать работу, не вызывая ропо-та; желать без алчности; быть довольным без гордости; быть вну-шительным без свирепости. Нежелательными считаются привычка казнить людей, не наставив их; торопливость, действия без преду-преждения; медлительность в распоряжениях в сочетании с требо-ваниями срочного выполнения и скаредность (XX, 2). Наделен-ность особыми качествами не должна в таком случае становиться источником самовозвышения, поскольку сами качества принадле-жат социуму: быть правителем понимается как «предупреждать народ своим примером и трудиться для него» (XIII, 1).
Идея «непринадлежности» монарха самому себе роднит конфуцианский и даосский каноны. Однако сходство на этом не заканчивается. Нельзя не отметить, что и в конфуцианском каноне сама идея космического первопринципа существования как орга-низующего начала все-таки присутствует, что сближает две фило-софские традиции: «иностранные народы имеют государя, не так, как у китайцев, (где) его нет» (III, 5). Идеальное государство внешне функционирует вроде бы само по себе и ни в коем случае не является вотчиной монарха: «О, как велики были Шунь и Юй, владея Поднебесной, они не считали ее своей» (VIII, 18). Ниже уточняется: «Шунь управлял, не действуя… Он ничего не делал другого, кроме как почтительно сидел, повернувшись лицом к югу» (XV, 5). Ритуал обеспечивает правителю соблюдение изна-чального первопринципа, исключая личную мотивацию любого действия и дополнительные усилия. Он не столько организует со-общество, сколько, устраняясь, дает возможность осуществления необходимого поведения людей: «Если с помощью уступчивости нельзя управлять государством, то что это за ритуал?» (IV, 13).
К ритуальному поведению, определяющему функционирова-ние социума в целом, относятся и «социальные» стороны характера носителя власти: «Если вы будете в общении с народом строги, то народ будет почтителен. Если вы проявите сыновнюю почтитель-ность к своим родителям и будете милостивы (к народу), то народ будет предан. Если вы будете выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, кто не может быть добродетельным, то народ будет
60
старательным» (II, 20). Можно говорить даже о некой «зеркально-сти» связей правителя и народа, взаимном отражении основопола-гающих качеств: «Если Вы пожелаете быть добрым, то и народ бу-дет добр» (XII, 19). О том же, но более подробно говорится в сле-дующем отрывке: «Когда правитель любит ритуал, никто в народе не осмелится быть непочтительным; когда правитель любит спра-ведливость, никто в народе не осмелится быть непослушным; когда правитель любит правду, никто в народе не посмеет быть нечест-ным» (XIII, 4). Эта взаимосвязь и обеспечивает задание определен-ного культурного ритма существования общества, который должен находить резонанс во всех точках культурного же пространства: «Когда ведешь себя правильно, то за тобой пойдут и без приказа» (XIII, 6). Оформленная таким образом ойкумена измеряется уже не физическим мерками, а степенью соответствия ритуальной норме, создающей ощущение гармонии: «Правление хорошо, когда окру-жающие (близкие) довольны, а отдаленные приходят к тебе» (XIII, 16). Любое действие становится в определенной мере возвратным: «Если не можешь усовершенствовать себя, то как же сможешь усо-вершенствовать других людей?» (XIII, 13).
Приводятся и рекомендации более частного характера: «Учитель сказал: «Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следует серьезно относиться к делу и опираться на дове-рие, соблюдать экономию в расходах и заботиться о людях; ис-пользовать народ в соответствующее время» (I, 5). Особо указыва-ется, что управление состоит в довольстве пищи, в достаточности военных сил и верности народа, причем последнее считается ос-новным фактором (XII, 7). Этим акцентом еще раз подчеркивается идея независимости системы государственного управления от еди-ничной воли, даже если ее носителем является монарх. Идеальное государство в этом смысле является гомогенным в социальном, культурном и даже экономическом аспектах, это целостное, спа-янное сообщество, существующее как организм: «Если у народа будет достаток, то каким же образом у государя будет недоста-ток?» (XII, 9).
Особое внимание уделяется и управленческому аппарату: «Если выдвигать справедливых людей и устранять несправедли-вых, народ будет подчиняться. Если же выдвигать несправедливых и устранять справедливых, народ не будет подчиняться» (II, 19).
61
Частично функцией формирования бюрократической машины на-деляются все ее звенья: «Сановником называется тот, кто служит своему государю истиною и удаляется, если находит невозможным так служить ему» (XI, 24). Служащий может и должен способство-вать, по мере своих возможностей, истинному порядку вещей – служить государю, не обманывая и «укоряя в лицо» (XIV, 22). Схема функционирования системы управления внешне проста и традиционно – мифологически строга: «Государь использует чи-новников, следуя ритуалу, а чиновники служат государю, основы-ваясь на преданности» (III, 19). Другими словами, каждый добро-совестно исполняет возложенную на него социальную роль.
Идеалом, как и у даооских мыслителей, становится древ-ность, непререкаемый канон: «Дом Чжоу зрел пример двух пре-дыдущих царствований, поэтому он так блистает просвещенно-стью» (III, 14).
Именно из-за мифологической природы конфуцианства, его тексты подчеркивают, что под управлением прежде всего подра-зумевается процесс «упорядочения», «наведения порядка», как на уровне отдельной личности, так и на уровне общества и государст-ва. Конфуций утверждает: «Управлять – значит упорядочивать»1. Примечательно, что данной позиции придерживаются и даосские мудрецы: «В управлении должен цениться порядок»2.
Необходимо отметить, что в этих учениях совсем не ставит-ся задача своеобразного просвещения толпы: «Народ можно заста-вить повиноваться, но нельзя заставить понимать почему» (VIII, 9). Масса понимается как спонтанно (но не всегда правильно) сущест-вующее образование, лишенное высших качеств в каждом из при-надлежащих к ней индивидов: «Можно лишить власти командую-щего войском, но нельзя заставить простолюдинов изменить свои намерения» (IX, 26). Ее можно только упорядочить силовым путем. Демократические идеи не имели в умах конфуцианских мыслителей никакой почвы: «Когда во Вселенной царит закон, то правительст-венная власть не находится в руках вельмож, и народ не участвует в обсуждении дел» (XVI, 2).
1 Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции
средневекового Китая. М., 1993. С. 82. 2 Дао Дэ цзин. Указ. изд. С. 93.
62
Наведение всеобщего порядка становится сверхзадачей и конечной целью культурного развития. В идеале тотальный поря-док должен охватить все сферы человеческой жизни и поведения: отношения между всеми слоями общества, нормы поведения, оде-жда, прическа, вкусы и привычки, психическая и речевая деятель-ность, вплоть до сексуальной жизни. Идеалом считалось гармо-ничное сочетание природной и культурной сущностей человека: «…если в человеке естественность побеждает культуру, он стано-вится дикарем; если же культура побеждает естественность, он становится ученым-книжником. Только тогда, когда культура и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится благородным мужем»1. В социальном плане это длительный про-цесс, требующий столетий для своего осуществления: «Даже когда приходит к власти истинный правитель, человечность может ут-вердиться лишь через поколение» (XIII, 12). Поэтому государь, даже использующий необходимые методы, не должен рассчиты-вать на скорые успехи и соблазняться малой выгодой (XIII, 17).
Возникшее в результате таких методов управления государ-ство должно представлять собой сбалансированную систему, ли-шенную крайностей экономической жизни: «Если государство управляется правильно, бедность и незнатность вызывают стыд. Если государство управляется неправильно, то богатство и знат-ность также вызывают стыд» (VIII, 13). В социальном плане таким способом организованное общество превращается в систему жест-ко распределенных социальных ролей и соответствующих им обя-занностей: государь должен быть государем, сановник – сановни-ком, отец – отцом, сын – сыном (XII, 11).
Если обощить результаты сопоставления конфуцианской и даосской традиций, то приходится признать не только наличие сходных положений внутри них, но и коррелируемость обоих ва-риантов политических учений. Политическая мысль Древнего Ки-тая не только подчинена идее «ухода», стратегии минимального внешнего управления. Она довольно отчетливо фиксирует дистан-цию, даже некий разрыв между нуминозной сущностью Космоса и профанной деятельностью людей. Эти разрывы проявляются не только в несоответствии реального положения дел заданным иде-
1 Абаев Н.В. Указ. соч. С. 84.
63
альным образцам. Гораздо более явно дистанция фиксируется тем обстоятельством, что правитель как персонаж не имеет сакральной природы. Как и в других традициях, его фигура выполняет деми-ургические функции, но сам носитель не обладает ореолом боже-ственности.
Детальная регламентация действий, опора на ритуал, попыт-ки прислушаться к музыке космического порядка – вот та страте-гия поведения, которая обеспечивает соответствие монарха своей роли. Здесь нет исконно присущей сакральной природы, которая бы гарантировала безукоризненность правителя. В мире, разделен-ном на божественные и профанные сущности, конфуцианство и даосизм относят монарха ко вторым. Человек не может стать бо-гом, его удел – следовать ритуалу.
Оговоримся, что такая трактовка противостоит собственно мифологической традиции, видящей в правителе Сына Неба и про-ецирующей на него образ Хуан-ди как идеального императора. В обыденном понимании наделение вершины социальной пирамиды чудесными свойствами было более естественным, чем проникнове-ние в тонкости конфуцианских построений и даосских парадоксов.
Сформированные в конфуцианстве и даосизме модели иде-ального управления, как это часто случается, были в значительной мере дистанцированы от практики. Перед началом эпохи колони-зации исследователи фиксируют не только увеличение этой дис-танции, но и постепенное окостенение политической системы Ки-тая. Бюрократия как посредник между правителем и подданными заменила собой гармоническую социальную иерархию, воспетую в трудах даооских мыслителей. Правила отбора чиновников и кон-троля над ними «заменяли в императорском Китае политическую теорию, рутина бюрократического администирования – участие в политике»1.
Империя как институт существовала в особом культурном пространстве, воспроизводя саму себя и игнорируя при этом изме-няющиеся социокультурные реалии. Она имела свой календарь праздничных дат, свой книжный язык, своих богов. Неоконфуци-анство сформировало особую так называемую «императорскую идеологию» – круг идей о государственной власти, кардинально
1 Малявин В.В. Указ. соч. С. 20.
64
отличающийся от других учений и, возможно, являющийся нача-лом формирования в Китае чистой политической теории, не со-пряженной с онтологическими, эстетическими и этическими по-строениями. Может быть, именно по этой причине исследователи не находят в неоконфуцианской идеологии большого философско-го содержания1. Открытое выступление против этой почти мета-физической для рядового члена общества власти беспощадно ка-ралось.
Отрыв реальной системы от идеального образца отчетливо осознавался и самими мыслителями средневекового Китая. Поэтому начиная с XIII в. китайская политическая мысль четко отделяла пре-емствование престола от наследования истины Великого Пути2, ве-дущего к изначальному единству. Несбывшейся мечтой стали идеа-лы древности, повторенные во II в. до н. э. Чао Цо: «Благая сила древних государей вверху поднималась до птиц, внизу простиралась на травы и водяных букашек. Все живое на Земле утопало в ней! Благодаря ей стихии мироздания пребывали в согласии, времена года сменяли друг друга в установленном порядке, солнце и луна излучали свет, дождь и ветер случались в нужное время, выпадали благодатные росы и созревали все пять хлебов, напасти и бедствия прекращались, возмутившиеся силы природы стихали, а народ не ведал недугов». Политическим идеалам суждено было замереть на философско-поэтических скрижалях древних трактатов.
Несмотря на это сама идея Великого Единства – Да тун – не только сохранилась в китайской традиции, но и нашла свое даль-нейшее воплощение в реформаторских учениях Китая на рубеже XIX–XX вв. Так, в 1904 г. в журнале «Цзюэ минь» было опублико-вано эссе «Разговор о теории эволюции и Датун», автор которого делал попытку совместить обе теории и утверждал, что в будущем наступит эра господства Да тун как неменяющегося высшего принципа3. Широко известный на Западе китайский мыслитель Кан Ю-вэй полагал, что конкурентная борьба в обществе недопус-тима, поскольку она является выражением эгоистических свойств
1 Кобзев А.И. Указ. соч. С. 26. 2 Малявин В.В. Указ. соч. С. 23, 26. 3 Борох Л.Н. Теории прогресса в китайской мысли начала XX в. (Лян
Ци-чао – Сунь Ят-сен) // Китай. Поиски путей социального развития. (Из истории общественно-политической мысли XX в.). М.: Наука, 1979. С. 10.
65
человека и ведет к беспорядкам, нарушающим единый принцип устройства мира1.
Большое внимание уделял высшим принципам (гун ли) и Сунь Ят-сен. Он признавал, что «в нашей совести… не погиб принцип высшей справедливости. Поэтому естественная эволю-ция и естественный отбор присущи развитию дикой материи. Высшие принципы (гун ли) и совесть (лян чжи) движут цивили-зацию нравственную (дао дэ)»2. Именно высший принципы мыс-литель считал причинами прогресса, поясняя, что если следовать им, то не повторятся захваты власти, длительные войны, пресе-кутся честолюбивые помыслы отдельных деятелей и будет пре-дотвращена гибель многих людей. Очевидно сходство такого подхода с отношением к сакральным текстам, воспроизводящим мировой порядок, в большинстве традиционных мифологий. В речи «Народное благоденствие и государственный социализм» Сунь Ят-сен провозгласил: «Если довериться «гун ли», то в бу-дущем мечты непременно осуществятся. Если же «гун ли» не следовать, то пусть будет много людей и много сил, в конце кон-цов все равно наступит поражение. В этом состоит неотврати-мость «гун ли»». Созвучно этому и другое высказывание лидера гоминьдана: «Если политическая партия желает сохранить свой престиж и осуществить свою цель – принести пользу государству и богатство народу, то ее политическая программа должна исхо-дить из потребностей времени, чтобы тем самым соответствовать всемирным «высшим принципам». Позже его позицию можно было кратко отразить таким положением: «Усиление и ослабле-ние мощи партии полностью зависит от степени умственных спо-собностей и морали (дао дэ) ее членов»3.
Сходные идеи прослеживаются еще у одного лидера и идео-лога гоминьдана – Ху Хань-миня. Он с симпатией отзывался о вы-сказывании Чжуан-цзы, что «корни всех школ уходят в древ-ность», называл древнюю систему землепользования «цзинь-тянь» «коммунистической системой общественного землевладения», а взгляд Мэн-цзы на распределение считал «чистым социализмом». Этот политический деятель выдвигал тезис о том, что через всю
1 Там же. С. 18. 2 Там же. 3 Там же. С. 20-21.
66
историю китайской мысли проходит идея «свободы и равенства»1. В статье «Познание трех народных принципов» мыслитель выска-зывает мнение, что «у всех людей, говорящих о мировой револю-ции, конечные цели обязательно сходятся». Для него в анархизме и суньятсенизме существовала общая цель – Да тун2. Все это застав-ляет говорить о морализации традиционных понятий в новейшей культуре Китая с одновременным сохранением основных мифоло-гических принципов отношения к мирозданию – ориентации на прошлое, цикличности в восприятии времени и др.
Подобная позиция была характерна и для представителей других направлений общественной мысли Китая. Так Янь Фу в своих комментариях к «Дао Дэ цзин» неоднократно отмечает сов-падение между полисной демократией Монтескье и идеальным общественным устройством по Лао-цзы3. У ярко выраженного за-падника Чжан Бин-линя можно встретить такие строки: «Когда мы говорим «революция» (гэмин), то имеем в виду не изменение ман-дата (гэмин), а возрождение славы (гуан фу): возрождение славы китайской расы, возрождение славы китайских округов и областей, возрождение славы политического управления Китая»4.
Внешнее многообразие подходов, тем не менее, при более подробном рассмотрении свидетельствует об устойчивости китай-ского политического мышления и его тесной связи с культурными традициями древности.
Индия: господство мифа Своя концепция политического сформировалась и в индоа-
рийской общности. Хронологически разнородные источники,
1 Русинова Р.Я. Ху Хань-минь и социализм // Китай. Поиски путей со-
циального развития. (Из истории общественно-политической мысли XX в.). М.: Наука, 1979. С. 208.
2 Там же. С. 212. 3 Крушинский А.А. Понятие «свобода» у Янь Фу // Китай. Поиски пу-
тей социального развития. (Из истории общественно-политической мыс-ли XX в.). М.: Наука, 1979. С. 66.
4 Калюжная Н.М. Теория революции Чжан Бинлиня // Китай. Поиски путей социального развития. (Из истории общественно-политической мысли XX в.). М.: Наука, 1979. С. 122.
67
дающие представление о функционировании механизма политиче-ских отношений Древней Индии, тем не менее содержательно не исключают друг друга и отражают единую и непротиворечивую модель, присутствующую во множестве аспектов политических отношений. Базовой идеей для нее можно считать, как и в других традиционных культурах, космократическую функцию системы управления обществом:
«Кто живет на земле, как бог, Все питающий, как царь, заключивший договоры».
(Ригведа, I, 73, 3) В данном случае четко очерчивается роль царя как демиурга,
не только упорядочивающего космическое и социальное простран-ство, но и устанавливающего символические границы для функ-ционирования социума: «Для всех неуклонно следующих прису-щей им дхарме, для варн и различных ашрам царь создан [как] ох-ранитель» («Законы Ману», VII, 35).
Более поздние источники дают развернутую трактовку этого положения: «Соблюдение (каждым) своего закона ведет на небо и к вечности. При его нарушении мир погибает от смешения каст. По-этому пусть царь не допускает нарушения своего закона живыми существами, ибо соблюдающий свой закон радуется здесь и после смерти. Весь мир с твердо установленными разграничениями между ариями, при установлении каст и ступеней жизни, охраняемый тре-мя ведами, процветает и не гибнет».
Этот отрывок из трактата «Артхашастра как наука политики» (I, 3) как нельзя лучше иллюстрирует связь между набором мифоло-гических образов, их запечатленностью в сакральных текстах, уст-ройством общества и его правителем как стержневой фигурой, свя-зывающей многогранный Космос и социум воедино: «То, что обес-печивает сохранение и благополучие философии, троицы вед и уче-ния о хозяйстве, есть жезл, управление им есть наука о государст-венном управлении, она – средство для обладания тем, чем не обла-дали, для сохранения приобретенного, для увеличения сохраненного, и она распределяет среди достойных приращенное добро. С нею свя-заны мирские дела, поэтому тот, кто хочет (успеха) в мирских делах, пусть всегда будет с поднятым жезлом… у кого жезл мягкий, тем пренебрегают… жезл, употребляемый с истинным пониманием, приносит людям чувство законности, пользу и наслаждение» (I, 4).
68
Фигура правителя наделяется исключительным священным статусом, подчиняющимся, как уже указывалось выше, только брахманам – воплощению божественного порядка.
37. Царь, встав утром, пусть почтит брахманов, знатоков тройст-венного знания, мудрых в управлении и поступает по их [со-ветам].
38. Пусть всегда чтит брахманов, пожилых, знающих Веду, чис-тых: ведь чтущий пожилых почитается даже ракшасами.
39. Даже [будучи] смиренным, надо постоянно заимствовать у них смирение, ведь смиренный царь никогда не погибает.
40. От отсутствия смирения погибли многие цари вместе с достоя-нием; благодаря смирению даже отшельники наследовали царства.
41. От отсутствия смирения погиб Вена, царь Нахуша, Судас, сын Пиджаваны, Сумукха и Ними.
42. Но благодаря смирению Притху и Ману достигли царствова-ния, Кувера – [положения] владыки богатств
и сын Гадхи – брахманства. 43. У знающих три Веды [следует изучать] тройственное знание,
изначальное скусство управления, логику, познание атмана; у народа – хозяйство и занятия.
(«Законы Ману», VII)
Монарх по своей природе способен игнорировать ритуаль-ную нечистоту, сакрализуя действие своим участием. «Законы Ману» (V), чье название переводится Г.Ф. Ильиным как «Настав-ление Ману в дхарме»1, означают описание функционирования социума и уделяют особое внимание этой обрядовой исключи-тельности монарха.
93. Нечистоты не существует для царей, для исполняющих обет и для занятых в жертвоприношении саттра, ибо [первый} воссе-дает на троне Индры, [а последние два] всегда соединены с брахмой.
94. Для царя, [сидящего] на величественном троне, очищение ус-тановлено немедленное; основание для этого то, что он воссе-дает [на престоле] для защиты подданных.
95. [То же применимо к родственникам] убитых во время бунта или в сражении, молнией или царем, ради [спасения] коровы и брахма-на, и к тем, кого царь желает [видеть чистыми].
1 Законы Ману. Цит. по: www. Philosophy.ru/library/asiatica/indika/samhita/manu/rus.html
69
96. Царь – воплощение восьми хранителей мира: Сомы. Агни, Солнца, Анилы, Индры, владык богатств и воды и Ямы.
97. Так как царь поставлен владыками мира, то для него не суще-ствует нечистоты; ведь чистота и нечистота, смертных обязаны своим происхождением и устранением владыкам мира.
Такое исключительное положение правителя объясняется наличием сакральных элементов в самой его природе.
3. Ибо, когда люди, не имеющие царя, рассеялись во все стороны от страха, владыка создал царя для охраны всего этого [мира],
4. извлекши вечные частицы Индры, Анилы, Ямы, Солнца, Агни, Варуны, Луны и владыки богатств.
5. Так как царь был создан из частиц этих лучших из богов, он блеском превосходит все живые существа.
6. Как солнце, он жжет глаза и сердца, и никто на земле не может даже смотреть на него.
7. По могуществу он – Агни и Вайю, он – Солнце, Сома он – царь дхармы, он – Кувера, он – Варуна, он – великий Индра.
8. Даже [если] царь – ребенок, он не должен быть презираем [ду-мающими, что он только] человек, так как он – великое божест-во с телом человека («Законы Ману», VII).
Архаические тексты в своем определении охватывают не толь-ко круг обязанностей властителя, но и детально описывают обяза-тельные качества главы человеческого коллектива как в аспекте об-щественной деятельности, так и в плане личностных характеристик.
44. Надо днем и ночью усердно заботиться об обуздании чувств, ибо [только] обуздавший чувства может заставить подданных пребывать в повиновении.
45. Надо тщательно избегать пороков, имеющих плохой конец – десять, порожденных желанием, и восемь, порожденных гневом.
46. Ведь царя, приверженного к порокам, порожденным желанием, покидают богатство и дхарма, но [приверженного] к порокам, порожденным гневом, – даже душа.
47. Охота, игра в кости, спанье днем, злословие, женщины, пьянст-во, пение, музыка, танцы и бесцельное путешествие – группа из десяти [пороков], порожденных желанием.
48. Доносительство, насилие, вероломство, зависть гневливость, нару-шение [прав] собственности и оскорбление словом и палкой – груп-па из восьми [пороков], порожденных гневом.
49. Ту жадность, которую все мудрецы определили как корень их обоих, надо старательно преодолевать; обе эти группы проис-ходят от нее.
70
50. Пьянство, игра в кости, женщины и охота – по порядку [пере-числения] – эту четверку надо считать наихудшей в группе [по-роков], порожденной желанием.
51. Удар палки, брань и нарушение [прав] собственности эту тройку надо считать наихудшей в группе [пороков], порожденных гневом.
(«Законы Ману», VII)
Считалось, что частные пороки потенциально могут привес-ти к всеобщей, космической катастрофе: «Царь … не обуздываю-щий своих чувств, немедленно гибнет, хотя бы он был владыкой четырех стран света» («Артхашастра», III, 6). Катастрофичность такой ситуации связана отнюдь не с ценностью жизни самого царя, а с тем обстоятельством, что его существование является залогом благополучия общества: «Если основы (государства – С.Р.) явля-ются несовершенными, то государь, обладающий личными качест-вами, должен их усовершенствовать. Тот же, который лишен по-ложительных качеств, губит основы государства, хотя бы они бы-ли в состоянии роста и благополучия. Поэтому царь, не имеющий положительных качеств и у которого непрочные основы, погибает от своих подданных или подпадает под власть врагов» («Артхаша-стра», XCVI, 1).
Одной из таких необходимых для правителя характеристик является его варновый статус. Сама идея варнового разделения общества говорит о регламентированности социальных ролей и своеобразной генетической предназначенности человека к тому или иному роду деятельности. Правительственная функция жестко связана с варной кшатриев как воплощением волевого и силового начала. «Законы Ману» (IV) гласят:
«84. Пусть не принимает даров от царя, не происходящего из рода кшатриев, ни от мясников, маслобоев и кабатчиков, ни от жи-вущих доходами от проституции.
85. Маслобойня равна десяти скотобойням, кабак – десяти масло-бойням, дом терпимости – десяти кабакам, царь, [упомянутый только что], равен десяти домам терпимости.
86. [Такой] царь считается равным мяснику, который имеет десять тысяч скотобоен; принятие дара от него – ужасно.
87. Кто принимает дары от царя жадного, действующего вопреки предписаниям шастр, тот последовательно идет в двадцать один ад…».
Впрочем, варновой принадлежностью определяется род дея-тельности всех членов социума, и гарантом этого должен высту-
71
пить сам монарх: «Страна того царя, для которого шудра с его ве-дома выносит определение дхармы, гибнет, как корова в трясине» («Законы Ману», VIII, 21).
Примечательным является тот факт, что при отсутствии в индийской культуре до эпохи колонизации идеи человека как цен-трального либо значимого элемента в космическом устройстве, политическая теория делает упор на особенности личности: «Госу-дарь, обладающий личностными качествами, богатством и совер-шенными основами государства, является основой правильной по-литики и называется тем, кто имеет основание победить» («Арт-хашастра», XCVII, 2). Параллели можно найти и в более ранних памятниках.
30. Не может управлять правильно тот, у кого нет друзей, (кто на-делен] глупостью, жадностью, необразованностью, привержен-ностью к мирским утехам.
31. Наказание может быть наложено чистым, правдивым, следую-щим тому, что сказано в шастрах, имеющим хороших помощ-ников и умным.
32. В своей стране надо вести себя правильно, строго наказывать врагов, быть прямым по отношению к верным друзьям, преис-полненным терпения к брахманам.
33. Слава царя, живущего таким образом, даже существующего сбором колосьев, распространяется в мире, как капля кунжут-ного масла на воде.
34. Поэтому же слава царя, живущего противоположно, несдер-жанного, сжимается, как капля коровьего масла на воде.
(«Законы Ману», VII) Объяснение этой внешней несуразности дает сама «Артха-
шастра»: «Основами для мира и труда являются шесть методов политики. Результатом (применения) этих методов является упа-док, застой и развитие. При этом человеческими (возможностями) является правильная или неправильная политика. Успех же или неуспех являются посланными божеством. Ибо действия божест-венные и человеческие приводят в движение мир… Человеческое (действие) есть то, что совершается видимым образом. Если при этом достигается благополучие, то это правильная политика. Если же вызывается несчастье – это неправильная» (XCVII, 2). Всей своей деятельностью монарх вписывается в культурный контину-ум, как в пространственном, так и во временном аспекте: «Знаю-щий добро и зло [своих действий] в будущем, принимающий бы-
72
строе решение в настоящем, знающий итог дел в прошлом – не побеждается врагами» («Законы Ману», VII, 179).
Основы правильной политики закладываются еще в «Ригведе»: «Тот царь не пошатнется, у кого Индра Пьет редкий напиток – сому, смешанный с коровьим молоком. Со (своими) воинами он пригоняет (добычу), убивает врага. Он мирно живет в (своих) пределах, зовется счастливым, про-цветает».
(Ригведа, V, 37, 4) В этой формулировке фактически заложен алгоритм успеш-
ного отправления обязанностей правителя (позднее автор «Артха-шастры» напишет: «…не следует вызывать причины, создающие истощение, алчность и враждебность подданных»; (CVIII – CX, 5), тесно привязанный как к вертикальному членению мира (имеется в виду связь с миром богов), так и к горизонтальной стратификации – воспроизводству отношения – «свое и чужое», «мы и варвары», «Хаос и Космос». Поэтому функции царя у ариев заключались пре-жде всего в организации жертвоприношений. Он также устанавли-вал и поддерживал общественный порядок внутри племени, защи-щал свою территорию и по возможности расширял ее пределы.
Одним из наиболее значимых древних ритуалов, требующим участия монарха, была ашвамедха – жертвоприношение коня1. Участвовать в нем мог только царь-победитель, который таким способом получал титул «Владыки мира». Благодать от жертвы распространялась на все царство в целом, поскольку она восста-навливала должный порядок вещей в государстве, обеспечивала плодородие и процветание. Поэтому следует включить ашвамедху в набор действий демиургического характера, приписываемых правителю.
В сам обряд входил тщательный, ритуально регламентиро-ванный уход за выбранным конем всех членов царской семьи и символическое совокупление с ним царицы. В этом случае фигура коня совмещалась одновременно с самим царем, космической жертвой и землей как плодоносящим началом. Недаром Шатапат-ха-брахмана утверждает: «На самом деле ашвамедха – это все, и тот, кто, будучи брахманом, не знает ничего об ашвамедхе, не зна-
1 Подробное описание ритуала заимствовано у: Элиаде М. Указ. соч.
Т. 1. С. 202 и далее.
73
ет ничего ни о чем, это не брахман, и он заслуживает того, чтобы его лишили достояния» (XIII, 4, 2, 17).
Проведение ритуала символизировало очередное установле-ние социальной иерархии. Сам конь олицетворялся с кшатра – царской сущностью, а также с Ямой – первым человеком и власти-телем царства мертвых, Адитьей – порождением изначальной не-оформленной сущности и Сомой – божеством священного напит-ка, необходимой частью жертвоприношения. Выбор коня для тако-го обряда – решение архетипического характера, поскольку в большинстве культур лошадь выступает как животное-посредник, связующее разные миры и наделенное хтоническими характери-стиками. Достаточно вспомнить этот образ, практически не транс-формированный, в русских народных сказках. Хтоническое начало связывает коня с образом Ямы, а посредническое – с Сомой. Со-вмещением образов царя и коня еще раз утверждается погранич-ный характер фигуры правителя, превращение его в точку взаимо-обращения Космоса и Хаоса.
Принесение в жертву коня, таким образом, является эквива-лентом царской жертвы в Месопотамии и Египте, а также ритуала пурушамедха в самой Индии. На наш взгляд, доминирующим мо-тивом этих обрядов становится не только мотив истощения энер-гии правителя, но и сама идея посредничества. Царь как наиболее сакральное существо в этом профанном, срединном мире пред-ставляет собой единственный способ восполнить образующиеся в ходе существования мира пробелы в мироздании.
Для сравнения можно привести ритуал жертвоприношения детей Молоху у финикийцев. Поскольку дети по своей природе имеют сакральный статус как воплощение нерасчлененного со священным началом существования, то они являются идеальной жертвой. Тоска по утраченному единству проявляется в мифах о поруганных девственницах, обретающих ужасную природу (Гор-гона, изнасилованная Посейдоном), о жертвоприношениях девст-венниц как залоге успеха задуманного предприятия, о боголюдях и божественных пророках, рожденных от девственницы, о величии и силе младенцев, еще не различающих для себя мир. Ребенок свя-щенен своей нерасчлененной целостностью, в которой нет проти-воположностей в любом их проявлении. Таким же состоянием це-лостности является и девственница как состояние ненарушенно-
74
сти, когда мужского начала как противоположного как бы нет. По-этому свадьба как фиксация факта двойственности катастрофична: два человека представляют два начала в семье, предельную разде-ленность. Недаром свадьбы сопровождались плачем, сходным с похоронным. Ребенок здесь – это временное восстановление един-ства, решение состояния разделенности.
В младенце воплощается весь мир в потенциале. Бог-младенец становится основой нового этапа космогонии – нового периода разделения. Так фиксируется парадоксальное существова-ние человека – он стремится вернуться к единому и не может, по-скольку существование – это разделение, а единство равносильно Хаосу.
Это возвращение представители традиционных культур пы-таются актуализировать в ритуалах, скрыто или явно утверждаю-щих, что прошлое было лучше, и детство предпочтительнее зрело-сти: «будьте как дети», «устами младенца глаголет истина». Риту-ал ашвамедхи – один из таких способов устранения нарушаемого единства человека и космоса, в котором центральной фигурой ста-новится правитель как один из вариантов сакрального начала.
Кстати, в этом отношении логична существующая во многих культурах трактовка смерти как нового рождения, возвращения к единому началу. Та же Шатапатха-брахмана свидетельствует: «Че-ловек рождается три раза: первый раз – от родителей, второй – ко-гда приносит жертву, третий – когда он умирает, и его кладут на костер, после чего он вновь обретает существование» (XI, 2, 1, 1)1.
Аналогичными ашвамедхе свойствами обладал и ритуал рад-жасуйя, выполнявший функцию восстановления космоса в первич-ном виде. В его ходе правитель заново проходил весь жизненный путь – от зачатия и иерогамии к владычеству над тремя мирами, что еще раз подтверждало его божественный статус. В самом обряде царь еще раз онтологизируется, уподобляясь Мировой Оси и закрепляя стороны света и времена года2.
Наряду с практикой жертвоприношений в сферу деятельно-сти монарха входили и вопросы «светского» характера, если во-обще можно говорить о светском начале в традиционной культуре.
1 Элиаде М. Указ. соч. Т. 2. С. 204. 2 Там же. С. 206.
75
«Законы Ману» (VII) предлагают подробную схему организации управления с элементами кадрового отбора, как во внутренней, так и во внешней политике для успешного осуществления необходи-мых действий.
58. Но с отличнейшим из всех них ученым брахманом пусть царь держит самый важный совет относительно шести форм политики.
59. Надо всегда с полным доверием сообщать ему обо всех делах; обдумав с ним, пусть затем исполняет [любое] мероприятие.
60. Надо назначить также других служащих – честных, умных, твердых, собирающих богатства надлежащим образом и хо-рошо испытанных.
61. Сколько человек нужно для надлежащего исполнения дел, столько способных, предусмотрительных и неутомимых и на-до назначить.
62. Из них следует назначить храбрых, способных, родовитых, че-стных в делах – в рудники и мастерские, робких – во внутрен-ние покои дворца.
63. Посла следует назначать сведущего во всех шастрах, понимаю-щего [скрытый смысл] непроизвольных движений, выражений лица, жестов, честного, способного, родовитого.
64. Посол для царя рекомендуется преданный, честный, опытный, памятливый, знающий [надлежащее] место и время [для дей-ствия], представительный, бесстрашный, речистый.
65. Армия зависит от военачальника, контроль [над подданными] – от армии, сокровищница и страна – от царя, мир и его противо-положность – от посла.
66. Ибо только посол соединяет и разъединяет союзников, [имен-но] посол распоряжается делом, которым люди разъединяют-ся.
67. Пусть в делах он выведает намерение [другого царя] по его тайным движениям, жестам, [а также] выражению лица, пове-дению и жестам слуг.
68. Узнав точно [от посла] намерение другого царя, [царю] необ-ходимо приложить старание, чтобы тот не повредил ему.
На наш взгляд, детальность советов и предписаний является отличительной чертой мифологического взгляда на мир, в рамках которого не существует незначительных событий и действий. Осуществляемое на любом уровне социума действие является од-новременно сопряженным с жизнью Космоса и является взаимо-обращаемым. Основным мотивом «правильного» действия высту-
76
пает архетипическая потребность человека в существовании в ста-бильном и упорядоченном мире. Способом сохранения такой ста-бильности должен был стать контроль на всех уровнях.
121. В каждом городе надо назначить одного, думающего обо всех делах, высокого по положению, грозного на вид, подобного планете среди звезд.
122. Пусть он всегда посещает всех тех [служащих] сам; поведе-ние их в сельских местностях пусть проверяет должным обра-зом посредством соглядатаев.
123. Ведь слуги царя, назначенные для охраны [народа], бывают большей частью порочными, стремящимися к захвату чужой собственности; от них нужно защищать этот народ.
124. Пусть царь, забрав имущество тех [служащих], которые по злонамеренности вымогают деньги у тяжущихся, отправит [их] в изгнание («Законы Ману», VII).
В практическом аспекте действия правителя в такой же ме-ре подвергались контролю – в том, что касается поведения и ближайшего окружения: «(Для указания) границы дозволенного пусть он ставит себе учителей или министров, которые пусть от-вращают его от опасных положений, или, когда он тайно преда-ется увлечениям, пусть они отвлекают его от этого указанием на меру времени» («Артхашастра», VII, 7). Царю предлагается стро-го расписать свои день и ночь согласно показаниям водяных ча-сов, подробное описание которых занимает почти половину гла-вы («Артхашастра», XVI, 19). Именно он сам является залогом успешного функционирования близкого окружения и общества целиком, вне зависимости от личных амбиций и пристрастий: «Во всех случаях (государь) должен обо всех, подвергшихся бед-ствиям, заботиться как отец» («Артхашастра», LXXVIII, 3). В символическом аспекте именно монарх считался и гарантом со-хранения экономических отношений, и воплощением принципа справедливости в социуме.
27. Царю полагается охранять имущество ребенка – наследство и прочее, – пока он не вернется [из дома гуру] или не выйдет из
малолетства. 28. Следует установить опеку для женщин бездетных, лишивших-
ся семьи, для жен и вдов, верных мужьям, и для больных.
29. Добродетельному царю надо наказывать как воров тех родст-венников, которые захватывают [их имущество] при их жизни.
77
30. Царю надлежит заставить хранить три года имущество, хозяин которого скрылся; до истечения трех лет – может получить хозяин, после – может забрать царь.
(«Законы Ману», VIII) Упоминание о патриархально-родственных связях правителя
и подданных – это и символический возврат к общей паре перво-предков, и перенос на общество отношения бога-демиурга к Кос-мосу, и подтверждение того, что мифологическое пространство замкнуто и ориентировано на центр: «Жилище еретиков и чандалов (располагается) на краю места сожжения трупов. Пусть он не допус-кает посторонних, наносящих ущерб городу и стране. Пусть он либо выбросит их всех за пределы населенной области, либо принудит платить налоги» («Артхашастра», XXII, 4).
В более ранних «Законах Ману» (VII, 69) содержатся требо-вания не только к качеству места существования государства, но и к его локализации: «Проживать следует в местности живописной, изобилующей зерном, населенной главным образом ариями, здо-ровой, приятной, имеющей покорных соседей, обеспечивающей себя средствами существования». Косвенно этот отрывок является свидетельством изначально кочевой культуры ариев, перманентно находящихся перед возможностью выбора, не существующих в единожды закрепленной ойкумене.
Регламентации проникают во все аспекты деятельности мо-нарха: «Счастье царя в счастии подданных, в пользе подданных – его польза. Польза для царя – не то, что ему приятно, но что при-ятно подданным… Поэтому царь, всегда напряженный в работе, пусть то велит делать, что нужно» (XVI, 19). И опять речь не идет о выражении интересов отдельных слоев социума или всего общества в целом. За фигурами правителя и его подчиненных, ста-рательно выполняющих свои должностные обязанности и предпи-сание, в который раз отчетливо вырисовывается неумолимый «ри-та» – закон существования Космоса, перед которым все равны. В судебной практике данный принцип иллюстрируется запретом для правителя вносить в проходящие процессы элементы волевого управления, поскольку сам монарх, как и еще ряд категорий чле-нов общества, является надмирной фигурой.
43. Пусть ни сам царь, ни его слуга не побуждают [других] начи-нать тяжбу и не прекращает ни в коем случае иска, предъяв-ленного другим.
78
65. Не может быть допущен в качестве свидетеля ни царь, ни ремесленник, ни актер, ни знаток Веды, ни изучающий Веду, ни отрекшийся от мирских уз…
(«Законы Ману», VIII) Внешне выражением такой надмирной природы становится
эмоциональная амбивалентность правителя и организация своего поведения в соответствии с ритуалом.
171. Взимание того, что не полагается брать, и отказ от того, что полагается брать, расцениваются как слабость царя, и он по-гибает и после смерти и в этом мире.
172. От взимания полагающегося ему, от [предотвращения) сме-шения варн, от охраны слабых возникает могущество царя, и он процветает и после смерти и в этом мире.
173. Поэтому государю, подобному Яме, отбросив симпатии и антипатии, надо поступать, как Яма, подавляя гнев, обузды-вая свои чувства.
174. Того злонамеренного царя, который по глупости решает су-дебные дела не по дхарме, враги быстро подчиняют.
175. К тому же, который, обуздывая любовь и ненависть, решает дела по дхарме, подданные стремятся, как реки к океану…
(«Законы Ману», VIII)
В реализации этого порядка царь наделяется безграничной властью, которая осуществляется во всевозможных формах, что также связано со священной природой правителя.
9. Огонь сжигает только одного человека, неосторожно прибли-жающегося, огонь же царя сжигает семейство со скотом и на-копленным имуществом.
10. Рассмотрев основательно предстоящее дело, [свою] способ-ность [исполнить его], место и время [исполнения], он ради исполнения дхармы принимает неоднократно различный вид.
11. В удовлетворенности его – Падма-Щри, в могуществе – побе-да, в гневе живет смерть, ибо он преисполнен всяческой энер-гии.
12. Но кто по глупости ненавидит его, несомненно, погибает, ибо царь быстро принимает меры для его гибели.
13. Поэтому пусть [никто] не нарушает дхарму, которую царь ус-тановил в пользу желательных для него [людей], и даже дхар-му, нежелательную для нежелательных.
(«Законы Ману», VII)
Можно сказать, что сама деятельность государя является фор-мой богослужения, по своей природе уже не требующей дополни-
79
тельных действий сакрального характера: «Царь, охраняющий со-гласно дхарме живые существа и казнящий заслуживающих наказа-ния, [этим как бы] совершает ежедневные жертвоприношения с сот-нями тысяч дарений» («Законы Ману», VII, 306).
Интересно отметить, что при этом царская власть не была наследственной и ограничивалась общественным собранием (samiti). Неудовлетворительное исполнение монархом своих функ-ций должно было неминуемо повлечь за собой его смещение: «Царь, который по неразумию беспечно мучает свою страну, не-медленно лишается вместе с родственниками страны и жизни. Как от мучения тела гибнут жизни людей, так от мучения страны гиб-нут жизни царей» («Законы Ману», VII, 111-112). Такой правитель становится воплощением негативного начала в мире и заранее об-рекает себя на мучения в следующих жизнях.
309. Надо знать, что царь, не соблюдающий правил поведения, не-
верующий, жадный, не охраняющий [подданных], губящий
их, идет в преисподнюю.
316. Будет ли вор наказан или прощен, он освобождается от [ви-
ны] воровства, но царь, не наказав его, принимает на себя ви-
ну воровства.
346. Но царь, который прощает совершающего насилие, быстро
идет к гибели и подвергается ненависти [народа].
(«Законы Ману», VIII)
«Артхашастра» особенно оговаривает нежелательность опо-ры на родственные связи: «Царь, если сам охранен, охраняет цар-ство от близких и врагов, прежде всего от жен своих и детей… Пусть царь не возводит на престол даже единственного сына, если он беспутен» (XIII, 17). Это указание свидетельствует не о по-строении в Древней Индии правового государства с главенством закона, сформулированного людьми, а в очередной раз подчерки-вает приоритет закона космического характера, элиминирующего личные интересы.
Укрепление и поддержка позиций царя осуществлялись, как уже упоминалось выше, прежде всего с помощью военных побед1. Безопасность общества считалась важнейшей обязанно-стью правителя.
1 Елизаренкова Т.Я. Указ. соч. С. 448.
80
1. [Теперь] я изложу вам дхармы царя, какой образ жизни следует
вести царю, каково его происхождение и каков [путь достиже-
ния] высшего успеха. 2. Кшатрием, получившим посвящение, как предписано Ведой,
должна совершаться, как положено, охрана всего этого [мира]. («Законы Ману», VII)
Этим подчеркивался посреднический характер деятельности главы социума и функциональность любой социальной роли в тра-диционной культуре. Под функциональностью здесь понимается соотвествие любого индивиду своему месту и необходимость вы-полнения соответствующих обязательных действий. В случае с царем эта обязательность в наибольшей мере приобретала онтоло-гический статус: «Когда все законы нарушаются, царь (сам) явля-ется проводником закона, охраняя нравы и обычаи народа в преде-лах четырех каст и четырех ступеней жизни. Образ действия царя, защищающего народ согласно закону, есть залог его будущего, небесного существования… Власть эту царь должен применять одинаково как к собственному сыну, так и к врагу своему, в соот-ветствии с их поступками. Если же закон находится в противоре-чии с правительственными распоряжениями, то последним отдает-ся предпочтение, ибо в этом случае книга (закона) теряет силу» («Артхашастра», LVII–LVIII, 1).
Необходимо отметить, что защита страны и ведение войн трактовались и в онтологическом, и в сугубо практическом аспек-те, с акцентом социального долженствования, обусловленного принадлежностью правителя к варне воинов.
87. Царь, охраняющий народ, будучи вызван [на бой врагом] рав-ным, более сильным или более слабым, исполняя дхарму кшатрия, пусть не уклоняется от битвы.
88. Храбрость в битвах, защита народа, почитание брахманов – луч-шее средство для царей достичь блаженства.
89. Цари, взаимно желающие убить друг друга в битвах, сражаю-щиеся с крайним напряжением сил, с неотвращенным лицом, идут на небо.
(«Законы Ману», VII)
К непререкаемым обязанностям и правомочиям правителей примыкают указания, детально регламентирующие поведение подданных.
«Кто почитал царей, праведных вождей, И кого они усиливают постоянным процветанием,
81
Тот едет богатым, первым на колеснице, Он прославлен на жертвенных собраниях Как раздающий богатство».
(Ригведа, II, 27, 12) Здесь еще раз подчеркивается фертильная функция правите-
ля, концентрация в нем плодоносящей силы, а также принцип гар-моничного сочетания различных социальных слоев, который в ря-де других культур выражается в обряде с характером потлача. В качестве обратной связи предполагалось наличие у подданных за-щиты от врагов в лице справедливого монарха.
143. Тот царь мертвый, [а] не живой, который вместе со слугами видит, как взывающих [о помощи] подданных враги угоняют из страны, [и не принимает мер к их защите].
144. Высшая дхарма кшатрия – охрана подданных, ибо царь, вку-шающий перечищенные плоды, [тем самым] принимает на се-бя обязательство по исполнению дхармы.
Политические идеи Древней Индии отчетливо указывают на миф как свой источник. Именно он – организатор целостного куль-турного пространства, основа миропонимания – дает долгосрочный рецепт идеального государственного устройства: «Государь и госу-дарство – вот … все государственные факторы. Для государя (главным затруднением, бедствием) является смута внутренняя или внешняя … внутренняя является более зловредной» (CXXVIII, 2). Власть чужестранца, неправильные методы управления и отсутст-вие воспитания в науках – вот Лернейская гидра политических мыс-лителей Индии в архаическое время. Предложенная система успеш-ного правления основательна, гармонична и, самое главное, легити-мизирована традицией.
Выход за пределы мифологического сознания осуществляет-ся только на уровне перехода к новой форме верований – буддиз-му, что совпадает с созданием огромной империи. Речь идет о царе Ашоке, последнем великом правителе из династии Маурья. Не-смотря на почитание Будды он обнаружил традиционную для Ин-дии терпимость к другим видам богопочитания. В его Двенадца-том наскальном указе говорится, что «Царь, друг богов, призирает дружественным взглядом на все секты, шаманов и мирян и удо-стаивает их как щедротами, так и различными почестями. Но ни дарам, ни почестям друг богов не придает такой ценности, как раз-витию вглубь всех сект». С одной стороны, это свидетельствует о
82
сохранении традиций индийской культуры, а с другой подтвер-ждает новую, универсальную природу религиозного мироотноше-ния. Яркое свидетельство этого – прозелитическая природа буд-дизма, распространившегося по всей Юго-Восточной Азии.
Лозунгом универсального отношения стало объявление Ашоки: «Все люди – мои дети. И как для своих детей я желаю, чтобы у них было все благо и счастье и в этом мире, и в другом, так я желаю этого и для всех людей»1.
В качестве предварительного вывода хотелось бы отметить сохранение традиционного, мифологического компонента взгля-дов в политическом сознании уже модернизированного индуист-ского общества.
До сих пор на выборах в Индии организации местного мас-штаба являются организованными общинами или кастовыми груп-пами с незначительными отличиями в программах. Партийное взаимодействие с общественными организациями оказывается наиболее реальным и эффективным именно на кастовой основе. Примечательно, что принадлежность к касте может служить основанием для дискриминации политического противника. Поли-тики широко пользуются услугами кастовых и религиозных групп в борьбе за власть. Сами участники политического процесса тща-тельно просчитывают соотношение сил религиозно-кастовых групп и выводят «формулу успеха». Считается, что союз с доми-нирующей кастой, «меньшинствами» (например мусульманами) и угнетенными классами обеспечит победу любой партии.
Большинство возникающих партий делают своей основной задачей консолидацию индуистской общины и создание основан-ного на ней государства. Членами такой общности (по замыслу авторов идеи – партии «Хинду махасабха») должны стать все, чья вера зародилась в Индии. Один из ее лидеров – Саваркар – писал: «Индусом зовется тот, кто смотрит на территорию, протянувшую-ся от Инда до морей, как на землю своих предков», вовсю демон-стрируя рудименты мифологического сознания. Аналогичная идеология характерна для «Раштрия сваямсевах сангх» – «Союза добровольных служителей нации», основателем которого является Кешав Балирам Хедивар. Для Союза характерно наличие культи-
1 Элиаде М. Указ. соч. Т. 2. С. 182.
83
вируемой фигуры вождя в сочетании с жесткой внутренней струк-турой. В качестве модернизаторского элемента следует отметить вербовку кадров в молодежной среде и активный прозелитизм. Именно эта организация стремится вернуть даже духовно заблу-дившихся славян в лоно индуизма1.
Учет кастовой системы индийского общества сказывается и в синтезной идеологии Индийского Национального Конгресса, ко-торый в своей деятельности ставит задачи регулирования меж-групповых отношений2.
Между лидерами политических организаций и их рядовой массой устанавливаются отношения, строящиеся по типу «патрон – клиент». Возникающие внутри партий фракции также основыва-ются на родовых или кастовых связях. Близость программ создает условия для легкого перехода из одной партии в другую. Всеоб-щие выборы 1996 г. в Народную палату парламента показали, что роль традиционных факторов политической жизни не снижается, а возрастает3.
К определенного рода новациям можно отнести лишь по-пытки нацинал-реформистских партий обеспечить себе политиче-ское преимущество при помощи религиозного канона и привлече-ния соответствующих ассоциаций. Этот факт говорит о все еще идущей модернизации индийского менталитета, одним из следст-вий имеющей выделение религиозного компонента как сравни-тельно самостоятельной сферы общественного сознания.
При ближайшем рассмотрении данной ситуации становится очевидным, что в процессе модернизации отнюдь не размывается традиционная модель, на которой базируется политическое созна-ние Индии начиная с эпохи архаики. Иерархическая структура, придание лидеру патриархально-сакрального статуса, замыкание на себя политического и культурного пространства, жесткая стра-тификация социума являются наследием ранних эпох становления
1 Клюев Б.И. Политический индуизм // Древо индуизма. М., 1996.
С. 456-457, 461, 467-468. 2 Воскресенский Г.А. Новые тенденции в политических и социальных
процессах на Востоке (левые силы и массовые организации). М.: Наука, 1991. С. 86.
3 Куценков А.А. Социальный индуизм // Древо индуизма. М., 1996. С. 445, 449-450.
84
общества и актуальным фактором формирования политической ситуации. Традиционная мифология, как отмечалось выше, слегка изменяется внешне, прячется за более поздние культурные фено-мены, на самом деле практически не подвергаясь трансформации.
* * *
Рассмотрение четырех вышеописанных моделей несмотря на их ярко выраженную специфику заставляет утверждать, что фор-мируемый в традиционных культурах образ правителя и связанные с ним особенности политической системы полностью подчинены мифологическому мышлению. Центральным звеном такой систе-мы является царь-космократ, наделенный в определенной мере сакральной природой. Цельность архаического мировоззрения оп-ределяет фактически неразделимость субъекта и объекта управле-ния, имманентность присутствия монарха в социуме. Включен-ность в Космос как систему с характеристиками организма, внутри которого все органы взаимно обеспечивают функционирование друг друга, приводит к отсутствию представлений о политическом как начале, обладающем своими сущностными особенностями. В результате формируется управленческая система, ограниченная в некоторых своих характеристиках. Прежде всего она ориентирова-на на реализацию принципиально только внутри замкнутого про-странства, совпадающего с космическим пространственно-времен-ным континуумом. Во временном аспекте такая модель обращена к изначальному образцу – АРХЕ, что внешне выражается в наде-лении древности идеальными свойствами. Основные методы управления в границах такой системы отталкиваются от представ-лений о перманентном противодействии Космоса и Хаоса, порядка и энтропии и отсутствии в таком мире значимого места для чело-века как индивида и индивидуальности. Власть и ее носитель ока-зываются жестко связанными с сакральными онтологическими на-чалами и даже географическими характеристиками культуры.
Прямым следствием мифологической основы мышления становится их сходство (распространяющееся и на не включенные в исследование культуры), объясняемое, на наш взгляд, влиянием базового для всего человечества набора архетипов. Собранные эт-нографами, археологами, историками культуры данные подтвер-ждают это положение.
85
Так, совершенно созвучны описанной модели некоторые по-ложения сугубо мифологических и правовых текстов японской культуры. Император выступает как средоточие мирового порядка, и в этом качестве сама должность нуждается в возобновлении некой энергетики: «…потому-то и поныне священная жизнь Их Величеств Императоров не изволит быть долгой», – сокрушаются неизвестные авторы «Кодзики» (XXXII), как раз указывая на особый статус мо-нарха и возможную его символическую смерть. В официальном декрете от 646 г. японский император именуется «воплощением бо-гов, который правит миром». Сам текст содержит подробное описа-ние священных атрибутов микадо: «Микадо думает, что для его достоинства и святости весьма пагубно касаться земли ногами, по-этому, когда он намеревается куда-то отправиться, его несут на пле-чах. Еще менее подобает ему выставлять свою священную особу на открытый воздух; ведь солнце считается недостойным сиять над его головой. Всем частям его тела приписывается такая святость, что он не отваживается обрезать себе ни волосы, ни бороду, ни ног-ти…разрешается мыть его ночью во время сна. Взятое в это время считалось украденным, а кража не могла повредить его святости и достоинству. В древности император был обязан каждое утро про-сиживать несколько часов на троне с короной на голове, неподвиж-ный как изваяние, не шевеля ни руками, ни ногами, ни головой, ни глазами, ни другими частями своего тела. Предполагалось, что та-ким образом он поддерживал мир и благоденствие во всей империи, так как повернись он случайно в ту или другую сторону или остано-ви он подольше взгляд на какой-то части своих владений, и возни-кало опасение, что на страну надвинется война, голод, пожар или другое великое бедствие…Пища микадо должна каждый раз приго-товляться в новой посуде и подаваться на стол на новых блюдах… Обычно ее разбивают из страха, чтобы она не попала в руки про-стых смертных, ибо бытует верование, что, если простой человек осмелится отведать пищу с этого священного блюда, то горло и ро-товая полость у него распухнут и воспалятся. Похожее воздействие оказывают и священные одежды даири: считается, что, если про-стой смертный наденет их без позволения или повеления императо-ра, они вызовут вздутия и боли во всех частях тела»1. Даже скидка
1 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 2001. Т. 1. С. 230-231.
86
на поверхностный взгляд чужеземца не отменяет сходства такого отношения с вышеописанными вариантами.
Правитель также строго ориентирован на заложенные в нача-ле мира принципы существования общества: «…море его мудрости было широко и необъятно, и глубоко погружался он в отдаленную старину» («Предисловие к «Кодзики», II, 26). Традиционно для ми-фа японская культура во многом опирается на вербальные способы регулирования социальной жизни: «(летописи и сказания – С.Р.) они суть основа ткани государства и великий оплот монархии» («Преди-словие к «Кодзики», II, 29). Правительственный аппарат подчиняет-ся общим законам функционирования Космоса: «Старший министр как наставник Сына Неба должен быть примером для всего света, держать страну на путях морали и приводить в гармонию отрица-тельное и положительное» («Тайхоре», II, 2).
Фрэзер приводит данные о том, что в Восточной Африке во-жди гораздо чаще исполняли функции колдунов, чем оказывали прямое политическое влияние. Некоторые племена вообще напря-мую связывали власть вождей с колдовством. В случае неудачной магической практики такого деятеля изгоняли из племени и убива-ли1. В ряде племен вождю запрещалось переходить реки либо пла-вать по морю, что приводит к мысли о противопоставлении прави-теля как воплощения порядка воде как хтоническому, энтропий-ному началу2. Царей некоторых народностей держали взаперти во дворцах, видимо, для поддержания пространственной организации культуры, либо в целях оберегания подданных от опасной энерге-тики правителя3. Подобный статус монарха четко указывает на не-выделенность политического начала и приоритет демиургической ориентированности в деятельности верхушки общества.
Мексиканские правители при восшествии на престол кля-лись, что заставят солнце – сиять, тучи – давать дождь, реки – течь, а землю – обильно плодоносить4, также подтверждая наличие кос-мократического и фертильного аспектов царской власти. Точно так же в одной из областей Малайского полуострова урожай риса час-то связывали со сменой местных чиновников.
1 Фрэзер Дж. Золотая ветвь ... С. 118. 2 Там же. С. 235. 3 Там же. С. 271. 4 Там же. С. 122.
87
Подобное отношение не являлось характерной чертой только культур древности. Средневековье предоставляет образцы анало-гичных подходов в трактовке образа и роли правителя в социуме. Франкским королям совсем не разрешалось стричь волосы, как и в варианте с японским императором1. В Дании этого периода Коро-лю Вальдемару I приносили для прикосновения детей и семена, а также просили бросать посевной материал в землю. Аналогично ирландцы верили, что если король соблюдает обычаи предков, по-года будет мягкой, урожай – обильным, скот – плодовитым, и на-оборот – в случае противоположного поведения2. Сохранилось предание о норвежском короле Гальфдане Черном, чье тело было разрезано на куски и захоронено в различных частях его королев-ства, чтобы сделать плодородной землю3. Еще в XVII в. в Анг-лии верили, что король своим прикосновением может излечить от золотухи4.
Королю Сиама до последнего времени поклонялись наравне с божеством. Подданные не имели права смотреть ему в лицо, и для разговора о правителе использовался особый язык. Специальные имена давались всем частям тела монарха. В самом языке отсутст-вовало слово для описания существа более высокого, чем монарх5.
Многообразие рассмотренных примеров, на наш взгляд, в очередной раз подтверждает наличие в политическом сознании традиционных культур сходных в основе моделей и архетипиче-ских образов, противопоставляемых друг другу только в некото-рых элементах локальной специфики рассматриваемых регионов.
1 Там же. С. 313. 2 Там же. С. 124. 3 Там же. Т. 2. С. 5. 4 Там же. Т. 1. С. 125. 5 Там же. С 137.