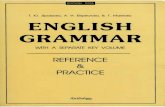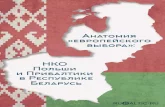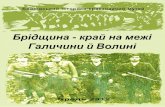Назарчук А В Учение Никла
Transcript of Назарчук А В Учение Никла
2
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1. Н. Луман и теория систем 12 § 1. Основы системной теории 12
§ 2. Уровни системного анализа 20 § 3. Творческая биография Н.Лумана 26 § 4. Модернизация системной теории Н.Луманом 31
Глава 2. Теория социальных систем Н. Лумана 42 § 1. Система и окружение 42
§ 2. Структурные соответствия 54 § 3. Медиум и форма 58 § 4. Комплексность и контингентность 63
§ 5. Наблюдение и описание 68 § 6. Понятие двойной контингентности 79
§ 7. Эволюция систем 83
Глава 3. Понятие коммуникации 91 § 1. Социальные системы и коммуникация 91
§ 2. Структура коммуникации 99 § 3. Смысл 110
§ 4. Символическая генерализация и бинарное кодирование 127 § 5. Язык 136 § 6. Письмо 145
Глава 4. Медиа коммуникации 153 § 1. Средства распространения коммуникации 153
§ 2. Книгопечатание 155 § 3. Электронные медиа 160
§ 4. Символически генерализованные средства коммуникации 171 § 5. Религия и мораль как средства коммуникации 189
Глава 5. Коммуникация как социологическое понятие 199
§ 1. Коммуникация и социальное действие 199 § 2. Системная дифференциация 213
§ 3. Функциональная дифференциация общества 221 § 4. Мировое общество 230
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 240
Список литературы 247
3
ВВЕДЕНИЕ
Коммуникация – одно из тех понятий, которые в 20-м веке переме-
стились с периферии в центр философской дискуссии. Это событие обу-
словлено и новизной интерпретации, и новой сферой применения этого
понятия. В разное время разнообразные смысловые производные от ла-
тинского слова communis («общий») не раз становились смыслообразую-
щими социальными понятиями. Это «причастие» (communio) в христиан-
скую эпоху, «коммуна», «коммунизм» – в эпоху социальных движений
Нового времени.
«В своей первичной греческой форме (koinonia), и латинском пере-
воде (communio) это слово означало участие в каком-либо совместном
деле, но преимущественно и в наибольшей степени – в каком-то полити-
ческом союзе», - пишет А.Тойнби.1 Слова kοινονία, communio означали
общение, совместную жизнь и, можно сказать, издревле выражали самую
суть понятия общества. Формируя свое представление об обществе, ан-
тичные мыслители обращались к нему, конструируя идеальную «комму-
ну» и беря в качестве исторического прототипа возникающую на новом
месте небольшую колонию.2 В Новое время с помощью понятия коммуны
формулировалось представление о модели разумной экономической и
культурной практики общежития (с полемическим акцентом против част-
ной собственности) в противовес социальному укладу традиционных ис-
торических поселений.3 В 19-м веке это обобщение идеально моделируе-
мого общественного устройства ассоциировалось с понятием коммунизма,
означая тип универсального общественного устройства, опирающегося на
равенство и справедливость.
1 Тойнби А. Постижение истории. М . 2004. С. 240.
2 Как в «Законах» Платона.
3 Такое представление, прототип которого – в «Утопии» Т. Мора или «Городе солнца» Т.
Кампанеллы, было подхвачено французскими социальными утопистами, А. Сен-
Симоном, Ш. Фурье, и их последователями, например, Н. Чернышевским.
4
В 20-м веке возникают новые понятия: «коммуникация», «речевая
коммуникация», «коммуникативное действие», «коммуникативное пове-
дение», «коммуникативная революция», «коммуникативистика», «комму-
никативные дисциплины», «теория коммуникации» и т.п., черпая свой
изначальный смысл из бихевиористски и психологически интерпретиро-
ванной практики. Исследование социальных моделей, которые должны
быть «совершенными и справедливыми», было дискредитировано как
идеологически окрашенное. Науке в пределах ее компетенции остались
описание и изучение «методологии описания» общества, и как раз поня-
тие коммуникации - в противовес философской дискуссии о нормах и
идеальных моделях общества - в ряде философских концепций сумело
заявить о себе как о методологической основе для исследования практи-
ческих процессов передачи и обработки социальной информации, форми-
рования и изучения общественных связей на макро- и микроуровне.
Тем не менее и сегодня эти понятия остаются относительно новыми,
недостаточно артикулированными ни в философском, ни в научном, ни в
общесемантическом измерении. В социальных науках эта область соци-
ально-научного знания получила определение Communication или
Communication Studies (теория коммуникации). Однако вплоть до Лумана
понятие коммуникации никогда не входило в тезаурус основных социоло-
гических понятий, оставаясь в предметной области психологии, лингви-
стических наук и различных отраслей журналистики.4
В становлении современной западной теории коммуникации можно
выделить несколько этапов, или «поколений», привнесших свои новации
в понимание феномена коммуникации. Несмотря на то, что исследования,
которые мы сегодня относим к коммуникативным, проводились на протя-
4 В числе основных предшественников коммуникативистики можно назвать направле-
ние философской «прагматики» от Ч.Пирса до К.-О.Апеля, авторов «Теории речевых
актов» Серла и Остина. (См. Austin J.L. How to do things with words. Oxford, 1962; Searl
J.R. Speech Acts. Camridge, 1969. Performative Utterances. // Pholosophical Papers, Ox-
ford, 1961. В лингвистике это теория коммуникации Р.Якобсона (Якобсон Р. Избранные
работы. М., 1985).
5
жении всего двадцатого века в рамках различных дисциплин,5 после вто-
рой мировой войны одновременно с развитием информационных наук и
технологий стали оформляться принципиально новые подходы к изуче-
нию феномена коммуникации. Характерным для этих подходов было рас-
смотрение коммуникации как передачи информации, причем необходи-
мыми составляющими этого процесса признавались источник информа-
ции, сообщение, получатель информации, канал передачи и шум. Пример
– математическая модель коммуникации Шеннона и Вивера,6 описываю-
щая коммуникацию как процесс передачи информации от одного источ-
ника к другому. Модель получила широкое распространение как модель
передачи информации (information transmission model) и обусловила ма-
тематический и кибернетический крен в теории коммуникации. И до сего
дня, несмотря на критику линейного, однонаправленного характера ком-
муникации в этой интерпретации, данная модель широко используется в
коммуникативной теории и на практике.7
В теории коммуникации, разрабатывавшейся в 50-60-х годов в русле
постбихевиоризма, постепенно происходит «психологизация» понятия
коммуникации, когда она все больше начинает рассматриваться как меж-
личностная коммуникация. Заметный вклад в развитие этого направления
вносят антропологи, психологи, психиатры и психотерапевты.8 В теориях
этих ученых коммуникация предстает прежде всего как взаимодействие,
влияние на которое оказывает каждый из его участников. Коммуникация
есть не просто передача и прием информации, но создание некоей общ-
ности, определенной степени взаимопонимания между участниками,
предполагающего необходимость обратной связи, взаимного наложения
сфер личного опыта, особенностей генерирования смысла в коммуника-
5 См. Craig R. T. Communication Theory as a Field // Communication Theory. 1999, JVb 9.
С. 19; Littlejohn S. Theories of Human Communication. Albuquerque, 002.
6 См. Shanon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949.
7 См. Griffin E.A. A First Look at Communication Theory. IL: McGraw-Hill, 2002.
8 Среди них, к примеру, антрополог Грегори Бейтсон и калифорнийская группа иссле-
дователей, «Пало альто групп», во главе с психотерапевтом Полем Вацлавиком. См.
WatzlawickP., Beaven J. and Jackson D. Pragmatics of Human Communication: A Study of
Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes. New York, 1967.
6
тивном взаимодействии. Как отмечает один из современных теоретиков
Роберт Крейг,9 активно возникающие в этот период кафедры межкультур-
ной коммуникации еще испытывают сильное влияние со стороны предста-
вителей психологических наук и бихевиоризма, и проходит некоторое
время, прежде чем межличностная коммуникация самоопределяется как
отдельная от психологии дисциплина.
Следующий этап в становлении теории коммуникации связан с рас-
смотрением коммуникации как социального процесса.10 Социальность
коммуникации первоначально осмысливалась исходя из коммуникативной
практики. Внимание исследователей привлекал ее не просто интерактив-
ный, но транзактивный характер, заключающийся в том, что любой субъ-
ект коммуникации является отправителем и получателем сообщения не
последовательно, а одновременно, и что любой коммуникативный про-
цесс включает в себя, помимо настоящего, непременно и прошлое, а так-
же проецируется в будущее. Процесс общения является континуальным и
бесконечным, и границы «коммуницирования» не всегда можно четко
определить.11
В рамках этого подхода коммуникация, общение вообще - не механи-
ческий процесс, не просто средство для достижения определенных целей.
Коммуникация есть процесс, формирующий общество. Коммуникация –
это социальный процесс со-творения, сохранения-поддержания и преоб-
разования социальных реальностей.12 В самом фундаментальном смысле
коммуникация есть состояние человеческого бытия, способ человеческо-
го существования, основополагающий социальный процесс, в котором
люди воспроизводят и преобразуют социальные миры. Коммуникация в
этом смысле есть сама жизнь, и, по известному выражению Поля Вацла-
вика, оne cannot not communicate (человек не можен не вступать в ком-
9 Craig R. T. Communication Theory as a Field // Communication Theory. 1999. JVb 9. С.
131.
10 См. Pearce W.B., Cronen V.E. Communication, Action, and Meaning: The Creation ofSocial
Realities. New York, 1980.
11 См. Wood J.T. Interpersonal Communication: Everyday Ezicounters. Belmont, 2002.
12 См. Pearce W.B., Cronen V.E. Communication, Action, and Meaning: The Creation of
Social Realities. New York, 1980.
7
муникацию). Именно в рамках этого подхода реализована концепция
коммуникации Н. Лумана.
Теоретики, разделяющие взгляд на коммуникацию как на социаль-
ный процесс, относят себя к различным школам и направлениям в обла-
сти исследования коммуникации. Эти школы и направления представлены
сегодня весьма широко: кроме теории систем, в рамках которой работал
Луман, это социальный конструкционизм, символический интеракцио-
низм, диалогизм, социолингвистика, натуралистика (naturalistic inquiry),
этнография коммуникации, конверсационный анализ (conversation
analysis), дискурсивный анализ, прагматика, теория координированного
согласования смыслов (coordinated management of meaning), теория со-
циального взаимодействия – и это далеко не полный перечень.13 В поле
зрения социологов, занимающихся коммуникацией, попали такие блоки
социально значимых проблем, как информационные процессы в обще-
стве, их закономерности, специфика, средства и формы передачи и хра-
нения социальной информации, социальная семиотика и семантика,
управление социальной организацией и субъективным поведением, ком-
муникативные технологии и ряд других. Все перечисленные школы и
направления объединяет ряд общефилософских положений во взглядах
на коммуникацию, получивших название «социальных подходов к комму-
никации».14
Философия долгое время воспринимала коммуникацию как сугубо
практическую проблему. Первые подходы к ней как предмету исследова-
ния пока только извлекали его из-под наслоений традиционных фило-
софских проблем. Одним из первых к проблематике коммуникации обра-
тился Э.Гуссерль, рассматривавший ее как проблему взаимовосприятия
Alter и Ego, - но он делал это в рамках сугубо гносеологической пробле-
мы интерсубъективности. Гносеологический подход был характерен и для
Э.Кассирера, исследовавшего символические формы человеческой ком-
муникации, не проблематизируя процесс коммуникации в целом.
13 Littlejohn S. W. Theories of Human Communication. Belmont, 1996.
14 См. Leeds-Hurwitz W. Introducing social approaches // Social Approaches to Communica-
tion. Ed. by W.Leeds-Hurwitz. New York, 1995. С. 13-20; Craig R.T. Foreword // Social Ap-
proaches to Communication. Ed. by W.Leeds-Hurwitz. New York, 1995. С. v-ix.
8
Л.Витгенштейн говорил о «языковых играх», но рассматривал их не в ас-
пекте коммуникационных проблем, а в лингвосемантическом ключе.
Наиболее отчетливо проблема интерпретации и взаимопонимания артику-
лировалась в концепции языковой прагматики Ч.Пирса, но решал он ее
опять же лишь в контексте лингво-философского анализа языка и речи.
Философские исследования 20-го века неизбежно затрагивали про-
блему коммуникации, даже когда обращались к смежным предметам.
М.Вебер, разрабатывая подходы к анализу социального действия, пере-
местил внимание целого поколения социологов с вопроса о языковой,
коммуникативной интеракции на проблемы социокультурных интеракций.
Сами культурологи, непосредственно сталкиваясь с границами, суще-
ствующими в процессе межкультурной коммуникации, до поры до време-
ни занимались сугубо историческими задачами интерпретации культур-
ных смыслов, герменевтикой и этнологией, обходя вниманием философ-
ские аспекты коммуникации.
Одним из первых к философским аспектам коммуникации обратился
М.Бубер. Коммуникация была осмыслена им в свете феномена диалогиз-
ма, с этико-метафизической позиции. Я и Ты, подчеркивал Бубер, имеют
особое бытийственное значение. Коммуникация между Я и Ты не может
описываться как явление, как Оно. Она вообще не подается описанию, а
может быть только пережита. Философы, мыслившие в русле диалогиз-
ма,15 выявили особый статус коммуникации, не описываемой привычным
языком вещной онтологии. Они открыли коммуникацию как не сводимую
ни к чему иному особую реальность. Но они были далеки от того, чтобы
выводить отсюда какие-либо социально-философские следствия.
Движение в этом направлении началось, когда в 50-е и 60-е годы 20
века философы обратились к развивающимся научным исследованиям
проблем коммуникации. Опираясь на лингвистическую теорию речевых
15 К ним следует причислить, в особенности, М. Бахтина, Э. Левинаса. В своих
размышлениях о диалоге Бахтин писал о диалогической онтологии речи: язык и речь
не существуют «вообще», это всегда персонифицированный диалог, встреча сознаний
и бытий. В дальнейшем Бахтин развивал этот тезис в философско-эсетическом ключе,
не обращаясь к понятию коммуникации.
9
актов Серла и Остина16 и теорию языковой прагматики Ч.Пирса, немецкий
философ К.-О. Апель задался кантовским вопросом об условиях возмож-
ности коммуникации.17 Таким условием, замечает Апель, является нали-
чие идеальных норм коммуникации, которые всегда существуют до вся-
кой конкретной коммуникации. Философ в трансценденталистском ключе
развивает положение об идеальном коммуникативном сообществе, кото-
рое репрезентирует эти нормы и предшествует коммуникации. Идеальное
коммуникативное сообщество – это сообщество всех возможных участни-
ков коммуникации, к которому апеллирует каждая действительная ком-
муникация. В отличие от него реальное коммуникативное сообщество яв-
ляется эмпирическим, по необходимости несовершенным воплощением
идеального сообщества.
Идеи Апеля подхватил и развил его младший современник
Ю.Хабермас, разработавший теорию коммуникативного действия.18 Ха-
бермас трансформировал теорию действия Вебера исходя из того, что
фундаментальная характеристика социального действия - не целерацио-
нальность, а его направленность на взаимопонимание. В центре внима-
ния оказывается коммуникативная рациональность, которая принципи-
ально отличается от стратегической, т.е. целерациональной, рациональ-
ности. С позиции коммуникативной рациональности партнер по коммуни-
кации никогда не рассматривается как средство, в то время как позиция
стратегической рациональности исходит из обратного. Не принимая
трансцендентализма Апеля, Хабермас трактует идеальные нормы комму-
никации как универсальные и общезначимые, составляющие телеологи-
ческий фундамент коммуникативных практик локальных жизненных ми-
ров. Хабермас сформулировал в окончательном виде универсально-
прагматические требования к речевому высказыванию и коммуникатив-
ному действию, без которых невозможен процесс коммуникации: это тре-
бования понятности, истинности, правдивости и нормативной правильно-
сти высказываний. Хабермасу удалось органично интегрировать в теорию
коммуникативного действия множество современных философских кон-
16 См. Austin J.L. How to do things with words. Oxford, 1962.
17 См. Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001.
18 См. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. I-II. Frankfurt, 1981.
10
цепций, в частности системную теорию, дискурсивную этику и установку
на социальную критику (проводившуюся представителями Франкфуртской
школы).
Интерес к проблеме коммуникации приобрел на почве немецкой фи-
лософии характер традиционной для Германии систематической основа-
тельности. Перечисленные философы поставили коммуникацию в основа-
ние своих философских систем. Однако только Луман решился пойти
столь далеко, чтобы идентифицировать понятие коммуникации с поняти-
ем общества и тем самым отождествить теорию коммуникации с социаль-
ной теорией. Тем не менее Луман не возвышает коммуникацию до некое-
го суперпонятия. Скорее напротив, Луман начинает с обратного - с ради-
кального сомнения в коммуникации.
Вся предшествующая социальная мысль опиралась на предпосылку,
суть которой в том, что коммуникация не только возможна, но и необхо-
дима. Что случится, если эта предпосылка окажется под сомнением? Лу-
мана впервые остро осознал и выразил эту возможность. Он стал исхо-
дить из невероятности коммуникации. В основу своих построений он по-
ложил тезис о том, что общество является самой сложной из существую-
щих систем, и невероятно не только его возникновение в ходе эволюции
(с чем все согласны), но и продолжение его существования.
Можно ли усомниться в коммуникации? Усомниться в коммуникации
можно только в ходе самой коммуникации. Сама возможность обрыва
коммуникации тотально дестабилизирует мысль. Что станется с ней без
коммуникации?
Если бы коммуникации не существовало, то, с точки зрения Лумана,
не изменилось бы ничего, кроме того, что исчезла бы сама коммуника-
ция. Сохранилась бы жизнь. Незатронутым осталось бы даже сознание.
Исчез бы лишь тонкий слой, самый высший эволюционный слой бытия. Но
этот слой и есть человек, общество. Коммуникация охватывает весь уни-
версум человеческого бытия, а все остальное – в том числе сознание –
служит лишь условием возможности коммуникации, как физиологические
процессы служат условиями возможности жизни.
Луман – не только один из самых плодотворных ученых и писате-
лей завершившегося 20-го века. Он из числа тех, кто в большей мере,
11
чем другие, нуждается в толковании и объяснении. О Лумане написано
немало книг, но почти все написанное о нем – своего рода дискуссия их
авторов с Н.Луманом как современником. В 21-м веке Луман имеет уже
иной статус – классика, с которым не спорят, а которого изучают. Сфера
спорного, конечно, растет. Но растет и право Лумана – как классика – на
утверждение спорного. В нашей книге мы постараемся в максимальной
мере сохранить баланс между аутентичным изложением лумановской
концепции и задачей обозначить все узкие места его теории.
12
Глава 1. Концепция Н. Лумана и системная теория
§ 1. Основы системной теории
Исследования Лумана развивались в русле идей системной теории,
образовавшей к моменту начала его активной творческой деятельности
самостоятельную и плодотворную научную традицию. Возникшая как не-
кий этап в эволюции этого научного направления и одновременно как
преодоление наметившегося в нем кризисного пункта, концепция Лумана
не может быть понята вне связи с основными моментами теоретического и
исторического развития системной теории.
Исследованием вопроса о целостности мира занимались античные
философские школы (стоики), средневековая философия (Фома Аквин-
ский, Николай Кузанский, схоластика), а особенно активно – философия
и натурфилософия Нового времени (Ламберт, Кант и другие). «Целое
больше суммы своих частей», - этим положением Аристотеля уже был
очерчен предмет системного подхода. Тем не менее лишь в 20-м столетии
исследования в этой области приобретают концептуальный вид и приоб-
ретают широкое методологическое и междисциплинарное значение, полу-
чив название системного подхода.
Термин «система» происходит от греч. σύστημα – сочетание, поло-
женное совместно, упорядоченное целое. Д. Ламберт, противопоставляя
«системе» выражения «хаос», «смесь», «куча», «слиток», «смешение»,
«расстройство», подчеркивал, что нечто простое еще не образует систе-
мы и не каждое целое может быть названо системой. И. Кант уточнял это
противоположение как оппозицию системы (упорядоченного по опреде-
ленному принципу целого) и агрегата, т.е. совокупности рядоположенных
элементов без внутренней взаимосвязи. Однако вплоть до 20-го века по-
нятие системы так и не легло в основу самостоятельного исследователь-
ского принципа. Предпосылкой его проникновения в науку стал прежде
всего переход к постановке нового типа научных задач: в целом ряде об-
ластей науки центральное место начинают занимать проблемы организа-
13
ции и функционирования сложных объектов; познание начинает опери-
ровать комплексными объектами, границы и состав которых далеко не
очевидны и требуют специального исследования в каждом отдельном
случае.
С середины 20-г ввека начинается систематическая разработка
принципов системного подхода в методологическом плане. Выдающееся
значение в этом смысле имеют работы Л. Берталанфи, заложившего ос-
новы «общей теории систем».19 Размышления Берталанфи над проблема-
тикой системности были инспирированны его естественнонаучными изыс-
каниями, прежде всего в области биологии. Понятие системы он опреде-
лял как «множество элементов (в математическом смысле), между кото-
рыми существуют взаимные связи». Соответственно задачи общей теории
систем он формулировал следующим образом:
«Существуют модели, принципы и законы, которые имеют значение
для общих систем или подклассов, независимо от особых видов системы,
природы ее компонентов и отношений или сил между ними. Мы выводим
отсюда новую научную отрасль, называемую общей теорией систем. Об-
щая теория систем есть логико-математическая область, чьей задачей яв-
ляется формулирование и вывод таких общих принципов, которые имеют
значение для системы как таковой. На этом пути возможны точные фор-
мулировки системных свойств, как, например, целостности и суммы,
дифференциации, прогрессивной механизации, централизации, иерархи-
ческого порядка, конечности и т.д.; т.е. характеристик, которые возни-
кают во всех науках, имеющих дело с системами, и обусловливают их ло-
гическую гомогенность».20
Общая теория систем призвана описывать уровень теоретического
построения моделей, который лежит между высоко абстрактными кон-
струкциями чистой математики и специфическими теориями специальных
дисциплин. Она изучает отношения элементов целого, абстрагированные
от конкретных ситуаций или материала эмпирического знания. Если об-
19 Bertalanffy, L. von General Systems Theory. A Critical Review // General systems 7.
1962, 1-20; Он же, General systems theory. Foudations, development, applications. New
York, 1969.
20 См. Исследования по общей теории систем. Сб. пер. М., 1969. С. 31.
14
щая теория применяется в эмпирических науках, это говорит о ней как
методе, дающем возможность создать самостоятельные теории конкрет-
ных систем. Для обозначения этой более широкой сферы методологиче-
ских проблем начиная с 70-х годов применяют термины «системный под-
ход», «системный анализ», «системные методы».
Кроме множества областей эмпирического применения, системная
теория разрабатывалась в целом ряде концептуальных интерпретаций,
которые существенно отличаются друг от друга в истолковании основных
понятий теории. Впечатляющее здание системной теории было построено
в науках о природе (физике, теромдинамике, биологии) на фундаменте
открытий в области изучения органической природы и кибернетики. Си-
стемный подход в области социальных наук оказался не менее продук-
тивным, чем в естественных науках, поскольку привел к появлению цело-
го комплекса самостоятельных концепций (например, концепций Т. Пар-
сонса, Д. Истона, Г.Алмонда, К. Дойтча). Развитие системной теории про-
текало вплоть до сегодняшнего дня на очень высоком теоретическом
уровне.
Итак, системный подход восходит как к естественным, так и к соци-
альным наукам, представленным такими учеными, как Берталанфи, Лу-
ман, Парсонс, Шенон, Винер. Ранняя, статическая концепция закрытых
систем, абстрагировавшаяся от исследования обратной связи со средой,
отступила перед ориентацией на динамические, открытые системы, при-
дававшие обратной связи большое значение. Дискуссия последних лет
была в наибольшей степени связана с такими именами, как Хакен, Мату-
рана, Пригожин и Варела. В то же время необходимо отметить, что эта
дискуссия, во всяком случае в отношении классической системной тео-
рии, ведется сегодня далеко не с той интенсивностью, как на заре своего
возникновения в 60-е и 70-е годы.
Поскольку системные исследования всегда предполагают, что до
исходного пункта исследования уже пройден определенный путь, необ-
ходимо обозначить ключевые постулаты системной теории, сформулиро-
ванные прежде всего в естественных науках.21 Излагая основания си-
21 См. Фюрст Г.-Й. Общая теория систем. Новосибирск, 1993.
15
стемной теории Лумана мы будем иметь дело уже с интерпретацией этих
основополагающих постулатов.
1. Интеракция систем и их окружения. Системы автономны в том
смысле, что они селективно взаимодействуют со своим окружением,
т.е. принимают энергию, информацию, материю и отдают энергию, ин-
формацию и материю обратно. Их дальнейшее существование зависит
от такого обмена с окружающей средой. Поэтому они называются от-
крытыми системами. Система без среды немыслима, закрытых систем
не существует.22
2. Границы и динамическая стабильность. Системы отграничива-
ют себя от окружающей среды. Границы физических, химических или
биологических систем можно провести четко, другие системы, напри-
мер культурные, имеют нечеткие границы. В обмене со средой системы
пользуются одновременно двумя стратегиями, а именно, адаптируются
к окружению (реагируют), а также размежевываются с ним (агируют).
Стремление к состоянию относительной стабильности системы опреде-
ляет негативный или позитивный характер обратной связи – как кон-
сервативной, направленной на сохранение статус кво, так и прогрес-
сивной, направленной на само изменение системы. Посредством об-
ратной связи система получает воздействия со стороны своего соб-
ственного поведения в прошлом, поскольку сохраняет информацию о
последствиях прошлого поведения.
3. Развитие системы посредством нестабильности. В стабильной
системе можно наблюдать только незначительные изменения энтро-
пии; уровень энтропии не увеличивается. В отличие от этого неста-
бильность системы рассматривается как источник дальнейшего разви-
тия, ибо только в нестабильном состоянии она может качественно ме-
няться, входя в состояние меньшей энтропии: нестабильная система
имеет тенденцию искать новое стабильное состояние на более высо-
ком уровне сложности, разделяться вертикально на большее количе-
22 Действительно, если бы существовали закрытые системы, их невозможно было бы
обнаружить.
16
ство субсистем.23 Развитие и трансформация совершаются специфиче-
ским образом - скачками, когда система «выходит из колеи» или когда
для ее качественного изменения недостаточно незначительных воз-
действий.
4. Растущая сложность и комплексность. Системы, связанные со
средой процессом постоянного обмена, подвержены как внутреннему
стрессу, так и стрессу, привнесенному извне; открытая система вы-
нуждена реагировать на возбуждения, идущие от среды, и повышать
степень своей внутренней сложности. Эволюция есть, таким образом,
вынужденное повышение сложности; она представляет собой резуль-
тат чередования фаз стабильного равновесия, прерывающегося корот-
кими периодами нестабильности, которые маркируют переход к стади-
ям более высокой сложности.
Постоянное повышение степени сложности есть «маятниковый»
процесс, усиливаемый посредством обратной связи. Системы «растут» по
горизонтали (экстенсивно) лишь в ограниченных пределах, поскольку
при растущей гомогенности их стабильность понижается. Когда система
реагирует дифференциацией, т.е. возникновением субсистем, она «рас-
тет» вертикально (интенсивно), степень ее стабильности повышается.
Итак, целевой причиной растущей сложности и дифференциации системы
выступает повышение ее стабильности. Растущая сложность - это фено-
мен, наблюдаемый повсеместно. Чем выше степень сложности систем, тем
многообразней спектр их возможностей реагировать на изменения сре-
ды.24
5. Иерархия систем: четырехслойный универсум. Простые систе-
мы интегрированы в качестве субсистем в более сложные системы, по-
следние соответственно в суперсистемы. Возникает вертикальная
иерархия интегрированных друг в друга систем - от физического
23 Тем не менее система может найти новое стабильное состояние и на более низкой
ступени, понижая количество своих субсистем.
24 На первый взгляд, растущая сложность и иерархия систем не подчиняется термоди-
намическим законам; это объясняется тем, что второй закон термодинамики (закон эн-
тропии) имеет отношение к закрытым системам, а не к открытым. Сложность открытых
систем в принципе растет; они демонстрируют в своей эволюции антиэнтропийные
свойства.
17
уровня через химический и биологический вплоть до культурного
уровня. Эти уровни опять-таки подразделяются иерархически; на фи-
зическом уровне, например - от электромагнинтных волн до звездных
систем; на биологическом – от репродуцирующих себя клеток до био-
сферы; на культурном - от семьи до государства. Системы представ-
ляют собой совокупность широкого спектра ранних и новых системных
состояний.
6. Взаимовлияние. Системы и включающая их в себя суперсисте-
ма взаимно влияют друг на друга и создают друг для друга ограниче-
ния и стимулы. Не существует центральной командной инстанции или
командных каналов, направленных исключительно снизу вверх или
сверху вниз. Детерминистские теории не согласуются с системной тео-
рией. Системы связаны друг с другом взаимно обусловливающим,
ограничивающим и контролирующим образом.
7. Эмергенция и изоморфия. Системная теория исходит из того,
что более сложные системы демонстрируют новые характеристики, ко-
торые превышают более низкие и не сводятся к ним (эмергенция). Си-
стемные характеристики подобия называются изоморфами.25 Благодаря
концепциям эмергенции и изоморфии системная теория приобретает
антиредукционисткий характер. Поскольку на каждой более высокой
ступени появляются новые системные свойства (эмергенция), редук-
ционистские объяснения не имеют в ней смысла.
8. Многомерная и взаимная каузальность. Системная теория ис-
ходит из методологической посылки, что искусственное разложение
двух переменных с целью переведения их в линейную причинную за-
висимость влечет за собой ложный результат. Хотя результаты, полу-
ченные таким путем, можно логически правильно и точно квантифици-
ровать, линейность не позволяет увидеть многосторонних взаимных
связей между системами на равных или различных уровнях. Линейно-
сти противопоставляется принцип взаимной и многомерной причинно-
сти, благодаря которому, во-первых, могут быть приняты во внимание
25 Принцип «изоморфии» отличается от принципа «аналогии» усложнением при пере-
ходе на более высокий объяснительный уровень.
18
изменения, происходящие с наблюдателем и, во-вторых, многие пере-
менные могут изменяться одновременно.
9. Вероятностная каузальность: релятивистские «законы». Си-
стемная теория расстается с каузальными законами, т.е. в отношении
принципа причинности является релятивистской и ставит на место за-
кономерностей вероятности. Определенная причина не обязательно
будет при равных внешних условиях производить идентичные резуль-
таты; результат даже более слабых воздействий на систему в ее не-
стабильной фазе нельзя предусмотреть. Пороги, за которыми появля-
ются качественные изменения, называются точками бифуркации, т.е .
пунктами, в которых системе открыты два или более пути.
Кроме того, достоверность научных теорий тем ниже, чем выше они
поднимаются по лестнице многослойного универсума, т.е. чем сложнее их
феномены. Тем не менее системная теория не рассматривает гуманитар-
ные и естественные науки как оперирующие в совершенно различных и
разделенных мирах, она не следует неокантианскому различению по ме-
тоду между идеографическими и номотетическими науками. Системная
теория показывает, что гуманитарные и социальные науки, с одной сто-
роны, и естественные науки - с другой исследуют принципиально «по-
добные» (точнее, изоморфные) феномены.
10. Претензия на универсальное значение интерпретации.
Все системы демонстрируют свойства, которые могут быть универсали-
зированы; поэтому системная теория пытается сформулировать общие
свойства систем всех уровней. Развернутые концепции системной тео-
рии заявляют о своем универсальном значении во всех областях наук.
Тем не менее, методологически такая универсальная теория не отка-
зывает в праве на существование более специальным, проблемно и
дисциплинарно ориентированным и тем самым ограниченным теориям,
поскольку системная теория тоже не отражает реальности в ее полном
объеме.
11. Отношения между объектом и субъектом. В качестве
универсальной системная теория включает в себя и самого исследова-
теля. Традиционно проблема наблюдателя ставится тем острее, чем
19
больше наблюдатель влияет на исследуемый объект.26 Принципиально
наблюдатель всегда изменяет результат; эта установка имеет значение
для всех наук (стоит вспомнить, к примеру, принцип неопределенно-
сти Гейзенберга). Роль наблюдателя в различных теоретических под-
ходах или выносится за скобки, или подчиняется установке удержи-
вать влияние наблюдателя в как только можно узких границах, чтобы
не искажать результат. Системная теория пытается представить
наблюдателя как автореферентную систему и тем самым развести в
стороны пару противоположностей «объект-субъект» как две различ-
ные системы, ибо объект и субъект всегда влияют друг на друга .27
Системная теория предполагает участие в исследовании не только
субъекта, но и (на саморефлективном уровне) самой себя. Особенно ва-
жен этот пункт при исследовании систем культуры, поскольку здесь дол-
жен быть принят во внимание как исследователь, так и результат социо-
логического исследования, который изменяет исходную ситуацию.
12. Научное строение теорий. Научные теории суть упроща-
ющие, селективные версии реальности, мысленные модели, посредни-
чающие между наблюдателем и реальностью; это специфические «оч-
ки», через которые человек видит и интерпретирует мир. Всеобъем-
лющее познание невозможно: теория обуславливает восприятие, а
восприятие – теорию. Общая системная теория, как и любая другая
метатеория, дескриптивна но не потому, что описывает реально суще-
ствующие системы, а потому, что объясняет сами теории.
13. Фальсификация и верификация. Верность теорий тради-
ционно оценивается критериями фальсификации и верификации. Обе
концепции относительны: теорию нельзя полностью верифицировать
26 Это касается, к примеру, социологов, выступающих одновременно и исследователя-
ми и членами того общества, которое они исследуют.
27 Взаимное влияние объекта и субъекта не является легкой погрешностью, которой
можно пренебречь, напротив, оно имеет конститутивное значение; системная теория
противостоит тем самым упрощающей позитивистской научной теории. Позиция си-
стемной теории резко отличается от теорий, рассматривающих общество не как систе-
му, а как жизненный мир, коммуникацию (Гуссель, Шютц, Хабермас). Феноменологиче-
ский подход трактует наблюдателя как непосредственного участника жизненного мира,
который не способен наблюдать жизненный мир, не участвуя в нем.
20
или фальсифицировать, поскольку ее высказывания можно подтвер-
дить или опровергнуть только в рамках теории же. Невозможно также
абсолютное доказательство непротиворечивости. Дедукция, индукция,
конструкция и редукция являются равноправными методами научного
познания.
§ 2. Уровни системного анализа
Важная составляющая системной теории - классификация типов си-
стем, составляющих предмет системного анализа. Она позволяет опреде-
лить место высших систем, культуры и общества, в иерархии уровней бы-
тия.28
1. Первый уровень составляют статические структуры, которые
могут быть названы схемами (frameworks). Это своего рода география
и анатомия универсума – схема движения электронов вокруг ядра,
схема расположения атомов в молекуле, в кристалле, анатомия генов,
клетки, растения, карта Земли, Солнечной системы, астрономической
Вселенной. Описание этих схем и образов есть начало организованно-
го теоретического знания практически в любой сфере, без него невоз-
можно построение функциональной или динамической теории.29
2. Простые динамические системы, которые описывают каузаль-
но детерминированные движения. Этот уровень можно назвать уров-
нем «часового механизма». Простые механизмы, такие, как маятник
или колесо, и даже более сложные, например паровая машина или ди-
намо, относятся к этой категории.
3. Контрольный механизм, или кибернетические системы. Эта
ступень может быть обозначена как уровень термостата. От простых
стабильных равновесных систем его отличает то, что трансмиссия и
интерпретация информации является важнейшей частью таких систем.
28 Изложение концепции типов систем К. Болдинга см. в кн: Кремянский В.И. Структур-
ные уровни живой материи. М., 1969. С. 35 и далее.
29 К примеру, коперниканская революция была открытием новой статической схемы
Солнечной системы, которая предлагала более простое описание ее движений.
21
Равновесная позиция не определяется здесь выравниванием системы,
напротив, сама система работает на сохранение данного равновесия.30
Модель гомеостазиса, которая так важна в психологии, есть пример
подобного кибернетического механизма, и такие механизмы существу-
ют во всем эмпирическом мире биологических и социальных систем.
4. Открытые системы или самосохраняющиеся структуры . Это
уровень, на котором жизнь начинает отличать себя от не-жизни: он
может быть назван уровнем клетки. То, что называется открытой си-
стемой, существует только в виде физико-химических равновесных си-
стем; атомные структуры сохраняют себя благодаря взаимодействию с
другими атомными структурами. По мере возрастания сложности орга-
низации в направлении живых систем, свойство самосохранения
структуры в материальной среде приобретает все более важное значе-
ние. Атом или молекула могут, возможно, существовать и без среды:
существование даже простого живого организма нельзя вообразить без
питания и метаболического обмена.31
5. Генетически-социетальный уровень можно наблюдать у расте-
ний; он составляет эмпирический мир ботаника. Особые характеристи-
ки этих систем – во-первых, разделение труда между клетками для
формирования клеточного сообщества с дифференцированными и вза-
имно зависимыми частями (корнями, листьями, семенами и т.д.) и , во-
вторых, четкое различение между генотипом и фенотипом. На этом
уровне пока еще нет высоко специализированных чувствительных ор-
30 Таким образом, термостат будет сохранять любую температуру, которая в нем уста-
новлена; равновесная температура системы не определена только ее стремлением к
выравниванию. Особенность здесь в том, что существенной переменной динамической
системы является разница между наблюдаемой, или «записанной», величиной опреде-
ленной переменной и ее идеальным значением. Если эта разница не равна нулю, си-
стема движется в направлении ее уменьшения (печь отдает тепло, если ее записанная
температура «слишком холодна», и она выключается, если записанная температура
«слишком высока»).
31 Близко связанным со свойством самосохранения является свойство саморепродукции.
В системах, которые репродуцируют и сохраняют себя посредством восприятия среды и
энергии, мы наблюдаем образования, у которых трудно отрицать наличие жизни.
22
ганов и информационные рецепторы диффузны и неспособны к мощ-
ной обработке данных.
6. Животный мир. Этот уровень характеризуется увеличиваю-
щейся мобильностью, целеполагающим поведением и самосознанием.
Здесь наблюдается развитие специализированных информационных
рецепторов (глаза, уши, и т.д.), ведущих к увеличению объема вос-
принятой информации; здесь имеет место значительное развитие
нервной системы, ведущее к возникновению мозга, как организатора
переработки информации в структуры знания или «образы». Поведе-
ние животного зависит не от специфических стимулов, а от «образов»,
структур знания, восприятия среды как целого.32
7. Человеческий уровень, т.е. уровень индивидуального челове-
ческого существа, рассматриваемого как система. В дополнение ко
всем характеристикам животных систем человек владеет самосознани-
ем, которое отличается от простого осознания.33 Человек, возможно, -
единственная организованная система, которая знает, что делает, и
отражает в своем поведении полное пространство жизни и даже далее
этого пространства. Человек существует не только во времени и про-
странстве, но и в истории, и его поведение обусловлено пониманием
исторического процесса, в котором он находится.
8. Уровень социальной организации нелегко отделить от уровня
индивидуальной человеческой системы. Человек не мыслим в полной и
постоянной изоляции от общества. Тем не менее имеет смысл отличать
индивидуального человека как систему от социальной системы, окру-
жающей его. На этом уровне мы имеем дело с содержанием и значени-
ем человеческих сообщений, с природой и измерениями ценностных
систем, с транскрипцией образов в историческую запись, с тонким
32 Эти образы заданы в конечном счете информацией, получаемой организмом; отно-
шение же между восприятием информации и созданием образа становится все более
сложным. Возрастают и сложности в предсказании поведения этих систем, поскольку
между стимулом и ответом включается образ.
33 Его восприятие саморефлексивно – человек не только знает, но знает, что он знает.
Это свойство связано с феноменом языка и символизма - способностью производить,
воспринимать и интерпретировать символы в отличие от простых знаков, таких, как
крик животного.
23
символизмом искусства, музыки и поэзии, со сложным комплексом че-
ловеческих эмоций. Эмпирический универсум этих проявлений есть
жизнь человека и жизнь общества во всей их сложности и богатстве.34
Развитие системного анализа, в отличие от многих других теорети-
ческих подходов, не было вызвано развитием оригинальных методологи-
ческих идей или школ. Связь системного анализа с философско-
метафизической традицией философии, несмотря на кажущуюся близость
с ней, весьма тонка. Системная теория стала результатом кризиса объ-
ясняющих концепций в естественных науках, и прежде всего ответом на
вопросы, которые поставила в 19-м веке теория термодинамики.
Второй закон термодинамики, гласит, что теплота не может само-
произвольно перейти от системы с меньшей температурой к системе с
большей температурой. Установленное в этом законе соотношение между
теплотой и температурой вводит понятие энтропии – функции состояния
системы, характеризующей меру необратимого рассеяния энергии. Это
понятие позволило сформулировать второй закон термодинамики, кото-
рый звучит так: существует функция состояния системы (энтропия S),
приращение которой при обратимом сообщении системе теплоты равно
отношению приращения теплоты к температуре системы (dS=dQ/T). Важ-
но следствие из этого закона – при необратимых процессах энтропия мо-
жет только возрастать, достигая максимального значения в состоянии
равновесия (Клаузиус). Примером может служить достижение теплового
равновесия в закрытой камере, в которой выравниваются существовав-
шие вначале различия в температуре; или диссипация более высоких,
направленных форм энергии, таких, как механическая, световая, химиче-
ская энергия, в тепло, т.е. в ненаправленную энергию движения молекул.
34 Системный подход не обязательно привязан к эмпирическим данным науки. Так, Бо-
улдинг готов предположить существование десятого уровня, уровня трансценденталь-
ных систем, т.е. систем, выходящих за рамки природы. Чтобы полностью завершить
комплекс систем, Боулдинг готов даже идти на риск быть обвиненным в «завуалиро-
ванном подсовывании Библии». «Это окончательное и абсолютное, безусловно непо-
знаваемое бытие, но оно также проявляет систематическую структуру и отношения.
Печальным днем для человека будет тот день, когда никому не будет позволено зада-
вать вопросы, которые не имеют ответов». См. Кремянский В.И. Структурные уровни
живой материи. М., 1969. С. 41
24
Это положение стало предметом самых разнообразных философских ин-
терпретаций, в основе которых лежал пессимистический вывод о неиз-
бежной гибели вселенной и столь же неизбежной победе хаоса над по-
рядком.35
Понятие энтропии определяет характер процессов в адиабатической
системе: в ней возможны только такие процессы, при которых энтропия
либо остается неизменной (обратимые процессы), либо возрастает (необ-
ратимые процессы). При этом не обязательно, чтобы возрастала энтропия
каждого из тел, участвующих в процессе: увеличивается лишь общая
сумма энтропии в системе. Термодинамика неравновесных процессов поз-
воляет исследовать процесс возрастания энтропии и вычислить ее коли-
чество.
Понятие энтропии достаточно широко применяется в различных
науках, благодаря чему получило различные интерпретации: в статисти-
ческой физике - как мера вероятности осуществления какого-либо мак-
роскопического состояния (возрастание энтропии системы обусловлено
ее переходом из менее вероятного состояния в более вероятное); в тео-
рии информации как мера неопределенности какого-либо сообщения, ко-
торое может иметь разные значения (энтропия принимает наибольшее
значение, когда вероятности равны между собой и неопределенность в
информации максимальна). Значительное место понятие энтропии заняло
и в общей теории систем.
Вызов, который несла в себе четкая математическая модель термо-
динамики, заключался в том, чтобы объяснить возможность негэнтропии.
Долгое время ученых удовлетворяла ссылка на отличие открытых систем,
существующих в природе, от закрытых, существующих только в теорети-
ческих моделях. Сложность открытых систем в тенденции растет; они де-
монстрируют в своей эволюции антиэнтропийные свойства, возникающие
вследствие сбалансированности процессов, ведущих к росту энтропии, и
35 Третий закон термодинамики позволял установить абсолютное значение энтропии
(теорема Нернста): при стремлению абсолютной температуры к нулю разность dS для
любого вещества стремиться к нулю независимо от внешних параметров. Поэтому эн-
тропию всех веществ при абсолютном нуле температуры можно принять равной нулю.
Это – начальная точка отсчета энтропии S0=0 при T0=0. См. Большая советская энцик-
лопедия. М., 1978. Статья «Термодинамика»
25
процессов обмена, уменьшающих ее. Попытки дать более глубокое объ-
яснение того, что такое открытые системы, привели в 20-м веке к воз-
никновению общей теории систем.
Открытыми являются системы, которые способны обмениватся ма-
терией, энергией или информацией со своей средой. Теория открытой си-
стемы как основы биофизики живого организма была впервые построена
Л. Берталанфи, что дало толчок развитию представлений о кинетике хи-
мических реакций, которая имеет важные отличия от теории закрытых
систем. Теория открытых систем стала основанием биофизики и биохимии
(а также промышленной химии) и теоретической базой для объяснения
многих процессов, изучаемых биофизикой, биохимией, физиологией, об-
щей биологией (таких, например, как термоэлектрические, гальваномаг-
нитные и теромомагнитные явления).
Теория открытых систем привела к значительному расширению тер-
модинамики, а именно, к разработке термодинамики открытых систем,
стоящей в непосредственной близости к термодинамике неравновесных
процессов. Мы коснемся лишь некоторых важных аспектов теории откры-
тых систем. Закрытые физические системы, как было сказано, необходи-
мым образом движутся к состоянию максимальной энтропии, т.е. макси-
мальной вероятности, что означает прогрессирующее разрушение суще-
ствующего порядка и различий между образующими систему элементами.
Очевидно, для живых систем верно прямо противоположное. Живой орга-
низм поддерживает себя не только в состоянии «невероятности», органи-
зации и порядка; живые системы (во всяком случае, в определенной фа-
зе) стремятся к возвышающейся организации и порядку – как в развитии
зародыша от яйца к взрослому организму, так и в социальном развитии
от племени ко все более высоким формам жизни. Видимое противоречие
законам термодинамики исчезло благодаря расширению теории. В откры-
тых системах, которые находятся в постоянном обмене материей со сре-
дой, благодаря получению свободной энергии или так называемой нега-
тивной энтропии становится возможным сохранение состояния высокого
порядка и даже перехода к более высокому порядку. Конечно при такой
обобщенной формулировке остается много открытых вопросов.
Проблема анаморфоза, т.е. перехода к более высокому уровню ор-
ганизации и дифференциации изначально недифференцированной систе-
26
мы, бесспорно, находила все более полное решение благодаря дальней-
шему развитию термодинамики неравновесных состояний, подключению
теории информации, исследований сверхмолекулярных организационных
сил и т.п. Тем не менее она не находила удовлетворительного оконча-
тельного решения вследствие усиленного биологизма, привнесенного в
теорию систем учеными, вышедшими из естественнонаучной среды. Та
форма, которую они придали системному подходу, принципиально не
подходила для исследования социальных процессов. Для этих целей тре-
бовалось не просто расширение теории, а новая интерпретация понятий,
т.е. по сути, новый научный аппарат. С радикальной модернизацией си-
стемной теории и попыткой применить ее к исследованию общества, вы-
ступил Н.Луман.
§ 3. Творческая биография Н. Лумана
Никлас Луман родился 8 декабря 1927 г. в г. Люнебург, Нижняя
Саксония, и скончался 6 ноября 1998 г. Путь Лумана в науку и его жизнь
в ней являются примером весьма нестандартной научной карьеры. Сын
мелкого буржуа, представителя потомственной фамилии пивоваров, Лу-
ман не имел в детстве и юности возможности получить основательное
академическое образование. Каждый шаг его карьеры, казалось, увели-
чивал опоздание: лишь в девятнадцать лет, в условиях царящей в стране
разрухи, он получает возможность поступить в университет и учиться
праву. После университета – обычная работа юриста, сначала помощни-
ком президента местного суда в г. Люнебурге, потом референтом в пра-
вительстве Нижней Саксонии, где ему приходилось учитывать законы по-
литической коньюнктуры, работая то с консерваторами из ХДС, то с со-
циал-демократическим правительством. Так продолжалось до критическо-
го для научной карьеры тридцатилетнего возраста, пока практически
случайно Луман не был откомандирован на два года в США для повыше-
ния профессионального образования в Гарвардском университете.
Встретившись в Гарварде с Т. Парсонсом и увлекшись социологией
организации, Луман решает изменить свой жизненный путь. Интерес к
социологии и углубленное чтение социологов началось еще в универси-
27
тете и не прекращалось во время работы в министерстве. Подобного са-
мообразования хватило, чтобы еще в университете увлечься философией
Гуссерля, теорией науки, и главным образом теорией управления. В цен-
тре же внимания оставалась теория организации, с которой связаны пер-
вые публикации Лумана, в частности, работа «Понятие цели и системная
рациональность», направленная против тех социологических направле-
ний, которые слишком легко переводили институциональные отношения
на язык понятий веберовской теории (Герберт Симон, Рената Майнц).36
Следующий шанс предоставился Луману благодаря тому, что в г.
Шпеер открылся Институт управления для юристов и чиновников, где Лу-
ман получил место референта. О его самостоятельной общественной тео-
рии еще не было речи, но давал о себе знать особый опыт, который по-
лучил Луман, работая чиновником. Этот опыт не согласовывался с макро-
социологическими построениями социологов. Так у Лумана появилось
убеждение, что организации надо изучать изнутри, как самостоятельные
миры. Об этом – первая монография ученого «Функции и следствия фор-
мальной организации» (1964), принесшая ему известность.37
В 1964 г. Луман познакомился с профессором Гельмутом Шельски,
который поверил в нетитулованного самородка и вовлек его в нормаль-
ную университетскую жизнь: «Как министерский советник я не мог бы
войти в историю», - шутил Луман позже. «Нормальным» социологом он,
решительно отстранившийся от классической традиции, так и не стал.
Для коллег по цеху и для своих университетских коллег он, скорее, все-
гда оставался «другим».38
В 1965 г. Лумана назначают руководителем исследовательского от-
дела в научном институте под руководством Гельмута Шельски в Дорт-
мунде. Шельски протежирует молодому научному сотруднику и в течении
одного года – в 39-летнем возрасте - Луман защищает сразу кандидат-
скую и докторскую диссертации.
36 Horster D. Niklas Luhmann. München, 1997. 34-35.
37 Jahraus O. Zur Systemtheorie Niklas Luhmanns. // Luhmann N. Aufsätze und Reden.
Stuttgart, 2001. C. 300.
38 Horster D. Niklas Luhmann. München, 1997. С. 50.
28
В 1968 г. вместе с Шельски Луман прекращает вести получиновьни-
чьий полунаучный образ жизни и начинает работать во вновь открыв-
шемся Биллефельдском университете. Его дальнейшая жизнь связана от-
ныне только с новыми публикациями и общественной дискуссией по их
поводу. Яркий пример таких дискуссий - спор с Ю.Хабермасом, опублико-
ванный в книге «Теория общества или социальная технология – что дает
системное исследование?», политическая абстрактность которого и сего-
дня заставляет говорить о Лумане как о воплощенном парадоксе «и соци-
алиста и консерватора».39
Сама атмосфера ожидания нового и нестандартного подхлестывает
интерес студенческой и научной общественности к работам Лумана. Тем
не менее продвигать свои идеи в философском и социологическом сооб-
ществе Германии ему приходится в условиях слабого интереса к систем-
ной теории, зародившейся в США. То, что все 70-е и 80-е Луман играет
заметную роль в научной дискуссии, и эта роль постоянно растет, осо-
бенно удивительно, если учесть стиль и язык, совершенно не приспособ-
ленный к какой бы то ни было «популяризации». Примечательно, что
часть научных работ о Лумане вышла не в форме комментариев и поле-
мики, а в форме своего рода «словарей», в которых разъясняются основ-
ные понятия и термины лумановских текстов.40 Хотя, пожалуй, для
немецкого читателя это не внове – вспомним хотя бы о Хайдеггере.
Поток работ и продуктивность Лумана были таковы, что современ-
ники называли его публикации «сериалом».41 Развитие его теории в эво-
люционно-систематическом смысле можно разбить на три этапа: первый –
39 Хабермас попытался идеологически интерпретировать концепцию «технического со-
циологизма» Лумана как удобный и выгодный политическим элитам теоретический кон-
структ, «наиболее подходящий для того, чтобы к политической системе, зависимой от
деполитизации мобилизированного населения, перешла функция легитимизации гос-
подства, которая до сих пор выполнялась позитивистским сознанием». См. Luhmann N.
Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemfor-
schung? Frankfurt, 1971. С.144.
40 См., например, Krause Detlef Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von
Niklas Luhmann. Stuttgart, 1996.
41 Этому способствовало и то, что каждой из работ Луман предпосылал большое вступ-
ление, посвященное повторению уже известных общих оснований системной теории.
29
издание статей «Социологического просвещения» (в 4-х томах), где
опубликованы статьи, задающие основные параметры лумановской кон-
цепции; второй - создание отраслевых томов системной теории (принад-
лежащих уже к позднему творчеству): «Экономика общества» (1988),
«Наука общества» (1990), «Право общества» (1993), «Искусство обще-
ства» (1995), «Политика общества» (2000), «Религия общества»(2000)
(обе последние работы опубликованы посмертно на основе рукописей);
третий – фундаментальные обобщающие работы «Социальная система»
(1984) и «Общество общества» (1997). По порядку создания работ уже
заметно и направление эволюции Лумана: начав как социолог с «соци-
ально-кибернетическим» уклоном и преимущественным интересом к тео-
рии организации, ученый постепенно «дорастает» до общей теории об-
щества, сформулировав ее основания в русле кибернетики и системной
теории.
При столь нестандартной научной карьере и ее запоздалости пора-
зительно, что Луман - не только авторитетнейший классик современной
философии и социологии, но и плодовитейший писатель, опубликовавший
40 книг и более сотни статей. Но еще более удивительно, что при всей
сложности его выхода на траекторию научного пути, уже в 1967 г. Луман
с предельной ясностью формулирует свою научную и жизненную про-
грамму: «Теория общества. Время исполнения: 30 лет. Стоимость: ника-
кой». Ровно через тридцать лет, в 1997 году, выходит в свет фундамен-
тальный труд «Общество общества» - на построенное здание кладется
последний, но ключевой конструктивный элемент, поистине «крыша»
всей постройки. Символично, что умер Луман через год после этого, в
возрасте семидесяти одного года.
Возможно, необычайная трудность и непонятность языка Лумана,
но, возможно, и нестандартность пути, по которому пошла мысль учено-
го, стали причиной того, что несмотря на стабильность места его дея-
тельности (30-летняя работа на университетской кафедре), трудно гово-
рить о сформировавшейся вокруг него школе. Учитывая авторитет учено-
го, ставшего одним из корифеев «социологии модерна», в это почти не-
возможно поверить. Его коллеги отмечают, что это соответствовало стилю
одиночки, которому не требовались друзья ни в научном, ни в житейском
30
смысле этого слова.42 Одновременно с деятельностью Лумана, а также
после его смерти, формируется круг семинаров, публикаций, журналов, в
которых социологи обсуждают социальные системы.43 Разумеется, инте-
рес к системной теории у социологов, как и прежде, обусловлен влияни-
ем и привлекательностью идей американской школы структурного функ-
ционализма. Но в Германии настоящее и будущее системной теории
неразрывно связано с именем Н.Лумана. Оливер Йархауз, Питер Фукс,
Клаудио Баралди, Михаэль Боммс, Георг Книр, Алоис Хан, Манфред Лау-
эрман, Армин Нассеи, Вольфганг Шнайдер, Рудольф Штихве, Мернд Тер-
нес, Грипп Хагелстанге, Детлеф Краузе – вот лишь некоторые из имен, с
которыми связано развитие социологического наследия Н.Лумана сего-
дня.44
Чтобы охватить комплекс идей Лумана и оценить их значение для
развития как философии и социологии, так и системной теории, требует-
ся обрисовать то новое, что связано с именем Лумана в этих обеих сфе-
рах. Начнем с более узкого поля системной теории. Луман в гораздо
большей мере, чем Парсонс и другие системные теоретики, придавал
значение единству общесистемной теории. Поэтому его вклад в общую
теорию систем невозможно переоценить.
42 Horster D. Niklas Luhmann. München, 1997. С. 42.
43 См., например, журнал «Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie».
44 Fuchs Peter Niklas Luhmann – Beobachtet. Eine Einführung in die Systemtheorie. Opla-
den, 1993; Baecker D., Markowitz J., Stichweh R., Tyrell H., Willke H. (Hrsg.) Theorie als
Passion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M., 1987; Baecker D., Bardmann
Th. (Hrsg.) Gibt es eigentlich den Berliner Zoo noch? - Erinnerungen an Niklas Luhmann.
o.O. (UVK), 1999; Bardmann Th., Bendel K. Selbstreferenz, Koordination und gesellschaftli-
che Steuerung. Zur Theorie der Autopoiesis sozialer Systeme bei Niklas Luhmann. Paffen-
weiler, 1993; Gerhards J. Wahrheit und Ideologie. Eine kritische Einführung in die Sys-
temtheorie von Niklas Luhmann. Janus Presse, 1984; Haferkamp H. , Schmid M. (Hrsg.)
Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer
Systeme. Frankfurt .M., 1987; Hellmann K.-U. Systemtheorie und neue soziale Bewegun-
gen. Identitätsprobleme in der Risikogesellschaft. Opladen, 1996; Kneer G. Nassehi A. Ni-
klas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung. UTB, 1993; Stichweh R. (Hrsg.)
Niklas Luhmann. Wirkungen eines Theoretikers. Bielefeld, 1999; Teubner G. Recht als auto-
poietisches System. Frankfurt a.M., 1989; Weinbach Ch. Systemtheorie und Gender. Das
Geschlecht im Netz der Systeme. Wiesbaden, 2004.
31
§ 4. Модернизация системной теории Н. Луманом
Первое по своей концептуальной значимости направление модерни-
зации системной теории, которое проложил Н.Луман, связано с понятием
«автопоэзиса».45 Заслуга введения в научный оборот этого понятия при-
надлежит латиноамериканскому ученому Х.Матуране.46 Если работы Ма-
тураны не выходят за рамки специальных системнотеоретических иссле-
дований, в частности, в аспекте эволюции биологических познавательных
систем, то Луман придает идеям этого биолога фундаментальное систем-
нотеоретическое значение. В рамках биологической теории Матурана по-
пытался поставить в центр эпистемологии циркулярность репродукции
жизни. Эту задачу системы он выразил понятием «автопоэзиса», т.е. са-
мовоспроизводства жизни посредством элементов, которые производятся
самой жизненной системой. Жизнь, по мысли Матураны, репродуцирует
себя с постоянной устойчивостью потому, что связанный с ней операцио-
нальный базис химических процессов действует как системообразующий
фактор. За каждой операцией следует определенная новая операция, и
именно системность внутренней организации процесса позволяет в рам-
ках системы бороться с деструктивными интервенциями окружающей сре-
ды. Новизна, которую вносит понятие автопоэзиса в методологию систем-
ного исследования, заключается в перемещении приоритетов от изучения
метаболических процессов, которым до сих пор придавалось центральное
значение, к изучению процесса внутрисистемной организации в ее само-
достаточности и автономности.
Перемещение проблемы автопоэзиса в центр внимания повлекло за
собой многообразные следствия для дальнейших судеб системной теории.
45 Впервые развернутое значение понятие автопоэзиса приобретает в книге «Социаль-
ная система».
46 Huberto R. Maturana Beobachter. Konvergenz der Erkenntnistheorien? München, 1990;
Humberto R. Maturana Francisco J. Varela, Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wur-
zeln des menschlichen Erkennens. München 1987; Humberto R. Maturana Erkennen. Die
Organisatin und Verkörperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
32
Прежде всего произошло смещение интереса от традиционного для со-
циологии анализа структурных взаимоотношений к типичным для биоки-
бернетики процессуальным взаимозависимостям, от исследования соци-
альных изменений к анализу внутрисистемных процессов и изучению
проблемы сохранения состояния. В отличие от своих предшественников-
социологов Луман – не «структурный функционалист», а функционалист
в чистом виде.
«На место структурно-функциональной он ставит функционально-
системную теорию, - отмечает в этой связи Ю.Хабермас. – Проблема со-
хранения состояния в его понимании является главной проблемой только
до тех пор, пока определенная системная структура предзадана для
функционального анализа. Но само изменение системных структур может
быть сделано доступным для функционального анализа… Образование
структур является таким же селективным действием, посредством которо-
го редуцируется комплексность, как и процессы, протекающие в системе.
Образование структур и внутресистемный ход процессов могут в отноше-
нии абстрактной задачи редукции комплексности рассматриваться как
функционально эквивалентные».47
Радикальный функционализм Лумана48 решительно развел его в
рамках системного подхода со структурализмом, исходящим из методоло-
гического приоритета структуры перед функцией. Если в структурализме,
исследующем инварианты межсистемных и внутрисистемных отношений,
описание систем происходит путем абстрагирования от времени и уста-
новления реляционных отношений констант и переменных, то процессу-
альный функционализм Лумана проблематизирует понятие структуры как
таковой. Структуры, и, следовательно, элементы системы, являются по
отношению к функции нестабильным во временном отношении продуктом
системных процессов. Правда, следует отметить, что доминирующая в
постструктурализме тенденция к преодолению вневременного толкования
понятия структуры привела к значительному сближению Лумана с его ве-
47 Luhmann N. Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet
die Systemforschung? Frankfurt, 1971. С. 152.
48 Александер Дж., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоретиче-
скую традицию. // Социс. 1992, № 10. С. 112-120.
33
дущими представителями, в особенности с деконструктивизмом Дерри-
ды.49 С Дерридой его сближает, в частности, то, что исходным звеном для
построения теории у Лумана становится «различие» (differance у Дерри-
ды) – понятие, не конституирующее, а разрушающее единство и идентич-
ность структуры. Собственно говоря, по отношению к основоположениям
системной теории и кибернетики Лумана тоже правильнее было бы назы-
вать постсистемным социологом.
Процессуальность интерпретации системной теории – это, пожалуй,
главное, что сближает Лумана с основными интуициями классической си-
стемной теории первой половины 20-го века, прежде всего, с Берталан-
фи. Каковы процессы, сохраняющие, стабилизирующие социальную си-
стему и открывающие для нее перспективы эволюции, - вот основной во-
прос, волнующий Лумана. Как осуществляется связь межу настоящим и
последующим состояниями системы? С попыткой ответить на эти вопросы
связаны лумановские операционализм и кибернетизм, разрушающие на
корню привычную терминологию социальной теории, оперирующей поня-
тиями социальных отношений и социального действия.
В построениях Лумана очевидна глубокая связь системной теории
со смежной наукой – кибернетикой, наукой о самоуправлящихся систе-
мах.50 Лумановская версия понятий общей системной теории влекла за
собой и особую трактовку понятий кибернетики. Кибернетику Луман
определял как «теорию систем, которые избирательно ведут себя по от-
ношению к чрезмерно комплексной, не поддающейся предвидению сре-
де».51 «Именно от кибернетики (в частности, от Р.Эшби) и одновременно
под сильным влиянием американского прагматизма Луман перенял пред-
ставление о реальности как о мире возможного, в котором находятся ост-
ровки действительного – системы», - отмечает А.Филиппов.52
49 См. Jahraus O., Marius B. Systemtheorie und Dekonstruktion. Die Supertheorien Niklas
Luhmans und Jacques Deridas im Vergleich. Siegen, 1997.
50 Г. Франк определяет кибернетику следующим образом: «Кибернетика есть калькули-
рующая теория и конструирующая техника сообщений, обработки сообщений и систем
обработки сообщений». Frank H. Kybernetik und Philosophie. ... 1966, С. 101.
51 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. С. 117.
52 Филиппов А.Ф. Социально-философские концепции Никласа Лумана. // Социологиче-
ские исследования, 1983, № 2. С. 178.
34
В основу кибернетики социальных процессов Луман кладет матема-
тический аппарат Спенсера Брауна, разработавшего в труде «Законы
формы»53 собственное понятие формы и опирающееся на него формаль-
ное исчисление, имеющее черты диалектической логики и задуманное
как альтернатива традиционной формальной логике. Логика Брауна, по-
лагающая в основу понятие различия, послужила Луману каркасом для
построения теоретической системы, претендующей на универсальность. И
именно спенсеровское понятие формы стало для него ключом к интерпре-
тации основных понятий и представлений социальной кибернетики и ин-
форматики. Несмотря на то, что Луман застал только зарю развития ин-
формационных компьютерных технологий, его трактовка управления си-
стемой, как никакая другая, вплотную следовала моделям построения
элементарных процессов в интеллектуальных информационных системах,
опирающихся на булеву алгебру. Исходными здесь служили, во-первых,
представления о конститутивном значении различия «утверждение-
отрицание» как основной элементарной операции информационных си-
стем. Этому различию соответствует различие «система-окружение», на
котором покоится и из которого выводятся все понятия системной теории
Лумана. Во-вторых, децисионистская трактовка системных процессов, в
которой операции сводятся к акту принятия или отклонения. Эти пред-
ставления обусловили децисионистсткий характер лумановской социаль-
ной теории, в которой ключевой операцией системных процессов являет-
ся выбор из имеющихся альтернатив и решение. Решение конституирует
как основную форму социальных интеракций – организацию, так и все
остальные элементарные и комплексные системные формы.
Понятие автопоэзиса у Лумана было призвано обнажить несостоя-
тельность классической системной теории, использующей кибернетиче-
скую модель «входа» (input) и «выхода» (output).54 Последняя опсывает
отношения между системами и подразумевает, что система получает не-
что извне, трансформирует полученное содержание определенным обра-
53 Brown G. Spencer Laws of Form. New York, 1972.
54 См. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии. // ПО-
ЛИС. 1992 № 4; Almond G., Verba S. The Civic culture. Political attitudes and democraty in
five nations. Princeton (New York), 1963; Almond G., Powell В. Comparative Polilics: A De-
velopmental Approach. Boston, 1966; Easton D.A. Political System. - New York, 1971.
35
зом и выдает иное содержание. Существует некая функция трансформа-
ции, которая гарантирует, что при определенном «входе» (input) гаран-
тирован определенный «выход» (output). Подобные «технологизирован-
ные» концепции, по мнению Лумана, показали свою несостоятельность в
психологии (например, в бихевиоризме) и социальных науках не только
своей малой объяснительной ценностью, но и неадекватностью простых
математических и каузальных моделей, полагаемых в их основу.
«Стало ясно, что не существует простой трансформирующей функ-
ции, а приходится работать с посредствующей переменной, которая была
сформулирована в понятии генерализации. Психическая система генера-
лизует отношения к окружению, так что различные «входы» подпадают
под один тип и производят одинаковый «выход» или, напротив, система
реагирует совершенно разным образом на один и тот же «вход»».55
Критикуя концепцию Д.Истона о социальной или политической си-
стеме как «черном ящике»,56 который выдает на «выходе» определенный
продукт, Луман доказывал, что здесь «выход» является непрогнозируе-
мым и концепция «черного ящика», которая пытается избежать исследо-
вания того, что находится «внутри», эвристически пуста. Напротив, поня-
тие автопоэзиса предназначено для исследования того, что происходит в
самой системе и абстрагируется от того, что система может получать
извне. Для воспроизводства системы критически важно, что происходит
внутри нее, а не снаружи. Контактируя с окружением, система «не зна-
ет», что получает. Все, с чем она имеет дело, существует только в самой
системе.
На этом же основании Луман отвергает понятие каузальности, ин-
терпретируя его как частный случай «линейного» подхода «input-
output»: этот подход констатирует факт не зная, почему при взаимодей-
ствии с одной системой возникают изменения в другой. Луман рассматри-
вает каузальность как выражение семантики технологизированной ново-
европейской рациональности, никак не подходящей к социальной науке.
В условиях сложного современного общества нет возможности установить
55 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 48-50.
56 См. Easton D.A. Political System. - New York, 1971.
36
необходимость следования одних явлений из других. Одно и то же собы-
тие может вызываться разными факторами, одни и те же факторы могут
вести к разным последствиям. В бесчисленных сочетаниях разных собы-
тий нет причинности, и тем не менее понятие каузальности вполне функ-
ционально, поскольку позволяет ориентироваться в множестве ситуаций,
выделяя «причины и следствия». Каузальность лежит и в основе понятий
целерациональности и ценностной рациональности М.Вебера.57 У него од-
но из возможных событий рассматривается как цель, а имеющиеся в
наличии структуры – как средство. Выбор предпочтений осуществляется
на основе ценностей, т.е. тех же целевых представлений о долженство-
вании, которые оформляются в идеологию. Поскольку множество причин
классифицируются по-разному, любая идеология способна брать на себя
функции ориентации и оправдания деятельности и, следовательно, заме-
нима.
Луман выступал и против теории «открытых систем», которая до
сих пор господствует в системной теории как объясняющая концепция
эволюции сложных органических систем. Критикуя этот подход, перено-
сящий интерес с содержания системы на ее производительность, Луман
требовал возвращения к концепции закрытых систем, точнее, к тому,
чтобы осознать «закрытость, т.е. оперативную рекурсивность, авторефе-
рентность и циркулярность как условие открытости».58 В терминах Лума-
на речь должна идти об оперативной закрытости, операциональной само-
достаточности системы, но, конечно, никоим образом не об ее изолиро-
ванности. Именно изучение автопоэзиса, а не метаболизма, дает социо-
логу пространство для исследования процессов усложнения и саморазви-
тия систем.
И все же если из всего комплекса идей Луманом выбирать ту, кото-
рая, по его замыслу должна была стать новым словом в системной тео-
рии, то это концепция смысла. Свою заслугу социолог видел в том, что
дал системнотеоретическое истолкование области смыслообразующих си-
57 См. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произве-
дения. М., 1990.
58 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. С. 58.
37
стем. Исходя из системнотеоретического представления о неопределен-
ной и непрозрачной комплексности сущего, в котором каждая система
является своего рода «устройством» редукции комплексности, Луман
придал смыслу значение основного и эволюционно высшего средства ре-
дукции комплексности. И здесь ему особенно пригодилось философское
наследие феноменологии Э.Гуссерля, также выдвигавшего проблему
смысла на передний план.59 В каком-то смысле Луман использовал фено-
менологический метод для исследования понятия системы. Тем не менее,
базисные установки лумановской теории решительно развели его с
направлением феноменологической социологии, не выходящей за преде-
лы описания жизненных миров.60
В понятия, сформированные на основе онтологической традиции,
феноменология помогла включить понятие времени и тем самым придать
системной теории недостающий ей динамизм. Благодаря этому Луман
полностью отказался от традиционной для структуралистского системного
исследования схемы синхронии-диахронии. Только имея в виду наличие
горизонта прошлых и будущих событий, можно уловить настоящее в ка-
честве настоящего и охватить его схематизмами взаимосвязи, в которые
включена система. Ради изучения последовательных рекурсивных связей
во времени ученый готов абстрагироваться от горизонтальных каузаль-
ных связей, развернутых в пространстве настоящего. Можно смело ска-
зать, что в исследовательской логике Лумана время первично по отноше-
нию к структурным категориям.
Реформа понятийного аппарата системной теории, которую задумал
Луман, затронула и гносеологический аппарат системной теории. У Мату-
раны ученый заимствовал понятие наблюдения, которому придал систем-
нотеоретическое истолкование.61
59 См. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансценденталная феноменология
//Вопросы философии, 1992, № 7; Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и фено-
менологической философии. М., 1994; Гуссерль Э. Феноменология внутреннего созна-
ния времени //Он же, Собр. Соч. М., 1994. Т.1.
60 См. Luhmann N. Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Wien, 1996.
61 Матурана Р., Варела Ф. Древо познания. М., 2001; Maturana H.R., Uribe G., Frank A.
Biological Theory Of Relativistic Colour Coding in the Primate Retina. Archivos de Biologia y
Medicina Experementales. Santjago de Chile, 1968; Maturana H. R. Neurophysiology of
38
Исходным пунктом критики для Лумана послужил недостаток само-
рефлексии в системной теории 20-го века, усвоившей традиционный
субъектно-объектный подход в познании. Можно ли отделять наблюдате-
ля от системы и игнорировать его возможное воздействие на объект
наблюдения? Эти вопросы Луман ставит перед классической системной
теорией:
«Существует ли различие между объектом и субъектом, между
предметом и наблюдателем, которое не предзадано со своей стороны на
основе общего оперативного базиса? Или, говоря по-другому, не создает
ли вообще только сам наблюдатель различие между наблюдателем и
наблюдаемой системой? Или, еще раз по-другому, не должен ли человек
себя спросить, как мир организован таким образом, что он может наблю-
дать себя сам, что он сам распадается на различие между наблюдателем
и наблюдаемым?»62
Включение наблюдателя в процесс исследования принесло револю-
ционные результаты в физике (теория относительности, принцип Гейзен-
берга), и столь же радикальных изменений Луман ждал от теории систем
и социологии. Задачу включить в теорию фигуру наблюдателя Луман
предполагал существенно усложнить, введя процедуру наблюдения
наблюдателя. Это должно, по его замыслу, превратить системную теорию
в многоуровневую иерархию порядков наблюдения. Наблюдение Луман
трактовал в кибернетическом ключе как конституирующую систему опе-
рацию, не связанную с разумным познанием как таковым. Вместе с дихо-
томией субъекта и объекта теряется дихотомия теории и практики.
Вследствие этого и сама социологическая теория является системой
наряду с другими системами в обществе, - она живет по своим законам и
воздействует на общество.
Перенесение на познание системнотеоретических установок влекло
за собой радикальный конструктивизм. Ведь для наблюдателя как систе-
мы предмет его наблюдения является не объектом, а окружением, с кото-
Cognition. New York, 1970; Foerster v.H. Observing Systems. Seaside Cal., 1981; Foerster
v.H. Wissen und Gewissen. Versuch einer Brücke. Frankfurt, 1991.
62 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 62.
39
рым она по определению не имеет никакого контакта, подобия, а уж тем
более чего-то общего. «Радикальный конструктивизм начинается с эмпи-
рического факта: познание невозможно, поскольку помимо себя не имеет
никакого доступа к реальности», - не боялся утверждать Луман.63 И по-
знание, и информация вообще являются собственным продуктом систем,
который они же и потребляют.
Наконец, не последнее место среди теоретических задач Лумана
занимает попытка встроить теорию общественного развития в общеси-
стемное представление об эволюции. Если в естественных науках ученые
привыкли считаться с эволюцией как с фундаментальным измерением
биологических систем, то социологи, принимая эволюцию природы как
константу и абстрагируясь от нее, предпочитали говорить об обществен-
ном развитии. В целях универсализации понятия системы Луман пред-
принимает усилия, чтобы включить в социологию понятие системной эво-
люции и интерпретировать социальное развитие в ключе тех принципов,
которым подчиняются системы разных уровней, т.е. в ключе морфологии
комплексности. Каждый исследуемый объект есть элемент многоуровне-
вой морфологии комплексности, структуру и логику которой отражает
эволюционная теория. В силу этого Луман рассматривал теорию эволю-
ции наряду с теорией систем и теорией коммуникации как основополага-
ющую составляющую своего теоретического синтеза.
Интерес к лумановской теории и ее актуальность на пороге комму-
никационной революции вызваны все-таки не новой трактовкой функци-
ональной дифференциации, теории массмедиа, социальной эволюции, а
оригинальной концепцией коммуникации, которую Луман положил в ос-
нову своей теории общества. Вопреки всей философской и научной тра-
диции, понимающей коммуникацию межсубъектно и трактующей ее как
передачу информации от передатчика к приемнику, Луман исходит из
эмерджентного понятия коммуникации как системы, в которой ничего не
передается, в которой никто не участвует, кроме самой коммуникации:
сообщений, информаций, пониманий. Оказываются ли к ней причастны
системы среды – люди, аппараты, системы интеллектуального разума –
63 Luhmann N. Erkenntnis als Konstruktion // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001.
C. 219.
40
вопрос вторичный, коль скоро выполняются условия смыслового системо-
образования. «Только коммуникация может коммуницировать», - не уста-
вал повторять Луман. Более того, отождествляя в системном смысле ком-
муникацию с обществом, Луман изымает из общества людей, предметы,
города, инфраструктуру, социальные события. Все это – некоторые усло-
вия окружения, ограничивающие пространство возможности существова-
ния общества, но не имеющие к нему отношения. Луман вообще любил
излагать свои оригинальные взгляды в виде емких парадоксов, считая
парадокс сущностью мира, а мир – развертыванием изначального пара-
докса, на котором зиждется бытие.
Исследователи Лумана отмечают, сколь внушительное влияние со-
циолог оказал на традиционный понятийный аппарат системной теории. В
течение долгого времени становление ее понятийного аппарата происхо-
дило вдали от современных философских методологических дискуссий –
в недрах «философствующей» науки: физики и биологии. Для методоло-
гов науки, опирающихся на философскую традицию (неокантианство,
феноменологию), понятийные построения системной теории, отталкива-
ющиеся от эмпирической базы, были хотя и корректны, но весьма бессо-
держательны: им неведома тонко разработанная архитектура гносеологи-
ческих построений. Теоретики же из конкретно-научной среды находили
традицию философской методологии науки абстрактной, далекой от ре-
альных нужд науки. Луман был одним из первых, кто облек системную
теорию в слова и понятия, «понятные» для философии, кто связал кон-
струкцию системной теории с общей методологической традицией и в то
же время смог обобщить конкретно-научный вклад разных наук в систем-
ную теорию в рамках единой концепции.
Междисциплинарность, однако, обернулась тем, что из любой пер-
спективы – научной или философской – лумановский понятийный аппа-
рат оказался слишком нетривиальным, предполагающим индивидуальную
адаптацию. Труднее всего здесь пришлось социологам, для которых по-
нятийный арсенал кибернетики и информатики в рамках системной тео-
рии был до сих пор наиболее далек. Для философов же слишком неожи-
данной оказалась постановка проблем в лумановском анализе: ведь она
была сформирована в ходе глубоких, но достаточно фрагментарных фи-
лософских штудий Лумана, и в русле, далеком от традиционной филосо-
41
фии.64 Сам Луман, будучи способен на солидном философском базисе
синтезировать проблемы самых разных областей социальной и несоци-
альной жизни, все же никоим образом не стремился, подобно
Ю.Хабермасу, выстраивать свои взгляды на основе концептуального син-
теза достижений ведущих современных философских направлений.
Таким образом, с именем Лумана связаны достаточно серьезные из-
менения в развитии системной теории, обусловленные встраиванием со-
циологических понятий в единый методологический и понятийный каркас
с обобщением системной теории на метанаучном уровне. Он был одним из
тех, кто последовательно боролся за преодоление классического разде-
ления между науками о природе и науками о духе. Однако наибольшая
заслуга Лумана заключается в том, что он сумел адаптировать системную
теорию к социальным наукам и еще при жизни стал здесь классиком. Хо-
тя было немало попыток системно рассматривать общество или распро-
странять на общество понятие системы, но до Лумана не было мыслителя,
способного развернуть представление об обществе как системе самого
высокого уровня. Основным отношением, образующим социальную систе-
му, по его мнению, является коммуникация. Соответственно, все процес-
сы, происходящие в обществе, тем или иным образом связаны с коммуни-
кацией. Это новое понятие коммуникации было полностью чуждо класси-
кам структурного функционализма Парсонсу и Мертону.
Однако прежде чем перейти к разъяснению специфики лумановско-
го понимания социальных систем и понятия коммуникации, необходимо
остановится на основоположениях общей системной теории и самом поня-
тии системы, как они интерпретируются Луманом.
64 Исключая, как уже говорилось, Гуссерля, потому что его ход мысли и порядок анали-
за оказались наиболее близким лумановским интенциям. В то же время концептуаль-
ные установки системной теории Лумана разительно отличаются от установок феноме-
нологической социологии.
42
Глава 2. Теория социальных систем Н. Лумана
§ 1. Система и среда
От своих коллег-современников Луман отличается той старомодной
философской страстью, которая требует начинать с самого простого и
выводить из него все, чтобы построить на нем всеобъемлющую систему. В
ряду системных теоретиков лишь Луман претендует на то, чтобы исполь-
зовать одну предпосылку и вывести из нее все многообразие сущего. Та-
ким базовым началом служит для него различение системы и среды. Свою
книгу «Социальная система» Луман начинает словами: «существуют си-
стемы». Дальнейшее представляет собой развертывание этой предпосыл-
ки, дифференциацию исходного начала.
Тем не менее сразу оказывается, что формула «система-окружение»
не является первичной, во всяком случае в методологическом смысле.
Эта оппозиция предполагает существование базовой логической схемы,
которая позволяет, как и в любом исчислении, разворачивать исходную
предпосылку. Такой логической схемой выступает понятие формы, идею
которой Луман заимствовал у Брауна Г. Спенсера,65 но развил в соб-
ственном ключе.
Понятие формы, которое Луман кладет в основание системной тео-
рии, значительно отличается от традиционного. В отличие от классиче-
ского понимания формы, речь у него идет не о единствах, идентичностях,
объектах, очертаниях, а о различиях (Differenzen). Под формами, основ-
ная функция которых - позволять различать объекты, следует понимать
не предметные очертания, а «границы, пограничные линии, как обозна-
чения различия, которые позволяют опознать, какая сторона обозначает-
65 Браун Джордж Георг Спенсер – математик. Его основная работа: Brown G. Spencer,
Laws of Form, New York, 1972.
43
ся, т.е. на какой стороне формы находится наблюдатель и к какой, соот-
ветственно, нужно обратиться для дальнейших операций».66
В отличие от классического понимания, идущего от Аристотеля,
форма у Лумана - не сущность, т.е. некий неизменяемый остаток измене-
ний, и не вещь-субстанция, т.е. то, что вступает в акцидентальные соот-
ношения, а само соотношение, посредством которого система дает знать
о своем существовании, указывая на свою противоположность. Форма
опознается через отношение к другому. Понятием формы Луман стремит-
ся схватить не статичную определенность мира, предметность, а его ди-
намическую взаимоопределенность, определение через взаимоотноше-
ние.67 Если традиционная метафизика в понятии формы выражала стрем-
ление описать воспринимаемую реальность и обрести посредством нее
устойчивые и ясные представления об инвариантности бытия, то замысел
Лумана – дать объяснение процессуальности и операциональности, а не
предметности мира. Его предмет наблюдения – социальные отношения,
т.е. отношения смысла, которые не имеют предметности, а состоят из се-
тей реляций и рекурсий, операций и селекций. Самые простые предмет-
ные формы, как и формы действий и понятий, – это, по Луману, на самом
деле сложные конструкты элементарных форм, которые способны только
отличать одно от другого и благодаря этому выстраивать комплексные
структурные инвариантности и идентичности.
В каком-то смысле Луман восстает против классической пармени-
довской аксиомы: «Есть только сущее, и сущее едино». Если в классиче-
ской метафизике абстрактная неизменная сущность предмета - условие
возможности отличия предмета от всего другого, то в интерпретации Лу-
мана отличие становится исходной категорией, в которой только и может
раскрыться сущность. Он мыслит «двоицу» впереди «монады», множество
впереди единства, отличие впереди иденичности, иное впереди тожде-
ства, зло впереди добра, грех перед добродетелью. Не случайно в «кос-
мологии» Лумана дьявол оказывается выше Бога, ибо «влеком импульсом
66 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 60.
67 Следуя этому пониманию, понятие предмета выражает существенное видовое свой-
ство понятия, а установление различия по отношению к другим понятиям.
44
наблюдать Единое». «Дьявол выступает представителем порядка, выстро-
енного на основе различений, и должен их воспроизводить. В Средневе-
ковье он оказывается космологическим адвокатом всего того, что дей-
ствует чересчур хаотично, становится Богом adhoc-кратии».68 Не будет
преувеличением сказать, что таким «дьяволом», способным – не по-
французски эмоционально и постструктуралистски, а по-немецки строго
теоретично - обосновывать многообразие и отклонение, негацию и дезин-
теграцию, стремился выступать в социологии и сам Луман.
Форма – это различение двух сторон, их граница и, таким образом,
их единство. Различение обращено к тому, что’ оно различает, к одной
стороне, но в нем одновременно дана иная сторона формы, через отно-
шение к которой происходит различение. При этом ни одна из сторон не
дана для самой себя: она лишь «иная» сторона другой. Противоположен-
ность двух сторон формы создает пространство для осуществления опе-
рации выбора одной альтернативы, совершения перехода от одной сто-
роны к другой. Форма – условие возникновения времени и действия, т.е.
новых координат, в которых должен быть сориентирован любой акт. В
этом смысле форма есть «развернутая во времени автореферентность».
Время возникает здесь как момент, необходимый для актуализации
(пересечения границы) или воздержания от актуализации иной стороны.
Пересечение границы является особым творческим моментом, поскольку,
в отличие от тавтологического повторения, отношение к иной стороне
влечет за собой взаимную идентификацию. «Каждое определение, каж-
дое обозначение, каждое узнавание, каждое действие совершается как
операция установления такой формы, которая, подобно грехопадению,
производит в мире разрез, вследствие чего возникает некое различие,
одновременность и потребность во времени, а предшествующая неопре-
деленность становится более недоступной».69
Близость к Гегелю здесь очевидна: подобно гегелевской диалектике
«бытия и ничто», «бытия и иного», согласно которой, посредством отри-
68 Цит. по: Lehman N. Stenographie// Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien?
Muenchen, 1990. C. 132.
69 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 62.
45
цания отрицания вырастает все сущее, лумановскую форму конституиру-
ет «акция и негация».70 Тем не менее, при всей симпатии Лумана к диа-
лектике, его мысль идет по иному пути. Проводя параллели с построени-
ями Гегеля, Луман подчеркивает, что бинарные отношения формы не
нуждаются ни в каком «снятии» в высших формах. Не происходит «синте-
за» «тезиса» и «антитезиса», в котором диалектика освобождается от му-
чительного различия и успокаивается в обретенном единстве. Форма яв-
ляется скорее чем-то внешним тезису и антитезису, «исключенным треть-
им», только с позиции которого нечто и может наблюдаться (но само оно
не может быть наблюдаемо). Однако если существует различение между
формой и тем, что она маркирует, значит, она «видима», т.е. существует
«суперформа» - форма, различающая нечто и его форму.71 Хотя речь идет
о различии различий, наблюдении наблюдений, отрицании отрицаний,
они не выстраиваются в диалектические последовательности, а скорее
ценны возникающим при этом структурным многообразием, создающим
пространство возможностей, которые можно проходить, как математиче-
ский оператор проходит комплекс значений переменной.
Важно заметить, что для каждой из обозначаемых сторон ее вторая ,
«иная» сторона является инкогнито, хотя обе стороны не могут существо-
вать друг без друга, или, лучше сказать, могут быть идентифицируемы
только благодаря друг другу. Взаимоположенность двух сторон служит
тем прообразом, который помогает Луману создать терминологию систем-
ных отношений. Система и окружение - две стороны одной формы. Они
никогда не могут «видеть» или «достигать» друг друга. Лумановская си-
стема является «монадой без окон», но по иным основаниям, чем у Лейб-
ница. В оппозиции «что и ничто» для «что» не существует «ничто». В лу-
мановской интерпретации «что» не есть единство, единством является
70 Луман не хотел бы давать этому исходному различию наименование: «Похоже, более
не сущеcтвует обязательного «primary distinction» - ни бытия - небытия, ни логической
ценности истинности-лжи, ни в науке, ни в морали. Но это не значит, что без различий
было бы что-то возможно». Luhmann N., Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt,
1997. C. 593.
71 Хотя речь идет о самоприменимости, но именно здесь, в недрах возникающего пара-
докса, и формируется содержательная завязка эволюции системы.
46
форма, в которой родилось различение «что и ничто».72 Именно их «об-
щение» через различение, выступающее одновременно связью, создает
потенциал рекурсий в системе, ее главную проблему и задачу. Форма -
единство, но она не едина – еще одно нарушение правил традиционной
философии!
Классическое противоречие бытия и ничто Луман переводит в про-
блему парадоксальности формы. Двусторонность формы не диалектична,
но и не просто логически противоречива, а парадоксальна. Форма охва-
тывает «да» и «нет», и таким образом все, что лежит между ними, потен-
циально может подпасть под утверждение или отрицание. Парадокс фор-
мы не имеет разрешения, а должен разворачиваться во все новых и но-
вых парадоксах, что можно считать еще одной аллюзией на гегелевскую
систему.73 Вот как представляет себе смысл парадокса сам Луман:
«Кто желает одновременно использовать обе стороны, идет вопреки
смыслу различения. Это невозможно, это ведет к парадоксу. Речь идет об
идентичности различия, о различении, которое различает себя само в се-
бе самом. И если формулировка гласит: различает себя самого в себе са-
мом, то можно предположить, что речь идет о символе всего мира. Рас-
смотренная как парадокс, каждая форма символизирует мир. Как и мир,
парадокс есть случай чистой автореферентности – это не просто движе-
ние мнения «туда и обратно», а то очарование, которое отсюда возника-
ет. Парадокс – развернутая в себе самой форма без указания на внеш-
нюю точку зрения, из которой его можно было бы наблюдать. Он – нача-
ло и конец в одном. Но наблюдатель – система. Он должен продолжать
свои операции. И он освобождается от парадокса тем, что переходит к
новым различениям».74
Лумановское понятие формы отлично от традиционной оппозиции
«форма-содержание». Ее понятийной противоположностью была бы
72 Луман отмечает, что форма, она же «различение», встает на место традиционных по-
нятий субъекта и субстанции.
73 Еще один тип разворачивания тех же парадоксов – в отношении традиционных поня-
тий античной метафизики (единое-многое, бытие-небытие и т.д.) - можно найти в диа-
лектике «Парменида» Платона.
74 Luhmann N. Die Paradoxie der Form // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. //
Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 247.
47
«бесформенность», абсолютная «неопределенность» в смысле отсутствия
различия.75 Это вновь напоминает об аристотелевском понятии материи
(«то из чего», hule). Античное различение «материи и формы» почти в
полном классическом виде воскресает в концепции Лумана об отношени-
ях между формой и средством (медиумом). Эта концепция более подробно
будет рассмотрена ниже.
Итак, форма по своей сущности является различением и в таком ви-
де служит основой для бинарного кодирования, на которое настраивают-
ся все операции, происходящие в системе. Все, что имеет форму, может
быть разложено на утверждение и отрицание, в нем может быть различе-
но идентичное и иное. Исходная «различаемость различения» лежит в
основе всего, и прежде всего в основе фундаментального для Лумана
различения между системой и окружением. Предмет системной теории,
отмечает ученый, - это особенный вид формы, «форма форм», которая
эксплицирует общие свойства каждой «двусторонней формы» в отноше-
нии понятий системы и окружения.76 Собственно говоря, только с этого
момента мысль Лумана оставляет общие философские основания и пере-
ходит в русло системной теории.
Способность различения двух сторон формы еще не дает возможно-
сти наблюдать саму форму. Чтобы увидеть форму, надо различить ее и
то, что’ она различает, т.е. наблюдать ее из другого места. Для обозна-
чения «наблюдения наблюдения» Луман использует кибернетическое по-
нятие «наблюдения второго порядка». Чтобы постичь систему как форму,
надо видеть наблюдателя, различающего систему и окружение. Но как
найти это место? Вопрос осложняется тем, что для системы как одной из
сторон формы не существует ничего, кроме среды, хотя и она для нее не-
доступна, будучи «иным». Система слепа, ей доступны только собствен-
ные различения. Поэтому она способна достичь своего «иного», лишь ес-
ли, делая свои различения сможет занять позицию, из которой произо-
шло изначальное разделение на «систему» и «окружение», т.е. вернуться
75 Если для пифагорейцев неопределенность ассоциировалась с диадой, а определен-
ность - с монадой, у Лумана как раз иной тип мышления: монада есть пустое единство,
а различение и форма появляются именно в диаде.
76 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 63.
48
к себе и «наблюдать» форму. Процесс «наблюдения наблюдения самого
себя» образует некий круг. По этому принципу возможно создание форм
еще более высокого порядка, в которых всякая форма более низкого по-
рядка выступает одной из сторон наблюдения. Возможно ли полное за-
мыкание круга? Нет. Всегда будет форма, которая не может наблюдаться
и потребует дальнейшего восхождения и различений. Посредством новых
различений происходит возвращение к исходному. Но невозможна ситуа-
ция, когда круг замыкает в некоей точке «абсолютного разума» и ока-
жется преодоленной парадоксальность и незамкнутость формы.
Новые различения системы способны сами принимать форму разли-
чения системы и окружения, если это происходит внутри системы и по-
средством ее операций. «Форма, которую различения вслепую создают
совместно, благодаря тому, что рекурсивно оперируют и тем самым диф-
ференцируются, снова поступает в распоряжение, если они наблюдают
себя самих как систему в окружении».77 Вопрос о том, способны ли ка-
кие-то иные образования, кроме систем, создавать различения, т.е. обра-
зовывать формы, Луман оставляет открытым, ибо на самом деле различе-
ния возникают в ходе операций, а на операции способны только системы.
Понятие операции является одним из определяющих для луманов-
ской системной теории, хотя теоретически оно наименее нагруженно: Лу-
ман довольствуется интуитивным понятием операции как акта, в ходе ко-
торого возникает различение и происходит выбор одной из альтернатив.
Тем не менее, именно это понятие выражает природу автопоэзиса систе-
мы: без операций нет системы, система воспроизводит себя посредством
операций. Операции, примыкающие друг к другу, образуют процессиро-
вание системы. Посредством понятия операции в еще достаточно статич-
ную концепцию формы78 вводится представление о времени, действии,
процессе.
«Рекурсивная сеть операций реализуется в настоящем на основании
наличных в данный момент условий и возможностей примыкания. Для
77 Там же, С. 64.
78 Развертывание философского понятия формы Луман предпринимает только в круп-
ных работах, например, в «Обществе общества». В других, особенно поздних работах,
понятие формы обсуждается лишь в плане различения «формы и медиа».
49
операций (и это относится к коммуникациям, если должна совершиться
автопоэтическая операция) не существует начала, так как система всегда
должна быть уже начата, чтобы репродуцировать свои операции из соб-
ственных продуктов, и не существует конца, так как каждая следующая
операция производится в отношении дальнейших операций».79
Изложенное здесь сколь ключевое, столь же и воспринимающееся
как само собой разумеющееся понятие рекурсивности (Rekursivität) озна-
чает характер и последовательность протекания операций – операции
следуют во временном порядке друг за другом, но не опосредованы ника-
ким каузальным порядком и могут быть случайными. Рекурсивность под-
разумевает невозможность влиять на какую-либо иную операцию, кроме
непосредственно примыкающей и следующей после нее, т.е. означает не-
возможность одновременного действия. «Подобные рекурсивные отноше-
ния, в которых завершение одной операции является условием возмож-
ности другой, ведут к дифференциации систем, в которых замыкание ре-
ализуется структурно высокосложным способом и которые замыкаются от
окружающего мира, существующего одновременно с ними».80
Рекурсивность позволяет теории подчеркнуть однонаправленность и
временной характер операций и одновременно раскрыть их свободный и
обусловленный случаем (контингентный) характер – способности всего
следовать после всего. Операции не могут примыкать друг к другу все и
сразу. Если существует селективность и избирательность операций, то за
это в высококомплексных системах отвечает смысл. С помощью понятия
рекурсивности возникает представление о едином континууме операций в
системе, имеющем свой определенный порядок.
Все операции системы имеют единый характер: они создают все но-
вые и новые различения и таким образом наращивают комплексность си-
стемы. Операции в рамках существующих форм образуют для системы ее
реальность. Связь формы и операций, системы и ее процессов, устанав-
ливается в ключевом для Лумана понятии автореферентности.
Автореферентность операций подразумевает, что для одной сторо-
ны формы недоступна ее другая сторона и операции не могут выходить
79 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. C. 440.
80 Там же. С. 95.
50
за ее пределы. Система может иметь дело только с собой и ни с чем
иным: «Ссылаться система может только на себя: система «знает, что она
есть только посредством того, что она знает, что она есть»».81 Операции
системы автореферентно примыкают друг к другу. «Самореференция
означает, что операции системы в ее смысловом содержании всегда ука-
зывают на другие операции системы».82 Каждая операция требует про-
странства автореферентных связей, в которое она включена. В психиче-
ской системе это операции сознания, образующие тесную сеть. В обще-
стве – коммуникативные связи. Система воспринимает только себя, и со-
ответственно не может ни воспринимать, ни восприниматься окружением.
Но каким же образом система тогда со своим окружением?83
Понятие автореферентности проясняется посредством различения
между автореферентностью и инореферентностью (Sebstreferenz und
Fremdreferenz). Система может оперировать только с одной стороной
формы, на внутренней стороне форм. Но эту свою сторону она должна
отличать от иной. «Осмысленное оперирование означает, что все опера-
ции происходят на внутренней стороне формы, т.е. актуально; однако
именно для этого требуется другая сторона формы, т.е. внешняя сторона
как пространство, уходящее в бесконечность иных возможностей».84 C
актуализацией автореферентности дана референтность иного, с актуали-
зацией иного дана (уже в качестве иного иному) автореферентность.85
Посредством различения само- и инореференции возникает возможность
отличения системы от окружения.
81 Там же. С. 80.
82 Luhmann N., Schorr K.E. Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Frankfurt a.M., 1988.
C. 8.
83 «Самореферентная система оперирует в форме самоконтакта. Она воспринимает воз-
действия из окружающего мира и выдает воздействия окружающему миру в форме дей-
ствий, которые согласовываются внутренне и постоянно зависят от структурной селек-
тивности». Luhmann N., Schorr K.E., Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Frankfurt
a.M., 1988.
84 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 54.
85 Именно поэтому невозможно, по-Луману, создать «бессмыслицу», ибо это уже будет
созданием смысла.
51
«Это отличение оперативно производится посредством простого
продолжения собственных операций. Но эти операции могут контролиро-
ваться, рассчитываться и наблюдаться, если система – и каждая соб-
ственным образом – располагает различением автореферентности и ино-
референтности. Это возможно только в форме присущего системе разли-
чения, ибо иначе обозначения «само» и «иное» потеряли бы смысл. Раз-
личение не дает системе постоянно путать себя с окружением. Она также
не дает системе путать собственную карту с территорией и пытается эту
карту так комплексно организовать, чтобы та пункт за пунктом соответ-
ствовала территории».86
Автореферентность означает, собственно, способность системы к
операциям, а благодоря этому – к обучению, развитию, эволюции слож-
ности, рефлексии, самонаблюдению. Без нее не будут поняты ни пред-
ставление о закрытости системы, ни природа автопоэзиса. Система, как
выражается Луман, постоянно «осциллирует» между автореферентностью
и инореферентностью: таков способ ее существования, «процессирова-
ния».
Если система имеет дело только сама с собой, то как возникает ее
комплексность и многообразие? Как система дифференцируется и создает
свои формы? Как она «приходит в движение» из себя самой? Луман ссы-
лается на сделанное Х. фон Ферстером различение между тривиальными,
т.е. каузально предсказуемыми, и нетривиальными машинами, т.е. систе-
мами, которые являются непредсказуемо комплексными и вследствие это-
го – непросчитываемыми, как если бы им принадлежала свобода реше-
ния. Любой комплексной системе свойственна степень «самопроизведен-
ного беспокойства», «эндогенной возбудимости» (Irritabilität).87 Этот эф-
фект возникает вследствие того, что исходное различение между систе-
мой и окружением может применять его к себе, входить в саму систему.
Луман замечает по этому поводу: «Формально речь идет о «re-
entry» в смысле формально-логического исчисления Брауна Г. Спенсера:
86 Luhmann N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992. C. 26.
87 Имеется в виду способность к внутреннему возбуждению, которая способна реализо-
вываться в самостоятельном поиске решения проблем системы и таким образом само-
успокоения. Luhmann N. Organisation und Entscheidung. Opladen, 1978. C. 71.
52
об обратном вхождении различения в уже различенное им».88 Как демон-
стрирует Б. Спенсер, re-entry (возвращение) ведет к неопределенности
системы, не имеющей разрешимости с помощью обычных средств наблю-
дения системы (т.е. посредством обозначения вещей и событий, чисел и
переменных). Речь идет о повторном вхождении различия в то, что в себе
различено. Так система внутренне начинает дифференцироваться, не
клонируя свою исходную структуру, а трансформируя ее.
Самоприменимость и тавтология является конститутивным принци-
пом жизни системы, которая обусловливает ее неоднозначность, внут-
реннюю способность к ошибкам и неопределенности, к конструктивному
«беспорядку».
«Эту неопределенность система создает сама. Она следует не из
неконтролируемой случайности воздействий окружения. Об этом свиде-
тельствует то, что окружение, которое система конструирует посредством
инореференции, не совпадает необходимо с окружением, которое может
наблюдать и описывать внешний наблюдатель; не говоря уже о недости-
жимом ни для какого наблюдателя мире, «каков он в действительности
есть». … Re-entry обозначает пограничную величину, начало и конец
проводимого двузначного исчисления. Система сама дает указания на
«неразрешимую недетерминированность» (unresolvable indeterminacy).
Она может посредством подходящих семантических выражений воспроиз-
вести для себя закрытый мир, «воображаемое пространство»».89
На уровне re-entry возникает и различие онтологического и гносео-
логического уровней, возможность наблюдения. Воображаемое простран-
ство познания – такой же продукт деятельности системы, операций
наблюдения, как и пространство, создаваемое другими операциями. Бла-
годаря re-entry система создает представление об окружении, о котором
она в принципе не может создать представления. «Различие систе-
ма/окружение возникает дважды: как различие, произведенное системой
и как различие, наблюдаемое в системе».90 Собственное «воображаемое
88 Там же. С. 72.
89 Там же. С. 72.
90 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 45.
53
пространство» позволяет значительно расширить оперативно доступное
системе пространство – посредством включения времени в качестве про-
шлого (память) или будущего. В этом пространстве нельзя добиться пол-
ной исчислимости, которая достижима в оперативно доступном мире.
Иными словами, непредсказуемость и сложность, степени свободы систе-
мы суть следствия ее «самовхождений», а не контакта с внешним миром.
Из невозможности для системы видеть свое окружение следует еще
несколько важных для Лумана понятий, объясняющих, как все-таки мо-
жет происходить контакт системы с окружением. Одно из них - понятие
резонанса (Resonance). Прибегая к этому понятию, заимствованному из
физики, Луман показывает, что система может реагировать только на са-
му себя, но делает это не безразличным образом. Хотя система посред-
ством собственных операций закрывается от комплексности и разрушаю-
щих влияний внешнего окружения, она может, в виде исключения и спе-
цифическим образом, быть возбуждена факторами внешнего окружения и
приведена в волнение. Система резонирует, а не вступает в контакт. По-
добно тому как в физике струна резонирует, только воспринимая соб-
ственные частоты, любая другая система имеет дело только с собствен-
ными механизмами обработки информации.91 Обращаясь в работе «Эколо-
гическая коммуникация» к экологической проблеме, Луман подчеркивает,
что экологическая угроза не является угрозой природе и безразлична по-
следней. И связана она даже не с действием природных стихий, а с воз-
буждением общественной коммуникации на собственные же раздражите-
ли. Тем не менее это не значит, что она не имеет источника в окружаю-
щем мире. Общество как система реагирует на изменение условий соб-
ственного существования, на изменение пространства возможности соб-
ственных системных операций, которое может произойти, например,
вследствие невозможности продолжения жизни людей. Резонируя, обще-
91 Луман приводит в качестве примера словарь, в котором все употребляемые слова по-
лучают определение и только в исключительных случаях допускают ссылки на неопре-
делимые понятия. «Подозрение редакции, что язык посредством неопределимых поня-
тий или новообразований способен разрушать целостность словаря или менять смысл
понятий, должно привести редакцию в волнение и заставить ее искать, как компенси-
ровать эти изменения и восстановить целостность словарной системы». Luhmann N.
Ökologische Kommunikation. Opladen, 1986. С. 40.
54
ство реагирует не на стихию, и даже не на гибель людей, а на реакцию
массмедиа и других общественных структур по этому поводу.
§ 2. Структурные соответствия
Очевидно, что взаимодействие системы и окружающего мира стано-
вится, - в рамках теоретических предпосылок Лумана, - серьезнейшей
теоретической проблемой, ибо такое взаимодействие не предполагает их
взаимного контакта. Фундаментальным понятием, наряду с понятием ре-
зонанса, объясняющим связь системы и окружения, является понятие
«структурного соответствия» (strukturelle Koppelung). Это понятие позво-
ляет объяснить, каким образом система «приспособлена» к окружающему
ее миру. Речь идет о взаимной согласованности систем между собой, при
которой сосуществование систем образует окружение, оставляющее для
каждой из них свой коридор возможностей. Например, биологические си-
стемы жизни при своей высокой комплексности имеют низкую вероят-
ность возникновения, но в рамках определенных и устойчивых структур-
ных соответствий, возникших в условиях Земли, сохранение и эволюция
жизни становятся естественными и непроблемными.
Структурные соответствия ограничивают существующий круг воз-
можных структур, посредством которых осуществляется автопоэзис си-
стемы. Они стоят, как говорит Луман, «перпендикулярно» к самодетер-
минации системы. Структурные соответствия не воздействуют на самоде-
терминацию и не ограничивают ее, но придают ей такую структуру, кото-
рая учитывает резонансные процессы и согласована с ними. Они не
определяют, что происходит в системе, а должны предполагаться, иначе
не происходило бы автопоэзиса и система не смогла бы существовать.
Структурные соответствия отражают в формах и операциях системы «воз-
действие» окружающего мира, как если бы оно было.
Для иллюстрации различных аспектов этого положения вещей Лу-
ман приводит пример «оцифровки», перевода в цифровую форму «анало-
говой» информации в области компьютерной технологии: речь идет о си-
стемах совершенно разного состава элементов, но обе формы настолько
согласованны, что выступают формой чего-то одного. Здесь речь идет об
55
идентичности, достигаемой средствами одних только структурных соот-
ветствий. Другой пример -ухо и глаз: оба оперируют разными данными,
но описывают одну реальность и одни объекты. Эти примеры показывают,
что структурные соответствия, пункт за пунктом усиливая координацию,
позволяют адекватно выразить на собственном языке системы то, что су-
ществует и волнует ее «вовне». Структурные соответствия ограничивают
возможности системы, но оставляют ей свободу на таком оптимальном
уровне, чтобы она могла впустить в свою свободу ограничения, т.е. полу-
чить возможность вести себя «неприспособленно».
Таким образом, система всегда уже «приспособлена» к окружению.
Луман полностью отвергает целевое понятие адаптации применительно к
системному уровню. Системы не адаптируются, они изначально приспо-
соблены друг к другу, это условие их существования. Приспособление к
окружающему миру происходит не посредством «естественного отбора»
или благодаря результату когнитивных способностей системы. У нее нет
доступа к «внешней» адаптации. Под адаптацией можно понимать опти-
мизацию деятельности и сложности системы по отношению к самой себе.
Неизвестность окружающего мира система может компенсировать внут-
ренним избытком своих возможностей, реагируя на возникающую в ней
(т.е. в себе) тревогу разнообразным ограничением этих возможностей.
Благодаря структурным соответствиям неопределенность бытия окруже-
ния воспринимается системой как порядок и свобода для собственной
определенности.
Луман самым радикальным образом трактует закрытость системы по
отношению к внешнему миру: «На уровне собственных операций не су-
ществует прорыва в окружающий мир, и точно так же системы внешнего
мира не могут воздействовать на автопоэтические процессы оперативно
закрытой системы.»92 В противовес традиционной системной теории, ко-
торая позиционировала себя как концепция «открытых систем» в ответ
на закон энтропии в закрытых системах, Луман постулирует, что эволю-
ция неизбежно ведет к замыканию систем, к возникновению общего по-
рядка, способствующего сохранению замкнутых систем. Под закрытостью,
однако, Луман имеет в виду не термодинамическую закрытость, а «опе-
92 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 92.
56
ративную закрытость», т.е. «рекурсивное обретение возможности соб-
ственных операций через результаты собственных операций».93 Посред-
ством этих операций система не может выходить за свои пределы, напро-
тив, все операции имеют целью замыкание системы. Иначе система не
могла бы изолироваться и ставить границы комплексности внешнего ми-
ра, не могла бы возникнуть и существовать.
Закрытость, однако, касается только операций системы и, как гово-
рит Луман, «является условием ее открытости».
«Уже клетки как необходимые базисные системы жизни операцио-
нально закрыты, т.е. «автопоэтически» организованы. То же самое отно-
сится к автопоэтическим системам более высокого порядка, организмам,
которые способны посредством своего автопоэзиса обменивать клетки. Та
же самая закрытость обнаруживается у мозга. Хотя мозг может прийти в
возбуждение от внешнего контакта, имеющего крайне малую интенсив-
ность, но обладает операциями только для внутренних изменений состоя-
ний и с помощью нервных импульсов не может иметь контакта с внешним
окружением, ни как input, ни как output. В человеке как условие его
жизни и переживания оперируют бесчисленные собственные системы, ко-
торые посредством собственных структур определяют то, какие операции
они осуществляют, хотя они одновременно и зависимы друг от друга».94
Понятие закрытости относится к специфическому оперативному
способу репродукции системы, а не к каузальным отношениям систем. То,
что окружающий мир всегда воздействует и без него абсолютно ничего не
может происходить, Луман не ставит под сомнение. Но воздействия, о ко-
торых может судить наблюдатель, касаются лишь той их «части» причин,
которую он может идентифицировать, т.е. той части, которая принадле-
жит системе. О другой части он не может знать ничего. Строго говоря, он
не может знать даже того, что он об этом не знает. В этом смысле Луман,
увлекавшийся в юности Кантом, выступает законченным адептом кантов-
ской «вещи в себе», но его интерес переключен с проблемы то-
го«воздействия» вещи в себе на познание, на проблему внутренней опе-
93 Там же. С. 94.
94 Luhmann N. Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? // Он же, Aufsätze und Re-
den. Stuttgart, 2001. C. 111.
57
рациональной деятельности систем с позиции наблюдателя этих процес-
сов.
Хотя Луман декларировал разрыв с установками трансценденталь-
ной философии, вопрос о закрытости системы выталкивает его к тем про-
блемам, которые являются камнем преткновения именно для трансцен-
дентализма. Луман отвергает прежде всего онтологические экспликации
из постулирования трансцендентального субъекта. Он хочет быть реали-
стом-эмпириком. Трансцендентального субъекта не существует, потому
что эмпирически существуют только индивидуальные сознания, и их бо-
лее пяти миллиардов. Проблема единства сознания трансформируется у
Лумана в проблему гомоморфизма систем, а не в постулат о трансценден-
тальном единстве сознания. Тем не менее, освободившись от феномено-
логического трансцендентализма, он оказывается перед лицом «метафи-
зического трансцендентализма» наподобие лейбницевского: оперативно
закрытые системы суть «монады без окон», сосуществующие благодаря
«предустановленной гармонии» структурных соответствий.
Математический кибернетизм Лейбница Луман по большому счету
просто дополняет элементами постструктуралистского дискурса – поняти-
ями негации, комплексности, алогичности и парадоксальности. Онтологи-
ческие проблемы, которые возникают в монадологии Лейбница,95 Он ре-
шает, полностью отказываясь от терминологии как классической онтоло-
гии, так и гносеологии. Проблему единства сущего, бытия, Луман сводит
к проблеме системных уровней: существует только то, что является еди-
ной системой. Быть – значит функционировать как система. Сосущество-
вание разных систем - физического, биологического и иных уровней –
создает благодаря их пересечению многообразный мир, для описания ко-
торого не требуются избыточные абстракции, наподобие понятия бытия.
Но решена ли проблема, если исчезло слово, ее обозначающее? Сводима
ли проблема бытия к проблеме функционирования и деятельности систе-
мы?
При таком подходе эпифеноменами оказываются многие явления,
имеющие центральное бытийное значение: человек, общество. Общество
существует лишь настолько, насколько существует его функциональный
95 Майоров Г.Г. Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. М., 1973.
58
коррелят, коммуникация. Человек существует лишь настолько, насколько
существует психическая система (в качестве сознания) и комплекс иных
систем, составляющих в совокупности функциональный коррелят понятия
человека. Традиционная проблема дуализма души и тела трансформиру-
ется у Лумана – в согласии с достижениями науки – в проблему плюра-
лизма множества системных уровней, от атомного до уровня сознания. Но
можно ли за суммой структурных соответствий, создающих нишу для дея-
тельности сознания, познать человека в единстве его бытия? Луман –
слишком постмодернист, чтобы быть сциентистом. Но тем не менее спра-
ведливы упреки Луману в крайнем технократизме, на базе которого не-
возможно построить удовлетворительную антропологию.
§ 3. Медиум и форма
Если благодаря структурным соответствиям становится объяснимым
«взаимодействие» системы с окружающим миром и другими системами, то
не совсем понятно, как описывать взаимные зависимости систем, которые
находятся в соотношениях структурных соответствий. Этой задаче служит
лумановская концепция медиума и формы. И хотя Луман разрабатывал ее
в контексте другого проблемного поля, чем понятие бинарной формы,
вместе эти два элемента составляют единое учение о форме.
Если бы системы представляли монады, закрытые в том числе и для
наблюдателя, их было бы невозможно различать. То, что структуры яв-
ляются «соответствиями», можно знать только задним числом, понимая
их отношения с окружением. Наблюдатель способен воспринимать разные
системы как элементы собственного мира, имея основу для их сравнения.
Чтобы обозначить почву для различения и сравнения структурных соот-
ветствий, указать на базис общей реальности, в которой сосуществуют
системы, Луман говорит о «материальном континууме», в котором не обо-
значены границы систем и который равно «существует» для всех автопо-
этических событий в системах. Речь идет о физическом мире, который
«сочетаем» с любыми структурами системы, о некоем понятийном экви-
валенте материи.
Если в марксизме понятие материи сводится к проблеме существо-
вания физического коррелята, к которому, в конце концов, генетически
59
сводятся элементы систем различной природы и их взаимодействия, то
Луману близко понятие материи как предела всякой формы – того не-
определенного хаоса (meon), в котором существует и которому противо-
стоит всякая определенность. Материя как субстрат не является сплавле-
нием сущностей или элементов, она не имеет самостоятельной идентич-
ности. Идентичность и определенность субстрату дает форма. Поскольку
субстрат и форма порождены в ходе автопоэзиса систем, речь идет о
внутренних системных различиях, которые конструирует сама система.
Если Аристотель различал субстрат как «первую» и «вторую» материи, то
Луман, обозначая предмет «первичной» материи, как реальности вообще,
направляет свой интерес на понятие «вторичной материи» как материала
для формы и разрабатывает концепцию «медиума и формы».
Различение медиального субстрата и формы Луман раскрывает (с
опорой на Ф. Хайдера96) с помощью различения «слабо» и «строго» свя-
занных элементов (lose – rigide Kopplung). Это различение основано на
мысли, что к каждой операции или элементу не может примыкать любой
другой, а только определенный. Существует круг элементов, которые мо-
гут быть встроены в ряд с той или иной степенью вероятности. Они обра-
зуют пространство возможностей - медиумы, элементы которых с помо-
щью системных процессов селекции могут быть связаны друг с другом
строго определенным образом, создавая формы. «Медиум состоит из сла-
бо связанных элементов, форма в отличие от него связывает те же эле-
менты по строгим соответствиям».97 «Слабым» связыванием медиум явля-
ется только для формы, да и вообще медиумом система выступает только
для формы. Это соотносительные понятия. Вне отношения к форме меди-
ум может представлять собой самостоятельную систему и быть полностью
самодостаточным. В своем отношении к форме он становится окружени-
ем, но именно собственным окружением системы, из которого она черпа-
ет материал.
Медиум - не система: он служит, как и форма, структурой системы.
Понятие медиума охватывает все, что является субстратом (в отличие от
конкретно ситуативных форм субстратом в самом широком, невеществен-
96 Heider F. Ding und Medium. Symposion I, 1926. C. 109-157.
97 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 198.
60
ном смысле): медиум - это переживания для сознания, нервные импульсы
для мозговых процессов, восприятия для искусства, деньги для экономи-
ки, страстность для любви, власть для политики.
Оперирование системы состоит в связывании и освобождении эле-
ментов медиума, т.е. в создаваемой формой симультанной интеграции
элементов окружения и последующем разложении этой связи. Медиум
связывается и освобождается. В этом смысле о процессе связывания и
освобождения можно говорить как о «циркулировании» медиума.
Луман иллюстрирует взаимосвязь медиума и формы на примере
процессов восприятия организмов (пример взят у Хайдера98). Медиумами
восприятия являются свет (зрение) или воздух (слух), с помощью кото-
рых все воспринимается, но сами они не воспринимаются.99 При этом зри-
тельные и звуковые формы воспринимаются именно благодаря тому, что
не воспринимаются сами медиумы. Элементы медиумов связываются ор-
ганизмом в определенные формы, которые воспринимаются соответ-
ственно как определенные вещи, запахи и т.д. Физическая структура ми-
ра делает возможным существование звуков и бликов, но само различе-
ние медиума и формы – собственный продукт воспринимающего организ-
ма. Звуки и блики являются образами только благодаря их отличению от
субстрата. Точно так же в языке свободно связанные слова и буквы, об-
разующие субстрат, формируются в предложения, несущую форму. «Раз-
личение медиума/формы переводит невероятность оперативной контину-
альности системы во внутрисистемно управляемое различие и трансфор-
мирует ее тем самым в рамочные условия для автопоэзиса системы».100
Система связывает медиум в собственные формы, не расходуя медиум.
Актуализированные формы – видимые вещи, высказываемые предложе-
ния – связывают элементы системы для симультанного использования, но
не используют их.101 Свет остается, слова не исчерпываются в разговоре.
98 Там же. С. 192.
99 Luhmann N. Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? // Он же, Aufsätze und Re-
den. Stuttgart, 2001. C. 119-121
100 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 197.
101 Поскольку под формой понимается маркирование различений, то само различение
медиа и формы является формой. Луман подчеркивает, что это свидетельство автоло-
гичности - не теоретический недостаткок, а отражение автономности системы.
61
Для автопоэзиса системы первостепенное значение имеет опера-
тивное различение медиума и формы, а не сами они. Это различение
подчиняется классическому различению структуры и процесса: результи-
рующая – продукт процессирования этого различия, а не самих структур
- формы и субстрата. Единство системы можно определять не через фор-
му - как структурную стабильность, а только через процессуальную спе-
цифику, в которой медиум делает возможным образование форм.
Медиум обладает более высокой степенью комплексности, а в фор-
ме осуществляется ее редукция. Медиум определяет горизонт возможно-
стей для операций системы и возникновения определенных форм. Он ни-
как не может толковаться в вещественном смысле. В этом пункте концеп-
ция структурных соответствий смыкается с учением о форме. Медиум яв-
ляется конкретизацией структурных соответствий, в которые абстрактно
погружена система. Коль скоро речь заходит об определенных соответ-
ствиях, они начинают выступать в качестве медиума. «Это вело бы, если
бы не было ограниченно, к быстрому окостенению материи», - замечает
Луман. Связанность материи неумолимо росла бы. «Именно поэтому осо-
бые формы, например, язык, дают эволюционное преимущество, посколь-
ку сами могут быть медиумом и благодаря более высокой строгости фор-
мы (спецификации звуков, воспринимаемых как слова, грамматических
правил и т.д.) вновь разлагать элементы и освобождаться в безграничном
многообразии возможных связей, чтобы вновь включаться в другие фор-
мы, комплексы идей, теорий и т.д.»102
Особая универсальная роль среди разных медиумов принадлежит
смыслу. Смысл присущ системам высших ступеней эволюции – психиче-
ским и социальным. Это означает, что для таких систем смысл есть си-
стемообразующее начало, лежащее в основе их автопоэзиса. Смысл мо-
жет выступать и медиумом, и формой, но не является системой. Смысл
характеризует способ упорядочивания человеческого переживания. Пе-
реживание, будучи граничным элементом сознания, направлено на что-
то, в то же время постоянно указывая на то, что не есть его содержание,
а только может им стать. Каждое переживание перегружено бесконечным
102 Luhmann N. Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? // Он же, Aufsätze und
Reden. Stuttgart, 2001. C. 121.
62
потенциалом возможностей, которые оно не в силах использовать. Смысл
основан на различении актуальности и потенциальности. Актуализируя
именно данные возможности, смысл не уничтожает прочих возможностей,
а сохраняет их потенциальности доступными. Он способен стать формой
обработки переживания, придать ему структуру, интегрировать актуаль-
ность переживания в трансцендентность других его возможностей, имма-
нентно предвосхищаемых в нем. Он осуществляет функцию селекции
возможностей, образующих задний план, «горизонт» переживания.103
«Смысл является постоянной актуализацией возможностей. Так как смысл
может быть только различением актуального положения и горизонта воз-
можностей, то каждая актуализация ведет к виртуализации примыкаю-
щих возможностей».104 Таким образом смысл редуцирует комплексность
мира, формируя системы. На этом уровне он служит формой. Но смысл
может выступать и в качестве медиума - как субстрат конкретных смыс-
ловых и языковых форм, в которые его облекает сознание или коммуни-
кация.105
До сих пор описание концепции Лумана шло по классической схеме
философской системы - от элементарных основоположений к разветвлен-
ному теоретическому комплексу идей. Изложенное выше не должно со-
здавать впечатления, что в теории систем Луман видел модернизирован-
ную версию метафизической космогонии, где из понятия формы и отно-
шения «система/окружение» объясняется происхождение универсума .
Это описание, вплоть до исходного различения «что-ничто», действи-
103 «Переживание переживает себя как подвижное – и, в отличие от трансценденталь-
ной феноменологии, мы усматриваем этого органические основания. Оно не находит
себя заключенным в себе, ограниченным на себя самого, но постоянно указывает на
нечто, что не является в данный момент его содержанием. Этот выход за свои пределы,
это имманентная трансценденция переживания - не дело выбора, но только условие,
исходя из которого любая свобода выбора должна быть конституирована». Luhmann N.
Sinn als Grundbegriff der Soziologie // Luhmann N. Habermas J. Theorie der Gesellschaft
oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt, 1971. C. 31.
104 Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a.M.,
1984. C. 100.
105 Более подробный анализ понятия смысла – центрального для Лумана - будет дан ниже. Точно также, как
смысл и сознание находятся в соотношении медиума/формы, в таком же ключе может трактоваться отноше-
ние сознания к коммуникации, где сознание становится медиумом, а коммуникация – формой. Эта часть
теории Лумана будет рассмотрена в третьей главе.
63
тельно напоминает логику конструкций Гегеля, для которого, как и для
Лумана, философия и наука представляли собой систему. Но Луман, в от-
личие от Гегеля, уклонялся от генетического объяснения системных от-
ношений. Черты всеобъемлющей системы его построения начали приоб-
ретать только в самых поздних работах. В своей философской части лу-
мановская концепция претендует не на создание картины мироздания, а
только на объяснение существующей комплексности мира. Более того,
она не идет дальше ответа на вопрос в кантовском стиле - «как возмож-
на» система.
Сам Луман претендовал на создание только «специально-
универсальной» теории (fachuniversale Theorie). Но в своем стремлении
«начинать» с основ Луман он не колеблясь становился на почву филосо-
фии. Стиль общесистемного построения теории нашел у Лумана проявле-
ние прежде всего в работах «Социальная система» и «Общество обще-
ства». В других случаях логика изложения в его работах диктовалась
нуждами анализа тех или иных проблемных областей. В целях такого
анализа в начале или по ходу изложения предпринимались концептуаль-
ные и понятийные экскурсы. Его «дизайн теории» (по собственному вы-
ражению Лумана) обусловлен движением не от абстрактного к конкрет-
ному, а переходом - через описание глубинных предпосылок - к непо-
средственным условиям работы систем. Осветив общесистемные измере-
ния лумановской теории, связанные с функционированием систем, оста-
новимся на некоторых «предпосылочных» понятиях Лумана, без которых
не очень ясен смысл возводимой им социальной теории.
§ 4. Комплексность и контингентность
Луман различает два основных типа теорий. Одни исходят из фак-
тичности мира и обращены к изучению его норм и характеристик. Эти
теории, считает ученый, изначально исходят из представления о мире
как совершенстве, ибо не рассматривают ситуацию, в которой «мир мог
быть иным». В своей сущности классические теории, вопреки известному
утверждению Маркса, строя идеальные конструкции, направлены на
улучшение и изменение мира, а не на его объяснение. Они служат «ис-
64
правлению ложных форм и прогрессирующему улучшению условий, в ко-
торых живут люди».106 Поучения и предсказания являются их немаловаж-
ной частью. Не только классические метафизические системы, но и тео-
рии Нового времени в своем большинстве принадлежат к этому типу, ко-
торый мало интересует Лумана.
Луман относит свою теорию к тому типу, который исходит не из
фактичности, а из невероятности бытия и порядка.
«Эта теория, дистанцируясь от пустого описания состояний, как они
есть, прощается с рутинными ожиданиями и гарантиями повседневности и
берет на себя задачу объяснить, как зависимости, которые являются сами
по себе невозможными, все-таки становятся возможными и даже с высо-
кой вероятностью ожидаемыми. В отличие от Бэкона Гоббс базировал
свою политическую теорию на подобном предположении невероятности;
и в отличие от Галилея Кант не полагался на возможность естественного
познания, а поставил под вопрос синтетические высказывания как тако-
вые и затем поставил вопрос об условиях их возможности. Ведущий во-
прос уже не направлен на практическое улучшение. Речь идет о теорети-
ческом предвосхищении всех улучшений: как может возникать порядок,
который трансформирует невозможное в возможное, неочевидное в оче-
видное».107
Такая теория начинается с радикального сомнения, но не того «ри-
торического» сомнения, высказывая которое Декарт уже имеет ответ. Лу-
ман не ищет способа, чтобы, отвергнув все, получить абсолютно надеж-
ное, исходное, «последнее основание» сущего. Он прямо начинает с по-
сылки и утверждения, что «системы существуют». Его сомнение ставит
под вопрос лишь совершенство этого мира, те эволюционные формы, в
которых мир реализовался. Одним из своих предшественников Луман
считает Гоббса, который, формулируя основания концепции социального
атомизма, без труда приходит к очевидному выводу о невозможности со-
циального бытия, ибо «человек человеку волк». Факт социального бытия
не является более само собой разумеющимся, он становится вызовом для
106 Luhmann N. Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation // Он же, Aufsätze und Re-
den. Stuttgart, 2001. C. 76.
107 Там же. С. 77.
65
теории, побуждая в поисках ответа выстраивать теоретическую конструк-
цию, которая, начиная с нуля, обосновывают бытие факта. Отвергая бес-
предпосылочность или требование окончательного обоснования, Луман,
тем не менее, считает сомнение бесспорным началом подлинной теории.
Аргумент Лумана едва ли кажется убедительным: ведь сомнение
само по себе является «предпосылочным», базируется на том, что’ кажет-
ся несомненным. Такой предпосылкой для Гоббса служит его индивидуа-
листическая антропология, для Декарта – язык и сознание. Невероят-
ность бытия и порядка у Лумана вытекает из ключевого для него понятия
комплексности, которое, как справедливо замечал Хабермас,108 выступает
задним фоном всех рассуждений Лумана, но при этом остается во многом
неопределенным. Широта этого понятия, по мнению Хабермаса, лишает
его эвристической ценности. В сущности, невероятность не является ат-
рибутивной характеристикой бытия, она представляет собой экспликацию
физического понятия комплексности (согласно второму закону те-
ромдинамики): любое усложнение системы невероятно, если исходить из
предшествующего состояния системы. Тем не менее именно из представ-
ления, что мир бесконечно сложен и случаен, следует задача обосновать
вероятность наличия в нем порядка. В свете этой идеи становится понят-
ным смысл системной эволюции – он состоит в росте способности систем
к селективности и в повышении комплексности.
В дискуссии с Хабермасом Луман принял вызов и дал всесторонний
анализ понятия комплексности (Komplexität). Он отклонил тривиальные
линейные представления, в рамках которых комплексность мыслится ко-
личественно и предметно, а также математические теории, ищущие кри-
терии измеримости комплексности. Классическое определение, - «Слож-
ность есть полнота возможных событий или состояний»,109 - оставляет в
стороне много смыслов понятия комплексности, в частности, игнорирует
108 «Понятие комплексности предполагает, что постоянно существует больше возможно-
стей переживания и действия, чем то, что может быть акутализировано. Понятие кон-
тингентности выражает, что указанные в горизонте актуального переживания возмож-
ности дальнейшего переживания и действия являются только возможностями, поэтому
могут выпасть иначе, чем ожидалось». Luhmann N., Habermas J. Theorie der Gesellschaft
oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt, 1971. C. 32.
109 Там же. С. 312.
66
смысловую сложность, создаваемую негацией и виртуализацией мира и
представляющую собой вызов для социальной науки. Имея в виду слож-
ность смысловых систем, Луман стремится расшатать стереотипы, связан-
ные с понятием комплексности в кибернетике. Это понятие должно быть
многомерным, по меньшей мере, включать в себя три понятия – смысла,
селекции, возможности. Ключевым для понимания комплексности являет-
ся различение актуальностей и возможностей, которое не «существует» в
мире, а создается системами.
Сложность заключает в себе целостность актуализирумых и неакту-
ализируемых возможностей в мире - это определение, наверное, наибо-
лее аутентично отражает основную интуицию Лумана. Каждая актуализа-
ция возможностей внутри системы изменяет ситуацию с неактулазиро-
ванными возможностями вне системы и, напротив, каждая неактуализи-
рованная область возможностей влияет на то, что возможно в системе.
Понятие комплексности у Лумана динамично и нелинейно. Горизонты
возможностей способны смещаться. Связь между актуализацией и неак-
туализацией возможностей заключена в понятии смысла.
Луман считает необходимым различать сложность системы и слож-
ность окружения, сложность неопределенную и сложность определяемую.
Если последние два вида выявляются через многообразие горизонтов, то
первые два - через системные границы. В самом понятии системной
сложности заложен функциональный смысл систем. Если предельное по-
нятие комплексности окружения обозначить как «мир», то единственная
функция системы – редуцировать комплексность мира. Редукция ком-
плексности может сочетаться с повышением комплексности. Редукция
есть способ, которым системы могут обрабатывать комплексность окру-
жения, созидая тем самым собственную комплексность системы. При этом
редукция – это селекция возможностей, которая не обязательно сопро-
вождается стабильностью, но может вести и к нестабильности системы.
В своем представлении об абстрактной полноте возможностей и по-
тенциальностей, предвосхищаемых, но не реализованных в мире, Луман
близок к Лейбницу. Лейбниц, говоря о бесконечном количестве возмож-
ных миров, имел в виду идею кибернетической оптимальности сложности
(«правило минимакса»). Луман исходит из убеждения, что мы живем в
далеко не лучшем из миров и, подобно И.Пригожину, считает возникно-
67
вение упорядоченных систем из хаоса главным вопросом, на который си-
стемная теория должна дать ответ. Почему возникают системы и проис-
ходит их эволюция, если это математически и физически невероятно в
отношении других возможностей? Комплексность - проблема, а не поня-
тие, подчеркивает Луман.110
Представления, связанные с комплексностью, укоренены в понятии
модальности (возможности, действительности, необходимости) событий.
Поэтому многие аспекты понятия комплексности раскрываются в другом
центральном для Лумана модальном понятии «контингентности».
Контингентность (Kontingenz) означает «не необходимость», «слу-
чайность» – не в смысле отсутствия закономерности в событии, а в смыс-
ле маловероятности события по сравнению с бесконечным кругом воз-
можностей. Можно было бы сказать – это «расклад», как в картах. Кон-
тингентность является противоположностью необходимости и невозмож-
ности. Могло бы быть «и по-другому». Контингентность - важный признак
системных отношений, ибо каждая операция и ее рекурсии контингентны
– они примыкают друг к другу во временном, а не в логическом или кау-
зальном порядке. Все отношения, которые не возникают по необходимо-
сти, контингентны: контингентен эмпирический мир, системные отноше-
ния. Насколько мир сложен, настолько он контингентен. Все, что ни слу-
чается в универсуме Лумана, все наблюдаемые в нем нелогические отно-
шения и связи, в том числе причинные, контингентны, потому что одна из
основных задач автопоэзиса – обеспечение внутренней неопределенно-
сти и спектра свободных возможностей системы. Высокая контингент-
ность характеризует сложные системы, в социальном мире – это совре-
менные общества. Контингентность - ключевая характеристика посткау-
зальных и постлинейных теоретических концепций, которые свойственны
эпохе постмодерна и постструктурализма. «Понятие контингентности
означает единство различия не действительного и возможного, а возмож-
ности и невозможности действительного. Из него не следует произволь-
ности, ибо существуют случайные и неслучайные стечения возможного…
110 Там же. С. 300.
68
Скорее, оно означает единство различия определенности и неопределен-
ности», - отмечает исследователь творчества Лумана Д.Краузе.111
Понятие контингентности служит Луману для того, чтобы релятиви-
зировать созданный наукой мир – мир закономерностей и зависимостей.
Задача лумановской теории – не столько раскрыть причинные связи,
сколько прояснить их контингентность и тем самым системность. Двойная
контингентность – понятие, объясняющее механизм общественной систе-
мы – будет рассмотрена отдельно, как ключевой принцип теории соци-
альных систем.
§ 5. Наблюдение и описание. Понятие культуры
Под маской солидного университетского профессора и реноме кон-
серватора Луман скрывал свое второе лицо - разрушителя канонов и
традиций. Сущность теории он видел в парадоксе, а свою задачу - в об-
наружении парадокса. Его отрицание философской теоретической тради-
ции было не менее радикальным, чем у философов постмодернизма. Лу-
ман не признавал объяснительной ценности практически ни за какими
понятиями и категориями классической философии. Целые отрасли зна-
ния потеряли в его глазах право на существование.
Луман отвергает не только онтологию, но и гносеологию. Познание
не есть отражение реальности, даже и системной реальности. Познание
само есть система, а то, что оно познает, – окружение системы. Как лю-
бая система, познание создает мир, с которым имеет дело. На «выходе»
этих посылок возникает «радикальный конструктивизм» Лумана, в кото-
ром теория познания заменена «теорией наблюдения». Наблюдение есть
нечто большее, чем просто восприятие: это вид системных операций. А
описание мира - составная часть реального мира, одна из его систем.
«Если есть намерение социальную действительность, которая, по-
мимо прочего, создает и использует теории как «социальную систему»,
эта теория не может предположить свою форму как данную или предпи-
санную. Она приходит к ясности через саму себя и только таким образом,
111 Krause D. Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann.
Stuttgart, 1996. C. 160.
69
что снова открывает себя в своем предметном мире. Теории этого вида
находятся в автореферентном отношении к своему предмету; и не только
потому, что сами принимают участие в выборе аспектов, с помощью кото-
рых конституируют свой предмет; но и в более радикальном смысле, -
они сами выступают одним из собственных предметов».112
Закладывая основы теории наблюдения, т.е. познания систем, Лу-
ман прежде всего развенчивает классические понятия и представления
гносеологии. В первую очередь предметом его критики становятся поня-
тия субъекта и объекта. Субъект-объектную схему Луман считает «про-
дуктом общественной манипуляции смыслом» и призывает от нее отка-
заться. Определяющей чертой понятия субъекта для него выступает «са-
морефернтность как основа всякого познания и действия». Субъект – но-
ситель не любых атрибутов, а единственно этого свойства автореферент-
ности. Справедливо, считает он, представление о мышлении как о авто-
референтном оперировании, присущем системам сознания; неверны тео-
ретические понятия философии субъекта, идущие дальше этого и кото-
рыми традиционно описываются операции наблюдения.
С точки зрения Лумана, представление о субъекте возникает, когда
делается ложный шаг - подведение операций наблюдения под единое ге-
нерализованное понятие, которому, однако, приписывается индивидуаль-
ность. Можно описывать познание, сознание, наблюдение посредством
общих понятий, но не следует в стиле субстантивирующей метафизики
искать им предметный коррелят. Ибо тем самым теория субъекта оказы-
вается перед непреодолимыми трудностями, ибо после этого нет никакой
возможности обосновать, что изолированные, самостоятельные индивиды
наблюдают один и тот же мир.
«Ни один субъект, если он должен быть индивидом, не может мыс-
лить «то же самое», что и другой. Ибо индивидом можно быть только на
основании оперативной закрытости и саморепродукции собственных пе-
реживаний… Но без индивидуальности субъект был бы не более, чем се-
мантической фигурой – или правилом - саморефлексии».113
112 Luhmann N. Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme // Он же, Aufsätze und
Reden. Stuttgart, 2001. C. 7.
113 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 872.
70
При таких теоретических установках, продолжает Луман, некор-
ректен сам путь, по которому идет субъектная теория познания, а имен-
но: через интроспекцию выносить суждения о том, как познают другие.
«Она признает, что не существует прямого пути к переживанию других
субъектов, но считает, что посредством возвращения к факту собственно-
го сознания можно выяснить, по каким принципам предметы мира обра-
зуются в других Ego».114
Выход из этого тупика представители субъектных теорий познания
видят в том, что познанию предпосылается единый, общий для всех
наблюдаемый мир. При этом становится невозможно замкнуть каждого
отдельного субъекта как познающую систему, так как единый мир можно
противопоставить только некоторому единому, «трансцендентальному»
субъекту. «От чего тогда отличает себя субъект, - вопрошает Луман. - От
мира? От объектов? От других субъектов? Или от себя самого, от не-
Я»?115 Подобное решение разрушает первичную интенцию, заключенную
в понятии субъекта – снабдить познающую систему индивидуальным бы-
тием. Собственно говоря, эта интенция свойственна и Луману, но, при-
знавая за сознанием индивидуальное бытие, он отказывает ему в суб-
станциальной характеристике «субъекта»: функционал психических си-
стем шире, чем функционал познания.
С понятием субъекта связано и понятие объекта:последнее корел-
лятивно понятию субъекта и, по убеждению Лумана, столь же бесплодно
в эвристическом отношении, как и первое.
«Объект (в нововременном толковании этого понятия) жил различе-
нием субъекта и объекта. Он представал в глазах субъекта другой сторо-
ной различения и служил формой приписывания идентичности. Незави-
симо от того, что в многочисленных эмпирически различных индивидах
определяется как субъект (или, лучше, как их субъективность), он пред-
полагает соответствующие корреляты идентичности в окружении. Иден-
тичность объекта заключалась в том, чтобы все субъекты, которые пра-
вильно используют мышление, тождественны друг другу. Если мы заме-
114 Luhmann N. Erkenntnis als Konstruktion // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001.
C. 220.
115 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 870.
71
ним субъект на наблюдателя и определим наблюдателя как систему, ко-
торая создает себя последовательной практикой своих различений, то
исчезает любая гарантия формы для объектов. При любом полагании
идентичности речь идет только о том, чтобы различать различия, которые
использует наблюдатель.»116
Основной повод считать понятия объекта и субъекта неудовлетво-
рительными заключается в том, что они, стремясь описывать процессы и
системы познания, являются помехой для постижения оперативной за-
крытости систем познания. Различение субъекта и объекта должно быть
заменено различением «системы и окружения», а понятие познания – по-
нятием наблюдения с выяснением специфики наблюдающих систем.
Реконструируя путь новоевропейской мысли, пришедшей к понятию
субъекта, Луман обращается к главе «О схематизме чистых понятий рас-
судка» из «Критики чистого разума» Канта. Здесь проблема субъекта
сводится к задаче преодолеть многообразие чувственных представлений
и добиться их тождества в предмете путем перевода в отношения време-
ни. Другими словами, благодаря схематизмам сознания в тождественных
предметах должна быть преодолена временность состояний сознания.
Если проблема состоит в тождественности рекурсивных представле-
ний, нельзя ли найти для этой роли какого-нибудь более подходящего
эмпирического субъекта? Такой субъект, на взгляд Лумана, есть – это
общество. Причем субъект, у которого нет alter ego, других субъектов.
Который соответственно не сталкивается с проблемой интерсубъективно-
сти или интеракции, - «с понятиями, которые пытаются предпослать ком-
муникации, в то время как с коммуникации надо начинать!». Только в от-
ношении этого субъекта становится понятно, почему мир един. Коль ско-
ро индивиды, индивидуальные сознания участвуют в коммуникации, они
способны образовывать представление о едином мире. «Интерсубъек-
тивность ни дана, ни может быть создана… Ее нельзя свести ни к субъек-
ту, ни к социальному априори, ни к «жизненному миру», ни к «консенсу-
116 Luhmann N. Erkenntnis als Konstruktion // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001.
C. 220.
72
су» или еще чему-либо в смысле редукции к чему-то, что всегда уже
должно быть дано как предпосылка любой коммуникации».117
Признание общества наблюдающей системой, или, если угодно,
субъектом познания позволяет решить многие проблемы, прежде всего
замкнуть когнитивную систему и интерпретировать познание путем раз-
личения системы/окружения. Это не простая замена дихотомии субъекта
и объекта, хотя в основе идеи лежат все те же функции автореферентно-
сти – квазисубъектных и инореферентности – квазиобъектных операций.
Когнитивные системы оперируют с помощью смысла. Но смысл по-
разному реализуется в психических и коммуникативных системах.
Какими могут быть формы интеллектуального развития вне обще-
ства, показывают случаи асоциального воспитания людей. Когда речь
идет о языке и других нормативных формах смыслообразования, которые
не могут возникнуть в отдельном сознании, но существуют только благо-
даря коммуникации, мы имеем дело с сугубо общественными формами ко-
гнитивной деятельности. «Когниция – это рекурсивное процессирование
(материализованных) символов в системах, которые благодаря условиям
примыкания своих операций являются закрытыми (будь это машины в
смысле «искусственного интеллекта», клетки, мозг, системы сознания,
коммуникационные системы)», - определяет Луман.118 Когнитивные си-
стемы путем оперативного замыкания создают познание, «иное, чем
окружение, так как окружение не содержит различений, а таково, каково
оно есть».
О соответствии познания и предмета, подчеркивает Луман, не мо-
жет быть и речи, даже когда происходит описание подобного подобным
(наблюдение наблюдения, коммуникация о коммуникации и т.д.).
«В окружении нет ничего, что соответствует познанию; ибо все, что
соответствует познанию, зависит от различений, внутри которых оно обо-
значает нечто как «то» или «не то». В окружении нет ни вещей, ни собы-
тий, если это понятие предполагает, что обозначаемое таким образом
117 Там же. С. 222.
118 Luhmann N. Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? // Он же, Aufsätze und
Reden. Stuttgart, 2001. C. 113.
73
есть иное в отношении всякого иного. Даже окружения нет в окружении,
поскольку это понятие означает нечто только в отличие от системы».119
Луман не сомневается в реальности окружения, такое сомнение бы-
ло бы уже познанием. Понятие реальности также опирается на различе-
ние. Специфика этого различения в «слепом поле» наблюдения: «Реаль-
ность – это то, что не узнают, когда ее узнают».120 Собственно говоря, у
Лумана на этот вопрос нет иного ответа, чем у Канта. «Гарантии реально-
сти могут иметься только в таком виде и таким способом, каким система
преодолевает временные различия собственных операций, и это одно-
временно с тем, что она предполагает как окружение».121
Отказываясь от трансцендентального солипсизма, Луман погружа-
ется в противоречия «системного» солипсизма и релятивизма в версии
радикального конструктивизма. «Общественная теория должна отказать-
ся от возможности адекватного внешнего наблюдения»122, считает он,
ведь такая теория не может выйти за свои пределы. Вместе с тем, пола-
гает Луман, радикальный конструктивизм не ведет к сомнению в суще-
ствовании внешнего мира. Сама проблема обязана своим существованием
различениям и понятиям, возникающим в рамках традиции гносеологиче-
ского идеализма.
«Какое решение проблемы ни предпочесть, трансцендентально-
теоретическое или диалектическое, проблема звучит следующим обра-
зом: как возможно познание, если оно не имеет доступа к реальности по-
мимо себя. Радикальный конструктивизм, напротив, начинает с эмпири-
ческой постановки вопроса: познание возможно только потому, что не
имеет доступа к реальности помимо себя».123
Более подробное изложение понимания познания Луманом позволит
разъяснить этот мнимый парадокс. Конструктивистская концепция позна-
ния Лумана опирается на кибернетически истолкованное понятие наблю-
119 Luhmann N. Erkenntnis als Konstruktion // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001.
C. 223.
120 Luhmann N. Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Köln-
Opladen 1970. Bd. 5, C. 51.
121 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С.873.
122 Там же. С. 875.
123 Там же. С. 219.
74
дения. Под наблюдением – понятием, легко вводящим в заблуждение, -
Луман имеет ввиду не психологические и не познавательные процессы, а
в высшей степени абстрактное и формальное понятие полагания «разли-
чения и обозначения» как единой системной операции. Лумановское
наблюдение не «видит», а «различает». Различая, наблюдатель создает
комплекс системных отношений, которые непросто отличить от других
процессов жизнедеятельности системы. Специфика наблюдения состоит в
том, что оно допускает построение высококомплексных систем. Наблюда-
ют клетки, организмы, общества, системы искусственного интеллекта. И
качество наблюдения растений или клеток, не менее важно для их жиз-
неспособности, чем метаболизм.
Наблюдение только по видимости антропоморфно. Оно относится к
первичным и основополагающим операциям любой системы, поскольку
любая операция должна начинаться с различения. «Например, целевое
действие является наблюдением на основании различения того, что мар-
кировано в цели, и иначе реализующегося состояния; коммуникация есть
наблюдение с выделением информации в отличие от того, что могло бы
быть помимо нее».124
Нельзя что-то различить или разграничить, не обозначив ту или
иную сторону. Различение «рассекает надвое мир», нарушает то, что
вплоть до этого момента было, как говорит упомянутый выше Спенсер,
«unmarked space», неразличимым пространством. При этом Луман заме-
чает, что операции наблюдения, а значит, и познания – вплоть до высо-
косложных систем – безразличны ы отношении истины и лжи: «нет раз-
ницы, производит ли познание истину или заблуждение. Для заблужде-
ний у нас нет другого мозга или его частей, чем для истин».125 Но эта
нейтральность наблюдения (в чем и заключается ценность выбранного
Луманом понятия) и есть предпосылка применения бинарного кода ис-
тинности.
Наблюдением является любая операция, посредством которой «две
стороны одновременно схватываются одним взглядом».126 Операция
124 Luhmann N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992. C. 99.
125 Там же. С. 225.
126 Там же. С. 99.
75
наблюдения создает двустороннюю форму, а инстанцией, в которой про-
исходит наблюдение, т.е. создание «различения-формы», является
«наблюдатель». Наблюдатель видит различаемое, но не видит то, что
различает, т.е. самого себя. Он для себя - «слепое поле». Именно наблю-
дение является тем исключенным третьим, в котором коренится единство
формы, которое «различает, само будучи неразличимым, обозначает, бу-
дучи необозначаемым».
Понятие наблюдения связано со спецификой проблемы парадок-
сального единства формы.127 Как может наблюдаться форма-различие?
«Система может осциллировать между саморазличением и различением
иного. Но единство различения все равно предполагается при этом как
единство воображаемого пространства ее комбинационных возможно-
стей».128 Актуальное единство разделенной формы для операций, т.е. на
оперативном уровне, незримо и недостижимо. Но оно существует и мо-
жет быть схвачено в наблюдении на более высоком уровне. Как уже было
сказано, такое наблюдение Луман называет «наблюдением второго уров-
ня». «Единство различения между автореферентностью и инореферентно-
стью заключено в специфике условия возможности наблюдения второго
уровня».129 Наблюдатель не может видеть, т.е. различать себя и свое
наблюдение. Однако его может видеть другой наблюдатель, если он спо-
собен наблюдать наблюдающего и того, что наблюдается. Это и есть
наблюдение второго порядка. Оно наблюдает наблюдения. «Наблюдение
второго порядка опирается на крайнюю редукцию комплексности мира
возможных наблюдений: наблюдаются только наблюдения, и только так,
опосредованно, можно прийти к миру, который дан в различии между
тождеством и различием наблюдений (первого и второго порядка)».130
Те виды наблюдения, в которых реализуется наблюдение второго
порядка, например теории, пресса, культурная коммуникация, не могут
127 Если сопоставить проблему формы в этом виде с классической пифгорейской про-
блемой монады-двоицы, то можно сказать, что решение Лумана предстает «операцио-
налистским» - противоречие снимается не в сущности, а в действии - в операции, кото-
рой является наблюдение.
128 Luhmann N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992. С. 27.
129 Там же. С. 28.
130 Там же. С. 101.
76
наблюдать самой реальности, не могут наблюдать и самих себя. Для этого
требуется наблюдение третьего порядка и так далее. Но невозможно со-
стояние, в котором система имеет всю полноту знания о себе, а круг по-
знания полностью замыкается. «Последнее» наблюдение наблюдений мо-
жет наблюдать только Бог. Возможно ли тогда вообще самонаблюдение и
самоописание?
Проблема автологичности возникает именно тогда, когда речь захо-
дит об обществе как единственном источнике автореферентности. Эту
проблему Луман и берется решать вместо проблемы интерсубъективно-
сти. Если бы существовало много субъектов, без труда можно было бы
говорить о внешнем наблюдателе. В случае с обществом нет внешнего
наблюдателя, поскольку тут «все когниции направляются посредством
самонаблюдения и самоописания. Система сама должна создавать наблю-
дения своих наблюдений, описания своих описаний».131 Но Луман не бо-
ится проблемы самоприменимости и не считает решением создание мета-
уровней-типов (Тарский, Рассел) или бесконечный рост «порядков»
наблюдения. Идея самоприменимости в конечном счете упирается в пара-
докс в котором система берет начало и который конструктивен для ее
развития. Путем самоприменимости возникает возможность re-entry, вхо-
да внутрь системы, возможность бифуркации системы. Саморазличение и
автореферентность нельзя оторвать от самоприменимости, и разрушение
логической бинарности для теории, как и для самой системы, в опреде-
ленной степени даже необходимо.
Наблюдение – операция, позволяющая строить высокосложные си-
стемы. Собственно говоря, самые сложные системы, контингентные и
смыслообразующие, опираются на наблюдение. Простое наблюдение не-
способно порождать контингентность, она возникает на уровне наблюде-
ния второго порядка - способности наблюдать то же самое с позиции дру-
гого наблюдателя (социальное измерение) или другой временно’й пози-
ции (временно’е измерение). Луман выводит отсюда определение, что
«контингентность есть форма, которая воспринимает вещественное изме-
рение медиума смысла, если расходятся социальное и временно’е изме-
131 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 875.
77
рения наблюдений. Или, иначе: все становится контингентным, если то,
что наблюдается, зависит от того, кто наблюдает».132
Основная проблема самонаблюдения общества – у Лумана она воз-
никает на месте проблемы «интерсубъективности» - заключается в том,
что коммуникация подвергается все новым самоописаниям. «Это ведет к
постоянным новым описаниям уже существующих описаний и тем самым к
все продолжающемуся производству неконгруэнтных перспектив».133
Коммуникационная система склонна к производству гиперкомплексности
и может быть названа «поликонтекстной». Луман замечает, что знание
ведет не к стабилизации системы, а к ее нестабильности: это тот случай,
когда редукция комплексности является одновременно способом ее по-
вышения.
Самонаблюдение означает процессирование наблюдений и припи-
сывание описаний только самой системе, а не ее окружению. «Система
рефлексирует собственное единство как цель всех описаний в качестве
упорядочивающей точки зрения для постоянного реферирования».134
Описывая себя, система создает имена и инвариантные понятия, позво-
ляющие создавать тексты, рефлексирующие и координирующие событий-
ные ряды системы. Эти письменные тексты служат целям самоописания
системы.
Понятие культуры, которое вводится в обиход с 18-го века, Луман
отождествляет с ролью рефлексии понятия самоописания. Культура, по
определению Лумана, – «самоописание, наблюдающее систему».135 По-
скольку самоописание включает в себя автореферентность и инорефе-
ренцию, понятие культуры естественным образом предаполагает и описа-
ние мира, и описание внутренних различий и контрастов общества.
«Культура - это укорененная в обществе экспрессивная форма представ-
ления мира, которая в разных обществах принимает разные формы».136
Луман подчеркивает, что все содержание самоописанияй культуры – мир,
природа, камни, события, - есть общество. Культура состоит только из
132 Luhmann N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992. С. 100.
133 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 876.
134 Там же. С. 880.
135 Там же. С. 880.
136 Там же. С. 881.
78
наблюдений высоких порядков. Иная, «реальная» и противоположная
культуре сторона общества, правда, может быть обозначена, но не может
предстать как единство. Но и собственное единство культуры как наблю-
дателя не может быть постигнуто системой – система культуры остается
непрозрачной для себя в той же степени, как и ее окружение. Авторефе-
рентность и инореферентность создают принципиально бесконечные го-
ризонты все новых возможностей. И именно потому, что система непро-
зрачна для себя, ее самоописания обретают информационную цен-
ность.137
Культура во всех своих формах – в том числе в неписаных текстах,
таких как мифы, слухи, ценности, – наделена функцией представлять
общество в обществе. Общество не может знать о себе иначе, чем через
культуру. Но и здесь, предупреждает Луман, нельзя путать «территорию
с картой» (наблюдения первого и второго порядков), например смеши-
вать историю с реальными событийными рядами.
Культура коммуникативна во всех своих операциях. Ее самоописа-
ния «оцифровывают» мир, который иначе оставался бы «аналоговым»,
иначе говоря, они переводят наблюдения первого порядка в наблюдения
второго порядка. Поскольку каждое описание есть часть того, что’ оно
описывает, и в свою очередь само подвержено описанию, стабильность
коммуникаций культуры требует запрета избыточных описаний. Такую
функцию выполняет, например, религия. Культуре следует обучать, и эта
задача стоит перед образованием.138
Луман подчеркивает, что самоописания общества создаются для
воспроизводства, самораспознавания и распространения релевантных
самоописаний, образцов культуры. В этой связи можно говорить о «се-
мантике культуры» как нормативной инстанции самоописаний:
«Система облегчает себе автореферентность в самых разнородных
ситуациях, подготавливая для этого особую семантику. Она может, гене-
рируя дальнейшие различия, применяться правильно или неправильно.
Эта бифуркация порождает потребность в экспертах интерпретации, ко-
137 Там же. С. 885.
138 Тексты культуры выполняют еще одну важную функцию – они канализируют в обществе консенсус, раз-
межевание и игнорирование. Парсонс приписывал эту функцию «образцам культуры» (cultural patterns),
максимально расширяя термин.
79
торые охраняют правильное, «ортодоксальное» использование текстов и
формируют социальный престиж на основе качества текста. Правильное
истолкование текста должно обладать нормативным качеством, … Эту
функцию выполняет, например, европейское понятие природы или со-
временное понятие идеологий».139
В анализе исторических семантик Луман видит специальную задачу
социологии и посвящает ей немало работ: в том числе четырехтомный
труд «Социальная структура и семантика».140 Нужда в нормировании ис-
торической семантики обусловлена тем, что «общество обречено практи-
ковать самоописания без критериев», поскольку в обществе нет, помимо
него самого, иных коммуникационных возможностей и инстанции коррек-
туры. Тем не менее благодаря наблюдению самонаблюдения возникает
«критическая» перспектива, позволяющая улавливать пункты, интересы,
семантические связи, на основе которых формулируются самоописания.
Тексты образуют относительно устойчивые пункты, опора на которые
позволяет происходить культурным изменениям. Поэтому, подчеркивает
Луман, общество описывает себя исторически, чтобы иметь возможность
«освобождаться» от своей истории и творчески менять свои семантики.141
§ 6. Понятие двойной контингентности
Понятия «комплексности», «контингентности», «наблюдения» под-
водят к пониманию специфики системы общества, но не являются здесь
определяющими. Особую и ключевую роль для определения социума и
социального действия у Лумана играет понятие двойной контингентности,
введенное Т.Парсонсом. Посредством понятия двойной контингентности
обосновываются понятия социальности, социальной интеракции и соци-
ального действия (хотя этого еще не достаточно для обоснования обще-
ства!).
139 Там же. С. 888.
140 Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. 4 Bd., Frankfurt a.M., 1993.
141 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. C. 891.
80
Суть проблемы двойной контингентности в следующем. Условием
социальности является парадоксальный порядок, когда действия Ego
обусловлены действиями или ожиданиями действий со стороны Alter Ego,
в то время как Alter Ego в той же мере ориентирует свои действия на
действия Ego. Эта двусторонняя зависимость существует одновременно, и
ни одна из сторон не может действовать, если не знает, как действует
другая. Чтобы определять свое поведение, каждый должен знать, как
решает другой, но он может это знать, только когда знает, какое решение
принимает он сам.. Так формулирует эту ситуацию Луман.142 Ego должно
знать об Alter Ego то, чего то не знает о себе самом. Как же возможен со-
циальный порядок, если невероятность обычно контингентного действия
здесь повышается во много раз? При этом речь идет о дважды двойной
контингентности, ибо оба знают, что действуют в зависимости от другого.
Каждое Ego познает другого как Alter Ego.
На взгляд Лумана, Парсонс, вводя для объяснения этого эффекта
необходимость в постулировании ценностного порядка, признаваемого
всеми, шел по классическому пути, предполагающему, что в основе всего
лежит высший разум, и поворачивал тем самым познавательный интерес
в сторону теории классического типа. Далее речь у Парсонса естествен-
ным образом заходит о гражданском обществе или его несовершенстве, о
конформности и девиантности, об иных функциональных потребностях, о
«взаимном вхождении», т.е., в смысле классической философии, об от-
клонениях от совершенного порядка и поиске ведущих к нему путей . Эта
неверная ориентация, по Луману, исходит из представления, что каждый
«вынашивает» в себе двойную контингентность и порождает социальное
действие посредством консультации самого себя с собой же, т.е. без уча-
стия Alter Ego, вне коммуникации! В эксплицитном виде это представле-
ние находит выражение в игровой концепции «дилеммы заключенного»:
когда оба актера, не имея коммуникации между собой, принимают рацио-
нально ожидаемые и предсказуемые решения в рамках единого сформу-
лированного порядка правил игры. Здесь роль ценностного порядка иг-
рают жестко сформулированные правила игры. Обе конструкции, полно-
142 Luhmann N. Vorbemerkungen zu einer Theorie sozialer Systeme? // Luhmann N., Auf-
sätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 10.
81
стью обходящиеся без коммуникации, Луман считает псевдосоциальными,
так как они не нуждаются в коммуникации и социальном взаимодействии:
социальный порядок конституируется и без них. Коммуникация здесь
предполагает уже существующий социальный порядок, а не наоборот ,
подчеркивает социолог. Луман критикует и концепцию социального дей-
ствия М.Вебера, который говорит о «смысле обоюдного действия»,143 но
не раскрывает, каковы условия и предпосылки такого действия.
Если понимать двойную контингентность как продукт коммуникации
и предпосылку социального порядка, то суть проблемы ближе выражает
гуссерлевское понятие интерсубъективности, избегающее искусственного
выведения Alter Ego из Ego. Известно, что в рамках трансцендентализма
эта проблема неразрешима. Однако предположение о существовании не-
зависимых психических систем делает излишней проблему интерсубъек-
тивности. То, что они участвуют в единой системе коммуникации, хотя и
не являются ее составными частями, демистифицирует проблему двойной
контингентности и освобождает «интеракции» от предпосылок трансцен-
дентальной субъективности.
Луман развенчивает традиционное толкование понятия двойной
контингентности как «зависимости от …». Двойная контингентность не
означает «ориентацию на совместные действия», она представляет собой
исходную характеристику социального мира. Каузальной трактовке кон-
тингентности Луман противопоставляет «изначальную», «независимую»,
исток и аналогию которой он находит в теории творения: Бог творит мир
как совершенный и одновременно контингентный. Мир, правда, соверше-
нен, но мог быть и другим, при этом столь же совершенным; ведь всемо-
гущий Бог мог бы создать мир иным, но не мог бы создать несовершен-
ный мир. Понятие контингентности мира предполагает свободу Бога. Кон-
тингентность мира занимает место между необходимостью и невозможно-
стью: он не то и не другое. И социальное действие также контингентно в
том смысле, что оно суверенно и не зависит ни от чего другого. «Поэтому
143 „“Социальным” мы называем такое действие, которое по предполагаемому действу-
ющим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей
и ориентируется на него.” Вебер М. Избранные произведения. М.: «Прогресс», 1990. С.
602.
82
двойная контингентность возникает не как следствие взаимной зависимо-
сти, а появляется всегда, когда действия ориентируются друг на друга, –
и когда посредством этого зависимость только создается, и когда от за-
висимости как раз стремятся освободиться», - заключает социолог.144
Аналогия недаром заимствована из религии: религия, давая объяс-
нение мира, дает тем самым обоснование контингентности мира. Теологи-
ческое толкование понятия Бога формулирует предельное представление
об идеальном целом, представление, исходя из которого можно мыслить
усложнение мира. Если в Боге познание и действие, знание и воля еди-
ны, то их разделение предполагает определенное незнание и несовер-
шенство. Бог знает все – и прошлое и будущее, он преодолевает контин-
гентность времени и мира. Познание Бога, «полноты света», подобно бо-
жественному совершенству и слишком дерзновенно для человека. Люци-
фер, трактует Луман, соблазнившись искушению «познать» (наблюдать)
Бога, должен был очертить границу между собой и Богом и тем самым со-
здать пространство тьмы, в котором в каждый момент можно оказаться,
находясь рядом с Богом. Эту опасность богословы смягчают «смирением»,
т.е. наблюдением наблюдения Бога. «Посредcтвом понятия Бога установ-
лено наблюдение второго порядка; оно разыграно как принцип построе-
ния мира. Божественные атрибуты при этом имеют функцию, заключаю-
щуюся в придании стабильности и определенности ожиданий подобному
миру наблюдения второго порядка несмотря на пронизывающую его кон-
тингентность».145 Остается перепрыгнуть к понятию природы (исключаю-
щему трансцендентность), чтобы стать на путь новоевропейской науки,
способной сразу переходить к наблюдению второго порядка. «Эта пере-
ходная мера, позволяющая функциональным системам собственным путем
образовывать самые различные формы наблюдения второго порядка».146
После экскурса в историю семантики контингентности можно перей-
ти к вопросу о том, как контингентнось реализуется в социальном дей-
ствии. Действие контингентно, когда оно познается как осуществление
селекции. Каждая ситуация контингентного действия открыта для воз-
144 Там же. С. 13.
145 Luhmann N. Beobachtung der Moderne. Opladen, 1992. С. 112.
146 Там же. С. 113.
83
можностей выбора, каждое осуществление действия есть производство
выбора, и этот выбор мог бы быть и иным . Кроме альтернативности, кон-
тингентность создает время. Контингентность есть протекающий момент,
единство проекции и воспоминания, использующее прошедшее мгновение
как материал для следующего и таким образом создающее механизм се-
лективного построения системы.
Итак, двойная контингентность превращается в толкование ситуа-
ции, в которой действие служит селективному построению социальной
системы. И Ego и Alter свободны опираться друг на друга в форме осо-
знанной двойной контингентности. Если они это делают - возникает но-
вая определенность, в форме системы, в которой перед ними выбор: или
продолжать, или прекращать интеракции. Благодаря этому двойная кон-
тингентность превращается в автокатализатор, в механике действия ко-
торого каждый случай может быть истолкован как повод для возникнове-
ния новых взаимозависимостей.
«Все равно, насколько случайно возникает действие: оно получает
свой специфический смысл, если оба, Ego и Alter, могут исходить из того,
что оно (действие) со стороны обоих воспринимается как селекция. Толь-
ко в этом контексте истолкования может вообще образовываться «сообща
понимаемый смысл» социального действия (М.Вебер). Действие может
формировать консенсус или разлад, может выливаться в кооперацию или
в конфликт; но оно не может избежать того, что ведет к аккордовой се-
лекции, позволяющей опираться друг на друга, и тем самым к созданию
социальной системы».147
§ 7. Эволюция систем
Понятие эволюции, мыслимое как концепция, объясняющая проис-
хождение негэнтропии и комплексности, призвано разрешить проблему,
которую Луман называет «парадоксом вероятности невероятного». Если
для статистики исчезающая вероятность системного усложнения является
лишь математической проблемой, то «эволюционная теория смещает про-
147 Там же. С. 113.
84
блему в сферу времени и пытается объяснить, как возможно, что возни-
кают и нормально функционируют постоянно более нагруженные предпо-
сылками, более невероятные структуры. Ее основной тезис звучит: эво-
люция трансформирует низкую вероятность возникновения в высокую ве-
роятность сохранения».148 В рамках эволюционной теории получает обос-
нование морфология комплексности, которая позволяет системному ис-
следованию превратиться в идеологию картины мироздания. Эволюция
позволяет выстроить логику сосуществования разноуровневых систем во
временном измерении. И если Лумана в целом не интересовали проблемы
эволюции, не касающиеся общества и человека, то все же только в пре-
делах каркаса общей эволюционной теории его построения получают за-
вершенность целостного социально-философского учения.
Как и для эволюционной теории вообще, главная проблема для Лу-
мана заключается в том, чтобы объяснить растущее усложнение и много-
образие систем, не прибегая к метафизическим предпосылкам, а закла-
дывая в основание воспроизводства систем механизм системного услож-
нения. Концепции автопоэзиса для этих целей было явно не достаточно,
ибо она предполагает не развитие, а воспроизводство идентичных форм и
структур. Проблема усугублялась тем, что Луман с его теоретическими
установками не мог принять ее дарвинистское решение , усматривающее
основную инстанцию эволюции в окружении системы, а ее механизм - в
«естественном отборе». Здесь он скорее близок к ламаркизму, хотя в це-
лом придерживается решений, предлагаемых нео-дарвинизмом. Согласно
Луману, системы не только формируют устойчивые структуры посред-
ством собственных операций, но и обеспечивают селекцию и сохранение
наиболее оптимальных эволюционных достижений.
«Типы автопоэтических операций и соответствующих системных об-
разований – мы имеем в виду жизнь, сознание и коммуникацию, - это
уникальные изобретения эволюции, которые сохраняются благодаря по-
тенциалу их структурного развития. Сохранение основано на специфика-
ции очень различных форм, которые образуются в медиуме автопоэтиче-
ской необходимости и могут специфицироваться далее. Взаимная игра
самопродолжения и структрообразования делает возможной и порождает
148 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 414.
85
эволюцию, и при этом нет нужды предполагать «естественный отбор» или
другие виды внешней структурной детерминации».149
Тем не менее, эволюция подразумевает более глубокое «участие»
окружения, чем это следует из приведенной цитаты, хотя бы потому, что
любое изменение системы означает изменение окружения многих других
систем, а это несет в себе огромный мультипликационный эффект межси-
стемных отношений, которому Луман очень часто не уделяет должного
внимания. Так как система и окружение неразрывно связаны между со-
бой, их взаимные изменения касаются в равной степени их обоих:
«С точки зрения системной теории, эволюция означает, что измене-
ния структур - именно потому, что могут быть осуществлены внутриси-
стемно (автопоэтически), - не остаются нейтральными, но отражаются в
окружении, которое не может охватить систему, в любом случае не может
ее планово интегрировать. Эволюционная диверсификация и умножение
систем являются одновременно изменением и увеличением окружений…
Или иначе: ни одна система не может эволюционировать на своей основе.
Если бы система постоянно не варьировала , эволюции пришел бы быст-
рый конец в некоем optimal fit».150
Луман отталкивается от современных представлений об эволюции,
которые основательно очищены от прогрессистских представлений и
«концепций одного фактора», распространенных в 19-м веке. Эволюция,
по его мнению, не предполагает однолинейного, последовательного,
направленного развития системных форм. Она не подразумевает даже,
что выживают сильнейшие или более сложные, приспособленные формы:
практика показывает, что наряду со сложными не менее успешно про-
должают существование примитивные виды. Изменение в ходе эволюции
нередко происходит в направлении упрощения, а не усложнения. Скорее,
заключает Луман, эволюция порождает самые разные изменения, и раз-
витие определяют те из них, которым удается себя сохранить.
Условием отбора новых форм не является также приспособление
или лучшая приспособленность видов. Тогда не совсем понятно, почему в
ходе естественной истории одни виды эволюционируют, в то время как
149 Там же. С. 438.
150 Там же. С. 433.
86
другие виды миллионы лет остаются неизменными. Да и многие сохраня-
емые изменения не могут быть объяснены лучшей адаптивностью. Луман
отводит адаптивности весьма скромную роль - это признак, показываю-
щий наличие структурных соответствий.
«Для теории автопоэтических систем приспособляемость - предпо-
сылка, а не результат эволюции; и результат лишь в том смысле, что
эволюция разрушает ее материал, если не может надолго гарантировать
приспособляемость… Благодаря структурным соответствиям необходимая
для продолжения автопоэзиса приспособляемость всегда уже гарантиро-
вана. Способность живых существ к движению гармонирует с присущей
земле силой тяжести, но это еще не определяет формы, в которых это
положение дел реализуется - в форме ли насекомых, или млекопитаю-
щих».151
От эволюции не следует ожидать роста адаптивности: напротив,
оперативно закрытые системы обладают столь широким пространством
для игры возможностей, что в их рамках могут возникать и элементы
неприспособленности.
Теория эволюции ценна для Лумана тем, что не пользуется кау-
зальными понятиями, а формулирует исторические условия построения
систем. «Эволюция есть теория ожидания полезных случаев, а это пред-
полагает прежде всего, что существуют сохраняемые и воспроизводимые
системы, которые могут самостоятельно сохранять себя и ожидать. Время
относится к существенным предпосылкам эволюции».152 Время асиммет-
ризирует системное развитие, взрывая его цикличность и позволяя гово-
рить о начале и конце.
Понятие эволюции в отличие от понятия автопоэзиса предполагает
самостоятельное возникновение различения во времени – и поэтому иг-
рает в построениях Лумана важную роль. Если автопоэтические операции
системы укладываются в фазовую модель воспроизводства одних и тех
же различий, то эволюция посредством механизма вариации производит
новое различие, т.е. «отклонение от до сих пор обычного».153 Поэтому
151 Там же. С. 446.
152 Там же. С. 417.
153 Там же. С. 451.
87
относительно эволюции речь всегда идет о модификации существующих
состояний. Истоком дифференциации является само различение системы
и окружения, которое, однако, именно в ходе эволюции способно эволю-
ционировать в направлении иных различий: инновации/диффузии, вари-
ации/селекции. «Это различие порождает селекцию – за или против ин-
новации. Селекция в свою очередь порождает, если она выбирает новое,
каскады движений приспособления или ограничения в системе…
Дистинкции эволюционной теории имеют в виду различия, производящие
дальнейшие различия. И это та структура, которая делает излишним раз-
говор о конечной цели или законе исторических движений».154
Учение Лумана об эволюции содержит в себе требование различать
в эволюционном механизме три компонента: вариацию, селекцию и ре-
стабилизацию.
1. Благодаря вариации (Variation) в системе создаются модифика-
ции и отклонения, которые расширяют диверсификацию системы. Если
понимать эволюцию как порядок системных изменений, следует исходить
из того, что операции системы производят структуры, которые направля-
ют последующие операции. Структуры являются «условиями ограничения
области способных к примыканию операций»155: они канализируют, кон-
денсируют и подтверждают операции, повторяя их в различных ситуаци-
ях. Структуры суть формы редукции комплексности, позволяющие эконо-
мить операционный поиск и обеспечивающие стабильность системы.
Механизм вариативности, т.е. создания альтернативных структур,
основан на способности к негации, на которой базируется также бинар-
ное кодирование систем. «Вариация осуществляется через коммуника-
цию, отклоняющую коммуникационные содержания… Вариация является
не спонтанным порождением нового («новое» - уже давно подозритель-
ная категория, почти тождественная девиантности), а изменчивой репро-
дукцией элементов системы».156 Вместе с негацией возникает возмож-
ность диалогического противоречия. Таким способом возникают возмож-
ности мультипликации и создания переизбытка. Вариативность коммуни-
154 Там же. С. 452.
155 Там же. С. 430.
156 Там же. С. 461.
88
кации заключается в способности создания неожиданной, «удивляющей»
коммуникации. Один из наиболее богатых механизмов вариативности
предлагает, например, язык, посредством правил порождающий потенци-
ал почти бесконечных комбинаций. Структуры языка способствуют при
коммуникации возникновению ожиданий, направляющих коммуникацию.
Луман отвергает стремление положить в основу эволюционной ва-
риативности общества демографические факторы, поскольку количе-
ственное увеличение населения само по себе принципиально не меняет
условий коммуникации. Точно так же неприемлемы для него в качестве
источников социокультурной эволюции отдельные личности, будь то ге-
рои или интеллектуальные лидеры: слишком многофакторна эволюция,
чтобы можно было приписывать индивиду роль двигателя этих системных
процессов. Наиболее действенным фактором социальной эволюции для
Лумана выступает смысл, обусловливающий развитие систем сознания и
коммуникации. Для социальных структур таким фактором является по
большей части право, которое документирует развитие механизмов и
структур общественных ожиданий, ответственных за воплощение двойной
контингенции, и тем самым определяет глубину дифференциации и сте-
пень зрелости общества.
2. Селекция (Selektion) производит выбор из предоставленных воз-
можностей. Вариативность и селекция тесно связаны ; различение вариа-
тивности и селекции и есть форма эволюции. Селекция означает выбор
«вариации, которая возникает в системе, а вариация – создание вариан-
тов для возможной селекции».157 Благодаря селективности различных
структурных образований существуют шансы для различного развития
событий. Система должна производить очень много вариативных откло-
нений, чтобы возник повод для отклонения от стандартного пути: «… ибо
социальная действительность крайне консервативна и не так уж легко
отвергает уже имеющееся, предпочтя ему незнакомое и не тестирован-
ное».158 Поэтому вариативность еще ничего не говорит о шансах на се-
лекцию. При большей комплексности осуществление обновлений стано-
вится еще более невероятным. Ибо вариативность способствует дестаби-
157 Там же. С. 451.
158 Там же. С. 463.
89
лизации системы, в то время как селективность должна преодолевать
риски во имя системной стабилизации.
Луман обращает внимание на то, что в отношении исторической
эволюции общества ситуацию решающим образом меняют два события:
изобретение письма и усиление способности к конфликтности и кон-
фликтной толерантности (отказу от экстернализации конфликтов). По-
следнее возникает вследствие высокого потенциала отклонений и вариа-
тивности в конфликте. Благодаря высоким комбинационным возможно-
стям сложных обществ в них возможно достижение одновременно и
большей конфликтности, и большего согласия. Еще более широки воз-
можности «усиливать отклонения коммуникационных смысловых оферт и
одновременно избегать конфликтных следствий» у политической вла-
сти.159 Конфликты обозначают предельные рамки возможностей вариа-
тивности, а их разрешение характеризует стабилизирующие функции се-
лективности.
В целом селективность еще не несет в себе эволюции, ибо сама по
себе не способна создавать системный эффект, возникающий в результа-
те изменений. Только в рамках стабильного воспроизводства и структур-
ной организации потока селекций проявляется эволюционный эффект ва-
риативности: «Необходимость автопоэзиса совместимых структурных се-
лекций обосновывает… реальные шансы дифференциальной эволю-
ции».160 Лишь некоторые из селекций способны удовлетворять требова-
ниям эволюционных стратегий, поэтому Луман справедливо определяет
эволюцию как «селекцию селекций».
3. Рестабилизация (Restabilisierung) характеризует состояния эво-
люционирующих систем, после того как селекция – позитивная или нега-
тивная – произошла. Селекция может как защищать от вариаций, тем са-
мым делая эволюцию невозможной, так и разрушать имеющиеся эволю-
ционные достижения. Эволюция не ограничивается созданием многообра-
зия и способностью к выбору, как предполагалось в теории естественного
отбора, - для системы столь же важной и нетривиальной задачей являет-
ся восстановление своей целостности после выбора маргинального вари-
159 Там же. С. 467.
160 Там же. С. 438.
90
анта. Стабилизация означает не сохранение достигнутых состояний, а
облегченное воспроизводство проблемных решений.161
В теории эволюции Лумана важная роль отводится понятию «слу-
чая», пограничному между знанием и незнанием системы. Поскольку си-
стемы имеют ограниченную способность к резонансу и доступность друг
другу, то все воздействия, которые не могут быть отслежены, восприни-
маются ими как случайности.
«Ни одна система не может уделять внимание всем каузальностям.
Их комплексность должна быть редуцирована. Определенные причинные
зависимости наблюдаются, ожидаются, предваряются или отклоняются,
нормализуются – другие же передаются случаю… Случай есть способ-
ность системы использовать события, которые не могут производиться и
координироваться самой системой (т.е. в сети собственного автопоэзи-
са)».162
Теория эволюции является важным дополнением системной теории
Лумана, поскольку позволяет сопрягать динамизм системных процессов с
системными изменениями. Сама системная концепция Лумана, ориентиро-
ванная на объяснение комплексности и избыточности операциональных
возможностей как необходимого условия автопоэзиса, была бы неполной,
если бы не находила завершения в обосновании макросистемных измене-
ний. Эволюционные изменения открывают для системных процессов вре-
мя в новом качестве: не как протяженность и последовательность про-
цессов, а как историческое измерение автопоэзиса. Луману интересна,
конечно же, эволюция общества, а не природы. Эволюция измеряется у
него не историческими эпохами развития, а возникновением новых
средств повышения и редукции комплексности. Поэтому основной анализ
эволюционных изменений касается нового и новейшего времени – куль-
минации коммуникационных инноваций. Поскольку Луман рассматривает
общество каккоммуникацию, социальная эволюция представляет собой
эволюцию коммуникации.
161 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter
Kommunikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 51.
162 Там же. С. 63.
91
Глава 3. Понятие коммуникации
§ 1. Социальные системы и коммуникация
Если понятие смысла в равной степени характеризует психические
и социальные системы, то специфической операцией, характеризующей
социальные системы, в концепции Лумана выступает коммуникация. Об-
щество как система для него - не сущность или состояние (скажем, сооб-
щество людей, связь индивидов и т.д.), а операция, которая его (обще-
ство) производит и воспроизводит.
Такая постановка проблемы не впервые возникает в социальной
науке. Маркс в качестве ключевой характеристики общества выдвигал
процесс материального воспроизводства общества, хотя само общество
трактовал как совокупность классовых отношений. Об историческом про-
цессе говорили такие разные мыслители, как Г. Гегель, В. Соловьев, А.
Бергсон, А. Тойнби, но сведение всего социального процесса к единой
операции и новое истолкование понятия общества Луман предпринимает
в истории социальной мысли впервые. Такая задача могла быть постав-
ленатолько тогда, когда было взято под сомнение интуитивно и изна-
чально исконное представление о том, что общество есть совокупность
людей. Ни Дюркгейм, учивший о «социальной реальности» как предмете
социологии, ни феноменологическая и аналитическая социология, выдви-
гавшая на первый план смысловой мир или языковые игры социума, не
ставили эту предпосылку под сомнение. Луман был первым, кто отважил-
ся на это.
Под коммуникацией Луман понимает не передачу смыслового со-
держания от одного индивида к другому или от передатчика к преемнику,
а «некое исторически-конкретно протекающее, зависимое от контекста
событие».163 Это единый акт, который самостоятелен и самодостаточен
163 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 70.
92
как единое целое, в то время как его элементы не самодостаточны. Ком-
муникация - это операция, в ходе которой происходит перераспределе-
ние знания и незнания, а не связь или передача информации. Ситуатив-
ность коммуникации объясняется тем, что величина незнания зависит от
места и времени и не может быть постоянной.
Луман весьма энергично борется со стандартным представлением,
свойственным, в том числе, теории коммуникации, что наличие множе-
ства субъектов есть исходное условие коммуникации. Коммуникация пер-
вична и единственна. В лумановской трактовке коммуникации речь о
наличии или отсутствии индивидуальных сознаний, участвующих в ком-
муникации, не заходит: это не сообщающиеся между собой системы. Со-
знание соответственно не является «субъектом» коммуникации или ее
«носителем». Луман требует отказаться от представления о коммуника-
ции как «переносе» семантических содержаний от одной психической си-
стемы, которая им обладает, к другой.164 Классическая системная теория
с ее представлением о взаимодействии системы и внешнего мира в про-
цессе коммуникации неверна. Коммуникация может происходить только
внутри системы.
Коммуникация не монолитна и обладает структурой. Она имеет дело
с сообщением, информацией и пониманием, сводя их воедино. Согласно
лумановской дефиниции, коммуникация охватывает «потенциал осмыс-
ленно информирующих, постоянно уточняемых сообщений, которые, со-
единяясь, могут осуществлять коммуникацию».165 Исследователь творче-
ства Лумана Д. Краузе формулирует лумановское понимание коммуника-
цию как «эмерджентное контингентно-селективное единство информации,
сообщения и понимания».166 Осмысленная коммуникация - способ наблю-
дения (т.е. установления различий и обеспечения дальнейшего углубле-
ния процесса различения), на которое в ходе своей автопоэтической ре-
продукции способно общество как наиболее сложная из всех систем. В
коммуникацию вступают не субъекты, не сознание, коммуницирует обще-
164 Там же. С. 104.
165 Rühl M. Wie kommen bei der systhemtheoretischen Betrachtung (N.Luhmann) Normen
ins Spiel? // Funiok R., Grundlagen der Kommunikationsethik. Konstanz, 1996. С. 45.
166 Krause D. Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luhmann.
Stuttgart, 1996. C. 152.
93
ство. Более того, подчеркивает Луман, коммуникация коммуницирует по-
средством коммуникации, и никак иначе. Коммуникация может примыкать
только к себе самой и реагировать на саму себя. Общество может регули-
ровать свои коммуникации лишь посредством коммуникаций. Как любая
оперативно закрытая система, оно не может иметь контакта с внешним
миром. Внешнее влияние способно только разрушать и сбивать с толку
(irritieren) систему. Тот контакт с внешним миром, который она поддер-
живает, осуществляется посредством сложных структурных соответствий
с системами окружающего мира, главным из которых является сознание.
Луман тщательно избегает смешения понятия коммуникации с поня-
тием сознания, т.е., в его терминологии, психической системы. В комму-
никации не происходит соединения сознаний или обмена мыслями. «Не
существует социально опосредствованной коммуникации от сознания к
сознанию, и не существует коммуникации между индивидуумом и обще-
ством. … Только сознание может думать (но именно не внушать или как-
то иначе передавать мысли другому сознанию), и только общество может
коммуницировать».167 Под сознанием тоже имеется в виду оперативно за-
мкнутая система, способная производить собственные операции, но не
способная коммуницировать. Зарождение мыслей в сознании в луманов-
ской интерпретации - всего лишь возникновение и исчезновение психи-
ческих состояний, не более того. Тем не менее, лишь аргументированное
объяснение отношения коммуникации и сознания способно дать концеп-
ции общества право на существование. Если отвергать традиционное и
интуитивно понятное единство коммуникации и сознания, то какое место
отводится сознанию?
Под сознанием Луман понимает когнитивные процессы и функции,
свойственные психическим системам. Хотя психические процессы отли-
чаются от физиологических процессов мозговой деятельности, психиче-
ские операции ограничены именно теми возможностями, которые задают
в рамках структурных соответствий физиологические возможности тела,
т.е. чувственные данные, получаемые и обрабатываемые нервной систе-
167 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 105.
94
мой человека.168 Возможность осознания, создаваемая нервной системой,
способна реализоваться только благодаря существованию такого дости-
жения эволюции, как смысл. Формирование смысла дает жизнь и напол-
няет содержанием деятельность сознания.
Но как раз способ этого формирования, характер смысловых ссылок
отличает сознание от коммуникации: если сознание способно обращаться
в актуализации смысла только к телесным данным, то коммуникация
формирует смысл благодаря передаче и пониманию сообщений.
«В конечном счете психические и социальные системы различаются
тем, избирается ли в качестве операциональной формы сознание или
коммуникация. Этот выбор невозможен для события, ибо в отдельном со-
бытии сознание и коммуникация не исключают друг друга, а часто более
или менее совпадают. Выбор заключен в осуществлении осмысленной ав-
тореферентности, т.е. в том, посредством какого последующего смысла
ссылается на себя данный смысл. Смысл может включать себя в последо-
вательность, которая подключена к телесному жизненному чувству и за-
тем проявляется как сознание. Смысл может включаться также в после-
довательность, которая подразумевает понимание других и проявляется
как коммуникация».169
В обоих случаях речь идет о структурно детерминированных систе-
мах, которые ориентируют каждую репродукцию своих собственных опе-
раций, какие бы внешние поводы ни создавали дополнительную мотива-
цию, только на собственные структуры, т.е. «создают собственные разли-
чия, ставят границы, аккумулируют собственную историю и определяют,
чем является для них окружение».170 Тем не менее, психическая и соци-
альная системы связаны не только тесными, но и асимметричными отно-
шениями. Если сознание способно функционировать в рамках психиче-
ской системы вне связи с коммуникацией, то коммуникация невозможна
вне сознания. Поэтому в обыденном представлении возникает смешение:
коммуникационные процессы отождествляются с процессами сознания.
168 При этом Луман подчеркивает, что единство и автономия сознания обусловлены тем,
что оно не в состоянии сознательно наблюдать и отслеживать свои телесные процессы.
169 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 142
170 Luhmann N Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? // Он же, Aufsätze und Re-
den. Stuttgart, 2001. C. 114.
95
Все, что вступает в коммуницию, отмечает Луман, можно описать на
уровне ментальных состояний (как все жизненные процессы - на уровне
биохимических изменений) с единственным исключением: автопоэзисом
эмерджентной системы, «т.е. с исключением того, что только и может
быть описано как коммуникация».171
Коммуникация, отмечает Луман, тотально (т.е. в каждой операции)
привязана к сознанию, - хотя бы потому, что только сознание способно
воспринимать чувственно, а функционирование коммуникации (устной,
письменной) предполагает чувственные элементы. Каким же образом со-
относятся между собой системы сознания и коммуникации? «Речь идет о
соответствии автопоэтической системы инвариантным данностям ее
окружения – подобно тому, как мускулатура самодвижущихся организмов
настроена на силу притяжения Земли. В отношении сознание-
коммуникация речь идет о некоторых структурных инвариантах, напри-
мер границах изменений состояний сознания».172
Благодаря этому системы сознания и коммуникации могут функцио-
нировать скоординированно. Каждая из них настолько стабильна и обла-
дает в отношении другой настолько узким пространством возможностей,
что изменения одной системы позволяют не нарушать другую, а легко
находить ей соответствие. Они изначально настроены друг на друга.
Иначе невозможно синхронизировать определенные эндогенные операции
систем. Примером может служить шаг при прогулке: он незаметен созна-
нию гулящего именно потому, что существует очень небольшой спектр
возможностей для мышц в отношении силы притяжения земли. Структур-
ные соответствия охватывают очень узкий спект факторов среды (напри-
мер, физическую чувствительность глаз и ушей), и именно поэтому они
возможны.
Структуры, обеспечивающие соответствие сознания и коммуника-
ции, существуют не только в сфере физиологических процессов, но и в
специфически генерированной с помощью когнитивных процессов обла-
сти материальных знаков, создающих в ходе эволюции такие явления,
как язык, письмо, книгопечатание. Материальной основой этих знаковых
171 Там же. С. 115.
172 Там же. С. 115.
96
систем являются чувственно воспринимаемые звуки и образы, причем
именно благодаря тому, что звуки и образы языка принципиально отли-
чаются от иных звуков и образов, встречающихся в окружении психиче-
ских систем. Именно внутри операций, имеющих дело с языком, встреча-
ются сознание и коммуникация.
«Решающее тут - не знаковый характер этих эволюционных дости-
жений, а дифференциация особенных предметов восприятия, которые
бросаются в глаза или очаровывают, поскольку не похожи на остальной-
реальный воспринимаемый мир и постоянно находятся в движении или
могут быть (как при чтении) использованы только в движении … С опре-
деленной осторожностью можно сказать, что язык и письмо в этой функ-
ции соответствия могут быть обозначены как символические предприятия
(Symbolarrangemas), если под символом подразумевается, что разделен-
ное может презентировать соответствие разделенного».173
Язык и письмо по словам Матураны, суть т.е. «постоянная приспо-
собленность коммуникации к сознанию» («conservation of adaptation»).
Именно язык создает рамки структурных соответствий, внутри которых
изменения воспринимаются как резонансные процессы системы, а не
разрушающее воздействие окружения.
Язык определяет область структурных соответствий именно между
сознанием и коммуникацией. В целом Луман не принимает тезиса анали-
тической философии, отождествляющего язык и сознание, язык и смысл.
Хотя вне языка трудно достичь высокой комплексности смысла, опериро-
вание данными сознания возможно без посредства языка. Сознание без
слова возможно. Психические системы могут существовать даже без
мышления, если под мышлением понимать только абстрактные операции
сознания, или наблюдение второго порядка. Здесь Луман скорее примы-
кает к тезису Л. Выготского о том, что единство сознания и мышления –
результат эволюции и культивирования сознания, не присущее человеку
изначально, с рождения.174
В рамках структурного соответствия сознания и коммуникации пер-
вое выступает медиумом для второй, и может принимать разные состоя-
173 Там же. С. 117.
174 Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 2005.
97
ния в зависимости от ее задач. Как медиум сознание предстает для
наблюдателя пространством свободы и возможностей коммуникации, со-
вокупностью слабо связанных элементов, которым придает структуру
лишь коммуникация.175 Существует иллюзия, что коммуникация протекает
сознательно, однако сознание участвует в коммуникации пассивно. Оно
только «предоставляет» свои состояния всему, что говорится. Более того,
занимаясь самим собой, сознание «не знает», что коммуникация происхо-
дит и его состояния используются ею. Точно так же не ведает о сознании
и коммуникация. Наблюдая форму коммуникации, наблюдатель «не ви-
дит» медиума, сознания:
«Как при восприятии зрением или слухом свет и воздух использу-
ются, именно потому, что их как средства не видно и не слышно, так и
коммуникация использует сознание как средство благодаря тому, что не
тематизирует используемое сознание. Метафорически можно сказать:
участвующее сознание остается для коммуникации незримым. Если оно
становится зримым, то начинает мешать, как шум воздуха при быстрой
езде мешает разговору».176
Именно благодаря взаимной независимости каждая из систем спо-
собна выстроить собственную комплексность. Тем не менее, вступать в
коммуникацию может только то, что осознано. Только процессы сознания
находятся в связи с коммуникацией и влияют на нее, способны возбуж-
дать и стимулировать ее, - в отличие от биохимических, физиологических
и пр. процессов. Но и сознание возбуждается в первую очередь благода-
ря коммуникации, которая посредством языка доставляет броские для со-
знания и высококомплексные объекты для осмысления. Не имея «контак-
та», коммуникация и сознание способны наблюдать друг друга. Суще-
ствуя рядом и не пересекаясь, они образуют уникальный симбиоз ком-
плементарных систем.
Быть одновременно медиумом и формой сознанию помогает язык.
Язык - высококомплексная система, способная различать собственные
175 Областью слабо связанных элементов медиум предстает лишь для наблюдателя в
отношении «медиум-форма», ибо при этом наблюдатель отвлекается от того, что каж-
дая из операций и структур медиума самостоятельно детерминирована.
176 Там же. С. 119.
98
уровни. Для форм сознания язык как медиум предоставляет слова, из ко-
торых могут формироваться высказывания. Эти высказывания в качестве
медиума использует для своих форм коммуникация. Связывание и рас-
хождение элементов предполагает их возникновение и исчезновение, т.е.
их временный характер. То обстоятельство, что слова и высказывания
«овремененны», помогает создавать time binding и обеспечивать селек-
цию, иначе речь превратилась бы в неконтролируемую комплексность
сплошного шума, в хаос.
Бесшумное незаметное соответствие при одновременном функцио-
нировании коммуникации и сознания не означает, что участники комму-
никации не могут быть идентифицированы в ее ходе. Коммуникационный
процесс способен в своем течении устанавливать тонкие сети внешних
ссылок и тем самым «персонализировать» коммуникацию. Личность явля-
ется, по Луману, продуктом способности смысловых отсылок коммуника-
ции формировать соответствующую семантику и снабжать индивидуаль-
ные особенности коммуникации именами, позволяющими накапливать
представления об индивидуально распределенных системах сознания. В
качестве понятия личность утвердилась только в Новое время - прежде
всего как субъект правовых отношений. Понятие «индивидуум», означа-
ющее отдельного субъекта социальных отношений сформировалось толь-
ко в 18-м веке. Понятие субъекта было призвано обозначать авторефе-
рентные когниции сознания для противопоставления знания тому, что
определяется как «здравый смысл». Перечисленные понятия постепенно
вытеснили представление о сознании как душе, призванное идентифици-
ровать человека до и после смерти. Формы «приписывания» сознания его
«носителям» Луман обозначает термином «инклюзия», т.е. включение
понятия сознания в представление о коммуникации, позволяющее со-
здать отдельное понятие о человеке. Эти понятия искусственно сконстру-
ированы в рамках исторической семантики. И Луман напоминает об
условности этих обозначений: «Слово «человек» – это не человек. Мы
должны признать: не существует того, что соответствовало бы как еди-
ный предмет этому слову. Слова «человек, душа, личность, субъект, ин-
дивидуум» – не что иное, как то, что’ они производят в коммуникации.
99
Это когнитивные операции постольку, поскольку они делают возможным
исчисление дальнейших коммуникаций».177
§ 2. Структура коммуникации
Коммуникация опирается на различение, дифференцию того, что
коммуницируется, от окружения. Коммуникация состоит из трех компо-
нентов: сообщения, информации и понимания. Важнейшим из них являет-
ся информация.
Информация в интерпретации Лумана - не структура, а событие.
Луман определяет информацию как «событие, которое меняет состояние
системы».178 Свое определение информации Луман позаимствовал у Гре-
гори Бейтсона, который определял информацию как «различие, которое
создает различие».179 Это означает прежде всего, что информация не есть
материал, вневременная «библиотека», как ее понимают в информацион-
ных науках, напротив, она как событие внезапно, имеет начало и конец.
Событие - элементарное звено коммуникационного процесса, которое
имеет временную природу и не может быть пересмотрено или отменено.
«Информации являются временными различиями, постоянно конституиру-
емыми внутри системы, которые результируются из взаимной игры авто-
референтных или инореферентных обозначений, постоянно процессируе-
мых внутри системы».180
Информация актуализирует структурные процессы. Проявляясь, она
не исчезает бесследно, а оставляет структурный эффект, изменяя состоя-
ние системы. Реагируя на это изменение, меняется вся система. После
поступления информации система не может существовать по-старому. Те
сообщения, которые не ставят под вопрос прежнее состояние системы и
177 Там же. С. 132.
178 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C.102.
179 Его известное определение звучит: „Information is difference that makes difference”.
См. Bateson G., Ökologie des Geistes: Anthropologische, biologische und epistmologische
Perspektiven. Frankfurt, 1981. C.515.
180 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С, 194.
100
не побуждают к реакции, не несут информацию и ею не являются. Но
информация не обязательно результируется в системных изменениях.
Даже обогащение наблюдения системы, углубляющее ее дифференциа-
цию, можно считать эквивалентным ее изменениею.
Понятие информации в интерпретации Лумана, подобно многим
другим понятиям, претерпевает существенные изменения в сравнении с
традиционными представлениями. Главное из изменений заключается в
том, что информация не привходит извне, и не от чего не «передается»,
она может быть только частью автореферентных систем, действующих
вследствие изменения собственных состояний, а не каузальном измене-
нии вследствие внешнего воздействия. Разумеется, информация создает-
ся не из самой себя, а в ответ на внутренние ирритации системы. «Только
в автореферентных системах внешнее воздействие проявляется как по-
буждение к самоопределению и тем самым как информация, которая из-
меняет внутренний контекст самоопределения, не устраняя структурных
закономерностей».181
Информация функционирует как «новое», создающее смысл, будучи
неожиданной селекциией из нескольких возможностей. Луман использует
для обозначения этого свойства слово «изумление», «сюрприз» (Überra-
schung). Будучи неожиданной, селекция побуждает к новым контингент-
ным операциям, которые были бы неожиданными без получения этой ин-
формации, но теряют для системы свою неожиданность после. Поэтому
Луман называет информацию «событиями, которые ограничивают энтро-
пию, не разрушая системы».182 Система идентифицирует свои изменения
как информацию, когда сопоставляет их с ожиданиями. Только новое
имеет информационное содержание. Информация может изумить только
однажды. Так, информационная составляющая в новостях может прозву-
чать только один раз. Другой раз новость уже не будет нести информа-
ции. Повторение будет иметь другое значение, например, служить знаком
солидарности с высказываемым содержанием, но не более. Поэтому, под-
черкивает Луман, следует различать информацию и смысл, хотя любой
смысл транспортируется через информацию. Повторение информации бу-
181 Там же. С. 103.
182 Там же. С. 103.
101
дет нести тот же смысл, ту же селекцию. Но оно уже неспособно вызы-
вать тот системный эффект, на который способна информация.
Опознание информации совершается также благодаря различению
информации и сообщения. Каждая информация транспортируется посред-
ством сообщения, но не каждое сообщение несет в себе информацию.
Смысловая обработка информации позволяет редуцировать ком-
плексность, но она может ее и повышать, тем самым повышая нестабиль-
ность системы. Таким образом, информация может действовать на систе-
му и конструктивно, и деструктивно. В общем случае благодаря инфор-
мационной обработке соотношение системы и окружения получает форму,
которая совместима с их высокой комплексностью и взаимозависимостью.
Это открывает путь к эволюции смысловых форм с более высокой способ-
ностью к обработке информации. «Если смысл и информация доступны
как эволюционные достижения, то с этого момента может начаться смыс-
ловая эволюция, которая опробует, какие схематизмы приобретения и
обработки информации наиболее оправданны в отношениии взаимного
примыкания. Только посредством такой эволюции смысл становится спо-
собен приобретать форму и структуру».183
Сообщение – наиболее выраженный динамический элемент комму-
никации, это действие, обусловленное временным характером хода ком-
муникации. Именно благодаря операциональной природе сообщения как
акта вся коммуникация ритмически разворачивать во времени. Сообще-
ние дает коммуникации начало и конец во времени. Оно отвечает за то,
что информация не только существует, но и передается дальше, побуж-
дает к примыкающим операциям. Поскольку информация контингентна и
контекстна, сообщение должно транспортировать эту контингентность,
т.е. ее работа заключается в усилии по созданию того же контекста, в
котором селекция информации приемником будет иметь тот же самый
эффект, что и у передатчика. Стоит ли это усилий, должна ли информа-
ция быть сообщена, - это предмет отдельного решения. Коммуникация
есть определенный способ наблюдения мира путем различения информа-
ции и сообщения, которые слишком часто смешивают вместе. Сообщение
183 Там же. С. 105.
102
должно отличаться от окружения, например, так, как отличают слова от
фоновых звуков.
Информация может быть сообщена, но не понята. Понимание - по-
следний элемент, завершающий коммуникацию: коммуникация соверша-
ется в тот момент времени, когда происходит понимание. Последнее про-
исходит на основе наблюдения различия между информацией и сообще-
нием. В понимании коммуникация схватывает различие между информа-
ционной ценностью содержания и основаниями, по которым делается со-
общение. Таким образом сообщение выделяется в потоке восприятия.
«Информация не понимается сама собой - для ее сообщения требуется
особый код, который расшифровывается в понимании».184 Следовательно,
понимание - это вид обработки информации, в котором коммуникация
реализуется как автопоэтический процесс. «Чтобы ни думали участники
коммуникации в своем автореферентно-замкнутом сознании, коммуника-
ционная система вырабатывает себе собственное понимание или непони-
мание и создает для этих целей процессы самонаблюдения и само-
контроля».185
Понимание является наблюдением различия между информацией и
сообщением, и наблюдение выступает базисной операцией понимания. Но
последнее - не любое наблюдение, не любая обработка смысла , а только
такая, которая проецирует в это различие различение системы и окруже-
ния и применяет к нему автореферентно воспроизводимый смысл. «Толь-
ко понятие смысла, концепция системы/окружения и самореференция
вместе разъясняют поле применения методологии понимания».186 Другими
словами, понимание предполагает перенос на любое наблюдаемое разли-
чие исходного различия между системой и окружением с предвосхищени-
ем его автореферентности. «Лишь с помощью различия системы-
окружения можно трансформировать переживание смысла в понимание и
184 Luhmann N. Was ist Kommunikation? // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C.
97.
185 Там же. С. 99.
186 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 111.
103
только в том случае, если иметь в виду, что другие системы точно также
различают себя и свое окружение».187
В понятии коммуникации Луман выделяет еще один элемент, кото-
рый характеризует ее как последовательный процесс примыкающих друг
к другу операций: это тема. Темы привлекают внимание, открывают и
ограничивают отдельные коммуникационные последовательности. Темы
характеризуют вещественное измерение коммуникации. Они непосред-
ственно связаны с комплексностью коммуникации и определяют ее смыс-
ловые границы. Тематической специализации невозможно поставить гра-
ницы. Посредством тем смысловые границы системы расширяются или
сужаются. Темы предвосхищаются предысторией и структурой ожиданий
коммуникации. Так, до деталей можно представить себе коммуникацию,
которая ведется на футбольном поле, в семье или в магазине.188 «Темы
суть программы действия языка», - определяет Луман.
С понятием темы соотносится доклад (Beitrag) – реплика, выступле-
ние – «взнос» в тему. Коммуникацию характеризует различение «темы и
реплики». Коммуникационные взаимосвязи упорядочиваются посредством
тем, на которые ссылаются реплики. Темы переживают реплики, они
устанавливают между различными репликами краткосрочную или долго-
срочную смысловую связь. Отношение тем и реплик имеет природу раз-
личия уровней и предполагает некоторый баланс: порог тематизации не
позволяет темам расширяться бесконечно; тематическое насыщение не
позволяет репликам размножаться до бесконечности.
Итак, в трактовке процесса коммуникации Луман переходит от тра-
диционной модели двучленной селекции (передатчик-приемник) к трех-
членной селекции. Коммуникация может происходить, когда информация,
сообщение и понимание координированно соединяются.
«Неправомерно исходить из того, что существует некий веществен-
ный мир, относительно которого можно коммуницировать. Неверно также,
что источник коммуникации находится в «субъективном» действии сооб-
щения, задающем смысл. Не соответствует действительности и утвержде-
ние о том, что вначале существует общество, которое предписывает по-
187 Там же. С. 110.
188 Там же. С. 269.
104
средством культурных институтов, что нечто можно трактовать как ком-
муникацию. Единство коммуникативных событий не выводимо ни объек-
тивно, ни субъективно, ни социально, и именно поэтому коммуникация
создает себе медиум смысла, в котором постоянно может давать распря-
жения о том, усматривать ли дальнейшим коммуникациям свою проблему
в информации, в сообщении или в понимании».189
Все эти «нет» позволяют Луману очистить собственное понятие
коммуникации от традиционных представлений и в дальнейшем говорить
о той коммуникации, которая системно конструирует общество. В каче-
стве основоположений своей концепции коммуникации Луман сформули-
ровал ряд тезисов, которые будут изложены ниже.190 Некоторые из них,
однако, станут более понятны только после изложения содержания иных
основополагающих понятий, таких, как смысл (§ 3).
1. Коммуникация является фундаментальным понятием для теории
общества и социологии.
Подобно тому как социология и психология полностью разведены в
своих предметных областях и методах, понятия общества и лично-
сти не пересекаются и служат лишь формулой для обозначения
предметов этих наук. Общество нельзя определять через отношение
к личности, оно представляет собой самостоятельную сущность и
систему коммуникации. «Не действие, а только коммуникация явля-
ется неизбежной социальной операцией и одновременно операцией,
которая необходимо вступает в действие, когда создается социаль-
ная ситуация».191
2. Автореферентность – специфическая особенность не только
мышления.
Неверно полагать, что способностью к автореферентности, или ре-
флексии, познанию присуща только психическим системам. Это ос-
новное свойство любой системы, а специфика способа наблюдения
состоит только в том, какой вид системной референции лежит в ее
189 Luhmann N., Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 72
190 Luhmann N. Was ist Kommunikation? // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C.
94.
191 Там же. С. 96.
105
основе. Поэтому понятие коммуникации не требует ссылки на со-
знание.
3. Только коммуникация может вступать в коммуницию.
Коммуникация является не эффектом интеракции или социального
действия, а единой самодостаточной системой, в рамках которой
обосновываются понятия интеракции и социального действия. Ком-
муникация, и только коммуникация способна к самоорганизации и
автопоэтическому самовоспроизведению в виде общества.
4. Коммуникация может коммуницировать только о коммуникации.
Каждая автореферентная система имеет дело только с собственны-
ми операциями и «разговаривает» на собственном языке. Чтобы ни
случилось– ядерная зима, глобальное потепление, экологическая
катастрофа - общество может воспринимать и реагировать на эти
события единственным образом: посредством коммуникации.
5. Коммуникация возникает благодаря синтезу трех различных се-
лекций.
Информация, сообщение, понимание – эти виды селекциймогут су-
ществовать сами по себе, но только в единстве создают эмержент-
ную систему – коммуникацию. Каждая из селекций предполагает
установление различения, благодаря которому система выбирает.
Эти компоненты выступают не как функции, акты или горизонты
значений. «Речь идет о различных селекциях, селективность и об-
ласть селекций которых впервые конституируется только посред-
ством коммуникации».192
5. Особое значение имеет различение восприятия и коммуникации.
Неверно, будтькоммуникация осуществляется благодаря способно-
сти приемника воспринимать сообщение. Простое восприятие - это
событие сознания, не имеющее последствий для коммуникации и
возможности дальнейшего примыкания новых коммуникационных
событий. Новая эмерджентная система возникает вместе с различе-
нием восприятия и коммуникации. Это различение конкретизирует-
ся как различение сообщения и информации, т.е. содержания со-
общения, селектируемого пониманием. «Коммуникация всегда зави-
192 Там же. С. 101.
106
сит от того, что обе стороны, информация, содержащаяся в сообще-
нии, и основания, по которым происходит сообщение, постигаются
как селекция и посредством этого происходит их различение».193
6. Относительно понимания и непонимания нельзя так просто ком-
муницировать, как этого хотелось бы участникам.
В условиях автопоэзиса коммуникации о непонимании или опасно-
сти нарушения коммуникации можно говорить только в терминах
понимания. Сообщение «Ты меня не понимаешь» амбивалентно и
многомерно. Во-первых, оно утверждает «Ты не готов воспринять,
что я хочу сказать» и провоцирует подтверждение этого состояния.
Во-вторых, оно является сообщением информации о том, что ком-
муникация в этих условиях не может быть продолжена. В-третьих,
оно есть продолжение коммуникации. Таким образом, при возник-
новении проблем в коммуникации подразумевается их решение пу-
тем коммуникации.
7. Эмергенция коммуникации – новое в системной теории коммуни-
кации.
Традиционная двучленная концепция коммуникации как «переда-
чи» информации от передатчика к приемнику несостоятельна во
многих смыслах и это часто обнаруживается.194 От такой передачи
никто ничего не «утрачивает», соответственно не «имеет» и не «от-
дает». И принимать сообщение может тот, кому «не передают».
«Передача» концентрирует сущность коммуникации в сообщении,
но только совокупность трех селекций порождает эмерджентное со-
бытие – коммуникацию.
8. Коммуникационная система – полностью закрытая система.
Коммуникация не только сама создает свои элементы, но и сама
специфицирует свои структуры. Коммуникационная система есть
автопоэтическая система, которая производит и воспроизводит себя
в границах, создаваемых окружающим миром. «Только коммуника-
193 Там же. С. 97.
194 К. Бюллер дает трехчленную формулу функций языковой коммуникации: представ-
ление, выражение и призыв (равносильно информации, сообщению и пониманию, где
«призыв» трактуется как предвосхищение понимания). См. Бюллер К. Теория языка.
М., 1993. С. 348.
107
ция может воздействовать на коммуникацию; только коммуникация
может декомпонировать элементы коммуникации (например, анали-
зировать горизонт селекции информации или спрашивать об осно-
ваниях сообщения); и только коммуникация может контролироавть
и корректировать коммуникацию».195 Кто не может коммунициро-
вать, для того коммуникации не существует.
9. Коммуникация не имеет цели.
Это следует из автопоэтической закрытости, т.е. самодостаточности
коммуникации. Если бы было иначе, нужно было бы доказывать,
почему коммуникация продолжает существовать после достижения
своей цели. Отсутствие конечной цели не означает, что для систе-
мы возможна эпизодичная, внутрисистемная постановка целей. Речь
идет только о характере эволюции систем, которая не может иметь
никакой направленности, энтелехии. «Коммуникация случается или
нет – вот все, что можно об этом сказать. Поэтому теория следует
не аристотелевскому стилю теоретизирования, а скорее теоретиче-
скому стилю Спинозы».196
10. Любая коммуникация рискованна.
Отвергая консенсусно ориентированные концепции коммуникации,
Луман выдвигает тезис об амбивалентности коммуникации по отно-
шению к консенсусу и конфликту: «Коммуникация ведет к поста-
новке вопроса, будет ли сообщенная и понятая информация приня-
та или отклонена. Верят новости или нет - коммуникация создает
вначале только эту альтернативу и тем самым риск отклонения. Она
форсирует состояние решения, которое без этого бы не существо-
вало».197 Коммуникация способна вести как к консенсусу, так и к
конфликту. В восточных культурах, отмечает Луман, этот риск кон-
фликтности ведет к ограничениям в коммуникации. Благодаря фак-
тору негарантированности и даже невероятности коммуникации
195 Luhmann N. Was ist Kommunikation? // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C.
102.
196 Там же. С. 102.
197 Там же. С. 103.
108
возникают социальные институты, которые призваны преодолеть
это препятствие.
11. Коммуникация удваивает реальность.
Принимая или отклоняя оферты коммуникации, коммуникация удва-
ивает реальность, создавая ее «да-версию» и «нет-версию». В ос-
цилировании между этими двумя уровнями и заключен автопоэзис
системы, гарантирующий продолжение ее существования. «Ничто из
того, что коммуницируется, не избегает этой жесткой бифуркации –
исключение только одно: мир (в смысле феноменологии) как по-
следний смысловой горизонт, в котором это происходит и который
сам не квалифицируется ни позитивно, ни негативно, а со-
производится в каждой осмысленной коммуникации как условие до-
ступности дальнейших коммуникаций».198
12. Отнесение к ценностям при коммуникации привносится как
импликация, а не как ее основание. Дискутируют не о ценностях,
а о преференциях. Самореализации ценностей не существует.
С точки зрения коммуникационных рисков, особое место занимают
элементы, которые должны служить основаниями коммуникации и
поэтому не могут быть отвергнуты. Они должны быть застрахованы
от рисков. Это и есть задача ценностей. Ценности имплицируются
при коммуникации, их предполагают, а не полагают. «Не говорят
прямо: я за мир. Этого избегают по известным нам основаниям: это
дуплицировало бы возможность принятия или отклонения».199 Тот,
кто не согласен, должен доказывать свою позицию, должен перени-
мать комплексность, он подвергается опасности быть изолирован-
ным и обрекает себя на почти безнадежное занятие. Поэтому диску-
тируют не о ценностях, а о преференциях, интересах, предписани-
ях, программах. Таким образом, утверждает Луман, не существует
«системы ценностей». Относительно ценностей не идет речь о пси-
хологически стабильных структурах. «Их стабильность есть исклю-
чительно коммуникативный артефакт… И именно потому, что в игре
задействованы структуры автопоэзиса социальной системы, цен-
198 Там же. С. 104.
199 Там же. С. 105.
109
ностная семантика подходит для отображения основоположений со-
циальной системы с целью собственного использования. «Претен-
зия на значимость» - это рекурсивность, которая упрочена благода-
ря коммуникативной ущербности противоречия».200 Не существует
самоосуществления ценностей. Все, что они призваны гарантиро-
вать, может быть в коммуникации сорвано и, разумеется, тоже во
имя ценностей.
13. Следствия для области диагноза и терапии системных зависи-
мостей. Коммуникация может быть повреждена сознанием.
Строгое различение систем помогает не только лучше понять меж-
системные зависимости, но и использовать их для целей диагноза и
терапии. Межсистемные зависимости строятся подобно отношениям
системы-окружения, поэтому в таких зависимостях следует искать
не причины системных процессов, а их помехи. «Сознание привно-
сит в коммуникацию только помехи, только шумы, только пертурба-
ции и наоборот, коммуникация привносит в сознание помехи».201
Чтобы наблюдать коммуникационные процессы, нужно знать
предысторию коммуникации, а не сознания. Сознание излучается из
слов, как свет от горящей свечи, легко отдаляясь от содержания и
внося в него собственные обертоны. Коммуникация должна комму-
никативно понятным образом быть принята или отклонена. Она
должна приспособится к стремлению сознания увлечь ее в сторону.
Она делает это посредством бинаризации. «Коммуникация позволя-
ет сознанию мешать и даже предусматривает это; но только в фор-
мах, которые в дальнейшей коммуникации способны к примыканию,
т.е. могут обрабатываться коммуникативно. На таком пути не воз-
никает смешения автопоэзиса систем, а, напротив, достигается вы-
сокая мера ко-эволюции и сыгранной реактивности».202 Помехи и
шумы нормальны; всегда существуют нормальные способы овладе-
ния ими и их нейтрализации.
200 Там же. С. 106.
201 Там же. С. 107.
202 Там же. С. 110.
110
§ 3. Смысл
В решении проблемы смысла Луман видел подлинный предмет фи-
лософии, а в ее постановке стремился обозначить глубокое расхождение
с традиционными философскими подходами. Понятие смысла, по его соб-
ственному признанию, занимает центральное место во всей его системной
теории.203 Смысл конститутивен для психической и социальной систем, он
их, собственно говоря, и создает. «Смысл является подлинной «субстан-
цией» этих возникших уровней эволюции», - считает Луман.204
Лумана в равной мере не устраивало ни метафизически-
онтологическое решение проблемы смысла, ни субъективистская концеп-
ция трансцендентализма. Причина полной неадкватности этих традиций
состоит, по убеждению Лумана, в том, что в них был неправильно по-
ставлен вопрос и были выбраны неверные исходные предпосылки поиска
ответа на него. Проблема смысла ставилась или как проблема разума и
бытия, или как проблема мышления и сознания. И в том и в другом слу-
чае она звучала как задача поиска «источника» смысла, в то время как
смысл не требует опоры на что-то, он самостоятелен и самодостаточен,
что позволяет осознать системная теория. «Глубоко ошибочно пытаться
искать для смысла некоего «носителя». Смысл несит сам себя, посколь-
коу способен автореферентно обеспечить свою репродукцию. И только
формы этой репродукции обусловливают дифференциацию психических и
социальных структур».205
Выбор операциональной формы процессирования смысла определя-
ет то, какую систему конституирует смысл – сознание или коммуникацию.
«Смысл может вовлекаться в последовательность, которая связывается с
к телесным жизненным чувством и проявляется тогда как сознание.
Смысл может также входить в последовательность, которая вовлекает по-
203 Заглавие «Смысл» носила одна из первых наиболее известных статей Лумана в упо-
минавшемся выше сборнике, посвященном дискуссии с Хабермасом. Sinn als Grundbe-
griff der Soziologie // Luhmann N. Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechno-
logie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt, 1971.
204 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 141.
205 Там же. С. 141.
111
нимание других, и тогда проявляется как коммуникация».206 Но ни то, ни
другое не является привилегированным «носителем» смысла. «Носите-
лем, если уж сохранять это выражение, является различие в смысловых
отсылках, и это различие вызвано тем, что все актуализации смысловых
ссылок должны быть селективными».207
В терминологии Лумана метафизика - это учение об автореферент-
ности бытия. В ней речь идет о порождении бытием автореферентности,
т.е. мышления: о мышлении бытия. Любое отклонение, дистанцирование
мышления от бытия трактуется в ней как «заблуждение», которое должно
быть преодолено. Легитимной является стратегия корреспонденции, при-
способления мышления к бытию. Эпистемолог не согласился бы с подоб-
ной терминологией, но у Лумана под сознанием и бытием подразумевают-
ся разные системы, и поэтому он говорит о бытии и мышлении как о раз-
ных сущностях. «С социологической точки зрения, эта концепция подхо-
дит для общества, которое противостоит природе, но не может ею овла-
деть или каким-то образом самостоятельно её создать».208 Для обществ с
более глубокой степенью комплексности и дифференциации этого уже
недостаточно. Сложное общество не может преклоняться перед субстан-
тивным коррелятом смысла как Разума и Божества. «Смысл есть продукт
операций, которые используют смысл, а не качество мира, обязанное
своим сущестованием творению, учреждению или источнику».209 При пе-
реходе к Новому времени, от общества стратифицированного к обществу
функциональному, когда общество все больше сталкивается с реально-
стью, порожденной им самим (с личностью, с техникой, с ущербом, поне-
сенным от общества природой), неадкватность этого подхода к проблеме
смысла становится, по мнению Лумана, все более очевидной.210
Метафизическую субстантивацию смысла, возникающую из-за от-
сутствия ясного различения между смыслом и бытием, Луман объяснял
206 Там же. С. 142.
207 Там же. С. 143.
208 Там же. С. 146.
209 Там же. С. 44.
210 Луман не требует отказаться от метафизики, но убежден, что и современные кон-
цепции, претендующие на поиск универсальных оснований, должны считаться с плю-
ралистичностью и изменяемостью мира.
112
последствиями господствовавшей вплоть до Нового времени концепции
смысла, истолкованного как совершенство вещного мира. «Понятие смыс-
ла обозначает форму порядка человеческого переживания, а не какое-то
определенное вещественное отношение в мире».211 Не существует смысла
вне систем, которые нуждаются в нем и воспроизводят его в качестве ме-
диума. Не существует идеальности, отстраненной от фактического пере-
живания и коммуникации. Для нее не может существовать субстрата, в
том числе, в виде сознания и коммуникации.212
Луман отвергает и предпосылки трансцендентализма, трактуя его
как метафизику субъекта, как полагание основания смысла в сознании.
Дуализм бытия и мышления не удается перевести в дуализм бытия и со-
знания хотя бы потому, что достижение различия бытия и смысла достет-
ся здесь дорогой ценой: путем сочинения концепции несуществующего в
реальности субъекта, потери связи между эмпирическим и трансценден-
тальным субъектом. Проблематичным оказывается бытие трансценден-
тального субъекта, и субъективность эмпирического субъекта – его.213
«Нелокализуемость и нефиксируемость внемирового субъекта символизи-
рует в конечном счете ложность теории, а не то, что способно в себе об-
наружить сознательное Я».214
Луман энергично отвергает варианты решения проблемы ин-
терсубъективности, предложенные в рамках трансцендентализма. Попыт-
ки вывести понятие интерсубъективности и соответственно социальные
категории из индивидуального сознания заведомо безрезультатны, ибо
социальность, настаивает Луман, предполагает существование Alter Ego,
а не его конституирование в сознании. Действительно, теоретические
предпосылки Лумана, не нуждающегося в выводе интерсубъективности из
211 Luhmann N., Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet
die Systemforschung? Frankfurt, 1971. С. 31.
212 «Припоминание» Платона, по убеждению Лумана, не ведет назад к подлинному, но
позабытому смыслу сущего. Память конструирует структуры только для симультанного
использования в целях сохранения селективности ; эти структуры являются реактуали-
зируемыми различениями, актуализируемыми в определенный момент.
213 Luhmann N., Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet
die Systemforschung? Frankfurt, 1971. С. 27.
214 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 145.
113
субъективности, а полагающего в основу внесубъектную коммуникацию и
надсубъектную социальность позволяют решить, по крайней мере, эту
проблему гораздо убедительнее.
«Наряду с перспективой Ego должны приниматься во внимание одна
(или множество) перспектив Alter… любой смысл можно исследовать на
предмет того, переживает ли его другой точно так же, как я, или нет?
Социальным смысл становится не как привязанность к определенным
объектам (людям), но как носитель особенной редупликации возможно-
стей понимания. Соответственно понятия Ego и Alter Ego существуют
здесь не в качестве личности или системы, а в качестве особых горизон-
тов, которые агрегируют и связывают осмысленные ссылки… Поскольку
этот двойной горизонт является конститутивным для возникновения осо-
бенного измерения смысла, социальное нельзя свести к продуктам созна-
ния монадического субъекта. Тем самым все попытки, предпринимаемые
теорией субъективной конституции «интерсубъективности» проваливают-
ся».215
Проблема смысла находит в системной теории Лумана собственное
решение, весьма отличное от привычных. В трактовке понятия смысла
Луман испытал заметное влияние феноменологии Гуссерля. Он обращает-
ся к предложенной философом концепции структуры субъективного со-
знания, поставив себе целью реконструкцию процесса функционирования
смысла в сознании и обществе как системах. Гуссерль относится к числу
«учителей» Лумана, оказавших на него наиболее глубокое воздействие
своим стилем теоретизирования. Но представления философа Луман ин-
терпретирует, как уже говорилось, весьма оригинальным образом. Он
разделяет с Гуссерлем только интерес к конститутивной деятельности со-
знания и возникающим в этой связи проблемам.
Само понятие интенции и переживания, ключевое для Гуссерля,
Луман значительно модернизирует. Если для Гуссерля интенция имеет
природу интуиции, интеллектуального созерцания (в период раннего
творчества он говорит об «эйдосах», «очевидностях»), то Луман трактует
ее как полагание различия: «Интенция – не что иное, как полагание раз-
личия, установление некоего различения, посредством которого сознание
215 Там же. С. 119-120.
114
стремится обозначить, помыслить, пожелать нечто определенное (а не
что-то другое)».216 Тем самым фокус рассматриваемой проблематики фе-
номенологии смещается от «узрения сущностей» к исчислению формаль-
ных отношений (Indikationskalkül в смысле Спенсера Брауна). «Было бы
небольшим, но в итоге продуктивным переформулированием [терминоло-
гии Гуссерля], если различение ноэсиса и ноэмы заменить на различение
автореферентности и инореферентности… Сознание не может обозначать
себя само, если не отличает себя от другого».217 По сути дела, луманов-
ская трактовка смысла является именно основательным переформулиро-
ванием основоположений гуссерлевской концепции деятельности созна-
ния.
Для Гуссерля сознание было закрытой системой, он говорил о
трансцендентальном субъекте как об «абсолютном сознании». Вещи
внешнего мира могут проявляться для сознания лишь как его собствен-
ные феномены (это было созвучно с собственными посылками Лумана).
Отсюда задача «чистой феноменологии» заключается в том, чтобы опи-
сать конституирование в сознании явлений разного порядка. Смысл, со-
гласно Гуссерлю, есть деятельность по конституированию содержаний со-
знания, которая структурирует и актуализирует для сознания пережива-
ния, так как «поток переживаний … никогда не может состоять из чистых
актуальностей».218 Многообразие смысловых возможностей образует
смысловые горизонты, которые создают для каждого конкретного воспри-
ятия смысла некоторые аппроприации и смысловые шлейфы.
Луман, отклоняя постулаты сознания и субъективности как таковые,
принимает трактовку «потока сознания» и в особенности активно исполь-
зует понятие смысловых горизонтов. Но для него поток переживаний
принадлежит не сознанию, а психической и социальной системам, харак-
теризующимся именно тем, что они способны производить смысл и этим
обеспечивать автопоэзис. При этом выделение коммуникации как систе-
мы, совершенно самостоятельно оперирующей смыслом, является исклю-
216 Luhmann N. Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Wien, 1996. C.
31.
217 Там же. C. 34.
218 Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.
Halle, 1913. C. 63.
115
чительно самостоятельным лумановским предприятием. Перенося гуссер-
левские понятия на почву системной теории, Луман определяет смысл
как последовательность (процессирование) операций, осуществляющих
селекцию возможностей, необходимую для сохранения системы. Смысл
становится процессом, способом функционирования систем, которые раз-
личаются по тому, каким образом и с помощью каких операций они спо-
собны воспроизводить смысл.
Как уже было сказано (гл. 1),219 в условиях переизбыточной ком-
плексности окружения смысл становится уникальным инструментом се-
лекции, конституирующим систему путем редукции комплексности и мно-
гократно повышающим ее адаптивность в сравнении с иными система-
ми.220 Эта редукция осуществляется, когда установливаются различия
между актуальностью и потенциальностью. В трактовке этих ключевых
понятий Луман практически игнорирует богатую философскую традицию
(dynamis/energeia, potentia/akta), а берет за основу представление о кон-
тингентности реальности. Актуальное – то, что реализуется в селекции в
пространственном и временном плане, потенциальное – то, что может
стать предметом контингентной селекции. Посредством смысла из беско-
нечности возможностей вычленяется момент действительного. Смысл поз-
воляет редуцировать комплексность, не исключая, а сохраняя полноту
иных возможностей для селективности системы.
Речь идет об основополагающей функции порядка рекурсий, налич-
ных в данный момент. «Феномен смысла проявляется в форме переизбыт-
ка ссылок (Verweisungen) на дальнейшие возможности переживания и
действия… Все, что интендируется, содержит в этой форме открытым весь
мир в целом, т.е. постоянно гарантирует актуальность мира в виде его
доступности».221 Смысл принимает на себя функцию «отключения» не-
нужного. Благодаря этому смысл осуществляет необходимую для системы
операцию «редукции внешней сложности мира». Он приспосабливает
многообразие внешнего мира к психической или социальной системе.
219 См. Гл. 1.
220 „Смысл есть общая форма автореферентной установки на комплексность, которая не
может быть охарактеризирована посредством определенных содержаний». Luhmann N.
Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 107.
221 Там же. С. 93.
116
«Смысл есть способная к актуализации репрезентация комплексности ми-
ра в соответствующий момент».222 При этом «отсеченные» возможности не
исчезают бесследно, благодаря им существует открытое поле возможно-
го, они «виртуализируются». «Будущее бесконечно открыто, ибо оно со-
держит больше возможностей, чем то, что может быть актуализирова-
но».223 То, что не может в данный момент находиться в поле внимания,
присутствует в качестве ассоциированных ссылок, в качестве «горизон-
та» интенций (если пользоваться выражением Гуссерля).
Смысл есть постоянная осцилляция, «перепрыгивание» с актуально-
го на потенциальное. Момент неспокойствия, постоянной смены нужен
Луману, чтобы преодолеть одномерность и кристаллизацию структур
смысла, несовместимых с динамичной жизнью системы. «Весь мир соци-
альной коммуникации зиждется на том, что монотонность исключается…
Смысл фундаментально нестабилен, ибо только так реальность может
быть обработана для целей эмержентного образования системы в каче-
стве смысла».224
Смысл обеспечивает не только редукцию комплексности и тем са-
мым стабильность системы, но и необходимый для функционирования си-
стемы переизбыток возможностей, пространство неопределенности и не-
стабильности. Как уже было сказано, неопределенность системы возни-
кает вследствие возвращения, обратного вхождения («re-entry») разли-
чия. В результате в ней появляется внутренняя неопределенность, систе-
ма становится некалькулируемой. Благодаря неопределенности возникает
потребность в идентичности, которая не существует сама по себе, а
предполагает повторение и антиципацию возвращения. В той мере, в ка-
кой смысл стабилен, он обеспечивает идентичность через повторение,
т.е. память системы. Нестабильность смысла заключена в невозможности
поддержания ядра его актуальностей. Поэтому смысл есть постоянное
воспроизведение конститутивного различия между актуальностью и воз-
222 Luhmann N. Ökologische Kommunikation. Opladen, 1986. С. 44.
223 Здесь можно вспомнить понятие «отсылаемости» (Verweisungszusammenhang) у
Гуссерля и Хайдеггера. Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. Über Funktion
von Zwecken in sozialen Systemen. Tübingen, 1968. C. 20.
224 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 99.
117
можностью, между различием и идентичностью.225 «Самодвижение собы-
тий смысла является автопоэзисом par excellence», заключает Луман.226
Тотальность смысла проявляется в том, что даже «бессмыслица»
может мыслиться и быть включенной в коммуникацию только как форма
смысла. Понятию негации Луман придает исключительно большое значе-
ние. Возможность негации - одно из исключительных свойств смыслокон-
ституирующих систем, и существенная часть способности смысла редуци-
ровать комплексность на совершенно новом эволюционном уровне выте-
кает из его способности к негации. Именно благодаря негации возникает
неспокойство, переизбыток возможностей и динамизм, отличающий смыс-
локонституирующие системы от иных. Фунция негации - не в устранении,
а в «потенциализировании» возможностей. «Смысловой мир является
полноценным миром, который может исключать то, что он исключает,
только в себе».227 Никакая смыслоконституирующая система не может из-
бежать осмысленности своих процессов. Закрытость и полнота всех ре-
курсивных ссылок образует единство как последний горизонт любого
смысла – мир. Понятие мира у Лумана - социологический аналог «жиз-
ненного мира» Гуссерля228 и, более того, принимает на себя функцию
кантовского «трансцендентального единства апперцепции». Как един-
ство всех ссылок горизонт мира гарантирует каждому различию его един-
ство как различия и в этом смысле является носителем предельной уве-
ренности в том, что «мир как-нибудь разрешит в себе все и сможет кон-
вергировать все включения различий».229
Чтобы представление о смысле как редукции комплексности не
осталось слишком абстрактным, необходимо перейти на более конкрет-
ный уровень «респецификации» смысла, который предполагает поиск
осмысленных идентичностей с целб. восприятия реальности. Простые об-
щества с трудом способны преодолеть уровень респецификации идентич-
ностей, воспринимая их как заданные. Развитие типов смысловых иден-
тичностей во многом обусловливает ход общественной эволюции и рас-
225 Там же. С. 100.
226 Там же. С. 101.
227 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 49.
228 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 106.
229 Там же. С. 106.
118
крывает историю социальной семантики. Так, вплоть до Нового времени
превалировала «овеществленность» восприятия: любая реальность реду-
цировалась к вещным схемам, в том числе понятия природы, души, духа.
«На самом деле то, что учреждает единство смыслового элемента, было в
этих случаях предзадано. Смысл, можно сказать, использовался, но не
понимался. В качестве описания мира универсальное значение приобрела
вещественная схема. Как ведущее различие функционировало различе-
ние res corporales/res incorporales,230 что позволило обеспечить тотализа-
цию этой схемы».231 Сам мир трактовался в рамках метафизических кос-
мологий как вещь, космос.
С наступлением Нового времени стало понятно, что эта схема недо-
статочна при описании проблем познания и не может быть универсаль-
ной. Усложнение и неспокойство картины мира побудило перенести фо-
кус от вещного мира к человеку, допустить антропологизацию реально-
сти, в частности, посредством «критики» реально воспринимаемого мира.
Следствием этого был выбор (в качестве основы) респецификации субъ-
екта – путем реконструкции и отнесения структуры восприятий к субъек-
ту.
Оба способа мышления, статичные сами по себе, были правомерны
для простых обществ, но становятся все более неадекватными в условиях
современного общества, считает Луман. «Опыт бессмыслицы» и хаоса,
случайность, неспокойство и распад идентичностей обнаруживают их не-
достаточность. В них не могут быть адекватно включены негационные
возможности (в метафизике этой проблемой занимались теодицеи). Уни-
версальность «типов» респецификации является помехой для задачи
многомерного описания мира. Ложен сам путь респецификации. О чем бы
ни шла речь, в основу кладутся идентичности, такие, как вещи или поня-
тия, в то время как «вначале была не идентичность, а различие».232
Респецификация идентичностей совершается более адекватно по-
средством различения смысловых измерений, которых, согласно Луману,
230 Вещественные объекты права и невещественные объекты права (повинности и
проч.) – прим. А.Н.
231 Там же. С. 98.
232 Там же. С. 112.
119
три. Смысл избирает из многообразия возможностей материал в трех от-
ношениях: «вещественное измерение (Sachdimension), временное изме-
рение (Zeitdimension) и социальное измерение (Sozialdimension)». Каж-
дое смысловое измерение опирается на различие двусторонних горизон-
тов, т.е. является различием, которое включает в себя полюс утвержде-
ния и полюс отрицания. В вещественном измерении проводится различе-
ние между «этим» и «тем», в социальном измерении – между «Я» и «дру-
гим», во временном измерении – между «до» и «после». Благодаря такой
бинарности каждое смысловое измерение обладает универсальностью и
тотальностью. «Каждое измерение не содержит ограничения того, что
возможно в мире… Таким образом, они сохраняют универсальность зна-
чимости с включением всех возможностей негации… Каждый раз смысл,
формулируется ли он позитивно или негативно, доступен в этих трех из-
мерениях как форма дальнейших отсылок».233
Что касается вещественного измерения, речь тут идет о всех воз-
можных предметах осмысленной интенции (в психических системах) или
темах осмысленной коммуникации (в социальных системах). Веществен-
ное измерение конституируется посредством того, что смысл разлагает
общую структуру смысловых отсылок на «это» и «то». «Исходным пунк-
том вещественной артикуляции смысла является первичная дизъюнкция,
которая отделяет нечто еще не определенное от иного еще не опреде-
ленного».234 В осцилляции между этими полюсами возникает «форма»
вещи. Все в мире может стать предметом и вещью, поскольку относитель-
но всего может быть установлена внутренняя и внешняя перспектива. В
силу этого вещественное измерение универсально.
Внешние и внутренние отсылки смысла образуют горизонты, кото-
рые характеризуются тем, что символизируют бесконечность путей акту-
ализации возможностей и бесплодность попыток исчерпать эту бесконеч-
ность. Предметный мир может быть осмыслен в бесконечном множестве
аспектов и бесконечным образом тематизирован в коммуникации. Гори-
зонт не имеет границ, которых можно достичь. Любое движение прибли-
жает к горизонту, но никогда не удаляет. Важно также, что смысловые
233 Там же. С. 114.
234 Там же. С. 114.
120
горизонты всегда находятся на расстоянии непосредственной достижимо-
сти. Но каждое приближение открывает лишь новые горизонты, служащие
обогащению смысла.
Луман обращает внимание на неадекватность интерпретации веще-
ственного измерения в традиционной концепции «вещи», когда предмету
приписываются определенные свойства, отношения или действия. Веще-
ственная схема и соответствующее понимание мира как «реальности» яв-
ляются упрощенной версией вещественного измерения, поскольку пред-
ставляют собой ограничение комбинационных возможностей веществен-
ного измерения. Форма «вещей» удобна для собирания опыта, опериро-
вания вещами и ориентации в мире. Как сильная редукция комплексно-
сти, она эффективна для бытовых повседневных практик. Но эпистемоло-
гически она несостоятельна, поскольку затушевывает тот факт, что все-
гда существуют два горизонта, которые задействованы в конституции
смысла предметов, и существует необходимость двойного описания ре-
альности. Форма вещности ограничивает горизонты смысла. Веществен-
ное измерение не должно ограничиваться вещностью вещей. Полное и
более сложное описание вещей как феноменов начинается тогда, когда
они постигаются в качестве систем и речь идет об отношениях системы-
окружения.
Временное измерение образуется, когда исходное различие («до» и
«после») универсализуется, т.е образует горизонты прошлого и будуще-
го,. «Время представляет собой для смысловых систем интерпретацию
реальности в отношении различия прошлого и будущего».235 Таким обра-
зом, время освобождается от привязанности к непосредственному пере-
живанию события, от присутствия или отсутствия предмета. Благодаря
этому возникает возможность временного измерения предмета и различе-
ния последовательности прошлое-настоящее-будущее. Образуя горизон-
ты, прошлое и будущее могут быть не пережиты, «застигнуты», а лишь
интендированы.
В отличие от них настоящее может быть пережито, но именно как
напряжение между прошлым и будущим, как момент невозможности воз-
вращения и изменения свершившегося. В настоящем, отмечает Луман,
235 Там же. С. 116.
121
следует различать два момента – безвозвратность и постоянство. «Насто-
ящее длится так долго, как долго длится безвозвратность (Irreversibel-
werden). … Оно маркирует то обстоятельство, что нечто постоянно без-
возратно изменяется».236 Момент постоянства означает, напротив, реали-
зуемую возвратность: предмет еще там, где был оставлен. «Оба момента
взаимно поляризируются как различие событий и состояний, изменения и
длительности, что делает возможным присутствие зримого в безвозврат-
ном событии прошлого и уже видимого будущего в еще длящемся насто-
ящем. Только так можно знать, что нечто прошлое исчезает, становясь
неповторяемым и нечто будущее приближается».237 Этот контраст пере-
живается как постоянство движения и течение времени. Богатый и инте-
ресный анализ смысловых аспектов времени, Луман предлагает, следуя
феноменологическим исследованиям проблемы времени (Гуссерль,
Хайдеггер), в разделе «Структура и время» работы «Социальные систе-
мы».
Временное измерение «темпорализирует» комплексность, вслед-
ствие чего система, в которой происходят операции, изменяющие ее соб-
ственное состояние, не может наблюдать себя и контролировать свою
эволюцию. Для этого система использует другое свойство -память. С по-
мощью памяти система становится способной устанавливать различия по
отношению к прошлым состояниям и отличать себя от них (например как
«современное» общество). Память, позволяя работать с различением
прошлого и будущего, помогает контролировать, «из какой реальности
система смотрит в будущее». «Речь идет о постоянной, но всегда исполь-
зуемой только в настоящем функции: тестировать текущие операции в
отношении совместимости с тем, что система конструирует как реаль-
ность… Функция памяти заключается в том, чтобы гарантировать границы
возможных проверок совместимости и одновременно снова освобождать
мощности информационной обработки, чтобы открыть систему для новых
возбуждений. Основная функция памяти заключена, таким образом, в за-
236 Там же. С. 117.
237 Там же. С. 117.
122
бвении, предотвращающем самоблокирование системы потоком резуль-
татов прежних наблюдений».238
Благодаря памяти настоящее воспринимается как «наверстанное
прошлое», которое позволяет прошлому, презентируемому как настоя-
щее, найти связку с будущим. Это дает возможность гарантировать иден-
тичность, которая выступает способностью, облегчающей работу памяти,
поскольку отсекается избыточныйпоток воспоминаний и лишь некоторые
из объектов маркируются как «прошлые-будущие», требуя привлечения
памяти. Память оперирует различиями: она обозначает одну сторону раз-
личаемого и опускаетдругую. Если в области прошлого различие остается
немаркированными, то в области будущего используется различие, до-
пускающее осцилляцию, переход внутренней границы (например, в про-
шлом политикой занимались только мужчины, а воображение сразу ста-
вит вопрос о женщинах будущего, которые составляют вторую, нереали-
зованную сторону данного различения).
Луман подчеркивает, что память общества не имеет ничего общего с
тем, что формируется и остается в памяти индивидов. Общество развива-
ет собственные формы и инструменты памяти, собственные темы и пред-
меты запоминания и забвения. «Социальная память – вовсе не то, что
коммуникации оставляют как следы в индивидуальных сознаниях. Речь
идет о собственном производстве коммуникативных операций, о соб-
ственной, необходимой рекурсивности… Социальная память, конечно, не
функционировала бы, если бы не существовало систем сознания с памя-
тью,… но она строится не на способностях памяти систем сознания, ибо
они слишком различны и в коммуникации нельзя подвести их под один
знаменатель. Можно предположить, что пространство вариативности со-
циальной эволюции ограниченно, если индивиды располагают сильно вы-
раженной коллективной памятью и у всех участников коммуникации сле-
дует ожидать наличие похожих воспоминаний. Но это еще не объясняет,
как вообще возможны эволюционные вариации и как социальная комму-
никация разделяет воспоминания (прошлое) и осцилляцию (будущее)».239
238 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 579. Foerster, Heinz,
von Das Gedächtnis: eine quantenphysikalische Untersuchung. Wien, 1948.
239 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 584.
123
Если в дописьменную эпоху для этого служили одни инструменты (топо-
графические «объекты», которые определялись «правильными» формами
и «правильными» именами), то в письменную эпоху инструментарий со-
циальной памяти разительно расширяется. Наконец, в Новое время вме-
сте с книгопечатанием социальная память начинает заново переструкту-
рироваться, порождая понятие культуры. Последнее возникает как «ре-
акция на возрастающие универсалистские, исторические и региональные
сравнения, которые привлекают внимание к экстремальным случаям
(варвары, добиблейские времена) и обрабатывают материал с точки зре-
ния необходимой для людей «культуры»».240 Культура - не что иное, как
память общества, но уже в новой ситуации – в ситуации высокомплексно-
го общества, где требуется больше помнить, больше забывать и быть
способным рефлектировать настоящее во временном измерении.
В рамках временного измерения смысла конституируется такой фе-
номен, как история. Луман подчеркивает, что история – «карта», создан-
ная смыслом, но никак не сама «территория». «Под историей не может
пониматься просто фактическая последовательность событий, с точки
зрения которой настоящее понимается как действие прошедших причин,
или как причина будущих событий. Особенность смыслового конституи-
рования истории заключается в том, что оно делает возможным свобод-
ный доступ к смыслу прошедших и будущих событий, т.е. перепрыгива-
ние последовательности. История возникает благодаря освобождению от
последовательности… История есть прошлое или будущее в настоящем;
но оно всегда отступление от чистой последовательности, и всегда ре-
дукция полученной свободы доступа ко всему прошлому и всему будуще-
му».241
Социальное измерение выражает релевантность признания суще-
ствования Alter Ego, равного Ego, в отношении всякого переживания
смысла и опыта мира. Оно возникает вследствие того, что рядом с Ego-
перспективой появляется одна или много Alter-перспектив. Социальное
измерение тоже универсально, поскольку всякий смысл может обрести
релевантность по отношению к другому и соответствующие смысловые
240 Там же. С. 588.
241 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C.118.
124
горизонты. Социальное измерение конституируется также посредством
различия горизонтов: оно актуализируется тогда, когда встает вопрос о
том, разделяется ли моя собственная перспектива понимания другими?
Этот вопрос формулируется в виде проблемы согласия-разногласия.
«Только когда разногласие маркируется как реальность или возможность,
возникает повод включить двойной горизонт социальности как наиболее
важное в данный момент измерение ориентации; и только если это слу-
чается особенно часто или в силу специфических обстоятельств, особен-
но сильно бросается в глаза, то в общественной эволюции возникает се-
мантика социальности».242
В трактовке Луманом социального измерения смысла нет места
определению социального как «совместно понимаемого действия», кото-
рое в свое время давал М. Вебер.243 Исходный пункт - не действие, а сам
смысл, который может быть разделен другими, и, соответственно, может
возникнуть только в коммуникации. Явление двойной контингентности,
составляющая сущность социальности, зиждется не на действии, а на
ожидании, т.е. рекурсивности и взаимности смысла в коммуникации. Со-
циальное измерение объектно вполне покрывается понятием социального
действия, но само это понятие является лишь редуцированной версией
понятия коммуникации, о чем будет сказано ниже, в разделе о социаль-
ном действии и системе права (Глава 5, § 1). Социальность начинается
на более низком уровне, чем действие, - на уровне переживания и ин-
тендирования смысла. Тем не менее она может быть продуктом не психи-
ческих систем, а только продуктом коммуникативных структур, формиру-
ющихся в пространстве Ego и Alter.
Луман подчеркивает, что важно отличать социальное измерение от
вещественного. Различие вещественного и социального измерения нельзя
трактовать как различие природы и человека, к чему склонен новоевро-
пейский гуманизм. В его случае речь идет о человеке как особом «пред-
мете» со всеми свойственными такому пониманию бытийными ограниче-
ниями. Точно так же неправомерно сведение социального измерения к
морали. По Луману, мораль как формулирование условий, при которых
242 Там же. С. 120.
243 См. Вебер М. Избранные произведения. М. , 1990. С. 602.
125
люди могут уважать или не уважать друг друга, выступает ограничением
комбинационных возможностей социума. «Для усложняющегося общества
программирование социального измерения в форме морали становится
все более неадкватным – отчасти потому, что зона толерантности морали
должна быть расширена слишком сильно; а отчасти потому, что все ис-
ключенное должно быть морально дескредитировано».244 Мораль необхо-
дима для общественной жизни, но надо отдавать себе отчет в том, что в
горизонтах социального измерения все моральное будет неизбежно реля-
тивизироваться.
Итак, для процесса постоянного самоопределения смысла каждое
коммуникационное событие устанавливает внутреннее различие между
смыслом и миром как различие между порядком и помехой, информацией
и шумом. Оба наличны, и оба необходимы.«Единство различия есть и
остается основанием операции. … Преимущество смысла перед миром,
порядка перед помехой, информации перед шумом – это только преиму-
щество. Оно не делает излишним противоположное. Поэтому смысловой
процесс живет помехами, питается беспорядком, проходит через шум и
требует для всех технически уточненных, схематизированных операций
«исключенного третьего»».245
Смыслоопределение происходит благодаря тому, что смыслосоотно-
симые операции автореферентных систем возбуждаются вследствие воз-
никновения проблем разрешимости (первичные дизъюнкции, безвозврат-
ность событий, конфликт и диссонанс), и двойные горизонты смысловых
измерений оказываются под давлением необходимости определенности.
Каждая операция должна найти свое место, а система должна гарантиро-
вать, что к этой операции точно так же примкнет следующая. Выбор
направления определения формирует типологию, типовую связанность
операций, которая задается посредством схематизации опций различных
измерений. Эти схематизмы предполагаются коммуникацией, и поэтому
относительно них не коммуницируют, их просто практикуют. Функция
схематизмов - выигрыш темпа и беглости процессирования при открыто-
244 Там же. С. 122.
245 Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.,
1984. C. 122.
126
сти тематизаций. Хотя концепция схематизмов и схем выписана Луманом
недостаточно, она призвана охватывать огромное пространство форм
мышления – представлений, понятий и категорий.
Наиболее приметными являются схематизмы вещественного измере-
ния, опирающиеся на различие внешней и внутренней атрибуции. «Если
селекция смысла приписывается окружению, она характеризует пережи-
вания, и все примыкания дальнейших операций происходят в окружении
системы. Если же селекция смысла приписывается самой системе, она ха-
рактеризует действия (хотя такое действие без отношения к окружению
было бы невозможным)».246 Атрибуция переживания и действия отражает
не только пассивное и активное отношение к событиям. Она со-
конституирует посредством смысла многообразие смысловых систем , пси-
хических и социальных. Луман отмечает, что отнесение к переживанию
ведет к репродукции смысла (Sinnreproduktion), т.е. к формированию со-
знания, отнесение же к действию - к репродукции социальной системы,
т.е. к возникновению коммуникации. «Переживание актуализирует авто-
автореферентность смысла, а действие - автоавтореферентность соци-
альной системы».247
Схематизмы временного измерения зиждутся на причисление опе-
раций к постоянным или переменным факторам. В социальном измерении
Ego и Alter в рамках операций отнесения персонализируются и обретают
идентичность, имя, адрес. Они не становятся вещами, их специфика луч-
ше всего выражается в языке личными местоимениями.
Еще один механизм фиксации структурных соответствий Луман
называет «схемами» (близкие по смыслу термины - «фреймы, скрипты,
прототипы, стереотипы, когнитивные карты, имплицитные теории»). Это
смысловые комбинации, которые служат обществу и психическим систе-
мам, чтобы образовывать память. Благодаря им сознание забывает боль-
шинство собственных операций, но некоторые из операций может в схе-
матизированной форме сохранять и воспроизводить.
«Примером могут служить стандартизированные формы определе-
ния «нечто как нечто» (например, напиток как вино), атрибутивные схе-
246 Там же. С. 125.
247 Там же. С. 124.
127
мы, которые связывают причины и следствия, и иногда снабжают события
поведенческими условиями … Временные схемы, в особенности, про-
шлое/будущее, или коды преференции, такие как хорошо/плохо, истин-
но/неистинно, собственность/ее отсутствие, также выполняют функцию
схематизации. При использовании схем коммуникации предполагается,
что каждое участвующее в нем сознание понимает, что имеется в виду,
но, с другой стороны, это еще не говорит о том, как системы сознания
обходятся со схемами, и уж вообще не ясно, какие примыкающие комму-
никации возникают в результате использования схем (например: порка
помогает либо вредит воспитанию, - верно это или нет?)… Схемы служат
в конкретных ситуациях для «gap filling» (заделывания щелей), поиска
дополнений и заполнений…. Они выполняют функцию редукции структур-
ной сложности, построения оперативной комплексности и тем самым те-
кущего приспособления структурного соответствия психических и соци-
альных систем к меняющимся данным».248
Даже если учитывать, что речь идет об образовании типов смысло-
образования с помощью схематизмов и схем, эти механизмы на уровне
смысловых измерений остаются у Лумана слишком абстрактными. Они
еще не образуют коммуникацию. Чтобы говорить о процессировании
смысла на уровне «разумных» систем, требуется понять, как на уровне
смыслового измерения складываются конкретные смысловые формы, т.е.
каким образом из потока опосредствованных двойными горизонтами ак-
туализаций переживаний генерализуются смысловые единства. Луман
называет эти процессы символической генерализацией, приписывая им
функцию подведения множества под единство ( аналогичного трансцен-
дентальному единству апперцепций у Канта). Именно символическая ге-
нерализация лежит в основе образования коммуникационных медиа об-
щества.
§ 4. Бинарное кодирование и символическая генерализация
248 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С.111.
128
Как и для любой системы, для становления коммуникации требуют-
ся автокатализаторы. Под автокатализаторами Луман подразумевает
структуры, способствующие и благоприятствующие возникновению авто-
поэзиса. Автокатализаторы коммуникации обеспечивают возможность
коммуникации и способствуют ее протеканию. Такими автокатализатора-
ми, способными помогать системе справляться с задачами обработки ин-
формации высокой степени комплексности, являются символическая ге-
нерализация и бинарное кодирование.
Бинарное кодирование.
Лумановская модификация системной теории обладает очевидной
особенностью: она ориентирована на двоичную систему исчисления, и
для ее элементов характерны бинарные параметры. Уже на элементарном
уровне формы происходит «различение двух сторон» и осциляция опера-
ций между этими двумя сторонами. В частности, наблюдение является
обозначением одной стороны из двух. Усложнение комплексности и диф-
ференциация происходит путем установления различений. Сам автопо-
эсис представляет собой автореферентное воспроизведение системы, со-
стоящее в постоянном последовательном движении от операции к опера-
ции путем смены автореферентного утверждения и инореферентного от-
рицания.
Неудивительно поэтому, что особое место в трактовке системной
теории занимает понятие бинарного кодирования. Это та форма осу-
ществления операций, которая помогает каждой системе воспроизводить
саму себя. Выстраивание структуры согласно бинарным кодам происходит
как на низших, так и на высших стадиях системной эволюции и, в частно-
сти, в процессе коммуникации и дифференциации функциональных си-
стем современного общества.
«Под кодом, - определяет Луман, - мы будем понимать такую струк-
туру, которая для каждого произвольного элемента в пределах своей об-
ласти релевантности может найти и упорядочить другой дополнительный
элемент».249 Всякая операция совершается путем выбора одной стороны
249 Луман Н. Власть. М., 2001. С. 54.
129
из двух, поэтому применение бинарного кода и означает отнесение опе-
рации к одному из двух универсальных значений этого кода, исключаю-
щее третье значение. Луман подчеркивает, что заимствует модель коди-
рования из теории информации, определяющей условия машинной обра-
ботки данных. Но кодирование как таковое – явление более широкое и
универсальное, оно встречается уже на стадии доорганической и органи-
ческой эволюции (например, генетические коды). Наглядным примером
кодирования может послужить система науки, в которой процесс теоре-
тического освоения действительности подчиняется коду двузначной логи-
ки (истина/ложь), самостоятельно сформулировавшей закон исключения
третьего. Правовая система оперирует посредством кода «пра-
во/бесправие»; для экономики таким кодом будет «иметь/не иметь». Си-
стема, в зависимости от степени ее дифференцированности, может иметь
одновременно множество кодов (Например, в политике - коды: консерва-
тивный/прогрессивный, коньюнктурный/долгосрочный, правый/левый,
агрессивный/оборонительный и т.д.).
Посредством бинарного кодирования любая поддающаяся ему вещь
обретает две стороны. Благодаря тому, что утверждение соседствует с
отрицанием, становится возможной дифференциация соответствующих
систем. «Обладающие свойствами кода структуры, - пишет Луман, - иг-
рают большую роль в выстраивании комплексных систем и, возможно,
являются их необходимым сопровождением».250 Кодирование служит для
построения структурной комплексности, которая уже не может быть пере-
смотрена и возвращена к прежнему состоянию.251 Кодирование канализи-
рует всю обработку информации в своей области, оно выступает исход-
ным и руководящим различием для дальнейших различений. «Бинарное
кодирование является формой, т.е.: двусторонней формой, которая дела-
ет возможным переход от одной стороны к другой, от ценности к проти-
воположной ценности и обратно – благодаря тому, что они отличают себя
250 Луман Н. Власть. М., 2001. С. 55.
251 Структурная комплексность не поддается системному контролю, поскольку коды не
могут быть применены к себе (аналогично парадоксу лжеца). Это значит, что в системе
нельзя решить, все ли истины являются истинами, например, всякое ли «бесправие»
является бесправным. Сам код «истина» не может быть подвергнут кодированию, т.е.
не может оказаться истинным или ложным.
130
как формы от других форм… Они включают позитивную и негативную
ценность в симметричное, циркулярное отношение, которое символизиру-
ет единство системы и одновременно открывает возможность прерывания
круга».252 Под руководством кода в социальной системе становится воз-
можной дифференциация партикулярных функциональных систем.
Значение бинарного кода определяется задачей освобождения си-
стемы от тавтологий и парадоксов. Единство, которое образует тавтоло-
гия («право есть закон») или парадокс («закон олицетворяет беспра-
вие»), бессодержательно и бесполезно для развития системы. Выбор ста-
новится содержательным, если вместо тавтологии или парадокса суще-
стует различие. Система получает возможность ориентировать свои опе-
рации на это различие и осциллировать внутри него, развивать програм-
мы, которые регулируют отнесение операций к позитивному и негативно-
му значениям кода, не ставя вопроса о единстве. Тем самым возникает
автореферентность системы, способная идентифицировать себя через
инорефернтность. Код позволяет различать тавтологию и парадоксаль-
ность самореферентности и выяснять степень своего приближения к тому
или другому.
Важной составной частью концепции бинарных кодов являются
представления Лумана о негации и ее функциях. Луман пытался освобо-
дить функциональное значение негации от его свойств логического опе-
ратора. «Негация не ведет к логическому противоречию. Она, скорее, от-
крывает пространство контингентности, которое требует допускаить в
коммуникации, что все, что утверждается, может и отрицаться, и наобо-
рот. Только если предположить это, можно подвергнуть позитивные и
негативные высказывания испытанию на истину, и только для этого вме-
сте с другими инструментами может быть создана «логика», которая
предполагает закон исключенного третьего как дополнительное изобре-
тение».253
Ценность негации в том, что она дает почву схеме «определен-
но/неопределенно», фундаментальному различению, которое открывает
возможность оперировать со смыслом. Отрицательное значение кода
252 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 750.
253 Там же. С. 223.
131
«осмысливает» отвергаемую ценность (Rejektion) в ее отношении ко всем
другим.254 Негация выражает такое положение дел, когданечто, наличное
в действительности, остается неопределенным. Выражение «в пустыне
нет человека» оставляет открытым вопрос о том, что есть в пустыне, где
находится человек, и какой человек имеется в виду.255 Тем не менее ком-
муникация остается доступной. Уже самые примитивные общества ис-
пользовали негацию нормализации обхождения с неопределенностью и с
патологиями в качестве «моста к нормальности». В структуре негации
Луман видит «компенсацию проблем, которые возникают из дифференци-
ации коммуникационной системы общества», условие и последствие ав-
топоэтической автономии.256
Поскольку во внешнем мире не существует ничего негативного и
неопределенного, бинарные коды как высокоабстрактные схематизмы об-
разуются только в смыслоконститутивных системах и выступают правила-
ми дупликации мира. Дупликация возникает благодаря тому, что оцени-
ваемая информация сравнивается с противоположной ценностью. Обе
ценности переводятся друг в друга, так как негация предполагает пози-
тивную операцию и равноценна ей. То или иное состояние дел получает
дополнение в виде своей противоположности, в которой отражается и
рефлектируется. Луман подчеркивает, что в его теории, в отличие оттра-
диционной онтологии, у бытия и небытия нет никакого предустановлен-
ного приоритета - хотя бы потому, что сам мир невозможно квалифици-
ровать как позитивный или негативный. Кодирование ведет к тому, что
реальность становится контингентной и может рефлектироваться в своем
противоположном значении.
Луман выделяет несколько характерных свойств бинарных кодов.
Благодаря включению противоположности коды являются тотальными
конструкциями, конструкциями мира с универсальной значимостью и без
онтологического ограничения. Охватывая утверждение и отрицание, они
охватывают весь мир. Тотализация как отношение ко всему миру, кото-
рый получает оценку кода, ведет к полной контингентности всех феноме-
254 Там же. С. 751.
255 Там же. С. 223.
256 Там же. С. 223.
132
нов. Все, что возникает, возникает в свете возможности противоположно-
го значения: возможно это, но возможно и противоположное. Всякое со-
бытие отныне не необходимо и не невозможно. В то же время это не
означает, что функциональные системы возникают только на основе ко-
дирования, т.е. что образованию системы предшествует наличие кода.
Скорее, коды возникают в ходе эволюции в целях более ясного самоопи-
сания системы и именно вследствие этого становятся фактором системо-
образования. Они выступают почти необходимыми интеграционными
условиями существования сложных систем, когда возникает комплексная
взаимозависимость функциональных систем и операционным цепочкам
требуется молниеносно переходить от одних кодов к другим.257
Бинарные коды следует отличать от критериев селекции кода. Кри-
терии того, на основании чего нечто получает именно это значение, а не
противоположное, относится к другому (более низкому) уровню абстрак-
ции и зависит от разных факторов интерпретации. Например, в разные
эпохи и в разных этических системах как добрые обозначаются совер-
шенно разные вещи. Коды переживают смену критериев, но не могут су-
ществовать без них. Благодаря этому различие кода и критерия делает
возможным комбинирование закрытости и открытости той же самой си-
стемы. «В отношении своего кода система оперирует как закрытая, когда
каждое значение, такое, как «истинно/неистинно», всегда указывает на
противоположное значение того же кода и никогда на другие, внешние
значения. Одновременно программирование системы делает возможным
включение в ее поле зрения внешних данностей, т.е. фиксацию условий,
в которые ставится то или иное значение… Посредством программирова-
ния становится возможным включать в поле зрения системы третьи, ис-
ключенные величины. Это можно назвать повышением способности резо-
нанса».258
Программирование, о котором говорит Луман, создает условия для
правильной селекции в ходе кодирования. Программы селекции опреде-
ляют правила, по которым следует относить данные к тому или иному ко-
ду. Они служат для конкретизации (операционализирования) требований,
257 Luhmann N. Ökologische Kommunikation. Opladen, 1986. С. 87.
258 Там же. С.83.
133
обращеных к функциональной системе. Поэтому они более свободны и
чувствительны к воздействию внешних факторов, доступны для измене-
ния. «Различие кода и программ структурирует автопоэзис функциональ-
ных систем таким образом, что их нельзя перепутать, и возникающая от-
сюда семантика отличается основательно от телеологии, совершенств,
идеалов или ценностей».259 Этико-семантические программы эпохи Про-
свещения и романтизма, к примеру, – разные программы, предоставляю-
щие различные критерии селекции для одних и тех же моральных поня-
тий.
Различие кода и программирование – важное эволюционное дости-
жение, возникающее по мере того, как функциональные системы стаби-
лизируются и становятся достаточно дифференцированными.
Символическая генерализация
Понятие символической генерализации, или генерализации симво-
лов, играет исключительно важную роль в теории коммуникации Лумана.
Оно означает всю совокупность средств коммуникации, какую бы форму
те ни принимали. Символическая генерализация – не элемент коммуни-
кации, а способ канализации дифференцированной коммуникации. Но
Луман идет еще дальше и придает этому понятию гносеологический
смысл конституирования смысловой реальности, – наделяя функцией, ко-
торую в разных философских системах 20 века играет метод (неоканти-
анство) или язык (аналитическая философия). «Посредством символиче-
ской генерализации становится возможным комбинировать идентичность
и неидентичность, т.е. представлять единство в многообразии и делать их
ожидаемыми как ограничение возможного. С помощью символической ге-
нерализации каждый партнер коммуникационных отношений может со-
гласовывать свои собственные селекции с интерпретированной реально-
стью и интенциональностью других селекций, в которых он сам выступает
объектом, не прибегая к коммуникации».260
259 Там же. С. 75.
260 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter
Kommunikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 44-45.
134
Понятие «символ» («символический») Луман трактует как «средство
приведения в единство».261 Он подчеркивает, что символ традиционно от-
личается от знака способностью не только обозначать, но и воздейство-
вать на обозначаемое как единство.262 Символ не только презентирует
единство зримого и незримого, наличного и отсутствующего, но и делает
его реальным. Символ не обозначает вещи, он более реален, чем вещи,
т.е. в системнотеоретическом смысле – более интимно и глубоко интегри-
рован в систему, чем то, что он обозначает.
Понятие «генерализации» указывает на функцию «оперативной об-
работки множества»: генерализация есть процесс обобщения данных и
сведения их воедино. Это определение несколько отличается от опреде-
ления символа: сведение множества в единство взято здесь в процессу-
альном, а не в статичном аспекте. Таким образом, речь идет о подведе-
нии множества под единство, которое символически представляет его.
Луман подчеркивает, что эти два момента указывают на различение опе-
ративного (процессуального) и символического уровней, которое делает
возможным автореферентное оперирование.
Чтобы смысл мог использоваться в автореферентных системных
процессах, он должен быть идентифицирован, т.е. стать доступным поми-
мо тех моментов, в которых он актуализируется в рамках переживания
или действия. Смысл в этом случае выступает и в своей конкретности,
уникальности, и в своей универсальности и возобновляемой доступности
(Wiedervergfügbarkeit). «Благодаря символической генерализации в по-
токе переживания выделяются идентичности, - идентичности в смысле
наличной редуктивной автореферентности».263 Возобновляемая доступ-
ность смысла – как в рамках индивидуального сознания, так и в рамках
261 Ср. определения символа и генерализации в работе «Власть»: «Под генерализацией
следует понимать обобщение смысловых ориентаций, делающих возможной фиксацию
идентичного смысла различными партнерами в различных ситуациях с целью извлече-
ния тождественных или сходных заключений…. Под символизацией (символами, симво-
лическими кодами) следует понимать упрощенное выражение некоторой комплексной
интерактивной ситуации, которая в результате символизации переживается как един-
ство». Луман Н. Власть. М., 2001. С. 52.
262 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 235.
263 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C.136.
135
коммуникации - достигается символической генерализацией на первом,
наиболее низком уровне путем создания смысловых конденсатов
(«Sinnstücke»), с которыми можно обращаться тематически. Это происхо-
дит уже на уровне конкретных предметностей и событий, до того как они
могут быть обозначены словом или понятием: при узнавании предмета по
запаху или события по шуму. «Символические генерализации возникают
при самом начальном конкретном обращении с объектами и событиями:
последние создают возможность возобновляемой доступности, и лишь при
необходимости агрегаций более высокой ступени возникают обобщенные
обозначения, типовые представления и понятия, превосходящие эмпири-
ческую гетерогенность».264
Немаловажная функция генерализаций заключается в преодолении
вещественной, временной исоциальной дисконтинуальности реально-
сти.265 Таким образом, символическая генерализация обозначает широкий
класс явлений смысла, характеризуемых операциональной константно-
стью. Их процессуальный, операциональный характер принципиально от-
личает их от статичных схематизмов (понятий, категорий), являющихся
результатом символических генерализаций. Понятие символической гене-
рализации родственно понятию селекции, селективных операций. Про-
дуктом символической генерализации могут быть, например, логические
парадоксы, возникающие, когда смысл должен искать в различиях мо-
мент их единства.
Понятие символической генерализации авторефернтного смысла
заменяет у Лумана понятие знака, которое в философии традиционно
«работает» в этом проблемном поле. Смысл, согласно Луману, нельзя
отождествлять со знаком – функция знака предполагает отсылку на нечто
определенное без автореферентности, асимметризацию ее рекурсивно-
сти. Знак предполагает смысл, но смысл не есть знак. «Смысл образует
контекст всех установлений знаков, как condition sine qua non их асим-
метричности».266 Точно так же не исчерпывается функцией оперирования
знаками и понятие языка. «Собственная функция языка заключается в
264 Там же. С. 137.
265 Там же. С. 140.
266 Там же. С. 107.
136
генерализации смысла посредством символов, которые в противополож-
ность «обозначению» чего-то иного сами являются тем, что представля-
ют».267 Лишь в функции коммуникационного средства, которой его задачи
не исчерпываются, язык ориентирован на акустические и оптические
знаки для связывания смысла.
В трактовке понятия символической генерализации для Лумана
важна его социологическая концептуализация. Смысловая генерализация
уплотняет структуры отсылок каждого смысла в форму ожиданий, кото-
рые намечают то, что дает данное смысловое положение в перспективе.
Сами ожидания также направляют и корректируют генерализации. Благо-
даря этому становится возможной ориентация в смысловом пространстве.
Все символические генерализации, реализуемые на таких идентичностях,
как вещи, события, типы или понятия, содержатся и воспроизводятся в
них в «сетях ожиданий». В социальных системах возникает потребность в
их более сильной интерпретации, - поведенческих ожиданиях. Без по-
добного уплотнения смысловых отсылок груз селекции для примыкающих
операций системы был бы очень тяжел. «Как селекция генерализация яв-
ляется и ограничением возможного, и способностью к обнаружению дру-
гих возможностей. Благодаря единству этих двух аспектов генерализация
ведет к возникновению стуктурированной комплексности… Подводя тео-
ретический итог, скажем: смысловые избытки должны использоваться се-
лективно, и это «должны» является «возможностью» в смысле выбора
ожиданий, которые преодолевают дисконтинуальности и сохраняют себя
как генерализации»268.
Понятие символической генерализации охватывает значительную
область форм смыслоконституирующих систем. Луман усматривает в нем
три уровня: уровень языка, уровень средств распространения коммуни-
кации и символически генерализованные медиа коммуникации. Эти поня-
тия раскрываются ниже.
§ 5. Язык
267 Там же. С. 137.
268 Там же. С. 140.
137
Язык - основная форма символической генерализации, обеспечива-
ющая автопоэзис коммуникации и общества. При всем внимании, которое
уделялось исследованиям языка в 20-ом веке в рамках «лингвистическо-
го поворота», философские концепции языка не объясняли, как и благо-
даря чему язык обеспечивает самовоспроизводство общества как систе-
мы. Луман стремится дать ответ на этот вопрос. Характерно, что сам
язык при этом в интерпретации Лумана не является системой. Он не име-
ет собственных операций, а используется в рамках или психических, или
коммуникативных систем. Как вид символической генерализации он вы-
ступает медиумом, поставляющим субстрат для образования смысловых
форм сознания и коммуникации. Он служит одним из важнейших автока-
тализаторов для эволюции сложных систем. Существование языка зави-
сит от того, позволяет ли он продолжать сознанию на одной стороне и
коммуникации - на другой автопоэсис посредством их собственных опе-
раций. Если нет, то язык «замолкает». Впрочем, сказанное верно по от-
ношению к любой форме символической генерализации.
С точки зрения Лумана, неправомерно разделять язык и речь, как
неправомерно рассматривать структуры в отдельности от форм их испол-
нения и функционирования. Во всяком случае, ученого интересует не аб-
страктное содержание языка, а конкретные формы, посредством которых
язык иницирует коммуникативный процесс и становится основой соци-
альной эволюции. Поэтому важно исходить из видов, в которых язык
коммуникативно функционирует в обществе, идет ли речь о акустических
формах, т.е. о языке как речи, или о записанных формах, т.е. об языке
как письме. Звуковая форма первична и в смысле социальной эволюции
предшествует письму. И это не случайно. Язык в своей данности, подчер-
кивает Луман, представляет собой настолько неожиданный вид шума, что
именно благодаря своей контрастности обладает высокой способностью
привлекать внимание и создает возможности для высокосложной специ-
фикации.
Говоря о языке, Луман имеет в виду даже не речь, а процесс речи,
говорение. Говорение является бросающимся в глаза поведением, специ-
ализированным и дифференцированным специально для коммуникации.
Письмо уже только ссылается на это свойство, предполагая «внутреннюю
речь», произнесение слов «про себя»:
138
«Когда звучит речь, присутствующее сознание способно легко от-
личать этот шум от других шумов и не может уйти от очарования текущей
коммуникации. Одновременно спецификационнные возможности языка
облегчает построение высокосложных коммуникационных структур: с од-
ной стороны путем усложнения и упрощения языковых правил, а с другой
- путем построения социальных семантик для ситуативной реактивации
важных коммуникационных возможностей».269
Луман считает неверным стремление объяснять происхождение
языка из предшествующих ему доязыковых форм общения: например, из
языка жестов и сигналов. Даже если в природе и на всех этапах эволю-
ции общества в межперсональной коммуникации широко наблюдается яв-
ление восприятия и ответного восприятия восприятия, без языка все рав-
но невозможно реализовать «метакоммуникацию» - коммуникацию о ком-
муникации, т.е. тематизировать сам ход коммуникации, например, оце-
нить ее результат или уличить в обмане. Осмысленная артикуляция еще
не является языком в смысле Матураны, позволяющем достигать «коор-
динации координации поведения» живых существ.270
Более того, без опыта языка наблюдатель не мог бы в поведенче-
ских сигналах и жестах отделять акт сообщения от информации, т.е. не
просто наблюдать, а понимать, что жестикулирующий не просто двигает
членами, а передает некоторый смысл.
«Если до появления языка живые существа жили в рамках взаим-
ных структурных соответствий и были подвержены коэволюции, то язык
делает возможным еще и оперативное соответствие, которое может быть
рефлексивно проконтролировано участниками. Это дает им шанс выклю-
чится из определенной среды и предоставляет их самоорганизации воз-
можность дистанцироваться от объектакоммуникации. Каждый продолжа-
ет восприниматься, но понимается только в рамках того, что он созна-
тельно включает в языковую коммуникацию. В результате вместе с нор-
мализацией и рекурсивной интенсификацией операций соответствия об-
269 Luhmann N., Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 110.
270 Maturana R. The Biological Foundations of Self-Conscieusness and the Physical Domain
of Expistence. // Kuhmann N, Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorien. München,
1990, С. 47-117.
139
разуется собственная автопоэтическая система языковой коммуникации,
оперирующей самодетерминированно и совместимая с рефлектированным
участием индивидов».271
Доязыковая коммуникация полноценна: она способствует морфоге-
незу социального порядка, о чем свидетельствуют наблюдения за насе-
комыми и животными. Доязыковая коммуникация обладает сигнальной
природой. Но сфера применения сигнала как производителя «anticipatory
reactions» (упреждающих реакций)272 при этом еще очень узка: в нее
входит только указание на типические, повторяющиеся зависимости про-
шлых и будущих событий, которые не могут быть распознаваться как са-
мостоятельные.
Другое дело, когда жесты и звуки начинают применяться как знаки.
Сигнал самостоятелен, он ни к чему не отсылает. Знак является формой,
которая маркирует различение обозначающего и обозначаемого. Он со-
держит в себе отсылку не к внешним событиям, а к событиям, «репрезен-
тируемым» внутри языковой системы. Язык функционирует только тогда,
когда существует понимание того, что слова не есть вещи, что первые
лишь обозначают последние, т.е. когда возникает различение между
предметной и семиотической реальностью. Благодаря этому различению
появляется осознание «жесткости», судьбоносности, недоступности ре-
ального мира.
В противовес традиционным теориям знака как именования Луман в
качестве ключевой выдвигает изоляционистскую трактовку природы зна-
ка. Она опирается на гуссерлевское различение ноэмы и ноэсиса как
внутренних смысловых структур. «Различие обозначаемого и обозначаю-
щего является внутренним различием, не предполагающим, что суще-
ствует внешний мир, который обозначается. Ее особенность состоит в
изоляции этого различения, благодаря которой достигается то положение
дел, когда отношение обозначающего и обозначаемого остается стабиль-
ным независимо от контекста использования».273 Подобные стабильность
271 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 211.
272 Rosen R., Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methdological Formula-
tions, Oxford 1985. С. 145.
273 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 209.
140
и изолированность, предполагающие точность копирования образцов, мо-
гут быть достигнуты только благодаря полной произвольности назначе-
ния знаков. Это объясняет чувствительность к отклонениям в звучании, в
результате которых языковые формы сразу перестают узнаваться.
Эволюция стереотипического использования знаков – это лишь
условие эволюции языка, решающим фактором которой становится воз-
можность оперативного замыкания коммуникационных систем посред-
ством языка. Благодаря рекурсивному использованию знаков происходит
образование внутреннего замкнутого мира, к которому можно обращаться
вновь и вновь и внутри которого можно жить, не выходя во внешний мир.
«Посредством языка генерализируется автореферентность смысла, и это
достигается с помощью знаков, которые сами являются генерализациями,
а не указаниями на нечто другое».274
Коммуникативный мир, возникающий в ходе использования языка,
принудителен: нельзя к кому-нибудь обращаться, не желая быть услы-
шанным; нельзя слышать, не желая понять. Для участников коммуника-
ции невозможно отвергнуть ситуацию коммуникации, коль скоро она воз-
никла. Отсутствие коммуникации будет лишь коммуникацией «некомму-
никации». Коммуникацию нельзя обойти: в худшем случае можно только
неправильно понять или не услышать сказанное. В этой ситуации на по-
мощь приходит домысливание, ассоциации, интерпретации, опора на уже
сказанное, т.е. попытка решать проблемы коммуникации языковым спо-
собом. Языковой процесс стремится посредством самодетерминации осво-
бодиться от зависимости восприятия участников, заслониться от шума
восприятий. Тем самым в ходе функционирования коммуникационной си-
стемы общества стабилизируется воображаемое пространство значений,
которое при рекурсивном применении не расходуется, а лишь стабилизи-
руется. Язык замыкается в себе. Исключая все чуждое, он делает более
вероятным и возможным сам автопоэзис коммуникации. В то же время
коммуникация происходит потому, что сами языковые события внутри
коммуникации воспринимаются как невероятные, создавая тем самым
пространство открытых возможностей, и способствуют построению струк-
турированной комплексности.
274 Там же. С. 210.
141
Язык привязан к звуковому смыслу, что обусловливает временную
последовательность коммуникации, т.е. построение порядка последова-
тельности в виде грамматики. «Языковая коммуникация в первую очередь
является процессированием смысла в медиуме звучания», - отмечает Лу-
ман.275 К гибкой временной организации языка приспосабливаются все
иные средства его актикуляции, вплоть до языка немых или письма. Аку-
стика как средство изначально требует более высокой степени абстраги-
рования и более жесткого управления. Благодаря этому язык становится
способным порождать собственное внутреннее движение и время, подав-
ляющее то, которое присуще внешнему миру. В отличие от восприятия,
опирающегося на одновременность в соотнесении восприятия и воспри-
нимаемого, язык позволяет отделить языковой процесс от временной по-
следовательности реальной среды и различить собственное время комму-
никационной системы. «Язык может … обозначать то, чего уже нет или
что еще не воспринимается. И только это позволяет осуществить пробле-
матизацию синхронизации, которая открывает путь к процессу обучения
посредством проб и ошибок». 276
С помощью языка можно сказать или понять то, что еще никогда не
происходило и никогда не было сказано. Особое свойство языка – отсут-
ствие зависимости от смысла и контекста того, что было сказано ранее.
Это открывает возможность забвения и способность к новой коммуника-
ции. Произносимые слова больше не слышны и мгновенно растворяются в
небытии, что благоприятствует генерированию особого социального про-
странства коммуникации, территориально совпадающего с пространством
слышимости звуков, – тесного и компактного, в котором каждый может
слышать каждого. В пространстве живой коммуникации возникает необ-
ходимость постоянной повторяемости слов и смыслов. Лишь письмо отме-
няет эту необходимость и снижает требования к памяти.
Форму языка образует различение звука и смысла, которые нераз-
рывно связаны между собой: «Хотя звук не есть смысл, но определяет
его этой своей небытийностью, т.е. определяет, какой смысл имеется в
275 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 213.
276 Там же. С. 215.
142
виду; и наоборот, смысл не есть звук, но определяет, какой звук надо
выбрать, если нужно говорить именно об этом смысле».277
Язык как речь «возникает посредством повторения звуков и звуко-
вых групп». Но исходный медиум языка образует не «материя звука», а
слабо связанное множество слов, которое с помощью грамматики может
объединяться в конкретные предложения, жестко связанные между собой
и генерирущие фиксированный смысл. Причем соотношение медуима и
формы в языке реализуется на многих уровнях: для формы языка медиу-
мом являются предложения. Для формы предложений медиумом выступа-
ют слова. Наконец, для формы слов медиум - это звуки (в устной речи) и
буквы (в письме). Эти ступеньки ведут дальше вниз – к медуму для зву-
ков и т.д.
Посредством различения слова и предложения язык создает спо-
собность к контингентным комбинациям, которые и используются для об-
разования смысловых форм. Подводя в предложении словесные идентич-
ности под разные ситуации, язык генерализирует. «Лишь предложения
способны к созданию отношений в рекурсивной сети языковой коммуни-
кации, они могут быть предвосхищены с помощью словесных форм и
вспоминаться в качестве фиксированного смысла. … Они транспортируют
в этом смысле автопоэзис систем, включая - выключая сопряжения (Kop-
plung) слов. Предложения образуют эмержентный уровень коммуникатив-
ной конституции смысла, и эта эмергенция – не что иное, как автопоэзис
языковой коммуникации, которая создает себе собственный медиальный
субстрат».278 Функция различения языковых форм и медиумов приводит к
созданию языковых структур, которые, собственно, и составляют предмет
исследования специалистов-филологов.
Ключевой структурой, опосредствующей функционирование языка -
и это центральный пункт лумановского учения о языке , - является его
бинарный код. В случае языка кодирование заключается в предоставле-
нии коммуникацией публичной оферты – принять сообщаемое содержа-
ние или отвергнуть, сказать «да» или «нет». Как и в других системах,
бинарный код позволяет системе оперативно выбирать одно решение из
277 Там же. С. 213.
278 Там же. С. 220.
143
двух и таким образом выстраивать свои операции во времени. Кодирова-
ние помогает системе путем утверждения или отрицания создавать иден-
тичности, которых нет в природе, чтобы свободно оперировать ими. Это
такие идентичности, которые всегда остаются тождественными, в то вре-
мя как коммуникация переходит от утверждений к отрицаниям и обрат-
но. Посредством такой осцилляции языковые идентичности не просто мо-
гут узнаваться и повторяться, но освобождаются от непосредственной
связи с воспринимаемым и способны вести к чисто языковой интерпрета-
ции, порождающей культурную дискуссию и социальную эволюцию. Кро-
ме того, отрицание не просто отрицает, оно создает новое пространство
неопределенности (unmarked space) для операций системы и преодоле-
вает невозможность оперирования с неопределенным. Создавая то, чего
в реальности нет, кодирование языка означает удвоение возможностей
высказывания, гарантируя автопоэзису автономию.
С помощью кода система символизирует свою автореферентность и
получает возможность прерывать собственную циркулярность, т.е. в лю-
бом пункте выбрать «нет» и разрушить тавтологичность операций. «Об-
щество вообще возникает только благодаря заложенному в языке преры-
ванию симметрии, за которым может последовать кондиционирование», -
замечает Луман.279 Это и означает возникновение времени, поскольку в
ходе осцилляции системы из ее актуального настоящего одновременно
могут наблюдаться временные горизонты прошлого и будущего. Благода-
ря кодированию сообщаемое ставится под сомнение или отклоняется, что
делает возможными и ошибку, и обман. Возникающая вследствие пер-
спективы возможного языкового злоупотребления общая неуверенность
трансформируется посредством кодирования в бифуркацию возможностей
примыкания, т.е. позволяет отодвинуть или сместить коммуникацию.
Угроза отвержения заставляет участников коммуникации предвосхищать
ответы «да» или «нет», маркируя неочевидные решения и оставляя без
маркирования те, которые очевидны, например, ценности. «Тот, кто хо-
тел бы отказаться от альтернатив и риска быть отвергнутым, должен от-
казаться от коммуникации».280
279 Там же. С. 224.
280 Там же. С. 226.
144
Любое предложение может быть подвергнуто отрицанию, и в этом
состоит полнота кодирования, не зависящего от намерений участников
коммуникации и выступающего условием автокоррекции коммуникацион-
ного процесса. Кодирование замыкает систему, которая иначе оставалась
бы открытой. Бифуркация позволяет ей определить конкретные условия,
формулирующие для участников коммуникации точки отсчета, в которых
должно следовать признание или отвержение: «Кодирование языка поз-
воляет в ходе самокондиционирования общества создавать структуры,
которые позволяют формировать ожидания в отношении признания или
отклонения коммуникаций».281 Языковой код является формой, в которой
система подвергает себя самокондиционированию, т.е. производит в ходе
адаптации структуры, позволяющие системе посредством успеха или не-
успеха коммуникации реагировать на ирритации окружающего мира.
Элементарная операция коммуникации - это завершение акта пони-
мания. Кодирование создает ткань последующей коммуникации , ибо по-
нимание является предпосылкой того, будет ли сообщение принято или
отклонено. Благодаря бифуркации существует взаимный страх отклоне-
ния и соответственно интерес к пониманию, а говоря более общо – она
есть идеальная норма усилия, направленного на взаимное понимание и
согласие. Луман полемизирует с К.-О. Апелем и Ю. Хабермасом, утвер-
ждая, что не telos взаимосогласования, а бинарный код гарантирует ав-
топоэзис коммуникации. 282 Для кодированной коммуникации не суще-
ствует конца, есть только репродуцируемый в понимании выбор, разви-
ваться ли дальше через принятие или через отклонение.
«Кодирование языка гарантирует… автопоэзис общественной ком-
муникации благодаря тому, что трансформирует коммуникацию в свободу
последовательно отвечать на все достигнутые определенности «да» или
«нет». Поэтому в сложных обществах развиваются не обязательства кон-
сенсуса, а … символически генерализованные коммуникационные ме-
диа».283 Гарантированный консенсус в какой-то мере ослабляет интерес к
281 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 231.
282 См. об этом подробнее: Назарчук А. Этика глобализирующегося общества. М., 2002.
С. 128.
283 Там же. С. 230.
145
коммуникации. Поэтому те средства, которые служат развитию и распро-
странению коммуникации, ориентированы не на консенсус, а, напротив,
на проблематизацию консенсуса.
Подводя итоги обсуждению трактовки языка у Лумана, можно сде-
лать краткий вывод: именно языковая обработка информации посред-
ством упорядочивания селекций принятия и отклонения ведет к упорядо-
ченной коммуникации, т.е. к возникновению общества. Ее отсутствие,
т.е. равная вероятность принятия и отклонения коммуникационных сооб-
щений Луман отождествляет с социальной энтропией.284
§ 6. Письмо
Язык служит устной коммуникации. Устная коммуникация создает
соверешенно определенные социальные условия и вызывает послед-
ствия, которые никак не соответствуют коммуникации письменной. Луман
разводит язык и письмо как разные виды медиумов коммуникации гораз-
до сильнее, чем это делает классическая теория языка. Письмо не заме-
щает и не восполняет, а скорее дополняет язык. Оба способны перехо-
дить друг в друга. И тем не менее, функции и возможности, которые от-
крывает письмо, достаточно самостоятельны , чтобы говорить о нем как о
полноценном социальном генераторе коммуникации.285
Носителем смысла в случае письма выступает не звук и не акусти-
ческие восприятия, а материальный, визуально воспринимаемый знак.
Исчезают не только присутствующие в речи звуковые и оптические впе-
чатления, но и нюансы жестикуляции, пауз, голоса, темпа и ритма. В
случае письма речь идет о структурной идентичности написанного и ска-
занного, о новой конструкции производимых языком различений. Струк-
турная дифференциация знаков в письме отражает структурную звуковую
организацию языка, но способна функционировать как самостоятельная
знаковая система, никак не связанная со звуковым уровнем языка. Об
284 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter
Kommunikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 44.
285 Это нередко, в особо ответственных случаях, ведет к требованию записывать рече-
вую коммуникацию, превращая ее в текст.
146
этом свидетельствуют опыты обучения языку глухонемых и слепоглухо-
немых: они способны овладевать языком исключительно в форме пись-
менных знаков (язык Бойля), используя осязательные ощущения.286
Если форма языка состоит в различии звука и смысла, то письмо
делает возможной символизацию этого самого различия в другом визу-
альном медиуме восприятия, в медиуме оптики (или, как в случае с язы-
ком Бойля, в осязании). Письмо не требует соответствия звук и букв, оно
питается собственными структурными дифференциациями. Но лишь раз-
витие фонетического письма позволяет реализовать главное преимуще-
ство письма, дуплицирующего не мир объектов, а саму коммуникацию. В
движении от идеограмм к слогам и буквам развивается различение знака
и смысла.
«Письмо возможно только как система, которая может воспроизве-
сти все возможные или, в любом случае, все используемые различия зву-
ков. Только так, а не в форме копирующей репрезентации может быть
использовано различие средств восприятия слуха и зрения…С помощью
письма можно произвести операции совершенно нового вида, и именно
потому, что в этих операциях различаются не звук и смысл, а смысл и
комбинации букв».287
Это коренное отличие позволяет яснее выявиться тому, что в речи
улавливается с трудом: различию слова и смысла. В перовбытных обще-
ствах распространены практики, смешивающие слово с реальностью (ма-
гия и т.п.). С изобретением письма начинает рефлектироваться природа
знаковости, словесности, комбинаторики языка (грамматика), начинает
вообще осмысливаться дистанция между языком и миром. Отсутствие ро-
левой смены говорящих, как это происходит в устной коммуникации,
очищает письмо от взаимности, придает ей линеарные, легко формализу-
емые черты. Языковая коммуникация трансформируется в форму текста,
обособленность и самобытность которого более очевидна и убедительна,
чем в устной речи. Интерпретация текста происходит посредством ссылок
на прежние тексты, что осуществить гораздо легче, чем в устной комму-
286 См. Hinde R. Nonverbal Communication, Cambridge. 1972; Кассирер Э. Философия
символических форм. В 3-х тт. М. 2001.
287 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 255.
147
никации. Интерпретация, в то же время, и сама создает тексты, посте-
пенно образуя традицию интерпретации (и интерпретации интерпрета-
ций). Текст более четко, чем речь, способен замыкать область коммуни-
кации.
Если устная речь настойчиво вовлекает в процесс коммуникации
присутствующих и превращает коммуникацию в актуальное событие
«здесь» и «сейчас», то письмо разрушает событийность и непосредствен-
ность коммуникации, разводя ее участников в пространстве и времени.
Это часто мешает воспринимать письмо как коммуникацию. Теряется ин-
терес к тому, какие конкретные мотивы имеются у сообщения, и текст
начинает восприниматься с точки зрения более позднего интереса чита-
теля. Но благодаря этому возникают новые пространства интерпретации,
которые на порядок увеличивают возможности примыкания операций и
коммуникативных ссылок. С письмом начинается телекоммуникация, воз-
никает коммуникативная достижимость тех, кто удален в пространстве и
времени. Письмо, отмечает Луман, взрывает коммуникацию малых соци-
альных групп и превращает ее в коммуникацию «отсутствующих». Это
революционно расширяет возможности участников коммуникации, ведет к
глубокой трансформации коммуникационных возможностей и тем самым к
основательному переструктурированию общественной системы.
Изменение материального носителя радикально меняет коммуника-
тивные возможности языка. Удаленная коммуникация делает возможным
перенесение знаков вместо вещей и событий. Она мало энерго- и ресур-
созатратна. Экономичность транспортирования знаков с помощью книг
или компьютера относится к письму, а не к устной коммуникации. Алфа-
витизация письма, считает Луман, стимулируется экономикой и эргономи-
кой письма, а не потребностью в записи эпической традиции или в про-
изводстве литературы как таковой. Таким образом, письмо открывает для
общественной коммуникации новые области технизации и индустриали-
зации, но в то же время делает их засивисимыми от индустриального
производства и технического прогресса.
Если устная речь представляет собой диалог той или иной формы,
(возможности монолога ограничены особыми ситуациями и мотивами), то
письмо, напротив, расщепляет процесс написания и чтения и даже делает
их асоциальными, интимными. Присутствие постороннего рядом с пищу-
148
щим или читающим может восприниматься как навязчивое вторжение в
личную жизнь. Сама коммуникация коренным образом меняет здесь свой
вид: размышление «про себя» вместо импульсивного выражения вслух;
постепенное восприятие информации в целости вместо точечного реаги-
рования на сказанное. Письменная речь смещает и растягивает во време-
ни принятие или отвержение языковой оферты. Это увеличивает про-
странство социальной отзывчивости на коммуникациию.
Письмо снимает количественные ограничения с говорящего и начи-
нает оперировать не компактными в информационном отношении сооб-
щениями-репликами, а информационно глобальными текстами. Вообще
говоря, письмо усиливает значение элемента информации в тексте. В
простых обществах у говорящего и не могло быть большого количества
информации. Говорение выступало часто просто индикатором согласия и
сочувствия, простых социальных коммуникаций, для чего уже письмо не
предназначено . Вместе с тем, неизмеримо возрастает возможность до-
ступа к пониманию сообщения: воспринимающий легко может отказаться
от получения сообщения или отложить его, и здесь у сообщающего нет
даже средств контроля. «При использовании письма общество отказыва-
ется от временных и интеракционных гарантий единства коммуникатив-
ных операций и этот отказ требует компенсации за то, что потеряно».288
Речь включена в актуальный контексткоммуникации (место, время,
участники, параллельные события), О котором не требуется сообщать
участникам коммуникации, поскольку она непосредственно создает свои
контексты. Письмо вынуждено информировать о составных элементах
коммуникации, чтобы воспроизвести обстоятельства изначальной комму-
никативной ситуации и сделать коммуникацию понятной. Оно выдвигает
новые требования к различению субстрата и формы, предполагает иную
степень жесткости построения предложений. Посколькуписьмо обращено
не к ситуативному адресату, а будет прочитано неопределенными «мно-
гими», правильность структуры предложений и композиции сообщения
приобретает важное значение. Противоречия и несообразности, допусти-
мые в речи, становятся здесь более очевидными, требования к конси-
стентности написанного повышаются. Это вызывает к жизни необходи-
288 Там же. С.258.
149
мость литературных стандартов национальных языков. Посредством типи-
зации отдельных слов, редуцировании смысловой неопределенности с
помощью опеределений, логических дистинкций, категорий, видов и ро-
дов достигается большая семантическая эффективность письма в сравне-
нии с речью.
И тем не менее, общей характеристикой письма остается неопреде-
ленность в отношении понимания смысла. Вследствие того, что внеязы-
ковые инструменты убеждения утрачивают свое действие, возникает по-
нятие авторитета, предполагающее компетентность как ресурс, не выво-
димый из контекста коммуникативного события: «Написанный текст дол-
жен считаться с критическими установками, со знанием других текстов и
временем для критики. Он должен принимать во внимание читателей, ко-
торые знают предмет лучше… Письмо создает понятия для когниции и
правильного мышления, соответствующих самым высоким требованиям к
тексту».289
Неопределенность статуса текста придает тексту свойство модаль-
ного мнения. Если определенный текст оферта сегодня отвергается, это
не исключает того, что она будет принята позже, когда придет переоцен-
ка. «В той мере, в какой коммуникация привносит и отводит подобные
потенциализации, семантика в целом модализируется. Реальность начи-
нает рассматриваться на основе ее потенциальности частью как необхо-
димость, отчасти как контингентная реализация, отчасти как простая
возможность», - пишет в этой связи Луман.290 Таким образом в литературе
возникает фигура «нигде» - признание права на сущестование фикции,
фантастики.
Другая особенность письма заключается в совершенно новом про-
текании коммуникации во времени. Текст предполагает фиксацию време-
ни, и в этом смысле порывает с ощущением «жизни-вместе-со-временем».
Вместе с тем ни одна система не может действовать вне своего настояще-
го и в неодновременном мире. Письмо способно создавать здесь особые
комбинации, повышающие комплексность коммуникации, но оно не в си-
лах преодолеть это правило, «ибо посредством письма в каждом настоя-
289 Там же. С. 276.
290 Там же. С. 277.
150
щем (и только так) становится возможной комбинация различных насто-
ящих, которые одновременно являются друг для друга будущим или про-
шедшим. То, что при написании текста было будущим … может быть при
чтении уже прошедшим; а иногда читатель знает, что писателю или его
герою еще не было известно, что при этом произошло… Письмо создает
новое пристутствие времени, а именно иллюзию одновременности неод-
новременного. Виртуальное время прошлого и будущего присутствует в
каждом настоящем, т.е. для него одновременным является нечто совер-
шенно иное, чем настоящее».291
Письмо меняет конституцию памяти и ее значение для коммуника-
ции. Память не просто сохраняет прошедшие состояния. «Подлинная
функция памяти заключается не в сохранении прошедшего, а в регулиро-
вании соотношения воспоминания и забывания, говоря словами Хайнца
Ферстера; в постоянном селективном обратном вхождении (Reimprägnie-
rung) в собственные состояния».292 Благодаря включению временных го-
ризонтов в актуальность память помогает создать событийность коммуни-
кации,. Письменно фиксируемое событие уже не вытесняется автоматиче-
ски с окончанием коммуникации. В письме (в отличие от речи) дискрими-
нация воспоминания и забвение становятся предметом сознательного ре-
шения. Письмо поддерживает память, но и перегружает ее, предоставляя
возможность перечитывания текстов.
Текст, препятствуя забвению, влечет за собой процесс обучения,
который в свою очередь открывает возможность создавать схематизмы и
абстрактные понятия, невозможные в рамках устной коммуникации:
«Время не может больше называться властью забвения». Запоминание не
вызывает перегрузки сознания. На место ритмики как техники запомина-
ния речи заступает размерное движение записанного повествования.
Прошлое как «записанная» история и как наличный текст получает
отныне невиданную прежде власть над настоящим. Прошлое привлекает
внимание зачастую в ущерб настоящему и мешает новому и иному. «Ис-
тория становится драмой присутствия прошлого, одновременности неод-
291 Там же. С. 265.
292 Там же. С. 270. Foerster H., Das Gedächtnis, Wien, 1948.
151
новременности».293 Луман обращает внимание на то, что письмо возника-
ет не как средство коммуникации, эту функцию оно приобретает на более
поздней стадии своего развития, через столетия. Первоначально письмо
служило для сохранения в памяти сакральных текстов, точнее, для очер-
чивания пространства религиозной тайны и границ коммуникации. Пись-
мо получает широкое распространение только впоследствии, в особенно-
сти, в связи с возникшей потребностью в управлении большими хозяй-
ствами и повышением возможностей контроля, которые оно давало гос-
подствующим сословиям.
Это же свойство, связанное с широкими возможностями текстовых
интерпретаций, ведет к утрате контроля над массами и вследствие этого
– к наделению письма функцией массовой коммуникации (литература,
письменная переписка и т.д.), которая вначале развивается паразитарно,
путем приобщения низших слоев к образованию.294 Постепенно, переводя
устную коммуникацию в письменную, письмо развивает формы, в которых
действующие персоны сами действуют коммуникативно– например, в ли-
тературной форме романа. По Луману, – «Литература – это коммуникация
в коммуникации, реальная коммуникация как копия фиктивной коммуни-
кации и фиктивная коммуникация в реальной коммуникации, которая по-
буждает забывать, что фиктивная коммуникация функционирует через
реальную».295
Став публичным, письмо быстро разрывает оковы политического
контроля - вначале в форме дебатов, охватывающих все возможные те-
мы, затем в форме критики, обосновывающей задачи трансформации со-
циальных структур. Письмо делает более зримой связь между социальной
семантикой и социальной структурой: «После изобретения письма можно
исходить из того, что общественная структура и семантика находятся в
постоянно синхронизированном совпадении. Семантики могут… быстрее
изменяться и антиципировать возможности развития общества или дого-
нять их, но могут и сохранять отжившие традиции и препятствовать воз-
293 Там же. С. 273.
294 Луман подчеркивает, что это, в особенности, свойственно европейской культуре и в
меньшей мере – культуре Китая и Индии.
295 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 283.
152
никновению исторически и предметно адекватных описаний… Письмо де-
синхронизирует прежние временные ритмы автопоэзиса общественной
коммуникации».296
Эволюция письма постепенно провоцирует эволюцию способов
наблюдения высокого порядка, и в особенности, наблюдения других
наблюдателей.297 В этом огромное значение письма для социальной эво-
люции. Устная речь развивается преимущественно в рамках коммуника-
ции первого уровня. Метакоммуникация при этом не идет, как правило,
дальше уточнения содержания сообщения и выражения своего согласия
или несогласия. Письмо открывает совсем иные возможности для мета-
коммуникации: посредством цитирования, интерпретации, критики оно
делает коммуникацию предметом коммуникации и становится наблюдате-
лем коммуникации, наблюдателем второго уровня. Это открывает путь к
переходу на новую степень сложности коммуникации, свойственную со-
временному обществу.
296 Там же. С. 289.
297 Там же. С. 278.
153
Глава 4. Медиа коммуникации
Следующие разделы будут посвящены анализу отдельных видов ме-
диа. Язык как средство коммуникации стоит особняком, поскольку спосо-
бен эффективно действовать в качестве «intristic persuader» (Парсонс),
насильно вовлекать присутствующих в коммуникацию и контролировать
ее ход. Язык - условие возможности функционирования как медиа рас-
пространения, так и символически генерализованных медиа. Письмо так-
же само по себе не способно выходить далеко за круг тех, кто вступает в
коммуникацию «живым образом». Расцвет средств распространения
начинается с книгопечатания и электронных медиа. В своих работах Лу-
ман подробно исследует эти исторические феномены и их воздействие на
социальную коммуникацию общества.
§ 1. Средства распространения коммуникации
Луман различает медиумы, которые предназначены для количе-
ственного распространения коммуникации в обществе, и медиумы, кото-
рые качественно преобразуют общественную коммуникацию. Медиумы
первого типа, т.е. массмедиа, транспортируют коммуникацию, которая
создается благодаря медиумам второго типа. Массмедиа играют подчи-
ненную роль в лумановской концепции. В отличие от традиционной пере-
оценки массмедиа Луман не признает за ними центрального значения для
функционирования общества, а основное место уделяет коммуникацион-
ным медиа, под которыми понимает начала, конституирующие функцио-
нальные подсистемы общества, – деньги, власть, любовь.
Медиа распространения служат увеличению социальной редундант-
ности. Под редундантностью (Redundanz, переизбыток) понимается плот-
ность, сплоченность и внутренняя согласованность системы. Редундант-
ность способствует собиранию и перетеканию информации в единые
структуры, она побуждает автопоэтическую систему собираться воедино
154
перед лицом многообразия неожиданных событий в окружающем мире.
Благодаря редундантности системы становится возможной заменимость
отдельных функций и элементов в случае их выпадения. Противополож-
ностью редундантности, по Луману, выступает вариативность и разрых-
ленность системы. Медиа распространения, дублируя сообщения и доводя
информацию до всех участков системы, упрочивают взаимосогласован-
ность ее элементов.
Медиа распространения расширяют круг участников коммуникации
и приемников информации. Благодаря им возникает избыток возможно-
стей коммуникации, а следовательно, повышение ее комплексности. Од-
нако с ростом редундатности увеличивается неопределенность успеха
коммуникации: воспринята ли она и понята? Принята она или отклонена?
Письмо, расширяя круг приемников информации, еще позволяет в той
или иной степени контролировать коммуникацию. Но с изобретением кни-
гопечатания и развитием массмедиа коммуникативная ситуация меняется
коренным образом .
Уже нельзя точно знать, кто читал тексты и какие тексты читались.
В коммуникативной системе возникает неясность и нестабильность. Соци-
альная редундантность становится анонимной. Она, по мысли Лумана,
делает информацию излишней, ибо повторяемая информация уже не яв-
ляется информацией и соответственно не поддерживает развитие обще-
ственной коммуникации.298 Эта ситуация элиминирует информацию, под-
черкивает Луман: «В той мере, в какой распространяется одна и та же
информация, информация превращается в редундантность».299 Если рас-
пространяемая информация всем известна, массмедиа не могут осуществ-
лять коммуникацию. Отсюда возникает их неизменная потребность в по-
стоянно новой информации. Поэтому автопоэзис массмедиа должен под-
держиваться путем искусственно создаваемых утечек информации из
разных источников.
Не обладая информацией, но остро нуждаясь в ней, средства рас-
пространения не могут гарантировать собственного автопоэзиса. Стано-
298 В этом случае коммуникация имеет особую функцию – поддерживать солидарность,
и только эта информация имеет в ней значение.
299 Там же. С. 202.
155
вится неясно, принимается или отклоняется сообщенная информация ,
остается ли она предпосылкой последующих действий и примыкающих к
ним операций: «Оказывается, что существует очень много, необозримо
много участников, так что нельзя установить, мотивирует ли их коммуни-
кация к чему-либо».300 Чем больше информации, тем выше порог ее усво-
ения и ниже эффективность распространения.
Общество, убежден Луман, находит решение в создании нового ти-
па медиа, гораздо более успешных, чем массмедиа – символически гене-
рализованных медиа коммуникации. Они преодолевают апатию мотива-
ции. И в дальнейшем, используя их, можно с определенной степенью
уверенности исходить из того, что сообщение будет принято.
«Символически генерализованные коммуникационные медиа созда-
ют новую связь кондиционирования и мотивации. Они ставят коммуника-
цию в своей медийной области, например, в денежной экономике …, в
определенные условия, которые повышают шансы принятия даже «не-
удобных» коммуникаций. Люди отдают свои блага или оказывают услуги,
если (и только если) за них платят… С помощью институционализации
символически генерализованных коммуникационных медиа может быть
устранен порог непризнания коммуникации, который находится очень
высоко, если коммуникация осуществляется за пределами интеракции
присутствующих».301
Таким образом, хотя средства распространения не могут гарантиро-
вать эффективность и успех коммуникации, именно они позволяют пре-
одолеть границы круга присутствующих и тем самым создать простран-
ство для включения в коммуникацию символически генерализованных
средств коммуникации.
§ 2. Книгопечатание
Луман предпринимает интересное и достаточно глубокое исследо-
вание социологического воздействия письма в истории. Книгопечатание
300 Там же. С. 203.
301 Там же. С. 204.
156
раскрывает полный потенциал письменности, создавая из тех, кому адре-
совано письменное сообщение, «читающую публику». Письмо как акт со-
общения направлено конкретному адресату, в намерения пишущего не
входит его публикация. Наиболее распространной в истории является
функция письма как «удлинения ног» с целью преодоления расстояния
до адресата-современника. Лишь сакральные письмена, правовые кодек-
сы правителей и выросшая из этих форм книга получают статус «публич-
ности», будучи адресованы не только каждому современнику, но и буду-
щим поколениям. Тем не менее, отмечает Луман, вплоть до Нового вре-
мени не существовало потребности в широком потреблении книг, круга
людей, который формирует заказ на массовый выпуск книг. Ведь уже
ручная переписка книг к моменту изобретения книгопечатания была в
достаточной степени «индустриализована» и рационализирована. Ее мас-
совость сдерживало отсутствие сколько-нибудь значительного спроса.
Изобретение книгопечатания не только позволило снизить потреб-
ление энергии и сил, достичь большей эргономичности и эффективности
трудозатрат, повысить коммуникативный успех письма, но прежде всего
переориентировало производство книг на потребительский спрос и в ис-
торически короткий срок создало рынок публикаций. Все может быть
опубликовано, если это можно продать. Господствовавшей до сих пор ло-
гике политических и религиозных институтов при публикации сакральных
текстов и кодексов пришлось столкнуться с экономической логикой кни-
готорговцев и книгоиздателей. Впрочем, логика политических и религи-
озных идеологий также оказалась немаловажным препятствием на пути
развития книгопечатания. Тем не менее способность книги преодолевать
возникающие препятствия (цензуры или религиозных запретов) револю-
ционизировала общественную коммуникацию. По прошествии нескольких
столетий книгопечатанию уже не приходилось приспосабливаться к суще-
ствующим ограничениям, накладываемым властью, - напротив, власти
пришлось приспосабливаться к неизбежной публичности книгоиздания.
Особенно ярко последствия публичности книгоиздания проявились
в религиозной сфере: книги, как ничто другое, поощряли религиозные
расколы. Если учесть, что за время Реформации было издано около 500
млн. экземпляров Библии, можно представить себе, сколь грандиозным
был религиозный эффект книгопечатания. Священное Писание, в своем
157
сакральном статусе столетиями недоступное не только для толкования,
но практически и для чтения, было открыто и таким образом десакрали-
зовано для сотен тысяч людей. Их отношение к сфере сакрального благо-
даря только факту массового издания стало иным: Библия начала вос-
приниматься как интимная Благая весть, обращенная к индивидууму че-
рез чтение. Сам смысл сакральности вышел из таинственной недоступно-
сти и непостижимости и перешел в сферу языка и слова.
Возникшая в Европе Нового времени религиозная санкция на чте-
ние подстегнула развитие массового образования. Читать теперь мог и
должен был не только тот, кто связан с управлением большим хозяй-
ством, но и благочестивый мирянин. Массовый спрос обусловил чувстви-
тельность к цене и запустил процесс индустриализации книгоиздания. К
середине 19-го века книги стало уже не только можно, но и необходимо
читать любому уважающему себя бюргеру, ибо оказалось, что они акку-
мулируют в себе значительную информацию и необходимы для осущест-
вения обычной, повседневной коммуникации. Но и процесс писания по-
степенно все глубже переориентируется с интереса автора на интерес чи-
тателя: пишут только то, что будет опубликовано и потом прочитано. Ав-
торство как предприятие становится рентабельной экономической акци-
ей: труд по созданию пользующегося спросом произведения будет окуп-
лен и сторицей вознагражден. Этот процесс сопровождается развитием
массовой периодической печати. «Литературизация» населения и соот-
ветственно массовость литературы повышают образовательный стандарт
нации, но в каком-то смысле понижают порог понимания и культурного
уровня самой литературы.
Если письмо долгое время служило сохранению и комментированию
текстов, т.е. использовалось как функция социальной памяти, то массо-
вое книгопечатание, по мнению Лумана, меняет функциональное назна-
чение письма. Книги начинают выполнять маргинальные прежде для
письма функции – развлечения, отдыха, обмена опытом. Воспроизведе-
ние на письме живой коммуникации создает литературу, роман. Старый
тип мемориального чтения, чтения для воспоминания важных истин са-
кральных текстов, сменяется новым, экстенсивным, который ищет в мате-
риале для чтения новой информации. На месте привычки повторять
158
текст, возникает потребность сравнивать разные тексты: текст должен
быть интересным.302
Преимущества письменной формы коммуникации перед устной до-
ходят до того, что интеракционные, зрительные формы, такие, как театр,
в определенной степени поглощаются литературной формой драмы. Если
эпохе Платона была свойственна убежденность в превосходстве «неписа-
ного» учения, живого слова перед мертвым текстом, то в Новое время,
напротив, признание и влияние, популярность и авторитет автора стали
определяться по преимуществу тиражами и количеством написанного. Ав-
торство – в его социальном аспекте – не является больше атрибутом ин-
дивидуальной творческой деятельности, становясь делом продвижения на
рынке, имеющим количественное выражение. Сама публичность в каком-
то смысле превращается в количественную функцию тиражей –в сфере
периодической печати, предложения на книготорговом рынке или в фор-
ме публикаций для узких кругов специалистов.
Все это ведет к глубинному воздействию на понимание коммуника-
ции. «А понимание коммуникации, - подчеркивает Луман, - является по-
ниманием общества».303 Исчезает представление, что коммуникация яв-
ляется интеракцией, ибо письменная коммуникация не обязательно ин-
терактивна. Представление о взаимном дисциплинировании коммуника-
ции в рамках интеракционной модели устной речи постепенно заменяется
представлением о правилах разума, которое затем, начиная с эпохи Про-
свещения, - обобщается, становясь доминантой, в понятии о человеке.304
Массовая печать непосредственно воздействует на понимание иден-
тичности пишущего, на само понятие авторства. В авторе исчезает физи-
ческая идентичность пишущего. Даже если, - в отличие от традиций са-
кральной письменности, - современная литература требует обязательной
персональной привязки и социальных координат текста, создатель текста
выступает нелегитимным участником коммуникации. Он терпится только
как лирический герой произведения. «Создатель текста не может появ-
302 Там же. С. 294.
303 Там же. С. 299.
304 Там же. С. 301.
159
ляться в тексте, поскольку он знает конец истории и ссылкой на себя
разрушил бы последовательность событий».305
Утрата личностной идентичности и анонимность автора создают
проблему социальной достоверности письменной коммуникации. Когда
нет способа непосредственно убедиться в добросовестности информации,
возникает такое явление, как «авторитет», концентрирующий в себе га-
рантии аутентичности коммуникации и защищающий от злоупотребления
социальным престижем. Сама публикация наделяет авторитетом, - в от-
личие от манускрипта.
Напечатанное не просто позволяет многократно умножать написан-
ное, но и в высокой степени обладает физической сохранностью. Книго-
печатание открывает путь к формированию массовых библиотек, дает
возможность сортировать, сравнивать, квалифицировать массивы тек-
стов. Количественный рост напечатанного вызывает потребность в обзоре
и упрощении, развитии методов систематизации и формализованной об-
работки информации, в актуализации актуального и забвении забытого.
Массовое распространение письма с его строгостью формулировок и
структуры текста способствует униформированию письма, возникновению
национальных языков и их стандартов.306 Стандартизированный язык по-
могает формулировать нормализованную грамматику и позволяет стирать
локальные различия диалектов. Благодаря словарям и переводам возни-
кает возможность до деталей описать элементы языка и правила его упо-
требления. Письмо, в отличие от речи, открывает пути для создания
сложных формальных языковых структур, для оформления интеракций в
публичной сфере, позволяя путем сложных публичных предписаний дис-
циплинировать весь ход общественной жизни. Этот эффект сказывается
на государственном управлении, праве, экономике, политике, позволяя
дифференцироваться функциональным структурам общества. Новые ме-
диа распространения, пришедшие вслед за книгопечатанием , - элек-
тронные медиа, - едва ли способны создавать столь глубокие структур-
ные изменения в языке. Они повышают коммуникативный успех письмен-
305 Там же. С. 301.
306 Наиболее наглядной в этом смысле пример – формирование единого стандарта
немецкого языка с помощью одного произведения – лютеровской Библии.
160
ной речи или благодаря своей интерактивности стирают границы между
письменной и устной коммуникацей.
§ 3. Электронные медиа
Технический прогресс справедливо связывают с глобальным увели-
чением коммуникационных возможностей в современном мире. Луман об-
ращает внимание на то, что сам по себе рост технических сетей коммуни-
кации еще не означает роста объема информации или интенсификации
коммуникационных потоков. Информация производится и потребляется
вне технических сетей, в рамках коммуникационной системы общества.
Сами по себе они не имеют ничего общего - более того, технические ком-
муникации лишь создают шум для информации и мешают коммуникации.
Технические и коммуникационные сети могут сочетаться и катализиро-
вать друг друга лишь при наличии структурных соответствий. Это выра-
жается в физически ощущаемой зависимости коммуникации от техники:
«Коммуникационная система общества становится все более зависимой от
технологически обусловленных структурных соответствий с данностями
своей среды. Тем самым возрастают чувствительность к техническим по-
мехам коммуникации и расходы технического и экономического характе-
ра для защиты от помех. С другой стороны, это ведет к технически инду-
цированному, специализированному в своих пользовательских функциях
динамическому взрыву коммуникационных возможностей».307 Исчезают
многие границы коммуникации, обусловленные ограниченными возмож-
ностями человеческого организма. Луману, отталкивавшемуся первона-
чально от сугубо теоретических представлений кибернетики и информа-
тики, сформированных в 40-60-е годы, было непросто реагировать на
практическую сторону этих наук, обратившуюся коммуникационной рево-
люциией только в 90-е годы , когда все основные теоретические работы
Луманом были уже созданы.308 Ученый застал далеко не весь цикл взрыва
307 Там же. С. 302.
308 Сам Луман все свои объемные работы создавал исключительно на пишущей, даже
когда компьютер стал общедоступным.
161
коммуникационных технологий – возможности Интернета открылись для
него, например, только в конце жизни, уже после написания основных
работ . Тем не менее в его трудах можно найти не только предвосхище-
ние, но и теоретическое обоснование неизбежности возникновения новой
коммуникативной ситуации. Он дал хотя и фрагментарные, но глубокие
оценки социального значения новых коммуникационных технологий. Мы
постараемся уловить лумановский подход к этой теме в контексте его
воззрений на современную коммуникационную среду.
Луман обращает внимание читателя на то, что благодаря развитию
телекоммуникаций временные и пространственные ограничения коммуни-
кации в перспективе приблизятся к нулю. Телефон – телефакс – элек-
тронные медиа – компьютерные коммуникационные технологии – мобиль-
ная связь –важные вехи в развитии информационно-коммуникационных
технологий. Подобно книге, средства удаленной коммуникации позволяют
разводить сообщение и прием информации, открывая тем самым различ-
ные временные и пространственные комбинации для коммуникации. Не
совсем верно , замечает Луман, что они «сжимают время и простран-
ство». Их преимущество как раз в том, что параметр времени остается
неизменным при пространственных перемещениях, которые традиционно
были сопряжены с временными потерями. Луман разбирает коммуникаци-
онные характеристики каждого из электронных медиа.
Телефон – особенно основанный на радиотехнологиях – остается
ведущим коммуникационным артефактом, поскольку в минимальной сте-
пени разлагает ситуацию непосредственной живой коммуникации и не
утрачивает ее оперативности. В то же время, сохраняя акустический эф-
фект разговора, телефон не способен – в том числе в перспективе – вос-
производить временной и пространственный контекст коммуникации. Он
в определенной мере принудительно вырывает принимающего сообщение
из жизненного контекста, требуя принять или отвергнуть оферту комму-
никации. На пути телефонного доступа могут быть легко возведены высо-
кие барьеры.
Телефакс и другие формы почты позволяют передавать на расстоя-
ние письменные сообщения. Широко известен огромный коммуникацион-
ный эффект от этого вида телекоммуникации, прежде всего в сфере хо-
зяйственной деятельности. Эта форма дает преимущества, связанные со
162
свободным выбором времени для принятия сообщения и обработки ин-
формации. Она наиболее пригодна для выполнения функций деловой по-
чты, предъявляющей высокие требования в смысле юридической иден-
тификации документов. Телефаксовая почта не накладывает строгие
ограничения на объемы информации. Она, как и любая почта, ограничи-
вает возможности контроля за дальнейшим состоянием информации и ре-
акции на нее. Это обусловливает высокую степень свободы отказа от
приема информации или ответа на нее. Однако в отличие от телефонной
коммуникации, предполагающей «границы вхождения» - личное знаком-
ство, «право» на непосредственное обращение – письменная почта более
открыта. Она позволяет формализовать путь вхождения, в том числе для
проблемной коммуникации: просьб, запросов, обращений с жалобами,
переписки носителей разных социальных статусов и т.д. Благодаря офи-
циальным формам переписки налаживается коммуникация между пред-
ставителями разных социальных слоев, носителями разных уровней со-
циального престижа и т.д. – которая не может реализоваться в «живом»
общении.
Телепочта вообще связана со значительными потерями времени,
уходящего на коммуникацию, но электронная почта, особенно через те-
лефонную связь – делает эти потери минимальными. Тот факт, что объем
электронной почты превысил объемы транспортной, бесспорно будет
иметь последствия для современной коммуникативной ситуации. Особен-
ности электронной почты – высокая мобильность, подручность, высокая
информационная емкость, доступность, чреватая проблемами, связанны-
ми с информационным мусором для респондентов, – меняют характер
письменной коммуникации в мире.
Телепочта и телесвязь создают коммуникационные эффекты, замет-
но воздействующие на формирование общественной коммуникации и ста-
новление социальных структур. Возможность удаленной коммуникации
одновременно ограничением возможностей непосредственной устной
коммуникации ведет в современном обществе к образованию новых видов
коммуникаций и социальных групп, т.е. явлению, получившему название
«социальных сетей». Именно их развитие заставляет говорить о глобали-
зации, связывающей между собой людей и общества по всему миру.
163
Разрушение пространственной интеграции общественных операций,
на взгляд Лумана, – одно из важнейших социологических последствий
современного развития средств коммуникации. «Пространственная инте-
грация означает, что степень свободы системы,… зависит от места в про-
странстве…., от особых локальных условий. На каждое изменение этих
условий, на каждое движение уходят время и ресурсы».309 Если не при-
нимать этих условий, нарушаются предпосылки стабильности общества.
Пользуясь сверх-мобильностью и телекоммуникацией, человек утрачива-
ет непосредственную связь «с землей», начинает воспринимать разные
места как одно и в каком-то смысле, как считает Луман, «терять про-
странственную ориентацию».
Субъективация пространства заставляет пошатнуться многие соци-
альные системы, зиждущиеся на ощущении пространственной интегра-
ции, в частности, принцип территориального государства. Это побуждает
Лумана пересмотреть представление о системных границах, классически
воспринимаемых как «кожа» или «мембрана», отделяющая систему от
окружения. Подобное представление утрачивает в случае социальных си-
стем свою релевантность. У коммуникации нет «оболочки», ее границы не
имеют ничего общего с границами вещными: «Социальная система - не
что иное, как одна, внутренняя, оперирующая сторона формы системы. С
каждой операцией системы репродуцируется ее способность различать по
отношению к окружению. Автопоэзис смысловой системы - не что иное
как репродукция этого различия».310
Коммуникация, становясь менее чувствительной к территориально-
му удалению, оказывается способной создавать коммуникативные сети,
принимающие самые экстравагантные пространственные очертания. В
разных формах коммуникации эти сети тем не менее могут создавать ста-
бильные коммуникативные структуры, зачастую не уступающие социаль-
ным группам, живущим по нормам территориальной, т.е. устной коммуни-
кации. Хотя сети, как правило, следуют функциональной логике построе-
ния, ибо потребности функциональных систем требовательнее к задаче
поддержания постоянной оперативной коммуникации, они способны к со-
309 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987.
310 Там же. C. 315.
164
зданию неформальной, многообразной коммуникации. Поэтому они могут
в определенной степени оказываться прочнее организационных структур.
Тем не менее в силу своей мобильности и добровольности, отмечает Лу-
ман, сети в редких случаях способны выполнять долгосрочные функцио-
нальные задачи, так как последние в значительной степени базируются
на санкциях и средствах защиты от произвольной коммуникации.
Кино и более тесно связанное с удаленной коммуникацией телеви-
дение делают возможной коммуникацию движущихся образов. Благодаря
звуковому сопровождению кино мультиплицирует реальность как клише и
делает его доступным для опыта повторного переживания, гарантируя
при этом его подлинность. Здесь исчезают различия между оптическими и
акустическими формами действительности, на которых базировались
иные медиа. Более того, у кино существуют особые обязательства по от-
ношению к реальности. Представляя собой «виртуальный мир», фильм не
может иллюстрировать «иную реальность», на что претендуют графиче-
ские искусства. Он отображает события этой, «нашей» реальности и ис-
тории, даже если события будут спроецированы не в прошлое, а в буду-
щее, как в фантастике. Фильм может быть снят, только если событие в
действительности происходило. Это – залог виртуальной «реалистично-
сти» фильма, а с другой стороны – причина его зависимости от реально-
сти.
Событие съемки, как и процесс восприятия фильма – заместители
аутентичного опыта, представляющие переживание в реальном времени.
Манипулирование образами посредством съемки и монтажа девальвирует
ощущение достоверности, дистанцируя происходящее в область игры, в
пространство артефакта. В кино отступает на задний план то, что являет-
ся определяющим в языковой коммуникации: возможность и необходи-
мость различать информацию и сообщение. «Фильм может затронуть по-
зитивно или негативно…, но в полном комплексе восприятия отсутствует
тот элемент, который позволил бы провести ясную дизъюнкцию между
принятием или отвержением. Человек, правда, знает, что речь идет о
коммуникации, но он не видит этого… Телевидение производит форму,
165
которая связывает все средства убжедния повседневной жизни. Но дру-
гая сторона этой формы – именно подозрение в манипуляции».311
Еще более важные изменения в развитии электронных средств об-
работки информации связаны с изобретением компьютера. Луман счита-
ет, что дискутировавшийся с середины 19-го века вопрос об «искус-
ственном интеллекте» поставлен не совсем корректно, ибо речь в данном
случае идет о коммуникации в рамках заданных условий(решение компь-
ютером задач не могут выходить за рамки включенных в программу алго-
ритмов). Программирование в конечном счете, уходит корнями в дости-
жения языковой коммуникации, способной рефлексивно формулировать
правила коммуникации о коммуникации. Коммуникация в случае про-
граммирования есть текущее процессирование различия знания и незна-
ния независимо от содержания знания или незнания.
Вместе с тем Луман воздерживается от решения вопроса о том, счи-
тать ли компьютерные интерактивные возможности видом коммуникации .
Новое в компьютере в этом смысле, по его мнению, – это различие между
поверхностью-интерфейсом (output) и глубиной обработки информации.
Интерфейс несет в себе заданную программой информацию, но машинная
обработка позволяет переконструировать сложные комбинации информа-
ционных элементов в зависимости от реакции пользователя и от постав-
ленной им задачи. Это создает возможности структурных соответствий
поверхности и глубины, которые лежат в основе эффекта «виртуальной
реальности».
Медийная форма интерактивных структур не является больше ни
«линеарной», как письмо к адресату, ни «орнаментальной», как устная
диалоговая коммуникация, раскрывающая разные стороны своих объек-
тов. Оставляя нереализованным множество сценариев и снова делая их
доступными, интерактивные мультимедиа, реализованные в компьютер-
ных играх и т.п., способны образовывать лабиринтную полифонию, обла-
дающую опцией обратимости времени. «В трансклассических машинах
речь идет не о мощных вычислительных инструментах,… а о маркирова-
нии форм, создающих возможности для более богатых различений и обо-
значений с последствиями для коммуникационной системы общества, ко-
311 Там же. С. 307.
166
торые сегодня еще нельзя предвидеть».312 В целом, однако, считает Лу-
ман, трудно увидеть в компьютере способность реконструировать элемен-
ты двойной контингентности, способные создавать социальную коммуни-
кацию и «социальную виртуальную реальность»: «Пока речь идет лишь
об оперирующих и переплетающихся сетях накопления, оценки и достав-
ки данных, которые … оперируют согласно тематической специфике, хотя
и неограниченно в пространстве».313
В виде компьютерной интерактивной коммуникации возникает ме-
диум, формы которого, подобно правилам языка, обусловлены програм-
мированием, по-новому ограничивающим структурные соответствия и та-
ким путем порождающим новый вид коммуникации. Коммуникация, опо-
средованная компьютером, по своей механике не имеет ничего общего с
подражанини устной коммуникации. Запись данных и использование ин-
формации, полученной в результате обработки, так далеки друг от друга,
что полностью разошлись. Единства сообщения и понимания больше не
существует. Компьютерное сообщение невозможно понять ни на одном
этапе, кроме последнего, реализуемого специально для понимания чело-
века в форме интерфейса, «на выходе». Интерактивно «общаясь» с ком-
пьютером, человек не может ни идентифицировать источник, ни опереть-
ся на его авторитет, ни узнать мотивы передачи сообщения, - т.е. опе-
реться на социально релевантные признаки, по которым принимается или
отклоняется сообщение. «Все это ведет к крайнему социальному отчуж-
дению (soziale Entkopplung) медиального субстрата коммуникации», - пи-
шет Луман.314 Компьютерная коммуникация впервые порывает с авторите-
том экспертов, точнее, не позволяет персонализировать знание и пере-
плавлять его в авторитет. Благодаря технологиям обработки информации
каждый в принципе способен перепроверить высказывания экспертов,
например, самостоятельно обнаружить информацию, которая оказалась
недоступной для конкретного специалиста.
Менее проблемными и революционными в свете размышлений Лу-
мана предстают как раз количественные достижения информационных
312 Там же. С. 305.
313 Там же. С. 304.
314 Там же. С. 309.
167
технологий, в частности создание доступной для каждого и открытой ин-
формационной структуры - сети Интернет. Хотя Луман не высказывается
по этому поводу определенно, количественные параметры информации,
согласно логике его рассуждений, остаются социально несущественными
до тех пор, пока не найден способ мобилизовать и мотивировать участни-
ков коммуникации к принятию этой информации. Если Интернет останет-
ся большим набором данных, он будет только библиотекой или большим
каталогом товаров. Ситуация может измениться, если программные воз-
можности удаленной коммуникации позволят заменять традиционные
сервисы и вытеснять эти сервисы «из жизни», как заменяют уже сегодня
сайты знакомств институты сватовства. В этом случае не сам Интернет, но
его особая констелляция по отношению к символически генерализован-
ным средствам коммуникации, в частности, деньгам, власти, любви , смо-
жет действительно привести к глобальным сдвигам социальных структур.
Если письмо порождает пространственное расхождение сообщения
и понимания, то в компьютерной коммуникации это расхождение допол-
няется вещественным измерением смысла. Это может привести к далеко
идущим когнитивным изменениям. Зародыши такого процессаможно ви-
деть в изменениях форм знания, а именно, в предстающих как продукты
программирования абстрагированных от времени моделей оперативной и
процедурной рациональности в форме исчисления. Впрочем, Луман не
решается высказывать более конкретные суждения о возможных здесь
когнитивных изменениях.
Средства коммуникации не вступают в коммуникацию сами, они
представляют собой только медиум для коммуникации как формы. С точ-
ки зрения коммуникации, они представляют собой такое изменение окру-
жения, которое создает новые структурные соответствия в мире и тем са-
мым открывает неведомые ранее для коммуникации – тотальные по от-
ношению к ее прежним границам – возможности. Средства коммуникации
вносят в социальный мир новые виды комплексности, в рамках которых
коммуникация находит все новые воплощения и новые способы автопоэ-
тического процессирования. «В результате технические изобретения ве-
дут к тому, что весь мир становится коммуникационным. На место фено-
менологии бытия заступает феноменология коммуникации. Человек видит
мир такими, какими ему преподносит его образная коммуникация, – хотя
168
и не столь драматично, контрастно, под лупой, не так пестро и не так
«выборочно», как в массмедиа».315
Тотальность средств коммуникации, однако, имеет не только пози-
тивные, но и негативные стороны для самой коммуникации: «Современ-
ное общество, - пишет Луман, - кажется, достигло границы, за которой
нет ничего, что не вступало бы в коммуникацию;единственное исключе-
ние - коммуникация искренности».316 Развитие средств коммуникации
углубляет расхождение между возможной и актуальной коммуникацией и
значительно обостряет проблему селекции. Ибо в переизбытке коммуни-
кации и в ее сверхкомплексности, считает Луман, кроется негация и не-
коммуницируемость негации, т.е. неспособность справляться с собствен-
ной комплексностью.
Новые средства коммуникации изменяют также условия селективно-
сти коммуникации. В большинстве случаев техника приводит к однона-
правленности коммуникации. В коммуникации доминирует тот, кто пере-
дает информацию, используя медиа распространения. Взаимность комму-
никации становится невозможной, за исключением некоторых функций
интерактивности, доступных в сферах радио и телевидения. Коммуника-
ция в электронных медиа предполагает посредничество аппаратов и уже
только поэтому привязана к определенным местам, причем не на одной, а
на обеих аппаратных сторонах. Передатчик, с гораздо большей степенью
свободы, чем участник устной коммуникации, выбирает темы и формы то-
го, что считает нужным. Приемник селектирует сам, выбирая то, что хо-
тел бы слышать. Коммуникация между ними, правда, состоится после
цикла взаимных селекций, но не может себя контролировать. «Человек
селектирует уже не в коммуникации, а для коммуникации».317 Приобщен-
ность к коммуникации, т.е. жизнь «возле» коммуникационных аппаратов,
а не сама коммуникация, начинает формировать мотивацию людей.
Коммуникация через медиа распространения впервые создала фе-
номен массовой коммуникации, в котором принципиально не изменились
роли сообщающего и понимающего, но изменился сам характер селектив-
315 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 306.
316 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 311.
317 Там же. С. 312.
169
ности всех элементов коммуникации. Никогда прежде сообщающий не
считался с тем, что информацию может воспринять принципиально бес-
конечное множество реципиентов. При этом говорить ему приходится «в
пустоту», которая, как правило, означает полную неопределенность ак-
туальной аудитории. Это осложняет селекцию информации, ибо говоря-
щий уже не знает точно и не может рассчитывать на то, что информация
будет для всех новой. В то же время и аудитория оказывается в новом
положении бессловесности. Принимая участие в коммуникации, она со-
глашается «не участвовать в коммуникации» – только воспринимать, не
реагируя и не действуя. Власть сообщающего над принимающими стано-
вится тотальной. У принимающей стороны остается только одна возмож-
ность - выйти из коммуникации, т.е. из социальных отношений. Тем не
менее, сообщающий все равно может рассчитывать на то, что его сооб-
щение будет статистически принято позитивно, - исходя уже из одного
фактаотправления информации. В условиях коммуникативного плюрализ-
ма у сообщающего радикально ослабляются все паракоммуникативные
средства влияния на принятие или отклонение сообщения.
Все же существует и механизм защиты от «коммуникативного тота-
литаризма», замечает Луман, и заключен такой механизм в многообразии
источников коммуникации. Отныне каждый может оказаться одновремен-
но в множестве коммуникативных аудиторий, что было невозможно преж-
де. Свобода сообщающего открывается и в том, что он всегда может рас-
считывать на потенциальный позитивный ответ, даже если актуальная
коммуникация завершается негативным ответом.
В целом именно новые средства коммуникации обусловили в но-
вейшее время тенденцию к переходу обществ от иерархического к гете-
рархическому порядку. Если основания социального порядка – управлен-
ческая структура, организационная дисциплина – опираются на иерархи-
ческий принцип, то средства распространения коммуникации, считает
Луман, делегитимируют их, создавая альтернативные формы: «В иерар-
хиях достаточно наблюдать или воздействовать на вершину, рассчиты-
вая, что она способна решить проблему. Гетерархии опираются на сете-
вые контакты, дискриминирующие те, которые установлены на ме-
170
стах».318 Начиная с 18-го века в Европе, иерархии постепенно утрачива-
ют контроль над содержательной комплексностью средств коммуникации
и оказываются вынужденными примириться с принципиально гетерархи-
чески коммуницирующим обществом. Это разрушило семантические
структуры, в которых общество воспроизводит смысл. Переизбыток ин-
формации, продуцирующий пустые повторения, ведет к пустым усилиям.
Гарантии стабильности, действенные в гетерархическом обществе, совме-
стимы с существованием средств коммуникации, но не могут находиться в
их плоскости .
В целом массмедиа как средства распространения при всей их «де-
мографической» эффективности и способности воздействовать на коллек-
тивный менталитет не в состоянии, по мнению Лумана, решить свою ос-
новную задачу: селективно мотивировать социально релевантное пове-
дение индивидов. Безусловно, организованная система массмедиа меняет
индивидуальные мировоззренческие и деятельностные установки и таким
образом задает условия, с которыми должны считаться все социальные
подсистемы. Но Луман подчеркивает, что воздействие на индивида по-
средством телевидения, радио или прессы, вопреки распространенному
мнению, не заходит так далеко, чтобы производить массовые, гомоген-
ные, типовые представления. Даже обволакивая информацией, эти мас-
смедиа не уменьшают, а увеличивают степени свободы, с которой инди-
вид имеет возможность реагировать на зачастую противоположные ком-
муникационные предложения: при их избытке он принужден чаще отвер-
гать их, чем при их недостатке.
В этих условиях, считает Луман, оказывается необходимой селек-
ция: «Нечто проявляется как информация, если оно селектируется в ка-
честве различения. Это предполагает наличие схемы сравнения, которая
функционирует как условие возможности информации, но не передается
с ней, и таким образом не может контролироваться ее реципиентом».319
Среди примеров подобных предпосылок коммуникации Луман выделяет
следующее: сообщение должно представать как новое или отклоняющее-
ся, чтобы вообще быть замеченным. Это не исключает монотонных повто-
318 Там же. С. 312.
319 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 89.
171
рений (футбол, катастрофы, криминальные новости), а предполагает их.
Другой принцип отбора – конфликт. Подобные предпосылки, связанные с
дисконтинуальностью, действуют на общество дестабилизирующе и сти-
мулируют рост требований, сводящихся к «защите от» и «участию в из-
менениях», т.е. страхов и претензий одновременно.
Тем не менее порог селективности, который неизбежно поднимается
с интенсификацией коммуникации и усилением мощи массмедиа, препят-
ствует возникновению надежных механизмов реализации спонтанных и
некоординированных массовых коммуникаций при растущей системной
дифференциации: информация в них может быть произвольно отклонена,
и передающая система не способна узнать об этом. Массмедиа не создают
мотивации для безусловного завершения коммуникационного акта и не
может справиться с ростом комплексности общественных коммуникаций.
Это под силу только символически генерализованным средствам комму-
никации.
§ 4. Символически генерализованные средства коммуникации
Теория символически генерализованных средств коммуникации
принадлежит к наиболее оригинальным и интересным разделам луманов-
ского учения. Благодаря реализованной в ней расширенной трактовке
понятие средств коммуникации охватывает те разделы социологии, кото-
рые прежде описывали процессы структурной дифференциации и взаи-
моотношения субсистем. Это и позволяет Луману интерпретировать ос-
новные проблемы общества как коммуникативные.
Формулируя исходную проблемную ситуацию, Луман в значительной
степени обращается к наследию своего учителя, Т. Парсонса. Парсонс
исходил из того, что в ходе углубления системной дифференциации
усложняющиеся взаимоотношения и взаимная зависимость между субси-
стемами уже не позволяют производить спонтанные обмены между ними
на основе взаимного удовлетворения потребностей. Каждая система при-
нуждена подчинять свои внешние отношения общим, генерализованным
условиям совместимости с иными межсистемными отношениями. Многооб-
172
разные системные отношения опосредуются символически генерализо-
ванными «средствами обмена», такими как деньги или власть. Каждая
система должна координировать поведенческие ожидания, возникающие
как на уровне прямых межсистемных контактов, так и на символически
генерализованном уровне, другими словами – создавать специальные
языки для определенных видов межсистемных взаимоотношений. В ходе
системной дифференциации происходит институционализация специфи-
ческих для каждого медиа критериев и стандартов, например, для медиа
денег – институт «платежеспособности».
Свою концепцию символически генерализованных средств коммуни-
кации Луман считает необходимым вводить не на уровне субсистем и их
интеракций, а на более высоком уровне - коммуникации, из которой в
дальнейшем выводится понятие системной дифференциации. Это требует
от него расширения некоторых посылок Парсонса: «От ограниченности
отношениями обмена и взаимного удовлетворения потребностей можно
освободиться, если расширить проблему до коммуникации как таковой.
Тогда надо говорить не о средствах обмена, а о средствах коммуника-
ции… Тем самым проблема, которую заключают в себе средства коммуни-
кации, абстрагируется: речь идет не о достижении полной взаимности
(Reziprozität), а о гарантиях продуктивного хода коммуникаций».320
Свою основную проблему – гарантии сохранения системы – Парсонс
решает, опираясь на возвышающиеся над субсистемами ценности (коды),
которые гарантируют комплементарность ожиданий и их взаимное при-
знание. Основная форма символической генерализации у Парсонса –
язык, и средства обмена являются лишь особыми формами языка. Соеди-
няя два уровня – общий, основанный на формах первичного обществен-
ного предпонимания, и конкретный, ориентированный на индвидуальные
обменные трансакции услуг, Парсонс, по мнению Лумана, не решает ос-
новной проблемы их интеграции – проблемы мотивации принятия селек-
тивных редукций, ибо идея интернализации ценностей и социализации
лишь перемещает ее в психологическую область. Связь между индивиду-
320 Luhmann N. Einführende Bemerkungen zu einer Theorie symbolisch generalisierter
Kommunikationsmedien // Он же, Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2001. C. 34-35.
173
альными действииями в рамках структур социальных систем, таким обра-
зом, реализуется благодаря случаю, а не порядку.
Луман пересматривает посылки Парсонса, отказываясь от диффе-
ренциации уровней и переводя кодирование коммуникации на более вы-
сокий и содержательно бедный уровень бинарных кодов. Коммуникация
предполагает множественность участников, дифференциацию перспектив
и неконгруэнтность многообразия переживаний. Это структурное много-
образие выражается структурным многообразием языка, который спосо-
бен перерабатывать материал от исходящих из окружения возбуждений с
помощью функции дупликации в позитивное или негативное восприятие ,
т.е. коды «да» или «нет»: «Утверждается ли нечто коммуникативно или
отрицается, это зависит непосредственно уже не от событий в окружении,
а от внутренне управляемых процессов селекции».321 Тем самым ради-
кально редуцируется комплексность языковой информации, но еще не
гарантируется коммуникативный успех – принятие селекции для после-
дующих примыкающих переживаний и действий. Если в примитивных об-
ществах гарантировать продолжение коммуникации можно было альтер-
нативными методами прямого взаимного контроля присутствующих, то в
сложных обществах, где подобный контроль становится невозможным,
эту задачу принимают на себя дополнительные коды: ее решают такие
конкретизированные альтернативы, как «иметь - не иметь», «истина-
ложь» и т.д.
Ключевое событие в этом смысле – изобретение письма, которое
присваивает двойному кодированию языка своего рода «память», расши-
ряет его коммуникационный потенциал, но, одновременно лишает комму-
никацию возможностей интеракционного контроля. Язык посредством
письма в определенном смысле «ресоциализируется»: можно представить
себе, что смысловые коммуникационные оферты, сколько бы их ни было
написано, будут игнорированы коммуникативным сообществом.
Луман пишет: «Основания для принятия селекционных оферт долж-
ны реконструироваться на более абстрактном базисе, они должны быть
ориентированы на коммуникацию с анонимных сторон и отказаться от
связей на уровне этоса социальных связей между ближними. Это исход-
321 Там же. С. 36.
174
ный исторический пункт для дифференциации особых символически ге-
нерализованных средств коммуникации».322
Системная дифференциация становится возможной и набирает темп
исторически с того момента, когда коды средств коммуникации постепен-
но начинают распределять коммуникационное многообразие между раз-
личными симовлически генерализованными медиа: предложение денег
заставляет продавца отдавать товар, обоснование истинности информа-
ции заставляет ее принять, применение власти принуждает к исполне-
нию. Каждое средство порождает цепочки действий, которые сопровож-
даются взаимными ожиданиями. Коды специфицируют селекционную ти-
пологию и направляют коммуникацию в определенное русло. Только бла-
годаря им создаются предпосылки для построения комплексных социаль-
ных систем. Без них контингентность переживания и действия не могла
бы повышаться.
«Участвующие в системе выпадали бы из нее, если бы не было га-
рантий, что один перенимает селекции другого. Только с этими двумя
предпосылками высокой контингентности селекций и достаточного не-
равнодушия к отношению между ними могут возникать комплексные си-
стемы, которые структурно открыты и тем не менее могут синхронизиро-
вать поведение всех своих частей».323
Количество символических средств коммуникации у Парсонса по-
стулируется исходя из функциональной дифференциации системы, где
каждому уровню известной парсоновской функциональной схемы (так
наз. AGIL-схема) соответствуют определенные медиа: деньги, власть,
влияние и ценности. У Лумана дифференциация медиа обусловлена ро-
стом комплексности и контингентности и предполагает более сложное
обоснование посредством категорий «приписывания» операций: «Главное
следствие повышения контингентности заключается в необходимости
приписывания (Zurechnung) селекционных результатов».324 Требуется
установить, к чему относятся селекции, и определить их место. Выбор
покупки, признание значимости суждения, содержание поступка – явля-
322 Там же. С. 38.
323 Там же. С. 39.
324 Там же. С. 40.
175
ются результатом селекции, которую участник коммуникации активно
формирует или пассивно принимает. При редуцкции комплексности, воз-
никает две возможности выбрать «место приписки»: в системе (собствен-
ной или чуждой) или в окружении (собственном или чужом). Этим опре-
деляются две основные категории приписывания, на которые подразде-
ляются все операции в социальной системе. Если селекционные процессы
приписываются самой системе, они называются действиями (h), если к
окружению – переживаниями (e).325 Сама селекция - не действие, так как
выступает коммуникационной операцией, принадлежит к коммуникации и
не требует участия сознания и воли индивида. То, что является для си-
стемы действием, для окружения служит переживанием, и наоборот: то,
что выступает для системы переживанием, для окружения - действие.
При отнесении действия и переживания к двум сторонам коммуникации –
Alter (А) как передатчику и Ego (Е) как приемнику, возникают четыре ос-
новные констелляции, которые направляют дифференциацию символиче-
ски генерализованных медиальных кодов по разным каналам. Эта схема
представлена следующей таблицей 1.
Таблица 1
Переживания Ego Действия Ego
Переживания Alter Ae → Ee
(Истина/ценностные отношения)
Ae → Eh
(Любовь)
Действия Alter Ah → Ee
(Собственность/деньги/искусство)
Ah → Eh
(Власть/право)
В этом виде лумановская типология коммуникаций сильно отличает-
ся от парсоновской таблицы. Функциональная ролевая модель Лумана не
ограничена медиумами денег, власти, но остается открытой для других
возможных медиумов. В основе модели каждого типа коммуникаций – ис-
тины, любви, собственности, власти – лежит гарантия, побуждающая к
принятию смысловой оферты.
325 Луман обращает внимание на то, что это определение лишено каких бы то ни было
онтических или эссенциалистких коннотаций, - оно служит исключительно для объяс-
нения функций, ответственных за генезис системы. (См. там же. С. 67).
176
Каждый тип определяет преференции кодирования. Медиальный
код есть код преференций – и это основное отличие медиума от языка,
который не дает никаких преференций. Код принуждает принимать офер-
ту, если он имеет положительное значение, и отвергать ее, если отрица-
тельное. Сознательно выбирать ложь, отказываться от денег или славить
зло: в обществе все это должно выглядеть как акт глубоко иррациональ-
ный, равносильный безумию.
Так Луман отвечает на вопрос, почему существует один язык, но
много коммуникационных медиа. Медиальные коды предлагают дуплика-
ционные правила, позволяющие присваивать фактам, событиям, инфор-
мации значение ценности или ее противоположности (истина-ложь, сила-
слабость, прекрасное-безобразное). Дифференциация символически ге-
нерализованных коммуникационных медиа возникает всегда, когда коди-
рование преференций в рамках констелляционной типики помогает реду-
цировать комплексность и ведет к построению специфических функцио-
нальных систем. Луман отмечает, что как раз в высококомплексных об-
ществах процесс приписывания кодам происходит легко и незаметно и
проявляется в качестве функции, лишь когда возникают проблемы
(например, невероятности информации). Одно и то же событие может
дать повод к развитию различных коммикуционных медиа и способство-
вать различным видам кодирования преференций. Символически генера-
лизованные коммуникационные медиа имеют много общего с эволюцией
техники: «техничность» медиа состоит как раз в том, чтобы делать новые
комбинации селекции и мотивации доступными для особых случаев.
Луман критикует Парсонса за то, что его идея функционирования
медиальных кодов предполагает , что только нормативная легитимация и
психическая интернализация ценностных символов не может создать тре-
буемых мотивов действия. Мотивы, считает он, должны быть встроены в
селективность коммуникации. Селекция должна уметь мотивировать по-
средством самого способа селекции. Другими словами, принимающий Ego
не может отказаться от данной селекции (коль скоро он понял сообще-
ние), не рискуя разрушить коммуникацию. Создать такую селекцию мож-
но только при особых условиях и в особых контекстах. Эти условия вы-
зывают чувствительность медиа к факторам своего развития, которая
объясняет как возможности их эволюции, так и ее границы.
177
Попробуем раскрыть содержание основных типов медиа, представ-
ленных в приведенной выше схемы.
1. Коммуникация переживаний – от Alter к Ego и наоборот –очень
распространенный тип. Переживания Alter ведут к редукции переживаний
Ego. Обмен переживаниями не требует действий как таковых. В ряде слу-
чаев эта коммуникация приобретает важнейшую социальную функцию,
например, в случае, когда заимствование чужих переживаний позволяет
сэкономить на формировании собственного опыта и тестировать ситуа-
ции, используя не свои, а чужие усилия и разочарования.
Речь тут идет об обучении. Обучение было бы невозможно, если бы
коммуникация происходила в обычных рамках практик жизненного мира
– с жесткой связанностью религиозными и моральными схемами, с вни-
манием к институтам социального престижа и доверия, с существующими
интерпретациями явлений и заданными ожиданиями. Освобождение от
этих определенностей требует от коммуникации более жестких предвари-
тельных условий, которые делали бы принятие информации обязатель-
ным или во всяком случае серьезно осложняли бы возможность ее откло-
нения. Такова функция коммуникативных кодов истинности и неистинно-
сти. Код истинности принуждает принять чужие переживания, заставляет
игнорировать контекстные условия, заимствуя чужую селекцию.Луман
описывает жту функцию так:
«Это происходит посредством кондиционирования процесса припи-
сывания с помощью символической генерализации и бинарного кодиро-
вания условий, при которых участники могут быть едины в мнении, что
тематизируемая селекция должна рассматриваться обоими сторонами как
переживание. С помощью символически генерализрованного кода, кото-
рый регулирует отключение имеющихся различий между участниками,
все незнакомое, случайное, т.е. окружение, все не имеющее изначально
формы истины проходит тест на предмет истинности. Результаты оседают
в форме установленных истин или установленных неистин».326
В ходе кодирования, подводящего данные под дифференцирован-
ные и институционализированные условия, может обрабатываться огром-
ное количество информации окружающего мира, а посредством маркиро-
326 Там же. С. 46.
178
вания «истин» и «неистин» способны возникать комплексы представле-
ний высокой степени сложности. Особое достинство этих комплексов –
сохранение возможности дальнейшего оперирования, наслаивания все
новых истинных и неистинных элементов. По отношению к критериям ис-
тинности факторы, обычно примыкающие при коммуникации пережива-
ний, теряют значение в качестве мотивов принятия. Психологические
страхи и эмоции, дороговизна материалов и институциональный автори-
тет могут иметь значение, но их мотивация утрачивает приоритетный ха-
рактер. Наука в качестве автопоэтической системы приобретает критиче-
ский объем, который позволяет максимально отмежевываться от импера-
тивов природы и тем самым создавать один из ключевых механизмов об-
щественного развития.
2. Проблема приписывания коммуникации структурируется совер-
шенно иным способом, если действия Ego ведут к редукции переживания
со стороны Alter. Максима выбора действия у Ego звучит так: «Как пере-
живает меня Alter?» Тогда все действия Ego обусловлены стремлением
привлечь внимание Alter. Комлпекс культурных предписаний в этой обла-
сти характеризуется представлением о любви и дружбе(код можно обо-
значить «любовь/нелюбовь»). Предметом коммуникации становится во-
прос о том, любит ли Alter, и все действия Ego направлены на то, чтобы
вызвать переживание любви у Alter. Если Ego начинает вести себя подоб-
ным образом, он ставит Alter в щекотливое положение – тот должен отве-
тить или позитивно, или негативно. Предложение любви невозможно не
заметить или обойти.
Луман подчеркивает, что на основе любви строится одна из самых
сложных подсистем общества. Если в древних обществах код любви син-
тетически связан с правовыми (справедливость) и религиозными (боже-
ственная любовь) понятиями, то начиная со Средневековья, с ростом
индвидуализации жизненного мира этот медиум усложняется. Культиви-
рование, начиная с Нового времени, романтического представления о
страстной любви сначала легититмировало отклонение от традиционной
брачной практики, определявшейся экономическими соображениями, по-
степенно превратившись в предписание основывать брак на личной,
страстной любви.
179
Соответственно расширяется пространство для культивирования ин-
тимных отношений. Характерные романтические парадоксы (слу-
чая/судьбы, принудительности/свободы) в любви являются дериватами
исходного кода и шифрованием специфических любовных констелляций
приписывания. Возникающий медиум бинарно схематизирует коммуника-
цию, ужесточая правило: «Ты и никто другой». Луман анализирует:
«Таким способом мир дуплицируется, раскалывается надвое: на
публичный, анонимно конструированный жизненный мир и на идиосин-
кратически конституированный приватный мир, в котором события оце-
ниваются «параллельно», и Я благодаря релевантному отношению к миру
другого приобретает особое значение, которое компенсирует его публич-
ную незначительность. Эта дупликация драматизирует проблему переда-
чи селекции и принуждает к переносу на уровень символической генера-
лизации... Благодаря таким символам возникает вид автокатализа в том
смысле, что в согласии со сравнительно простыми, способными к ин-
теракциям правилами селекции и передачи с помощью соединяющих сим-
волизаций, например романтических клише, и правилу дупликации , диф-
ференцируются субсистемы и особые окружения высокой комплексности,
которые принимают на себя специфические общественные функции».327
3. Обратная констелляция приписывания производит соверешенно
иные эффекты: Alter действует и Ego должен воспринять эту редукцию
как переживание. При этом Ego должен принять контингентный выбор
другого. Типичная область такой ситуации – отношения между продавцом
и покупателем, денежные обмены. Если эта передача селекции происхо-
дит в условиях недостаточности ресурсов, и Alter обладает этими ресур-
сами, то другим заинтересованным сторонам приходится молча признать
редукцию. Это условие долгосрочных и многосторонних экономических
операций, которые ведут к созданию высококомплексной экономической
системы, включающей в себя такие стороны, как образование капитала,
кредитоспособность, рациональный расчет и т.д.
Кодирование экономического медиума происходит на основе разли-
чия «иметь - не иметь». Луман различает правовую форму собственности,
которая легитимирует доступ к ресурсам статически и форму обращения -
327 Там же. С. 48.
180
деньги, которая обусловливает такой доступ динамически. Функция обеих
форм состоит в селективном удовлетворении потребностей и обмене ре-
сурсами. Общественной эволюции эта форма коммуникации гарантирует
толерантность к нестабильности и неравномерности распределения обще-
ственных ресурсов, которые иначе приходилось бы постоянно перерас-
пределять.
«В рамках общественной системы, - пишет Луман, - этот медиум …
мотивирует принятие действий обладающих на уровне переживания все-
ми необладающими, богаты они или бедны. Собственность и деньги обу-
словливают возможность толерантного отношения к богатству как усло-
вию высокой спецификации экономических процессов. С этим связана
способность делать конкретное исполнение экономических процессов
отосительно независимым от имущественных различий в отношениях
между партнерами. Грандиозное намерение теории и практики граждан-
ского общества заключалось в том, чтобы достичь этого исключительно
на пути экономики и ограничить политические функции до минимума,
прежде всего, правовыми гарантиями».328
4. Когда Ego ориентирует свои действия на действия Alter и Alter
ставит целью решить, как следует действовать Ego, речь идет о таком
средстве коммуникации, как «власть». Кодирование власти определяет
два возможных направления развития событий: либо в соответствии с
замыслом властителя, либо в противоположном направлении. «Дуплика-
ционное правило власти звучит: конструируй негативно оцененную аль-
тернативу, которой хотят избежать и Еgо и Alter, но Ego хочет этого
сильнее, чем Alter. Примеры: применение физического насилия, увольне-
ние со службы. Перед лицом смены альтернатив на обеих сторонах могут
возникать более или менее невероятные селекционные мотивы и ком-
плексность … может необычай но повышаться.»329 Код власти позволя-
ет редуцировать комплексность «с уровня эксплицитой коммуникации до
уровня комплементарного ожидания». Подчиненный предвосхищает не
только реакции властителя на отказ выполнить его желания, т.е. альтер-
328 Там же. С. 49. Луман ссылается на статью: Kaldor N. Welfare Propositions of Econom-
ics and Interpersonal Comparison of Utility. Economic Journal 49, 1939.
329 Там же. С. 50.
181
нативы избежания, но и сами эти желания. Власть имущий даже не нуж-
дается в том, чтобы отдавать приказы, эта функция может быть передана
инициативе подчиненного.
Власть служит катализатором для выстраивания цепочки действий,
в которых селекция одних действий примыкает к селекциям других. При-
чем властитель может определять способы осуществления своей власти
многоступенчатым образом, делегируя функцию кодирования и лишь кон-
тролируя ее эффективность (ресурс влияния). Таким образом в цепочку и
сферу власти может быть вовлечено множество агентов. Это ведет к
дифференциации иерархических структур и разделению ролей в ком-
плексной политической системе.
Рефлексивность власти, т.е. способность ориентироваться на ее ис-
точник, - высшего властителя, должна компенсироваться спецификацией
власти: «Образование цепочек требует возведения барьеров на пути чу-
жеродного для системы и нефункционального использования власти, что
является условием усиления власти, роста ее потенциала и решительно-
сти в ее применении».330 Кодирование власти сопровождается смежными
кодами – власть способна влиять на экономические процессы, на воспи-
тание и даже на любовь. Но она не способна заменять кодирование по-
следних. Точно так же многие факторы – такие, как харизматические ка-
чества, знания и опыт, психологическая интуиция – помогают эффектив-
ному использованию власти, но не являются властью как таковой. «Па-
раллельно собственно коммуникативным кодам, становящимся все более
абстрактными и специфицированными, формируются коды с исключи-
тельными свойствами, способные выполнять примерно ту же функцию,
что и основные коды».331 Различение («формальной» и «неформальной»
власти) возникает, когда общая сложность системы превышает возможно-
сти кодирования одного властного центра.
Со смежными кодами не следует путать вторичный код, каким для
власти является «право/бесправие». В ситуации неопределенности пози-
ции и источника власти правовое кодирование обеспечивает существова-
ние дополнительного кода, стабилизирующего возможности политическо-
330 Там же. С. 65.
331 Там же. С. 67.
182
го кодирования. Право не просто гарантирует безвластному индивиду
участие в общественной власти. Оно также упорядочивает взаимодей-
ствие различных источников власти: «Право как властный код является
структурным источником легитимности власти. И тогда легитимность ока-
зывается связью контингентности внутри властной сферы».332 Код власти
обеспечивает стабилизацию системы - благодаря иехархически-
переходному порядку властных отношений, избавляющих от столкнове-
ний на почве выяснения неясных властных отношений.
Код власти предполагает способы символизации источников власти
и ее границ, но не те или иные селекции власть имущего. Тем не менее
личность человека, обладающего властью, при кодировании теряет зна-
чение, она является фактором ожидания в выборе редукций, но переста-
ет конституировать власть как таковую. Для кода власти характерна
дифференциация должности и лица, обезличивание медиа. Значение
имеет связь власти и должности, а не власти и личности.
Перечисленные средства коммуникации далеко не исчерпывают
всей совокупности медиа, описываемых с помощью констелляционной
схемы: они возникают в таких областях, как религия, мораль, искусство,
но более частные способы кодирования информации тоже способны обра-
зовывать многообразие медиа (авторитет, родственные отношения и
т.п.). Практически за каждой социальной категорией, основанной на
коммуникации, или за тем или иным социальным институтом, может
скрываться специфический вид коммуникационных медиа. Каждый из них
имеет разное значение и степень развития. Луман выделяет несколько
аспектов и переменных, играющих роль в развитии медиа.
1. Дифференцированность медийно специфических субсистем обще-
ства.
Если для Парсонса проблемы медиа связаны с социальной диффе-
ренциацией, то для Лумана, напротив, медиа создают шанс самостоя-
тельного построения комплексных систем и являются основным инстру-
ментом эволюционного успеха. Как результат дифференциации специ-
альных систем, например, вследствие применения власти (политическая
система) или трансакции финансов и собственности (экономика) , возни-
332 Там же. С. 79.
183
кают как проблемы, специфические для данного медиума (например, не-
достаток средств начинает ощущаться как постоянная проблема, форми-
руя экономическое мышление), так и их облегченное рутинное решение.
Предпосылки образования субсистем связаны со многими факторами, и
не в последнюю очередь – с воздействием медиа друг на друга и порож-
даемыми ими устойчивыми семантиками, определяющими эпоху. Отдель-
ные медиа всегда остаются структурно ущемленными в своих шансах на
системообразование и не могут выполнять первичные функции в обще-
стве.
2. Совместимость с системами окружающего мира на органическом,
психическом и социальном уровнях генезиса систем.
Эти проблемы возникают в тех комплексных субсистемах, где , не-
смотря на дифференциацию существует множество системных взаимоза-
висимостей. Например, все медиа связаны со сферой органических си-
стем, которые могут как мешать, передаче селекций так и способствовать
ей. Все медиа создают регулятивы в отношении органических процессов.
Эти регулятивыЛуман называет симбиотическими механизмами.333 Для
каждого медиа существует только один подобный механизм: для истины –
восприятие, для любви – сексуальность, для собственности/денег – удо-
влетворение потребностей, для власти/права – насилие. Эти механизмы
реализуют пластические, осмысленные и тонко специфицируемые орга-
нические и психические процессы, которые не следует смешивать. Их
особая роль заключается в том, что они при своем в целом маргинальном
положении в коммуникационном процессе устанавливают связь между
центральными функциями тестирования, безопасности и доказательства.
Все коммуникационные медиа связаны с психическими процессами.
Селекционные мотивы не могут возникнуть непосредственно в психиче-
ской системе, они возникают на обходном пути, через социальные комму-
никации. Этот обходной путь мотивообразования не является само собой
разумеющимися, а предполагает установление стратегических запретов
на самоудовлетворенность, которая сделала бы коммуникацию излишней.
Поэтому коммуникационные коды содержат в себе также символы с
333 См. Luhmann N. Symbiotische Mechanismen. // Otthein Rammstedt (Hrsg.) Gewaltver-
haeltnisse und die Ohnmacht der Kritik. Frankfurt,1974. С. 107-131.
184
функциями запрета на самодостаточность: запрет прямого насилия, дис-
кредитация самоудовлетворенности в вопросах сексуальности, отклоне-
ние экономической аскезы, неприятие интроспективных источников зна-
ния.
Взаимоотношения и взаимозависимости между дифференцирован-
ными субсистемами, считает Луман, предполагают возникновение комму-
никационных процессов, преодолевающих внутренние границы субси-
стем. Для их протекания требуется, во-первых, определенная индиффе-
рентность в отношении флуктуаций в других областях (любовь не исчеза-
ет вследствие политических и экономических катастроф), во-вторых,
способность подключать иные медийные области в качестве мобильных
ресурсов (власть для выполнения своих задач пытается поставить на
службу и деньги, и истину). Речь идет о конвертируемости одних медиа в
другие. С одной стороны, медийно -специфические коды должны оста-
ваться разнесенными (деньги не служат доказательством истины, а исти-
на не делает политику). С другой стороны, на мотивационном уровне
углубляются влияния и взаимозависимости, которые принимаются во
внимание при принятии решений: например, экономические обстоятель-
ства при заключении брака, политические обстоятельства при выборе
научной темы. Важно, чтобы при этом не происходило вторжение в би-
нарные структуры чужих медиа, чтобы деньгами не определялись реше-
ния относительно значений «истинно/неистинно», «право/бесправие» и
т.д.
Нужно учитывать, что медийно специфические коммуникационные
процессы протекают, как правило, рефлексивно, т.е. самоприменимо:
научное исследование само может быть исследовано, власть может быть
применена к власть имущим. Рефлексивность предполагает функцио-
нальную спецификацию процессов и служит для усиления управляемости
и функциональности посредством двухступенчатой редукции комплексно-
сти: на первой ступени медиа применяются к любой информации, здесь
они универсальны, на второй ступени – к самим медиа, и здесь они спе-
цифичны. Двуступенчатые структуры становятся в сложном обществе в
высшей степени необходимы, они ведут к углублению дифференциации
медийных областей, побуждая к созданию внутри каждого медиа частных
проблемных сфер, не охватываемых общими ответами. Поэтому они слу-
185
жат скорее для дифференциации социальной системы, чем для ее инте-
грации. Подобные структуры в общем смысле несут в себе неопределен-
ность, в специальном - определенность. Врач может судить обо всем, но
только в его собственной области его суждения становятся рефлексивно
определенными и компетентными. «На уровне общественной системы
этому соответствует представление мира как совокупности возможного,
которая остается неквалифицированной в отношении утверждения и от-
рицания, т.е. не может быть ни принята, ни отклонена», - обобщает Лу-
ман.334
Рефлексивность порождает усложненные комбинации и цепочки се-
лективных актов переживания и действия, создавая проблемы осуществ-
ления каждого медиа вопреки другим медиа и в их контексте. Это выра-
жается в задаче контролировать последствия, предвосхищать завершения
и необходимости нести ответственность за отклонения в коммуникатив-
ном процессе. Ученый, будучи убежден в истинности своих результатов,
может оказаться не способным убедить в этом коллег исключительно си-
лой научных аргументов – по причине весомости для последних иных
факторов (власти, авторитета и т.д.). Это же, например, очевидно из
наличия проблемы централизации политической ответственности в диф-
ференцированных обществах, где каждая специальная область стремится
по возможности не допускать к своим операциям иные медиа.
Луман обращает внимание на возникновение «смежных кодов» (Ne-
ben-Code), которые усложняют комплексность медийных областей. Не-
редко возникает тенденция структурного смещения к смежным кодам, ко-
гда, например, гарантией истинности становится репутация, или власть
переходит к неформальным участникам политической системы и т.д. К
типичным особенностям структуры смежных кодов относятся способность
выполнять одну и ту же функцию, т.е. заимствовать функции, большая
конкретность и зависимость от контекста, меньшая техничность и обще-
ственная легитимация. Они не ставят основной код под сомнение, а пара-
зитируют на нем и соответственно его ослабляют. Они могут и компенси-
ровать и стабилизировать систему при ее перегрузке. Во всяком случае,
334 Там же. С. 56.
186
они препятствуют конвертации одних кодов в иные медиа-коды и не пре-
пятствуют сохранению автономии медиальной системы.
4. Доступность и институционализируемость символизаций.
Все медиа реализуют функцию контингентных формул, о которых
Луман пишет: «Это означает: они должны сделать понятным и убедитель-
ным, что переживания и действия осуществляются определенным спосо-
бом, хотя или даже именно потому, что возможен и другой. Это происхо-
дит на самом абстрактном уровне медийного кода - не посредством обос-
нования самих селекций, а посредством редукции неопределенной кон-
тингентности к определенной».335 Например, экономическая формула
контингентности «недостаток средств» (Knappheit) предполагает, что ес-
ли один участник что-то получает, то другой не может избежать потерь.
Для влюбленных, если они нашли друг друга, встреча предстает одно-
временно как случайность и как необходимость. Актуализация этих фор-
мул контингентности остается, как правило, связанной с конкретными об-
стоятельствами и морально-религиозными обоснованиями и редко ре-
флектируется в своей абстрактной сущности.
Луман подчеркивает, что коды получают название по своей «луч-
шей половине», позитивной стороне (любовь, истина), хотя код не имеет
преференций. Не существует специальных вербальных символов для про-
тивоположной стороны, для дизъюнкций как дизъюнкций: к ним только
добавляется частица «не». Это связано с тем, что по классическим пред-
ставлениям отрицание в медиа-кодах воспринимается не как нечто само-
стоятельное, а как несовершенство по отношению к совершенству. Обос-
нование негации возможно только по формуле теодицеи. Совершенство
выступает как превосходная степень и занимает критические позиции в
отношении несовершенства: это и дает основания для символизации ко-
дов (пример – любовь к Богу как модель для любви вообще). Только в
Новое время возникают процессуальные понятия (эволюция, рефлексия),
которые позволяют переместить отрицание на само отрицание, т.е. про-
тивные стороны становятся в них равнозначными.
Символам медийных кодов, как правило, приписывается моральное
качество. Это происходит, когда их признание и реализация через нормы
335 Там же. С. 59.
187
становится условием взаимного человеческого уважения. Любовь и исти-
на, богатство и власть становятся предпосылками позитивной социальной
оценки их носителей. Для этих ситуаций характерна и морализация отри-
цательных запретов. Она не запрещает выбор отрицательных значений,
но штрафует за него потерей морального уважения и делигитимизирует
возможность обобщения отрицаний, например, блокирует нормативиза-
цию логики морали зла (к попыткам такого рода можно отнести сочине-
ния Маркиза де Сада и т.п.). Тем не менее, общая тенденция состоит в
том, что специфические функции кодов деморализируются (нейтрализу-
ются) в интересах более высокой свободы негации для специфических
операций.
Переход мотивов с индивидуального на социокультурный уровень ,
повышающий эффективность функциональных систем общества и дости-
гаемый посредством символически генерализованных медиа, не может не
нести с собой негативных последствий, диагностицируемых в современ-
ной литературе как кризис мотивации. Под мотивацией в терминах Лума-
на подразумевается обоснование селективности в сложных высококон-
тингентных смысловых системах. «В качестве мотива, - определяет Лу-
ман, - обозначается не общая органически-психическая моторика инди-
вида, а осознанное в социальных коммуникационных процессах основа-
ние селективного действия… Потребность в мотивах повышается вместе с
растущей контингентностью и слективностью. Это ставит вопрос о моти-
вационных границах роста… К подобным проблемам, которые могут взо-
рвать отдельные медиа-коды, добавляются другие, которые касаются
размаха дифференциации и артикуляции специфически функциональных
медиа. Именно посредством сверхформализованной, высокодифференци-
рованной медиа-структуры можно диагностицировать проблемы, порож-
дающие кризисы мотивации».336
Если медиа распространения компенсируют свое развитие новыми
степенями свободы, то символически генерализованные медиа, напротив,
ограничивают степени свободы личности. Проблема свободы традиционно
рассматривалась в связи с феноменом власти. Но искушение денег, сила
истины и даже фатализм любви – столь же жесткий вызов свободе, что и
336 Там же. С. 62.
188
принуждение насилием, практикуемое властью. Традиционная социаль-
ная среда, где одни медиа служат ограничением другим, изначально име-
ет дело с рациональным распределением коммуникации, т.е. символиче-
ских медиа, в рамках целого. В социуме, освободившем функциональные
субсистемы от рационального контроля, уже не происходит гармонизации
различных медиа . Освобождение медиа с их мотивационным давлением в
функционально дифференцированном социуме легко может вызывать пе-
регрузки личности. Это выражается и в переизбытке предложения на
рынке, и в идеологическом плюрализме, т.е. переизбытке информации,
конкурирующей за достоинство индивидуальной истины, и в разрушении
института брака вследствие переизбытка потенциальных возможностей и
актуальных требований к исключительности в сфере любовных отноше-
ний, и т.д. Понятие свободы имеет смысл в противопоставлении необхо-
димости, с которой медиа мотивируют, осложняя возможности отказа. В
ситуации переизбытка предложений, на которые невозможно ответить со-
гласием, но трудно и отвечать отказом, возникает перегрузка мотиваци-
онных систем, разрушающая рациональную ситуацию свободы и оставля-
ющая место лишь случаю, неконтролируемой личностью контингентности.
Луман исходит из тезиса, что наша культурная традиция в большой
мере сформирована медийными функциями, что она порождена автосе-
лективными, автокаталитическими процессами, которые опосредованы
медиа-кодами. Это развитие достигло пункта, когда стали ощутимыми
границы символического контроля над негационными потенциалами -
прежде всего вследствие рефлексивности направляемых коммуникацион-
ными медиа процессами, их обращенности на себя. Сфера медиа создает
самодостаточную реальность, из которой затруднен выход в иную реаль-
ность. Самоприменимость медиа означает тотализацию всех медийных
областей; когда, к примеру, ценность денег начинает определяться толь-
ко ценностью денег (валюты), а верификацией логики выступает сама ло-
гика. То, что в случае re-entry («обратного вхождения») создавало не-
определенность системы, начинает определять черты социальной систе-
мы, угрожая глобальной нестабильностью. Это коренным образом меняет
коммуникационную ситуацию и ставит вопрос о том, может ли мотивация
выдержать тотализацию медиа и к каким медиа вынуждена будет для это-
го прибегнуть. Ведет ли этот круг к эсхатологической антиномии или к
189
грандиозной тавтологии? Прогностические вопросы Луман предоставляет
решать читателю.
§ 5. Религия и мораль как средства коммуникации
Наряду с символически генерализованными средствами коммуника-
ции, занимающимися собственными предметными областями, Луман вы-
деляет религию и мораль как особые универсальные средства коммуни-
кации. В эволюционном плане они примыкают к языку и образуют
направление развития, альтернативное символически генерализованным
медиа. Они отвечают не за процессирование и примыкание дальнейших
операций, а за их ограничение, за создание системных границ этих про-
цессов.
Луман дает оригинальную функционалистскую трактовку коммуни-
кационной сущности религии. Религия как наиболее элементарное сред-
ство коммуникации возникает вследствие применения языкового кода к
самой коммуникации. Одна сторона коммуникации при обращении на нее
языкового кода воспринимается при этом как коммуникационный запрет,
прекращение коммуникации, необходимость сохранения тайны. Это рели-
гиозное истолкование коммуникации. Религия в интерпретации Лумана -
это прежде всего потребность хранить тайну, коммуникация о непости-
жимом. Другая сторона коммуникации подлежит табу, которое тем не ме-
нее само доступно для коммуникации. Табуизация делает возможным ис-
ключение и принимает типическую форму даров и жертв, толкуемых с
помощью молитв. Здесь корни практической магии, которая дает большее
пространство для коммуникации. В дальнейшем табу сменяется продол-
жающим его моральным кодом, открывающим большие возможности со-
циального примыкания. Значение религии в обществе тем больше, чем
сильнее коммуникация в нем структурирована коммуникационными за-
претами.
Религия непосредственно связана с самыми основаниями наблюде-
ния. Она занимает тот невидимый «unmarked place», слепое пятно, кото-
рое возникает при наблюдении мира. Она сосредоточивает в этом месте
190
последний горизонт мира, придает всему постижимому трансцендентный
смысл. «Религия присутствует как никогда не достижимая противополож-
ность всего определенного. И именно эта недостижимость «связывает»
наблюдателя, который сам изымает себя из наблюдения того, что может
обозначить. Обратное привязывание необозначаемого к обозначаемому -
это в каждом культурном формообразовании и есть «религия»».337
Религия как семантика и практика призвана различать знакомое и
незнакомое (Vertrautes/Unvertrautes). Это различие создает разделение
мира, делает незнакомое знакомым. Но оно позволяет и отчуждать зна-
комое, вызывает ощущение своего присутствия в пространстве и времени
как в незнакомом окружении. Таким путем религия включает авторефе-
рентность и инореферентность социальной системы и отвечает за то, что
оперативно закрытая социальная система остается в себе открытой миру.
«Организованное недоверие», создающее различие между «посвященны-
ми» и непосвященными - одна из первых дифференциаций примитивных
обществ.
В таких обществах коммуникация в преобладающей степени связа-
на коммуникационными запретами, а знание доступно лишь узкому кругу
инициированных. Тут «проблемы коммуникации решаются или по мень-
шей мере структурируются посредством подавления коммуникации».338
Сохранение в тайне предотвращает произвольность в обращении с неэм-
пирическим знанием. Знание должно быть защищено в отношении комму-
никации.339 Для развития знания создаются особые пути – предсказаний,
дивинационных (гадательных, магических) техник. Эти техники предпо-
лагают различение поверхности и глубины, видимого и невидимого,
находящее выражение в религиозных символах.
Большую роль в подавлении коммуникации в рамках самой комму-
никации играет ритуал. В форме языковой коммуникации онтрактуется
Луманом не как коммуникация, а как квазиобъект. В ритуале не разли-
чаются сообщение и информация - он информирует только о самом себе.
337 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 232.
338 Там же. С. 233.
339 Луман отмечает революционную роль, которую должно было сыграть для религиоз-
ного сознания учение о богоявлении.
191
Коммуникация посредством ритуала происходит там, где уже нет «риска
коммуникации». Религиозные формы порождали и другие способы охра-
нения коммуникации от коммуникации. Тайна играла важную роль в по-
давлении внешних социальных влияний на принятие политических реше-
ний и решений вообще, так что на этой почве развилась культура «пред-
сказаний», формирующая сложные программы кондиционирования зна-
ния в целях защиты от ошибки.
Мудрость – форма знания, которая развивается в архаической куль-
туре – представляет собой, по Луману, прежде всего способ отношения к
незнанию. Ее высказывания не контролируются на предмет логической
консистентности, не систематизируются, не проверяются. Поскольку муд-
рец знает, что он ничего не знает, знание только выхватывает каплю из
моря незнания. Дефицит знания компенсируется тем, что человек «про-
живает» истину, гаранитирует ее посредством собственной моральной чи-
стоты и репрезентирует истину как способ жизни мудрого: «Этой отсыл-
кой к способу жизни гарантируется, что мудрец живет на определенной
дистанции к нормальному поведению высшего слоя общества, в опреде-
ленном смысле вне сословного порядка, как пророк или монах, как про-
рицатель или юродивый; соответственно предполагается, что аутентич-
ность его высказываний не может быть поставлена под вопрос, а возни-
кает из самой его мудрости».340
Мудрость есть культурная форма наивности. Ее право – дуплициро-
вать сакральные тексты посредством цитирования и интерпретации, оста-
ваясь в границах священного. Мудрость – особая форма свободы обраще-
ния с религиозными истинами, признаваемая только после приобретения
особого авторитета. Она позволяет дуплицировать объективность, но не
переходит к наблюдению наблюдений. Тайну нельзя конструировать, ее
можно только деконструировать, создавать ее эрзацы-дериваты наподо-
бие пословиц, поговорок, парадоксов, которые и не таинственны, но и не
раскрывают тайну.
На основе парадокса как произведения мудреца, в обществе рази-
вается мораль, источник которой Луман видит в религии и религиозном
кодировании. Мораль сугубо симметрична: она оперирует под запретом
340 Там же. С. 240.
192
самоисключения. Кто морально аргументирует, должен сам быть морален,
иначе его слова бессмысленны. Морально судящий о зле сам должен быть
добр. В этом заключается парадоксальность морали: она сама добра, хотя
судит и о добром, и о злом. Обоснование этого мораль может найти толь-
ко в асимметричной по своей природе религии, а именно, в религиозном
фундировании в Божьей воле, которая ограничена тем, что может быть
только благой. Религиозная основа морали – а без нее невозможно избе-
жать релятивизации – устанавливает между религией и моралью нераз-
рывную связь, превращая их в универсальный культурный артефакт.
Обосновывая мораль, религия морализируется, но возникающий отсюда
этого парадокс – вопрос о том, почему существует зло, если Бог благ и
создал мир благим, – она оформляет в виде религиозной тайны.
Мораль универсальна, потому что существует везде, где люди об-
щаются: «О морали мы говорим в тех случаях, когда и где индивиды об-
ращаются друг с другом как индивиды, т.е. как различные личности, и
определяют свои реакции в зависимости от суждения о личности, а не о
ситуации».341 Неспособность воспринимать ситуацию затрудняет мораль-
ной регуляции встраиваться в функционально дифференцированные про-
цессы общества. Мораль скорее стремится на основе индивидуального
нормирования преодолеть функциональную дифференциацию и благода-
ря этому выступает важным интегрирующим фактором социума – в той
мере, в какой не вступает в конфликт с принципом функциональной
дифференциации.
Мораль представляет собой сложный механизм социальной коорди-
нации и, по убеждению Лумана, не может сводиться к «применению ра-
зумно обосновыванных правил». Мораль производит особый тип норм,
ибо зависит не от нормирования, а от кодирования, которое основывано
на различении уважения и неуважения (Achtung/Missachtung). Мораль-
ный код (хорошо/плохо) «перпендикулярен» языковому (да/нет), так как
каждая языковая оферта может быть как принята, так и отклоне-
на.Моральный код способен создавать столь же сложные комбинации
кондиционирования жизненных практик, как и язык. Эта комплексность
основана на оценке поведения Ego и Alter в рамках социального про-
341 Там же. С. 244.
193
странства. Редукции морали формулируются как условия уважения или
неуважения – будь то в форме поведенческих предписаний или в форме
списка добродетелей и грехов, в форме целей или правил. «Медиумом
мораль становится благодаря отсылке к условиям, при которых люди
уважают или не уважают себя и других».342 Мораль является обществен-
ной универсалией, с помощью которой человек реагирует на невероят-
ность принятия коммуникативно навязываемого смысла, - в случаях, ко-
гда не существует «вещественных» оснований для его принятия. Значе-
ние морализации коммуникации должно быть особенно большим в про-
стых обществах, которые еще не создали ориентацию на правилах, не го-
воря уже о «субъективных» ценностях, а довольствуются конкретной
квалификацией людей и их поведения от ситуации к ситуации.
Луман отмечает, что по мере эволюции общества возникают все но-
вые уровни доступа для морального кода: если в примитивных обществах
грех воспринимается как судьба, то с появлением рефлексивности мора-
ли происходит следующее: как только некто (а именно, мудрец) сообща-
ет, при каких условиях следует уважать/не уважать, –моральный код
становится тотальным, индивид рефлексирует свое поведение, что, с од-
ной стороны, дисциплинирует моральные требования, а с другой – делает
неизбежными моральные конфликты. Асимметризация социального уров-
ня системы ведет к размежеванию моральных требований для различных
слоев общества. Наконец, начиная с эпохи Средневековья мораль благо-
даря введению исповеди оказывается под контролем сознания. Она начи-
нает оценивать «внутреннюю» сторону поведения. Это предполагает, что
каждый знает правила и, контролируя себя, делает выбор: уважать или
нарушать правила морали. Луман рассуждает: «Совместное давление
теологии и морали стимулирует требовать от себя раскаяния (contritio) и
способствует развитию в обществе священнической машинерии мораль-
ного консультирования».343
Луман очерчивает этапы социальной эволюции морали в европей-
ской культуре. В Новое время параллельно с развитием символически ге-
нерализируемых медиа, происходит спецификация приписывания мо-
342 Там же. С. 397.
343 Там же. С. 247.
194
ральных действий, выступающая условием их моральной квалификации.
К морали предъявляется требование особого внутреннего настроя (сен-
тиментализм), и по мере субъективизации мораль отъединяется от соци-
ального статуса. В 17-18-м веках происходит теоретическая и психологи-
ческая проблематизация морали. С распространением книгопечатания
распадается единство морали и религии. Религия уже не рассматривается
как полноценная концепция мироздания, а лишь как коммуникация осо-
бого вида, наделенная особыми функциями.
В современном обществе морализирование распространено так же,
как и раньше. Но мораль, считает Луман, уже не способствует обще-
ственной интеграции, как и религия. Используемый код «добро/зло» ста-
новится все более пустым. Ибо в современном обществе отсутствует кон-
сенсус относительно критериев, по которым приписываются ценности
добра и зла. Конкретные программы и правила, которые определяли бы,
какое поведение можно оценивать позитивно, а какое негативно, больше
не предписываются ни религией, ни моралью. В поликонтекстуальном
мире им уже нельзя следовать единогласно. Но на смену морали не при-
ходит аморальность. Просто возникает все больше моральных оснований
отвергать формы, которые обоснованны столь же морально.
Этой социальной неадекватности морали на семантическом уровне
соответствует индивидуализация морали, ее переориентация на внутрен-
нее убеждение (в противоположность внешнему принуждению), т.е. на
самомотивацию. Индивидуальная этика отчуждена сегодня как от рели-
гии, так и от права. Если в современном обществе– в таких специальных
сферах деятельности, как экономика, политика, медицина, журналистика
– возникает стремление создавать специальные «этики», то обычно не
обсуждается вопрос о том, каковы социальные механизмы, которые поз-
волили бы им стать действенными. В дискуссии о социальной этике с
представителями Франкфуртской школы Луман выступает как радикаль-
ный критик этического подхода в социологии:
«Об этике говорят, чтобы поддержать иллюзию, будто для сложных
случаев существуют разумно обосновыванные и практичные правила ре-
шения. В действительности эта этика имеет функцию утопии в точном па-
радоксальном смысле утопии Томаса Мора. Она обозначает топос, кото-
рый нельзя найти, место, которого не существует. Под именем этики об-
195
щество создает себе возможность ввести негацию системы в саму систему
и возвышенно говорить об этом».344
В условиях кризиса религиозного сознания и господства массмедиа
мораль становится «только» моралью: она теряет свой космологический и
магический фундамент, возможность апеллировать к силам и духам зла, к
осуждению нечистого, отвратительного. Чтобы следовать морали или
нарушать ее, подыскиваются обоснования рациональные, а для возмож-
ного осуждения илипоощрения морали остается лишь область мотивов
поведения. Начиная с 17-го века происходит деонтологизация морали,
вместе с этим – делегитимизация традиционных моральных понятий –
добродетели, греха и т.д. Но особенно чувствительно на общество дей-
ствует потеря религиозного обоснования, а с ним и стабильности морали.
С 18-го века мораль получает политически-подрывные и «эманси-
паторские» функции. К морали апеллируют, чтобы утвердить религиоз-
ную толерантность. Все это совершенно объяснимо в условиях, когда
доминируют специализированные коммуникационные медиа, которые не-
конгруэнтны друг другу и не поддаются моральному кодированию, по-
скольку не могут нарушать логику собственного функционального коди-
рования. Мораль оказывается иррелевантной по отношению к этим кодам.
Искусные политики, собственники, исследователи не должны наделяться
моральным предметом только в силу своего профессионализма, а с дру-
гой стороны, безвластных политков, бедных собственников, неудачных
любовников общество не должно подвергать моральной обструкции , счи-
таетЛуман.
Мораль не связана ни с особой областью применения, ни с деятель-
ностью специалистов, как в других сферах: она предполагает вовлечение
индивидов в общественную коммуникацию вообще. Этим обусловлен экс-
прессивный стиль морали, которая помимо добра и зла не имеет «третьей
ценности» и не остается нейтральной даже в тех случаях, когда речь
идет о действительно нейтральных для общества вещах.
Моральная коммуникация, формирующая общественные ожидания,
безусловно, - ключевой элемент для возможности двойной контингентно-
сти. Но требуется учитывать особую ситуацию, которой харектиризуется
344 Там же. С. 405.
196
в современном обществе положение морали как медиума. Медиум, обра-
зующий пространство для «слабых соответствий», сохранял бы свою ста-
бильность и релевантность, если бы имелись формы «сильных соответ-
ствий». Вследствие индидвидуализации морали утрачивается простран-
ство для «сильных соответствий», для жестких моральных форм, строгих
и конкретных моральных критериев. Несмотря на распространение мо-
рального аргументирования на всех уровнях и во всех формах обще-
ственной коммуникации (особенно в отношении средств массовой комму-
никации, например, телевидения), релятивизация моральных норм ведет
к нестабильности и утрате влияния конкретных моральных форм.
«Различие медиального субстрата (слабых соответствий) и меди-
альной формы (сильных соответствий) полностью исчерпано, и это ведет
к одновременности консенсуса и дисссенса, стабильности и нестабильно-
сти, необходимости и контингентности в моральной коммуникации».345
Дискредитация моральных форм ведет к переформатированию ме-
диальных средств. Общественный консенсус сегодня достигается посред-
ством ссылки на «ценности», которые, тем не менее, не идентичны мора-
ли. Нет никого, кто был бы против мира, справедливости, честности и т.д.
Конкретизация условий уважения/неуважения осуществляется в рамках
ценностных конфликтов, которые посредством расхождения в обсуждении
ситуативных контекстов формируют набор «тем», «ценностей», относи-
тельно которых в обществе должен формироваться консенсус.
Место для моральных оценок открывается и там, где под угрозой
оказываются условия кодирования коммуникационных медиа, т.е. суще-
ствует вероятность нарушения правил «fair play» (допинг в спорте, под-
куп в политике), или саботажа их собственного кодирования. Значение
морали особенно актуализируется , когда флуктуации в значениях мо-
ральных форм способны переходить в применение насилия. Мораль берет
на себя задачу бить тревогу и привлекать дополнительные ресурсы для
решения сложных структурных проблем, которые не могут быть решены в
рамках специфицированных социальных областей.
Луман замечает по этому поводу: «Это ведет к инфляции моральной
коммуникации. Ее код легко актуализируется, но без ясных директив, а
345 Там же. С. 401.
197
ее критерии (правила, программы) не годятся для установления консен-
суса. Мораль принимает полемогенные, порождающие полемику, черты:
она возникает из конфликтов и разжигает конфликты».346
Из-за своей критической позиции по отношению к религии и морали
и явно редукционистской трактовке этих феноменов Луман неоднократно
сам подвергался критике за «аморализм». На это он отвечал словами из-
вестного австрийского писателя Р.Музиля: «Все морально, только сама
мораль не моральна». Наблюдение морали, наблюдение второго порядка,
необходимо для общества и особенно важно, когда мораль тотализирова-
на и вся общественная коммуникация протекает под знаком моральной
тревоги. Мораль, выясняя условия уважения и неуважения, является ре-
гулятором общественной коммуникации. Но определяя моральные санк-
ции в условиях неопределенности и стабилизируя общественный поря-
док, она способна подрывать этот порядок и вести к открытым конфлик-
там там, где общественная коммуникация становится слишком сложной
для формы морального кодирования. Одним из факторов, разрушающих
прежнюю цельность коммуникации, для Лумана выступает вторжение в
жизнь общества экологической проблематики: «Вследствие экологическо-
го различия между системой и окружением в игру вступает совершенно
новое измерение комплексности, и скорее неочевидно, что эта комплекс-
ность, так же как внутрисоциальная комплексность двойной контингент-
ности станет подчиняться условиям уважения или неуважения».347 В но-
вых условиях мораль может оказаться контрпродуктивной , а в этом слу-
чае этика, рефлектирующая мораль, но слепая в отношении исходной па-
радоксальности морали, окажется неспособной выполнить функцию
«предостережения от морали». Такую способность – способность соблю-
дать дистанцию по отношению к морали, т.е. фактически играть роль
теории морали - Луман приписывает социологии. В его понимании социо-
логия не отвергает этику - она в каком-то смысле просто берет на себя
функции этики .
В силу своих провокационно-критических высказываний в отноше-
нии морали и постоянной дискуссии с представителями Франкфуртской
346 Там же. С. 404.
347 Luhmann N. Ökologische Kommunikation. Opladen, 1986. С. 264.
198
школы и сторонниками нормативно-консенсусной социологии вообще,
Луман прослыл «аморальным» социологом, ставящим под сомнение рели-
гию и мораль и их ценность в обществе. Действительно, наделение столь
важных доменов общежития негативной ролью «ограничителей» комму-
никации было бы с философской и социологической точек зрения явным
редукционизмом. Но следует иметь в виду, что негации, редукции, огра-
ничению Луман придает центральное, конструктивное значение для по-
нимания автопоэтического процесса системы. Именно благодаря им си-
стема отделяет себя от окружения, но то же верно и в отношении религии
и морали. На протяжении долгого периода в истории человечества ком-
муникация и контроль коммуникации осуществлялся через эти формы.
Поскольку общество функциональной дифференциации несет в себе иной
принцип «закрытия» системы, место морали и религии в нем сжимается.
Тем не менее за моралью, подчеркивает Луман, остается роль социально-
го интегратора, заменить который общество сможет не скоро, если смо-
жет вообще.
199
Глава 5. Коммуникация как социологическое понятие
§ 1. Коммуникация и социальное действие
Лумановскую концепцию общества как коммуникации сложно по-
нять без выяснения ее отношения к концепции социального действия –
господствующей в 20 веке доктрины общественной теории. Беря начало в
теории социального действия М. Вебера и будучи затем воспринято и
сильно переработано в системной теории Парсонсом, понятие социально-
го действия находит синтез с понятием коммуникации в теории коммуни-
кативного действия Ю.Хабермаса.348 Коль скоро концепция общества про-
тивопоставлена наиболее влиятельной и авторитетной общественной тео-
рии, - на Лумане лежит, безусловно, «презумпция обоснования» - обос-
нования своей критики господствующей теории.
Луман не отказывается от этой задачи и решает ее двумя способа-
ми: с одной стороны, он демонстрирует, что установившееся в социоло-
гии понятие социального действия является лишь редуцированным поня-
тием коммуникации; с другой стороны, он обобщает свое понятие комму-
никации так, что понятие социального действия становится его необхо-
димым элементом.
В теории социального действия Луман не приемлет критерия соци-
альности, который берется здесь за основу. Социальность понимается как
то, что формируется посредством совместного действия, действия, осно-
ванного на двойной контингентности. Луман же считает, что отношение
тут как раз обратное. Социальное действие является продуктом социаль-
ной системы: «Социальность – не особый случай действия: действие кон-
ституируется в социальных системах посредством коммуникации и атри-
348 См. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I-II. Frankfurt, 1981.
200
буции как редукция комплексности, как неизбежное самоупрощение си-
стемы».349
Концепция социального действия есть, по мнению Лумана, пережи-
ток социологии, не сформировавшей самостоятельного понятия социума,
не освободившейся от терминологии психологии как зависимости от нее
как теории психических систем. Самостоятельная социальная теория
должна строить концепцию своего предмета как автономной системы, не
привлекая понятие сознания и соответственно индивидуального дей-
ствия. По убеждению Лумана, понятие действия не может выступать той
базовой операцией, к которой может быть редуцирована социальная ре-
альность и из которой она может быть снова построена. Такой операцией
и основным элементом может быть только коммуникация.
Представление о социальном действии как элементарной ячейке
социальной теории возникает, по мнению Лумана, благодаря тому, что
оно удобно и экономично для объяснения социальных процессов. Понятие
действия описывает, прежде всего, коммуникативные ситуации, в кото-
рых последующая реакция и примыкающие операции в ответ на инфор-
мационное содержание коммуникативных сообщений достаточно предска-
зуемы и ожидаемы, так что могут происходить без языковой коммуника-
ции. Понятие действия легко позволяет идентифицировать действующего
и построить на этой основе структуру взаимодействий по модели кау-
зальных связей. Оно помогает темпорализовать коммуникацию: действие
воспринимается всеми участниками одинаково как один и тот же объект.
Понятие социального действия открывает целый ряд плодотворных упро-
щений, связанных со структурными аспектами этих взаимодействий, –
«мотивация», «интерес», «цель» и т.д. Оно вносит асимметрию отноше-
ния «субъект-объект» в процессы взаимодействия, и позволяет субъектам
взаимодействия легче ориентироваться по отношению друг на друга.
Действующий направляет свое действие вовне. Тот, на кого оно направ-
лено, воспринимает его как мотив - причину своих дальнейших действий.
«В целях самонаблюдения и самоописания симметрия коммуникации
асимметризируется, ее открытая возбудимость редуцирована до ответ-
ственности за последствия. И это сокращенное, упрощенное и потому
349 Luhmann N. Soziale Systeme. Frankfurt, 1987. C. 191.
201
легко уяснимое самоописание служит для действия, а не для коммуника-
ции, основным элементом».350
Однако, теория должна отдавать себе отчет об условиях такого
упрощения. Приписывать действие индивиду в целом неверно, убежден
Луман: «То, что существуют физические, химические, термические, орга-
нические, психические условия возможности действий, само собой при
этом разумеется. Но ведь из этого не следует, что действия могут припи-
сываться конкретным индивидам. Фактически действие никогда не может
быть детерминировано прошлым индивида… Наблюдатели часто могут
предвидеть действие много лучше на основании знания ситуации, чем
знания личности. И соответственно, их наблюдения действий часто имеют
значение не для ментальных состояний действующих, а для автопоэтиче-
ской репродукции социальной системы».351
Луман отмечает, что философская традиция, ориентируя свой ос-
новной интерес на коммуникацию как на действие, речь, сообщение, де-
лала это по причине понятийного смешения психического и социального.
Различая знак и значение, она упускала из виду, что их совпадение про-
исходит лишь в рамках коммуникации. Знак может иметь значение, а мо-
жет его и не иметь. Знак возможен и вне коммуникации – как выражение
«разговора души с собой». Но коммуникация без значения невозможна.
Делая своим предметом значение, философия говорила о сознании, но
имела в виду коммуникацию. «Это редуцированное понимание коммуни-
кации поддерживает обращение философской теории к собственной жиз-
ни сознания, которое иногда (не всегда и не исключительно) мотивирует
себя к коммуникативному действию».352
Традиционное понятие социального действия тем не менее с необ-
ходимостью предполагает понятие коммуникации, но опирается при этом
на традиционное представление о коммуникации как «передаче». Пред-
ставление о передаче информации хорошо вписывается в концепцию
действия. При этом из трехчленного понятия коммуникации как синтеза
селекций вычленяется сообщение – в качестве самого яркого, эмпириче-
350 Там же. С. 228.
351 Там же. С. 229.
352 Там же. С. 229.
202
ски отчетливого момента. Действительно, сообщение может трактоваться
как действие и в этом смысле становиться необходимым компонентом
коммуникации: «Только посредством действия коммуникация фиксирует-
ся как простое событие в едином временном пункте».353 Но этим коммуни-
кация никак не может исчерпываться. Поэтому представление о коммуни-
кационной системе как о системе действия не то, чтобы неверно, оно
просто односторонне.
Параметры коммуникации богаче, чем параметры сообщения и дей-
ствия: «Сообщение - не что иное как предложение селекции, возбужде-
ние. Только благодаря тому, что это предложение воспринято, что воз-
буждение процессируется, и возникает коммуникация».354 Структура та-
кого предложениия предполагает направленность от Ego к Alter, анало-
гичную структуре действия. В двухчленном понятии сообщения как дей-
ствия игнорируется информационная селекция. Далее, асимметричность
коммуникативного действия не соответствует симметричной структуре
коммуникации. Коммуникация сама по себе симметрична, «поскольку
каждая селекция может определять другие, а лидирующие отношения мо-
гут по ходу дела сменять друг друга».355 В сокращенном понятии комму-
никации как сообщения она приобретает асимметричный характер, кото-
рый уже необратим.
Как уже было отмечено, метафора передачи информации подразу-
мевает терминологический аппарат метафизики, который никак не под-
ходит к понятию коммуникации. «Метафора передачи не может быть ис-
пользована, так как имплицирует слишком много онтологии. Она предпо-
лагает, что передатчик нечто отдает, что приемник получает. Это невер-
но уже потому, что передатчик ничего не лишается в смысле утраты. Вся
метафорика владения, обладания, отдачи и получения, вся метафорика
вещей не подходит для понимания коммуникации».356
Метафора передачи переоценивает значение идентичности того, что
«передается». Между тем, информация для сообщающего и принимающе-
353 Там же. С. 227.
354 Там же. С. 194.
355 Там же. С. 227.
356 Там же. С. 193.
203
го может означать совсем разное. То, что для одного имеет информаци-
онную ценность новизны, для другого может ее не иметь. Напротив, ин-
формационная ценность сообщения может состоять для принимающего в
совершенно другом, чем для сообщающего. Подобное смешение возника-
ет, если не воспринимать коммуникацию как целостный процесс, а акцен-
тировать его элементы. Точно так же перенос центра тяжести на иден-
тичность сообщающего перераспределяет процесс коммуникации. Воля
Ego затеняет элементы селективности информации и селекционности по-
нимания. Факт сообщения «вынуждает» приемника принять его и не
оставляет ему выбора. Alter может, однако, не только не принять сооб-
щение из-за шумов и помех: он вообще может не быть приемником, хотя
Ego воспринимает его именно так. Oн может иначе интерпретировать со-
общение или не суметь интерпретировать сообщение вообще (допустим
как человек, воспринимающий звуковые сигналы дельфинов или каса-
ток). Alter имеет самостоятельную селективность, не соприкасающуюся с
селективностью сообщающего.
Метафорика передачи информации тоже подразумевает селектив-
ность, но селективность вещественную – как выбор из имеющегося, из
некоего наличного резервуара. «Это представление, - отмечает Луман, -
возвращает нас к субстанциальной теории. Селекция, которая актуализи-
руется в коммуникации, конституирует свой собственный горизонт; она
конституирует то, что выбирает, уже как селекцию, а именно, как ин-
формацию. То же, что´ она сообщает, не просто выбирается: оно само-
уже есть выбор и поэтому сообщается».357
В коммуникации не только селективность особая, но и само направ-
ление другое. «Без селективности информации коммуникационный про-
цесс не возникнет (сколь бы минимальной ни была ценность новизны об-
мена сообщениями…). Но, далее, кто-то должен выбрать действие, кото-
рое эту информацию сообщит. Это может быть намеренно или ненамерен-
но. Рещающий момент тут в том, что третья селекция должна опереться
на различие, а именно различие информации и сообщения. Так как это –
решающее и коммуникация возникает только в этот момент, мы опреде-
ляем (необычным образом) Ego как адресата, а Alter как сообщающе-
357 Там же. С. 194.
204
го».358 Коммуникация как целое, как вид обработки информации начина-
ется с воспринимающего, а не с сообщающего. Ее временное измерение
не имеет каузальной линейности, для нее характерна обратная направ-
ленность. Три члена коммуникации нельзя разместить во временной по-
следовательности: реально длится только сообщение, но оно не состав-
ляет коммуникации. В построении коммуникации решающий момент при-
надлежит антиципации и антиципации антиципаций. Для Лумана это об-
стоятельство имеет огромное значение: «Это наделяет понятие ожидания
в любом социологическом анализе центральную роль».359 Каждое примы-
кающее действие, которое опирается на понимание, сопровождается те-
стом на понимание. В случае неожиданного срыва это побуждает к ре-
флексивному возвращению коммуникации о коммуникации. То, что ком-
муникация совершается в понимании Ego, объясняет ее автореферентный
характер. Понимание предполагает наблюдение Alter и способность раз-
личения двух селекций: «Если Alter знает, что его наблюдают, он может и
сам усвоить это различие информации и действий, заложенное в сообще-
нии, развить, использовать и применять его для более или менее успеш-
ного управления коммуникационным процессом».360
Коммуникация дуплицирует информацию: в сообщении воспроизво-
дится то, что было информацией. Придавая ей двойную форму, коммуни-
кация кодирует информацию и тем самым дуплицирует реальность: коди-
руемые события действуют в коммуникационных процессах как информа-
ция, некодированные – как помехи.361 Сообщение несет в себе для адре-
сата две возможности: принять информацию или отклонить ее. Тем самым
коммуникация гарантирует свое продолжение в примыкающих актах:
«Она провоцирует (можно, видимо, сказать и: со-провоцирует) возмож-
ность отклонения… Коммуникация трансформирует различие информации
и сообщения в различие принятия или отклонения сообщения, она
трансформирует «и» в «или»».362
358 Там же. С. 195.
359 Там же. С. 198.
360 Там же. С. 198.
361 Там же. С. 197.
362 Там же. С. 204.
205
Луман не только деонтологизирует понятие коммуникации, считая,
что тем самым лишает почвы теорию социального действия. Он дает свое
истолкование социального действия, которое соответствует системнотео-
ретическому понятию коммуникации. Коммуникация не может быть истол-
кована как действие или цепочка действий. Действие - редуцированный
концепт коммуникации. Именно поэтому понятие действия во многих слу-
чаях удобнее для анализа коммуникационных процессов. «Коммуникацию
нельзя непосредственно наблюдать, ее можно только замкнуть. Чтобы
наблюдаться или наблюдать себя, коммуникационная система должна
быть размечена как система действия».363 Действие может быть и комму-
никативным, и некоммуникативным, т.е. таким, посредством которого си-
стема информирует себя. В этом случае оно выступает и социально кон-
струируется не как сообщение, а как информация.
Действие конституируется в процессе приписывания. Что такоедей-
ствие, можно постичь только на основе социального описания. Иначе его
не выделить из потока сознания и жизни, которые относятся к области
окружения, а не системы. «Это не означает, что действие возможно толь-
ко в социальных ситуациях; но как отдельная ситуация отдельное дей-
ствие выделяется из потока поведения, только когда вспоминает о соци-
альном описании».364
Благодаря тому, что коммуникация описывает себя как систему
действия, возникает возможность определить различие системы и среды
и в результате через редукцию комплексности повысить ее доступность.
Это повышение происходит путем создания условий (кондиционирования)
коммуникации, т.е. образования социальных систем.
Возможность последнего связана с несколькими свойствами комму-
никации. Во-первых, с ее способностью делать систему чувствительной к
случаям, помехам, шумам любого вида: «Если коммуникация включается,
возникает система, которая предполагает особый вид отношения к окру-
жению. Окружение доступно ей только как информация, которая пости-
жима только в виде селекции и распознается только посредством измене-
363 Там же. С. 226.
364 Там же. С. 228.
206
ний (в самой системе или окружении)».365 Благодаря коммуникации поме-
хи переходят в форму смысла и могут обрабатываться дальше. Коммуни-
кацию как системоинтегрирующее начало невозможно понять как резуль-
тат консенсуса - ведьпри консенсусе опасность ошибки, ложного дей-
ствия была бы слишком велика.
Принцип «неспокойствия» коммуникации Луман расшифровывает
через двойной феномен «редундантности и дифференции», о котором го-
ворилось выше. Редундантность, по Луману, означает избыток информа-
ционных возможностей, который фунционально оправдан, поскольку де-
лает систему более независимой от различных факторов. Дифференция
заключается в самокоррекции потенциальных злоупотреблений возмож-
ностями. При этом «каждая коммуникация приглашает к протесту… Си-
стема структурно не предрасположена к принятию, к преференции при-
нятия».366
Важное концептуальное отличие Лумана от многих его современни-
ков, немецких философов, состоит в том, что проблематика социального
действия и нормативных взаимоотношений в социуме практически не за-
девает у него сферу морали и этики, как это имеет место, например, у
Ю.Хабермаса. Мораль, по Луману, характеризует особый, весьма марги-
нальный вид общественной коммуникации. Социальные нормы относятся
к совсем другому домену – праву. Поскольку теория права, а вовсе не
теория социального действия, лежит в основе лумановских представле-
ний о социальности и функционировании общества, следует более по-
дробно остановится на взглядах социолога по этому вопросу.
Социальность возможна, согласно Луману, благодаря двойной кон-
тингенции, т.е. способности системы воспринимать и удовлетворять вза-
имные ожидания людей. Эта возможность отнюдь не априрорна, а являет-
ся результатом действия сложных социальных механизмов. Каждое ожи-
дание сопряжено с риском разочарования, которое разрушает социаль-
ность и способно исключать индивида из социума. Угроза разочарования
- тяжелый балласт во взаимоотношениях, что мотивирует людей к стрем-
365 Там же. С. 239.
366 Там же. С. 239.
207
лению минимизировать подобные риски. «Уверенность в ожиданиях ожи-
даний, достигаются ли она с помощью психологических стратегий или с
помощью социальных норм, есть необходимое основание всех интерак-
ций; она гораздо важнее, чем гарантии исполнения ожиданий».367 Здесь
источник стремления к упрощению и обобщению взаимных ожиданий, ко-
торые универсализируются и стабилизируются в социальных институтах.
Социальная система призванаредуцировать ожидания до объективных и
общезначимых, дающих устойчивые ориентиры для поведения в условиях
высокой комплексности социальных интеракций.
Луман не согласен с традиционными попытками обосновывать пра-
вовые нормы, выводя их из более высоких норм (естественное право) , - в
этом случае задача объяснения просто переводится на более высокий
уровень. Он вводит весьма неожиданное, но важное различение между
когнитивными и нормативными ожиданиями. Когнитивными являются
ожидания, ориентированные на фактические события, которые в случае
разочарования должны быть сопряжены с действительностью и скоррек-
тированы. Если ожидания не оправдались (скажем, спортсмен не пришел
к финишу первым), остается только принять это к сведению. В отличие от
когнитивных нормативные ожидания «защищены» от разочарований. На
них никак не влияет то, исполнены они или нет. Если спортсмен нарушил
правила соревнований, не происходит разочарование в правилах, а толь-
ко – в спортсмене. «Если в этом пункте есть разочарование, то не возни-
кает чувства, что ожидание было ложным. Ожидание остается твердым, а
отклонение приписывается действиям».368
Когнитивные ожидания способны меняться в связи с разочаровани-
ем, они мотивируют к обучению,- поэтому и назваются когнитивными, а
не просто «ориентированными на факты». Нормативные же ожидания
должны оставаться неизменными - они обладают механизмом символи-
ческой нейтрализации, защиты от риска разочарования. Им всегда гаран-
тирован «успех»: «Нормы суть контрфактически стабилизированные ожи-
дания поведения. Их смысл имплицирует безусловность значения по-
стольку, поскольку они переживаются и институционализируются незави-
367 Luhmann N. Rechtssoziologie, Opladen, 1980. C. 38.
368 Там же. С. 38.
208
симо от фактического исполнения или неисполнения норм. Символ «дол-
женствование» выражает в первую очередь ожидание подобного контр-
фактического значения, причем под вопрос не ставится качество ожида-
ний».369 Различение бытия и долженствования, истины и права не явля-
ются заданными – это достижения социальной эволюции, резюмирует Лу-
ман.
Санкция есть способ реабилитации неисполненных ожиданий, когда
исчерпаны возможности самоутверждения ожидания: «Разочарованный
штрафует того, кто его разочаровал, взглядом, жестами словами или де-
лами, - чтобы побудить его к ожидаемому поведению, или чтобы проде-
монстрировать преодоление разочарования в своих ожиданиях».370 Санк-
ция - наиболее убедительный, но далеко не единственный способ избе-
жания разочарования. Разочарованный может «спасти норму» - проде-
монстрировать ее реализацию другими средствами. Он может проигнори-
ровать разочарование, убеждая себя в случайности или иррелевантности
нарушения нормы, или компенсировать его собственным страданием, ви-
дя в нем искупление нарушения, либо, напротив, оскорблением и скан-
далом, эмоциональными угрозами, «восстанавливающими» значимость
норм. В любом случае разочарованный, если он не хочет отказаться от
своих ожиданий, должен сделать разочарование темой своего поведения
и продемонстрировать дальнейшую действенность ожиданий. Ему требу-
ются объяснения, оправдания, извинения или отговорки - и во многих
случаях этого оказывается достаточно.
Санкция имеет то преимущество, что позволяет наиболее убеди-
тельно документировать для третьих лиц успешное преодоление ожида-
ния. Она может быть повторена или усилена. Санкция легко институцио-
нализируется и обладает наиболее экспрессивной формой преодоления
разочарования: она гарантирует, что такое преодоление останется в си-
ле, позволяет генерализовать принятие решения и поэтому эффективна в
сложных обществах. Только в этом смысле, отмечает Луман, может быть
верным определение права как способа применения санкций.
369 Там же. С. 43.
370 Там же. С. 60.
209
Луман подчеркивает, сколь велико значение нормативных ожида-
ний, защищенных от фактичности, для возникновения комплексности со-
циальной системы. Их контрфактичность позволяет создавать «перепро-
изводство» ожиданий, вариативность и переизбыток возможностей, бла-
годаря которым возникает селективность правообразования. Нормы поз-
воляют создавать собственный системный порядок «независимо» от того,
что происходит в реальности. Они обладают свойством заполнять «ды-
ры», дисконтинуальности, обусловленные контингентностью объективных
процессов или отсутствием информации о них. Иначе механизмы двойной
контингентности в обществе никогда не стабилизировались бы в устойчи-
вые социальные структуры.
Впрочем, правообразование и институционализация нормативных
ожиданий предполагают еще и другие важные элементы. Социальные от-
ношения даже в небольших группах базируются не только на ожиданиях,
но и на представлениях об ожиданиях окружающих, т.е. ожиданиях ожи-
даниях. Они возможны только тогда, когда каждый предполагает, что все
остальные с ситуацией согласны: «Действующие также ожидают нечто от
ожидающих и без ожидания соответствующих действий от ожидающих не
могут ожидать, какие действия ожидающие ожидают от них».371 При этом
действующие не могут претендовать на постоянное актуальное внимание
и интерес ожидающих. Чтобы актуализировать интерес незаинтересован-
ных лиц, им потребовалось бы подавать экспрессивные сигналы. Поэтому
фоновым режимом всяких действий является не актуальное, а потенци-
альное присутствие и участие в них третьих лиц (в этом и заключается
роль судьи – незаинтересованного третьего). Луман замечает по этому
поводу: «Человек выступает третьим не в специально созданной для это-
го роли - как занимающийся наблюдением наблюдатель, а как тот, кого
возможно получить для совместного актуального сопереживания, соуча-
стия, суждения, содействия, осуждения. Он выступает третьим не в си-
мультанной актуальности своих ожиданий и действий, а в горизонте ожи-
дания тех, кто актуально ориентирован на возможных сопереживаю-
щих».372
371 Там же. С. 60.
372 Там же. С. 66.
210
По тем же причинам (ограниченности актуального внимания) не-
возможно рассчитывать на фактический консенсус и общность убеждений
членов сообщества, в чем некоторые теоретики пытаются искать основа-
ния права. Роль институционализации норм, согласно Луману, заключа-
ется как раз в том, что актуальный консенсус в ожиданиях ожиданий
конкретно не востребуется, а молчаливо – автоматически и фиктивно -
предполагается всеми участниками. Кто желает участвовать в коллектив-
ном предприятии, должен принять предполагаемое всеми определение
ситуации и демонстрировать участие в общем условном консенсусе. «По-
скольку не все могут говорить одновременно, управление выпадает на
долю одного или нескольких участников, которые оказываются в центре
совместного внимания и могут вести свою коммуникацию во всеуслыша-
ние. Вначале может любой протестовать; но никто не может беспрерывно
эксплицитно протестовать против имплицитного».373 Очень скоро проте-
стующий наткнется на границы терпения. Нормативная институционали-
зация заключается не в социальном принуждении, а в обеспечении усло-
вий продолжения социальных интеракций, в распределении рисков и по-
веденческих нагрузок, которые позволяют сохранить и стабилизировать
определенную социальную редукцию и тем самым дают данной норматив-
ной проекции больше шансов, чем другим. Институты гарантируют не-
определенность, анонимность, непредсказуемость и отсутствие вопросов
со стороны релевантных третьих лиц, они опираются на нейтрализацию
возможностей того, что некто третий мог бы ожидать иного.
Для становления права важна также возможность идентификации и
смыслового оформления комплексов ожиданий. Эти комплексы образуют
предметные взаимосвязи, необходимые для возникновения консенсуса
третьих лиц. Поскольку сознание людей закрыто друг для друга, их сов-
местные ожидания возможны только на основе существования в пред-
ставлении единого общезначимого мира. В рамках этого мира образуются
смысловые интенции, доставляющие членам социума общие ориентации
для интеракций, общезначимые представления об ожиданиях. Общезна-
чимые ожидания, как и иные когнитивные образования, образуются пу-
тем абстрагирования и генерализации представлений. Генерализация
373 Там же. С. 68.
211
предполагает, что существуют правила производства типов абстрагиро-
ванных ожиданий, которые могут ранжироваться по степени конкретно-
сти. Если интегрировать и нормировать конкретные ожидания, жизнь
окажется полной разочарований и не поддающейся развитию. Если же
ожидания будут слишком абстрактными, утратятся их реактивные функ-
ции и разочарования грозят вообще исчезнуть из жизни.
Луман выделяет несколько ступеней абстрагирования ожиданий:
они могут относиться к конкретной персоне, к определенной роли, к
определенной программе, к определенным ценностям. В первом случае
(персона) ожидания обращены к тому, что может быть приписано кон-
кретному человеку как переживание и действие. Роли – это связки ожи-
даний, исполнение которых может быть возложено на различных индиви-
дов - носителей роли. Каждый человек может исполнять не одну роль, а
несколько. Программы – это ожидания специфических действий, форму-
лируемых по известным правилам. Другими словами, комплексы правил
связываются с комплексами действий, позволяя идентифицировать каж-
дое из них как «правильное» или «неправильное». Собственно говоря,
именно программы как наиболее конкретные и формализованные элемен-
ты права играют центральную роль для системы правовых институтов
общества. Наконец, ценности - наиболее абстрактная ступень генерали-
зации ожиданий. «Ценности являются пунктами предпочтения дей-
ствий».374 С помощью них нельзя определить, какие конкретно действия
можно предпочесть данному; зато они обладают большими возможностя-
ми в смысле образования консенсуса и способны улаживать возникающие
противоречия.
Обобщая, Луман подводит к определению природы права. Социаль-
ное поведение в высокосложном и контингентном мире требует редукции,
которая делает возможными взаимные поведенческие ожидания и
направляет поведение через ожидания этих ожиданий. Редукции ожида-
ний совершаются в трех измерениях. Во временном измерении структуры
ожидания стабилизируются (редуцируются) посредством нормирования, в
ходе которого устанавливается различение когнитивных и нормативных
ожиданий. В социальном измерении эти структуры ожидания институцио-
374 Там же. С. 88.
212
нализируются, т.е. утверждаются посредством консенсуса третьих лиц. В
предметном измерении они фиксируются посредством идентичного смыс-
ла и приводятся во взаимосвязь путем взаимного подтверждения и огра-
ничения, т.е. дифференцируются на различных уровнях абстракции. Эти
три измерения суть виды генерализации поведенческих ожиданий; в сво-
ем единстве они образуют правовую систему общества. Функцией генера-
лизации являются преодоление дисконтинуальности каждого конкретного
уровня и компенсация контингентности социальной системы, - контин-
гентности, которая стремительно возрастает, если не существует спосо-
бов страховки от рисков, связанных с ее повышением. «Генерализация
создает тем самым символическую иммунизацию ожиданий в отношении
иных возможностей, она поддерживает необходимый редукционный про-
цесс - посредством того, что делает возможной безвредную индиффе-
рентность в ожиданиях».375
Главное в лумановской теории права заключается в том, что пере-
численные механизмы генерализации ожиданий открывают различные
возможности и предлагают совершенно разные, но часто функционально
эквивалентные решения для стабилизации ожиданий. Поэтому их необхо-
димо координировать. Когда удается объединить и сконфигурировать
разные типы генерализации, возникает гораздо более узкий круг селек-
ций, предоставляющий максимальные гарантии для стабилизации ожида-
ний и имеющий в обществе наибольший резонанс. Эти конгруэнтно гене-
рализованные нормативные поведенческие ожидания Луман и подводит
под понятие права. Его окончательная дефиниция: «Право – это структу-
ра социальной системы, которая опирается на конгруэнтную генерализа-
цию нормативных поведенческих ожиданий».376
Право для Лумана - не столько порядок принуждения, сколько по-
рядок облегчения ожиданий. Правовое принуждение направлено на вы-
бор ожиданий. Право обращено на уверенность в собственных ожидани-
ях, ожиданий в ожиданиях, а не на исполнение этих ожиданий. С точки
зрения функции эффективной комбинации форм генерализации ожида-
ний, право во временном измерении опирается на санкции как наиболее
375 Там же. С. 94.
376 Там же. С. 105.
213
экспрессивное и демонстративное средство сохранения норм. В социаль-
ном измерении оно развивает различные процедуры, в которых принима-
ются решения, институционализирующиеся как коллективно обязываю-
щие. В предметном измерении право опирается преимущественно на про-
граммы поведенческих решений. Луман заключает: «Право не может быть
понято с точки зрения приказа или запрета, репрессирования естествен-
ных склонностей или внешнего принуждения… Право служит в первую
очередь для создания возможности сложных предпосылочных действий, и
оно делает это посредством конгруэнтной генерализации контингентных
предпосылок такого действия».377
Луман подчеркивает, что его определения демонстрируют эволюци-
онную природу права. Право существует в любом обществе, но степень
его структурной дифференциации изменяется вместе с развитием обще-
ства. Структуры права возникают в любых группах человеческих ин-
теракций, но только в рамках социальной системы, всего общества, раз-
виваются специфицированные механизмы права. Степень их развития и
мощь зависят от характера дифференциации социальной системы и при-
обретают наиболее сложный вид в функционально дифференцированных
обществах.
§ 2. Системная дифференциация
Не следует считать, что символически генерализованные коммуни-
кационные медиа заменяют у Лумана понятие системной дифференциа-
ции или лежат в его основании. Они способствуют возникновению субси-
стем общества и углублению социальной дифференциации лишь в каче-
стве катализатора. Без них системная дифференциация не могла бы раз-
виваться. Тем не менее, процесс системной дифференциации автономен –
самостоятельный и черпает истоки в автопоэзисе системы. Поскольку по-
нятие системной дифференциации – ключевое как для социологии вооб-
377 Там же. С. 103.
214
ще, так и для лумановской концепции общества как коммуникации, необ-
ходимо ближе рассмотреть базовые воззрения Лумана.
Теорию системной дифференциации Луман изучал непосредственно
у ее основателя – Т. Парсонса. Поскольку различение и дифференциация
являются ядром представлений Лумана обо всех элементарных процессах
бытия, следует ожидать, что понятие системной дифференциации полу-
чит у него максимально широкое применение. Тотализация понятия диф-
ференциации заложена у Лумана уже в элементарном представлении о
системе, которая не просто образуется, отличая себя от внешнего окру-
жения, но процессирует это различение дальше, в применении к себе, - в
форме различия внутри системы автореферентности и инореферентности.
«Все иные дифференциации устанавливаются как следствие системной
дифференциации, и объясняются из системной дифференциации; и это
потому, что каждое оперативное (реукрсивное) примыкание операций
производит дифференцию системы и окружения».378
Оригинальность лумановской концепции системной дифференциа-
ции в сравнении с воззрениями иных социологов заключается прежде
всего в том, что она ориентирована на объяснение процессирования си-
стемной дифференциации, а не на ее анализ в рамках синхронии. У Лу-
мана нет и представления о целостной системе, которая развивается в
диахроническом измерении, постепенно изменяя свои элементы и их со-
отношения. Речь идет не просто о сложных взаимосвязях, в которые
вплетены субсистемы общества, а о самостоятельной жизни множества
систем в рамках материнской системы общества, которые пульсируют,
переживают свой расцвет и увядание, сообщаются – или никак не сооб-
щаются - между собой динамически, т.е. в аспекте своего темпорального
сосуществования.
«Системы постоянно интегрируются и дезинтегрируются, лишь на
один момент сочетаются, чтобы потом снова освободится для собствен-
ных операций примыкания. Подобная темпорализация интеграционной
проблемы является формой, которую развивают высокосложные обще-
378 Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 597.
215
ства, чтобы быть способными одновременно процессировать как зависи-
мость, так и независимость между частями системы».379
Система существует, постоянно разделяясь и дифференцируясь –
тут в концепции Лумана заметны черты биологизма. Но на этом сходство
заканчивается. Дифференциация есть результат повторного вхождения
(«re-entry») различения системы и окружения в систему. «Системная
дифференциация есть, таким образом, не что иное, как рекурсивное об-
разование системы, применение системообразования к своему собствен-
ному результату. Тем самым система, в которой возникают дальнейшие
системы, реконструируется посредством дальнейших различений субси-
стемы (Teilsystem) и окружения».380
Системная дифференциация генерирует не только субсистемы, но и
внутренние системные среды. Благодаря этому система мультиплицирует
себя путем все новых различений себя и окружения в себе самой. При
этом каждая субсистема является отражением общей. Для самой субси-
стемы общая система становится ее окружением, точнее, она восприни-
мается как единство субсистемы и ее окружения. Каждая субсистема ре-
конструирует общую систему, посредством собственного различения си-
стемы и окружения. При этом взаимная координация субсистем невоз-
можна. Субсистема способна вступать в координацию только с общей си-
стемой, как своим окружением, связь же с другими субсистемами она
устанавливает посредством связи с общей системой, «реконструируя»
единство системы, т.е. наблюденая произошедшие системные различе-
ния.
Луман подчеркивает, что системная дифференциация не может рас-
сматриваться как «разделение целого на части», усматривая в подобной
позиции одно из основных заблуждений классической европейской фило-
софской традиции. Соответственно, речь не может идти о «декомпози-
ции» целого, о «взаимоотношениях» между частями и об их координации,
об их иерархии, о заданности их отношений – ни в логическом, ни в кау-
зальном смысле. Теория Лумана, которая противопоставляет традицион-
ному холизму системное мышление, способна, по его убеждению, обеспе-
379 Там же. С. 607.
380 Там же. С. 597.
216
чить более адекватное понимание морфогенеза комплексности и предло-
жить большую структурную глубину для описания сложных процессов.
Она способна различать отношения система-окружение и система-
система, рассматривать иные системы как системы-в-окружении и благо-
даря этому реконструировать мир или общество в перспективе наблюде-
ния наблюдений, вновь включая наблюдающую систему в перспективу
наблюдения.
В контексте системной дифференциации каждое изменение много-
кратно умножается; ибо изменение одной субсистемы означает изменение
окружения всех субсистем. Если для одних субсистем изменение было за-
планировано, то для других оно может оказаться неожиданным, если для
одних оно - позитивно, для других – негативно. Дифференциация озна-
чает усиление как зависимостей, так и независимостей, возникновение
внутреннего контроля и внутреннего освобождения. При этих условиях
для субсистем появляется возможность, оставаясь в рамках общих внут-
рисистемных отношений, выходить за пределы собственных границ (не
оперативно, а путем наблюдения). «Из этого следует неимоверная дина-
мизация, почти взрывное давление реакций, против которого отдельные
субсистемы могут защищаться только возведением порога индифферент-
ности».381 Как и любая система, субсистема стремится стать самостоя-
тельной, оперативно закрытой автопоэтической системой; это, однако,
для нее проблематично, поскольку она воспринимает общую систему не
только как окружение, но и как размежевание между окружением и со-
бой. Эти отношения «материнства», правда, угасают вместе с прогрессом
собственных дифференциаций субсистемы, каждая из которых отдаляет
ее от исходного размежевания.
Структурные соответствия, которые функционируют в рамках взаи-
моотношений субсистем , представляют собой структуры общей системы
общества и не должны препятствовать автопоэзису субсистем. Эта точка
зрения приводит к новой интерпретации многих традиционных социоло-
гических понятий (таких как интеграция/дезинтеграция, инклюзив-
ность/эксклюзивность).
381 Там же. С. 598.
217
Понятие интеграции вводится в социологию для объяснения явле-
ния крайней дифференциации и последующего распадения социального
единства, дезинтеграции. Луман считает неверной такую ориентирован-
ность этого понятия в социологии, которая воспринимает дифференциа-
цию как угрозу интеграции и мобилизует общественное мнение на сопро-
тивление ей. Он обращает внимание на то, что интеграция ведет к кон-
сервации общества и тем самым к весьма негативным последствиям для
общественного организма.
Интеграция, по Луману, представляет собой способ обращения с
внутренними неопределенностями социальной системы. Она не связана с
единством дифференцированных систем, или подчиненностью субсистем
«центральной системе», или заповедью единства. Интеграция совершает-
ся в форме реконструкции единства системы как различия. Она заключа-
ется в мобильном, исторически динамичном, плотном взаимном контакте
субсистем . Интеграция может находить выражение как в кооперации, так
и в конфликте.382
Луман интерпретирует интеграцию как редукцию степеней свободы
субсистем, обусловленную общими внешними границами социальной си-
стемы. Ограничение свободы выражается в том, что примыкающие опера-
ции не требуют специального консенсуса. Это облегчает жизнь системы.
Интеграция – высочайшая степень совместимости субсистем в рамках ав-
топоэзиса системы. В интегрированных субсистемах лишь провалы и не-
успехи дают осознать, что требуется координация.
Важнейшей характеристикой интеграции и дезинтеграции является
их темпоральность. Интеграционный эффект сказывается только на акту-
альных отношениях, ибо оперативным базисом для интеграции и дезинте-
грации всегда выступают отдельные события. В пульсации событий от
мгновения к мгновению системы интегрируются и дезинтегрируются.
Есди в слльвеьсьвии с классическим понятием интеграции совре-
менное общество часто описывается как дезинтегрированное, (не спо-
382 «Проблема конфликта заключается в слишком сильной интеграции субсистем, кото-
рые мобилизуют для противостояния все больше ресурсов и уклоняются от передачи их
на решение других задач. Проблема сложного общества заключается тогда в том, чтобы
заботится о достаточной дезинтеграции.» Там же. С. 604.
218
собное достичь внутреннего единства, то лумановская интерпретация ин-
теграции ведет к противоположному диагнозу: «Современное общество
сверхинтегрированно и потому находится в опасности. В автопоэзисе
своих функциональных систем оно находит стабильность; ибо удается все
то, что возможно в пределах автопоэзиса. Тем не менее, общество
настолько внутренне возбуждено, как никакое другое общество до сих
пор. Множество структурных и оперативных соответствий, гарантирован-
ных интеграцией, несет с собой многосторонние ирритации субсистем, а
общая система – это обусловлено природой функциональной дифферен-
циации – отказывается включаться в эти события для их регулирова-
ния».383
Взаимоотношения субсистем выражаются понятием форм диффе-
ренциации: «О форме системной дифференциации мы говорим, когда,
находясь в одной субсистеме, понимаем, что есть другая субсистема, и
эта субсистема определяется посредством этого отличия. Форма диффе-
ренциации - не просто разделение общей системы, это форма, посред-
ством которой субсистемы могут наблюдать себя и другие субсистемы – в
качестве этого или того клана, аристократии, экономической системы
общества».384
Благодаря форме структура общей системы может быть упорядоче-
на типическим образом. Форма «определяет эволюционные возможности
системы и влияет на образование норм, дальнейшие дифференциации,
самоописание системы и т.д.»385 Условия возникновения новых эволюци-
онных возможностей ограничены прежде всего тем, что у этих возможно-
стей имеются естественные границы. Дойдя до границ, определяемых
формами дифференциации, системы уже не могут расти в количественном
отношении. Уровень семейных хозяйств, приводит пример Луман, спосо-
бен получить внутри сегментарного уровня особое, первостепенное зна-
чение, но не может перерасти в аристократию, поскольку это подразуме-
вает переход от экзогамии к эндогамии, т.е. требует совершенно других
структурных соотношений.
383 Там же. С. 618.
384 Там же. С. 610.
385 Там же. С. 611.
219
Для таких переходов на другой уровень эволюция предполагает ла-
тентное приготовление и возникновение нового порядка внутри старого.
Примат какой-то одной формы дифференциации становится очевидным,
когда она начинает регулировать границы присутствия других форм. Не
претендуя на введение принципа обоснования, Луман выделяет четыре
формы дифференциации, в которых использует установившуюся в социо-
логии типологию:386
Сегментарная дифференциация характеризуется равенством обществен-
ных субсистем, которые различаются на основании своего происхождения
или места.
Дифференциация центра и периферии предполагает их неравенство, пе-
реводящее сегментацию в соответствующую двустороннюю форму.
Стратификационная дифференциация возникает на основе ранжирован-
ного неравенства субсистем и предполагает иерархию нескольких слоев
общества (аристократии и народа, каст и т.п.).
Функциональная дифференциация предполагает как неравенство, так и
равенство субсистем, не пользуясь ссылкой на общесоциальные инстан-
ции для опосредования интеракций субсистем.
Указанные формы эволюционно взаимосвязаны - от равенства к все
большему неравенству неравенства и комплексности. Но эти формы не
предполагают ни линейной смены (поскольку возможны их регрессии), ни
даже эмерджентных переходов, а подготовливают смену одних форм
внутри других. История демонстрирует, что общества разных форм сосу-
ществуют и знают друг о друге, не делая попыток к переходу форм и да-
же без взаимных влияний. Луман заменяет упрощенный тезис постепенно
растущей дифференциации моделью обращения форм дифференциации.
Эволюция может при случае вести к более сложным формам, но при этом,
как правило, сопровождается структурной обратной дифференциацией в
отношении старых форм (пример - снижение значимости структур родства
при переходе к стратификационной дифференциации). Расцвет одних
форм компенсируется закатом других, но и здесь, по Луману, нет никакой
закономерности.
386 Там же. С. 613.
220
Эволюционное развитие увеличивает многообразие коммуникаций в
той мере, в какой все более невероятные формы дифференциации начи-
нают выполнять функцию интеграции систем. Нужно иметь в виду, что
этот процесс сопровождается ростом внутренних дистанций между субси-
стемами и потерей ими возможностей взаимного обмена их опытом и об-
зором. То, что было самоочевидным и доступным для каждого, становится
закрытым и неясным: «Чтобы возникла более высокая комплексность,
снимаются структурные ограничения. Следствие этого - появление непро-
зрачности, потребности в толковании и самоописании системы».387
Условием смены форм остается стабильность общественной систе-
мы. Это не противоречит тому, что изменения всегда сопровождаются
усилением нестабильности. Каждая система имеет средства для своевре-
менного обнаружения и подавления отклонений. Только в тех случаях,
когда дестабилизирующий элемент начинает восприниматься как нор-
мальный, а в недрах старых форм дифференциации формируются новые
условия стабилизации, происходит смена формы стабильности, пусть да-
же она сопровождается катастрофой.
Луман отмечает, что эволюция дифференциации от уровня равен-
ства к уровню неравенства провоцирует рост внутренних механизмов
контроля, которые углубляют различение системы и окружения. Внутрен-
нее неравенство и автономия субсистем обусловливают степень отличия
системы от окружающего мира. Если стратификационные общества виде-
ли свое основание в человеческой природе, , то современное общество
«не может идентифицировать себя ни с географическим регионом, ни с
телесно-ментально актуальным человеком» и достаточно четко отграни-
чивает себя от этих систем.388 Это, однако, не означает, что степень от-
личия общества от окружающего мира характеризует независимость пер-
вого от последнего, а тем более «господство» над ним.
Современному обществу, по Луману, свойственна функциональная
дифференциация, причем в контексте плюрализма и растущей дезинте-
грации между различными формами дифференциации. Если другие со-
циологи традиционно били в этом пункте тревогу, то Луман, напротив,
387 Там же. С. 616.
388 Там же. С. 617.
221
стремится увидеть в функциональной дифференциации шансы для пози-
тивного общественного развития.
§ 3. Функциональная дифференциация общества
Что такое функционально дифференцированное общество и какие
инновации несет в себе это новое понятие?
Классическая социологическая теория определяет функцию как
предпосылку состояния социальной системы.389 Функция гарантирует ста-
бильность ее состояния при стабильности констант окружения. Состояние
определяют структуры, реализующие функции, - функциональные струк-
туры. Луман не согласен с этим определением, поскольку понятие соци-
альных структур является исторически переменной величиной и лишь за-
темняет то обстоятельство, что только автопоэзис есть константа, прида-
ющая им определенность. «Мы предпочитаем поэтому говорить не о
предпосылках состояния, а о релевантных проблемах (Bezugsprobleme),
которые следует решать тем или иным образом, если общество должно
поддерживать определенный уровень эволюции или выполнять другие
функции.»390 Дифференциация определенной субсистемы в отношении
определенной функции означает, что эта функция имеет приоритет для
данной системы, а другие функции подчиняются этому.
Для более четкого определения понятий Луман предлагает следую-
щую схему различения между функцией, ее продуктом (Leistung) и ре-
флексией в зависимости от того, из какой позиции наблюдается система:
1) функция наблюдаетсяиз общей системы, к которой принадлежит суб-
система; 2) ее продукт – из других субсистем в социальном окружении;
3) рефлексия – позиция самонаблюдения субсистемы.
389 Луман ссылается на классические труды: Aberle D.F., Davis A.K., Levy M.J., Sutton
F.X. The Funktional Prerequisites of a Society, Ethics 60 (1950), С. 100-111; Talcott Par-
sons The Social System, Glencoe Ill. 1951. С. 26; Levy Marion J., The Structure of Society,
Princeton 1952.
390 Там же. С. 747.
222
Эти различения, на взгляд Лумана, плодотворны, поскольку позво-
ляют избежать некторых стандартных смешений понятий. Например, ре-
флективное понятие «государство» не должно смешиваться с обществен-
ной функцией системы, заключающейся в определении коллективно обя-
зывающих решений. В противном случае на практике государственное
самосознание становится гипертрофированным. Не следует видеть функ-
цию экономики в извлечении материалов из естественного окружения и
удовлетворении потребностей, ибо это – лишь ее продукт. Действитель-
ная функция же экономики – гарантировать будущее снабжение в усло-
виях недостатка ресурсов. Не следует разводить прикладную и фунда-
ментальную науку, ибо первая – продукт, вторая – функция. Луман пояс-
няет: «Если это упустить из виду, то … система искажается вследствие
ложного представления, будто фундаментальными исследованиями легче
заработать репутацию, зато можно ухудшить финансовые шансы в срав-
нении с прикладными исследованиями».391
Понятие функциональной дифференциации отражает особую точку
зрения на роль и значение функции в системе: «Функциональная диффе-
ренциация порождается тем, что точка зрения единства, исходя из кото-
рой происходит различение системы и окружения, становится той функ-
цией, которая восполняет различенную систему (не ее окружение) в пер-
спективе общей системы».392 Функция заключена в отношении субсистемы
к целому обществу, а не к самой себе. Функциональная дифференциация
акцентирует, таким образом, различие многоообразных проблем целого
общества с точки зрения отдельных субсистем. Это означает, что субси-
стемы предполагаютнекомпетентность своей среды в том отношении, в
котором компетентны они: для науки ее окружение некомпетентно в
науке, а не в политике или экономике. Поэтому, например, основопола-
гающую для социологии теорию разделения труда Луман рассматривает
как частный случай своей концепции системной дифференциации.393
Функциональная дифференциация как вид отличается от других
помимо прочего и тем, что наиболее отчетливо отделяет друг от друга си-
391 Там же. С. 758.
392 Там же. С. 746.
393 Там же. С. 761.
223
стему и окружение. Если иные формы – сегментирования или стратифи-
кации – связаны с демографическими коррелятами в виде групп людей,
то дифференциация современного общества не имеет подобной привязки.
Не только нет групповых соответствий функциональным системам обще-
ства, но и сам человек не может быть причислен ни к одной отдельно
взятой субсистеме общества: «Это приводит к тому, что уже нельзя гово-
рить, будто общество состоит из людей; ибо люди не могут быть разме-
щены ни в одной субсистеме общества, т.е. нигде внутри общества… Ре-
зультат этого таков, что люди должны быть поняты как окружение обще-
ственной системы… и что последняя связь, которая могла бы гарантиро-
вать единство системы и окружения, разорвалась».394 Другими словами,
коль скоро общество состоит из функциональных систем как своих еди-
ниц, то среди этих единиц нет места человеку, такого объекта не суще-
ствует для современного общества .
Переход к фунциональной дифференциации знаменует собой важ-
ный этап в эволюции общества. Отныне оно отказывается предписывать
субсистемам некую единую общую схему дифференциации. Если в стра-
тификационной форме одна часть определяла себя через отношение к
другой, то в функционально дифференцированном обществе каждая суб-
система сама определяет свою идентичность – посредством разработан-
ной семантики самоосмысления, рефлексии и автономии. Она становится
в каком-то смысле одинокой и самодостаточной, ибо не может определять
свои отношения с окружением как «зависимости», хотя и не может не ре-
агировать на возмущения окружения.
Если функциональная дифференциация реализована, одна субси-
стема уже не может брать на себя функции другой. Соответственно, «чу-
жие» функции могут реализовываться только вне субсистемы, в ином ме-
сте. Само общество воспринимается субсистемами только как собственное
окружение, а в результате его восприятие его как целого утрачивается.
Тем не менее, взаимозависимости субсистем не уменьшаются, а усилива-
ются. Но, принимая форму дифференциации системы и окружения, они
уже не могут нормироваться или кодифицироваться, а существуют в фор-
ме «общей и высокодифференцированной зависимости от постоянно ме-
394 Там же. С. 744.
224
няющихся внутри социальных условий окружения». В отношениях систем
между собой могут проявляться деструкции, но уже не может быть «ин-
струкций».395
Функциональная дифференциация усиливает неравенство субсистем
. Только в нем они еще и равны. Она не дает преимущества никакой из
систем, т.е. не регулирует более их взаимоотношения , предоставляя это
эволюции и истории. Не существует ранжирования субсистем, а, значит,
не существует их стратификации. Соответственно, задача каждой функ-
циональнаой системы - самостоятельно защищаться от других и рассмат-
ривать себя как исключительную в отношении социального порядка . От-
сюда неравенство шансов субсистем: если одни, подобно экономике, все
сильнее тотализируют общество, то другие, подобно искусству, всегда
остаются в маргинальном положении. В субсистемах формируются соб-
ственные отношения времени и неравномерности, которые общество уже
неспособно координировать.
Функциональные системы достигают опретивной закрытости и обра-
зуют самостоятельные автопоэтические системы. Это не значит, что они
не вступают в коммуникацию. Оперативная закрытость достигается бла-
годаря тому, что функция реализует непрерывную автореферентность,
которая ясно идентифицируется и отчетливо отличается от инореферен-
ции, а также потому, что система использует бинарный код, свойствен-
ный только ей. Бинарный код благодаря присущей ему негативной ценно-
сти восполняет целостность системы – дуплицирует реальность, создавая
для системы возможность действовать «и по-другому», контингентно.
Вследствие этого возникает потребность в решениях, которые определя-
ют, при каких условиях нужной окажется позитивная или негативная
ценность. Любое из этих решений тем не менее выполняет одну и ту же
функцию – восстанавливает целостность и замкнутость системы.
Если функция основана на отношении к общей системе, то кодиро-
вание обеспечивает автопоэзис самой функциональной субсистемы для
продолжения ее операций: «Если система посредством функциональной
ориентации обеспечивает приоритет своих собственных опций (обеспече-
ние будущего посредством денег, а не надеждой на Бога; образование
395 Там же. С. 753.
225
посредством школы, а не социализации), то благодаря негативной ценно-
сти своего кода она рефлектирует потребность в критерии для своих соб-
ственных операций… Не ориентация на собственное единство, а ориента-
ция на собственное различие обеспечивает примыканиеопераций в пото-
ке времени к своим же операциям».396
Коды функциональных систем могут сочетаться друг с другом. Лу-
ман говорит о «параллельном» (когда имеется прямое соответствие) и
«перпендикулярном» соответствии (когда с каждой ценностью кода мо-
жет отождествляться как позитивная, так и негативная ценность другого
кода). Но коды могут и не сочетаться – тогда признание одного кода
означает отказ (Rejuktion) от других кодов. Например, функциональное
кодирование влечет за собой отказ от морального кодирования, которое
теряет релевантность, а, если уж включается, то случайным неконтроли-
руемым образом. С этим связана высокая степень «аморальности» функ-
циональных систем, их равнодушие к интеграционным механизмам, одним
из которых в традиционных обществах, была, например, мораль.
Оперативная закрытость функциональных систем предполагает су-
ществование четкого представления о границах между системой и окру-
жающим миром, в том числе и когда одно событие может принадлежать к
разным функциональным системам, как в случае с «параллельным» коди-
рованием. Границы идентифицируются благодаря четкому различению
автореферентности и инореферентности системы; БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЯВ-
ЛЕНИЯ ЧЕТКО РАЗЛИЧАЮТСЯ – К ПРИМЕРУ, права не смешиваются с же-
ланиями, условия профессиональной компетентности - с моральными
условиями уважения/неуважения. Со снижением редундантности и повы-
шением комплексности систем при функциональной дифференциации
справляться с возникающими проблемами могут только отдельные кон-
кретные функциональные системы.
Автореферентность и инореферентность системы также могут обра-
зовывать «перпендикулярный» порядок по отношению к бинарному коди-
рованию. Обе референтности могут относиться к обеим ценностям кода. В
своем единстве именно они задают развивающуюся в обществе комплекс-
ность и степень, в какой субсистемы могут расширяться (например,
396 Там же. С. 749.
226
сколько монетаризации, политизации и т.д. социум может «произвести» и
осилить). Определениеминореферентности специфических систем высту-
пает описание мира, которое зависит от особенностей автореферентно-
сти. Поэтому функционально дифференцированное общество предполага-
ет множество описаний миров.
В социальной системе при повышении ее комплексности сочетаются
различные формы дифференциации. Даже в обществе функциональной
дифференциации, считает Луман, пока количественно доминирует сег-
ментарная дифференциация, поскольку она охватывает сами функцио-
нальные системы. Так, мировая политическая система сегментарно диф-
ференцируется по территориям. Мировая экономика распределяется по
рынкам, наука – по сегментарным дисциплинам. Как и в общей социаль-
ной системе, в субсистемах доминирование одной формы дифференциа-
ции является скорее исключением, чем правилом. Тем не менее, в обще-
стве функциональной дифференциации субсистемы отказываются от
внутренней мультифункциональности . Они не могут без риска раскола
отказываться от контроля над своими частями, отпускать их на свободу.
Распределяя свои функции, субсистема не дает своим частям прав, кото-
рыми обладает по отношению к общей системе сама, т.е. не дает им воз-
можности получить автономию и стать системой. Именно благодаря этому
достигаются высокие степени комплексности. Свобода и автопоэзис си-
стемы покупаются ценой жестокой внутренней организации. К примеру,
сильная демократическая партийная система не исключает, а предпола-
гает жесткую дисциплину внутри партии; развитый свободный рынок не
исключает, а предполагает жесткий порядок организации деятельности
внутри отдельных фирм и т.д. В то же время общество функциональной
дифференциации располагает большим арсеналом моделей внутренней
дифференциации, чем сегментарное или стратификационное. Например,
современная организация рыночной деятельности фирм предполагает
разнообразные формы аутсорсинга услуг, контрактных отношений, уда-
ленной работы, т.е. форм трудовых отношений, привязанных к функции и
задаче. Эту внутрисистемную функциональность не следует путать с си-
стемной дифференциацией, при которой система обладает всеми призна-
ками системной идентичности.
227
Поскольку субсистемы в обществе связаны углублящимися зависи-
мостями, в функционально дифференцированной системе многократно
умножается значение многообразных структурных соответствий. Эти
структурные соответствия субсистем поддерживаются внутри единой си-
стемы, которая способна осуществлять контроль над кондиционировани-
ем собственных процессов. Наблюдать структурные соответствия можно,
прежде всего, с точки зрения «производительности» функциональных
субсистем. Она проявляется в виде эффективности внешних взаимодей-
ствий. Тем не менее о своих внешних зависимостях каждая субсистема
может судить только по самой себе, по ирритациям, обусловленным
структурными соответствиями: «Функциональные системы наблюдают
прозводительные зависимости и производительные готовности в самих
себе и учитывают их в форме ирритаций… посредством фактов, которые
используются как индикаторы, т.е. слишком поздно, чтобы можно было
воздействовать на причины».397
При этом функциональные системы не могут воздействовать на
иные субсистемы, а имеют дело только с собственными операциями. Это
влечет за собой непредсказуемость реакций. Чем сложнее продукт, чем
больше предпосылок требуют достижения, тем выше общественный риск.
Луман иллюстрирует это положение конкретным примером: «За по-
литику отвечает политическая система, но если эта система требует де-
нег, она должна действать монетарно, т.е. кондиционировать экономиче-
ские платежные процессы. Может возникнуть специфически политиче-
ская иллюзия, будто всякий способен «делать» деньги сам. Но экономика
не принимает эти деньги или принимает под условием обесценивания,
так что проблема возвращается в форме «инфляции» обратно в политику
… Это означает: небольшие колебания в производительности и произво-
дительной подготовленности (например в политической готовности вме-
шиваться в осуществление права) могут породить в других системах
сверхпропорциональные ирритации. Если только 10% академически под-
готовленных выпускников находят в экономике профессиональные шан-
сы, это разочаровывает целое поколение, перенаправляет поток образо-
вания, изменяет пропорции персонала и финансовые средства, и это
397 Там же. С. 759.
228
происходит в самых разных субсистемах, т.е. реализуется без осмыслен-
ной пропорциональности в отношении к породившей причине».398
Отношения производительности образуют основу и задают динами-
ку общественной интеграции, и тем не менее при господстве функцио-
нальной дифференциации современное общество отказывается от поиска
формы интеграции, например, в виде принципа справедливости: «Инте-
грация в этих обстоятельствах - нечто иное, как вариация ограничений
того, что возможно одновременно».399 Способом решения проблем стано-
вится, как правило, упрощение, позволяющее искать решение в пределах
собственных ресурсов. При кризисах обращаются к наиболее общим
средствам - таким как деньги или власть, инициирует скандалы в СМИ,
выдвигают обвинения и призывы, но всем этим лишь готовят почву для
разочарований. Держит эти ирритации в приемлемых границах только то,
что они быстро сходят на нет. А возникающий дисбаланс между потенци-
алом редундантности и степенью комплексности побуждает общество к
эволюции.
Усилие комплексности в обществе реализуется не только через уве-
личение количества функциональных систем, их операций и наблюдений,
но и посредством их упрощения. Это выражается во все большей ориен-
тации на настоящее с исключением будущего, в опоре на символические
упрощения – моды и стили. Тем не менее наука в современном обществе
обрабатывает гораздо больше информации, чем раньше, демократическая
система принимает гораздо больше решений, чем монархическая. Воз-
можность усложнения в нем всегда зиждется на возможностях упроще-
ния, например, на том, что в обществе «исчезает», оставаясь в нем толь-
ко в качестве «индивида», представителя массового типа. Социальное
измерение жизни «денатурализируется». Многообразие психической жиз-
ни редуцируется. В этом очищении от всего чуждого – своего рода пре-
имущество: «Если бы общество не было в высокой степени индифферент-
но в отношении того, что фактически происходит в сознании отдельного
398 Там же. С. 762.
399 Там же. С. 760.
229
человека, оно не смогло бы осилить несогласованности такого разма-
ха».400
Доминирование функциональной дифференциации не исключает
сохранения старых различений, например «слоистости» (стратификаци-
онной сословности) общества. В новых условиях социальный слой все
еще влияет на социальные шансы и формирует социальные контрасты, но
не олицетворяет собой видимого порядка, он уже не является столь без-
альтернативным, как прежде. В функционально дифференцированном
обществе больше нет необходимости знать, кто к какому слою принадле-
жит. Коммуникация позволяет посредством референций и склонностей
самостоятельно определять, к какому слою примкнуть. Неравенство жиз-
ненных шансов не играет больше конституирующей для общества роли.
Скорее, это побочный продукт отдельных функциональных систем,
например, экономики и воспитания. Именно эти системы склонны к ги-
пертрофии малейших различий и к усилению отклонений.
Одной из важнейших особенностей функциональной дифференциа-
ции является переход наблюдения на более высокий уровень. Если в
прежних формах дифференциации сегментарный мир описывался в онто-
логическом аспекте – как космология вещественных отношений, то те-
перь, считает Луман, мир должен заново конструироваться в массмедиа,
недоступных на уровне самого наблюдения. (Говоря о новостях, люди
считают, что имеют дело с событиями в мире, хотя на самом деле говорят
о прессе, вне которой не существует новостей).
Социолог описывает эту специфику так: «В экономике наблюдатели
наблюдают друг друга с помощью рынка образуемых цен. В политике все
действия инсценируются в зеркале общественного мнения с расчетом на
результаты политических выборов. В науке исследователи наблюдают
друг друга не непосредственно в работе, а сквозь призму публикаций,
которые рецензируются, дискутируются или игнорируются. Так что ори-
ентация происходит по отношению к тому, как наблюдатель наблюдает
соответствующие высказывания. Похожее происходит в современном ис-
кусстве, когда художники настраиваются на то, что их произведения
наблюдаются не как объекты, а как демонстрация средств, с помощью ко-
400 Там же. С. 766.
230
торых производятся эстетические эффекты. Все это значит: функцио-
нальные системы должны сооружать соответствующие формы и условия
для самонаблюдения и могут конструировать реальность только таким
способом».401
Перестройка конструкции реальности и ее перенос на уровень
наблюдения второго порядка превращает именно этот уровень в основной
модус общественной достоверности реальности. Наблюдатель может га-
рантировать только реальность «наблюдаемой реальности». Луман кате-
горичен: «От прорыва к стоящей за видимой, ненаблюдаемой реальности,
которая такова, как она есть, можно и должно отказаться».402 В условиях
отсутствия опоры в реальности наблюдение отказывается от репрезента-
тивного авторитета или иерархии, а гетероархически сплетается и опира-
ется на оперативные данные.
Когда средаи иные системы становятся непрозрачными, окружаю-
щий мир делается неконтролируемым: «В результате разрушется обще-
ственно обязывающий порядок отношений функциональных систем между
собой; и тем сильнее каждая функциональная система завязана на ско-
вана собственной закрытостью, собственным автопоэзисом».403 В совре-
менном обществе речь идет о социальных структурах, которые в условиях
высокой внтуренней непрозрачности и непредсказуемости могут только
репродуцироваться, не отдавая себе отчета в границах этой репродук-
ции.
§ 4. Мировое общество
Разработка понятия функциональной дифференциации привела Лу-
мана к формулировке еще одной важной составляющей его теории - кон-
цепции мирового общества. О мировом обществе Луман заговорил, пожа-
луй, раньше, чем это начали делать политики и эксперты. Тем не менее,
о нем нельзя говорить как о теоретике глобализации, поскольку его кон-
401 Там же. С. 767.
402 Там же. С. 767.
403 Там же. С. 770.
231
цепция описывает социальную систему вообще, а не актуальные тенден-
ции взаимосвязанности конкретных процессов в современном мире. Но
его трактовка, безусловно, проливает свет на природу глобальных про-
цессов и позволяет истолковать явление глобализации с новых и неожи-
данных сторон.404
Основное отличие взглядов Лумана на глобализацию от ее теорети-
ков заключается в том, что он считает глобальность не акцидентальной, а
к сущностной характеристикой общества. Как таковое его можно мыслить
только глобальным, более того, существует только одно общество, поэто-
му оно всегда уже глобально. Нельзя говорить о разных обществах, об
интеграции обществ и соответственно о глобальных процессах вообще
как о чем-то принципиально новом. Это уже во многом лишает дискуссию
о глобализации ее темы. Актуальные процессы, по мысли Лумана, позво-
ляют глубже уяснить себе природу глобальности общества и поэтому тре-
буют теоретической интерпретации в рамках понятий внутрисистемных и
коммуникационных отношений.
В качестве основного аргумента философу служит то обстоятель-
ство, что история не знала абсолютно изолированных обществ, а если бы
такие были, они были бы недоступны и не существовали бы «коммуника-
тивно» для мирового общества. Они существовали бы в том условном мо-
дусе, в каком говорят о существовании «множества миров». Но уже сла-
бейшая коммуникация, сколь бы бедной она ни казалась, интегрирует
общества в единую систему, в представление о едином мире, в единый
мир. Вот как представляет это себе Луман: «Если исходить из коммуни-
кации как элементарной операции, воспроизводство которой конституи-
рует общество, то в этом случае очевидно, что в каждой коммуникации,
причем абсолютно независимо от ее конкретной тематики и от простран-
ственной дистанции между участниками, подразумевается мировое обще-
ство. При этом непременно предполагаются дальнейшие коммуникатив-
ные возможности и обязательно применяются символические средства,
которые не могут быть привязаны к региональным границам».405
404 См. Stichweh R. Die Weltgesellschaft. Frankfurt, 2001; Wobbe T. Weltgesellschaft. Mün-
chen, 2000.
405 Luhmann N., Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997. С. 149.
232
Луман вообще отмечает, что представление о сосуществовании
различных обществ, т.е. идентификация обществ по региональному при-
знаку, далеко не так естественно и обоснованно, как это традиционно
считается. Оно опирается на предпосылки региональной компаративисти-
ки. «При более внимательном рассмотрении выясняется, что социология
оказывается в ловушке артефакта ее сравнительной методологии. Регио-
нальные различия являются естественным результатом проведения реги-
ональных сравнений, включая и те различия, которые со временем воз-
растают. Если же проводить исторические сравнения, то, напротив, вы-
являются согласующиеся тенденции, скажем, охватывающее весь мир
разложение семейных экономик во всех слоях».406
Нужно особенным образом взглянуть на общество, подчеркивает
Луман, чтобы увидеть в нем разные общества. Этот взгляд, разумеется,
коренится в традиции, ибо территориальный фактор был существенней-
шим моментом ограничения коммуникации. Интеграция общества измеря-
лась по интенсивности коммуникационных связей. Коммуникация, конеч-
но же, всегда была «территориально» ограничена и определена. И важ-
нейшим способом охватить коммуникацию как единое целое и осуществ-
лять над ней какой-нибудь контроль, был политический суверенитет, т.е.
территория, на которую власти удавалось распространить свое господ-
ство. Именно те, кто видит в государстве центральный элемент общества,
воспринимают глобализацию наиболее проблемно. Они категорически не
приемлют концепцию мирового общества.
Луман отвергает такую позицию. Напротив, сама возможность уста-
новления региональных различий предполагает исходную перспективу
для сравнения, основанную на представлении о целостности общества:
«В зависимости от применения сравнительной перспективы можно выяв-
лять рассогласование или сходство в региональном различии. Эти рас-
хождения не могут согласовываться методологически, и можно считать,
что с выбором перспективы сравнения эти разногласия воспроизводятся.
Именно поэтому следует искать теорию, которая была бы совместимой с
подобными различиями, а также могла бы их интерпретировать».407 Дру-
406 Там же. С. 158.
407 Там же. С. 157.
233
гими словами, различие порождается единством - формой, которая сводит
различия в единство.
Адекватной Луман считает теорию, которая не только объясняет
различия (а не отрицает их), но и не исключает представления об исто-
рическом и территориальном единстве мирового общества. Эта теория
должна быть способна истолковать как региональные различия, так и
различия, обусловленные функциональной дифференциацией общества.
Луман подчеркивает, что в аргументации «плюралистов» акцент ставится
на культурные и стадиальные различия между нациями, расколотыми по
религиозному, этническому, имущественному и т.п. принципам. Сам вы-
бор столь типично современных понятий говорит о том, что критерии
различения не произвольны. И они коренятся не в компаративистике как
таковой (которая находит различия, а потом их обобщает), а в функцио-
нальной дифференциации общества (проблематизируются функциональ-
ные подсистемы –культура, экономика, социальная инфраструктура, а за-
тем на основании их понятий выявляются различия). Дискутируемые в
обществе проблемы специфичны только для современников, а это демон-
стрирует, что критерии различий темпорально едины и функционально
многообразны: «Современность общества состоит не в его признаках, а в
его формах, а это означает: в различениях, которые оно использует для
управления своими коммуникативными операциями».408 Иначе говоря,
проблема культуры может тематизироваться только в культурных обще-
ствах. Различения обусловлены оценкой функциональных параметров
общества, т.е. отклонений от современного стандарта.
Именно функциональная дифференциация делает объяснимыми
наблюдаемые различия в развитии регионов и их культурном многообра-
зии. Эти различия проблематизируются потому, что являются составными
элементами семантики модерна/модернизации как исходного фундамента
для понимания единства современного общества: «… эта семантика дела-
ет возможным представление регионов мирового общества как более или
менее модернизированных (развитых), и этим различением дает возмож-
ность полноценно их описывать».409 Отдельные регионы в различной сте-
408 Там же. С. 160.
409 Там же. С. 154.
234
пени получают выгоду или терпят ущерб от функциональной дифферен-
циации. «Однако это не дает повода братьза основу рассмотрения регио-
нальные общества; ведь именно логика функциональной дифференциа-
ции и сравнение (не с другими обществами, а с преимуществами полной
реализации функциональной дифференциации) делают наглядными эти
проблемы… Если исходить из мирового общества и его функциональной
дифференциации, появятся основания для решения проблем, с которыми
сталкиваются отдельные регионы. В этом случае можно лучше разглядеть
и прежде всего лучше объяснить, почему некоторые данные о регионах
разнятся, и почему такие различия усиливаются или ослабляются в зави-
симости от того, как происходит их круговая интеграция в сеть стандар-
тов мирового общества», - пишет по этому поводу Луман.410
За подтверждением своей точки зрения ученый обращается к исто-
рической эволюции понятия мирового общества. Вплоть до современной
эпохи человеческие сообщества существовали в условиях достаточно
сильной автаркии. Античная мысль довела до прекрасной теоретической
формы мысль о самодостаточности и совершенстве небольших поселений.
И лишь начиная со Средневековья (римское право) всерьез обсуждается
вопрос о необходимости больших территорий для общежития, при этом не
ставится под сомнение то, что коммуникация осуществляется только
внутри замкнутых территориальных границ. Тем не менее сегментарная
стратификация древнего общества не мешала историкам древности бро-
сать взгляд на человечество в целом. На это были способны и политики и
обычные люди, вступившие в контакт с иностранцами и с легкостью
находившие перспективу наднационального общества.411
Главным изолирующим, но и одновременно интегрирующим факто-
ром в древнем мире выступали политические усилия по подчинению тер-
риторий единому политическому господству. Вне политических линий,
проводимых по территориальным границам, мировое общество могло вос-
приниматься лишь как размытая потенциальность. «Политические госу-
410 Там же. С. 159.
411Пример - встречи Одиссея с правителями разных земель в «Одиссее» Гомера. Статус
«гостя» репрезентировал для древних вступление в коммуникацию с мировым обще-
ством.
235
дарственные образования, - пишет Луман, - которые формировались в
ходе роста возможностей коммуникации, вплоть до Нового времени стал-
кивались с проблемой того, как обеспечить господство над значительной
территорией из единого центра, то есть контролировать ее посредством
коммуникации. Из этого опыта проистекает и … тенденция отождествлять
общества со сферами политического господства, а следовательно, опре-
делять их регионально».412
Хотя международная торговля и культурный обмен существовали,
их коммуникативный эффект был невысоким. Аксиомой в древнем мире
был тезис, что с увеличением пространственной удаленностью коммуни-
кационные возможности уменьшаются. Соответственно, замечает Луман,
и мир в этих обществах понимался как «aggregatio corporum», как сово-
купность вещей, упорядочивающихся по именам, видам и родам.
Вместе с тем уже в древнем мире обозначились противоположные
тенденции, «открытости» обществ. Хотя и медленно, но шла вперед коор-
динация мирового развития. Не только торговый, но и технологический
обмен получал здесь огромное значение. Металлообработка, заимствова-
ние оружия, земледельческих, управленческих технологий и знаний по-
степенно унифицировали цивилизованный мир. Следствием усиления ко-
ординирующих культуру связей было возникновение мировых религий.
Мощнейшим импульсом формирования представлений о внешнем мире
как многообразии народов были военные конфликты. Они проблематизи-
ровали территориальный суверенитет как принцип парциальностиедино-
го человеческого пространства, поскольку любые границы в каждый мо-
мент могли оказаться сдвинутыми.
Коррелятом представления о едином мире и едином человеческом
обществе выступало, с точки зрения Лумана, понятие единого Бога. Бог
наделялся способностью наблюдения второго порядка, но человеку оста-
валась важная привилегия – наблюдать наблюдателя мира, пусть даже в
рамках docta ignorantio, «ученого незнания». Трактуя Бога как творца, а
мир как творение, религиозные мыслители и философы оставались в гра-
ницах понятий вещественного мира. То, что лежит за ним, определялось
как тайна – предмет восхищения и страха. Иное понятие мира возникает,
412 Там же. С. 146.
236
когда мир начинает постигаться как обратная сторона всякой определен-
ности, как смысловой горизонт неизведанного. Мир – не творение, а дан-
ность, требующая осмысления. Такое понятие мира формируется филосо-
фией трансцендентального сознания уже в Новое время.
Современное общество отказывается не только от постулата, что
мир состоит из вещей, но и от постулата, что смысловая определенность
мира формируетя из субъектов и объектов. Смысл мира создается в гор-
ниле коммуникации – иные определения будут просто конкретизациями.
Мир в представлении современного общества, опирающийся на понятия
коммуникации, а не вещности, способен «сжиматься» и «расширяться».
«Целостность маркированного не может суммироваться или даже быть
уравненным с немаркированным. Мир современного общества есть «фо-
новая неопределенность», которая делает возможным как появление
объектов, так и активность субъектов».413 Границы общества ощущаются
как границы коммуникации, а не внешние наличные границы или грани-
цы «членства/не членства». По ним определяются (и в этом согласуются
все подсистемы общества), в частности, конкретные территориальные
общности. Осуществляя коммуникации, все подсистемы оказываются при-
частными к обществу. Специфицируясь в своих способах и символических
средствах коммуникации, они отличаются друг от друга. Переход к ком-
муникационной основе революционизировал представление о мире, счи-
тает Луман. «С европейской точки зрения, вся территория Земли оказа-
лась «открытой», была постепенно колонизирована или же вплетена в
сеть регулярных коммуникативных отношений».414
Важным свидетельством нового состояния открытости в Новое вре-
мя является, по Луману, возникшее в середине 19-го века понятие миро-
вого времени. В любом месте Земли стало можно фиксировать одновре-
менность событий в разных местах мира. Осуществление коммуникации
стало теперь скоординированным в единых временных рамках. Появилась
возможность идентификации и исчисления разных временных перспек-
тив: происходящее в одном месте столь же фиксировано «происходит» и
в другом месте – раньше или позже, днем или ночью. Возникает новое
413 Там же. С. 146.
414 Там же. С. 147.
237
понятие синхронности - даже в отношении того, что недоступно восприя-
тию. Исчезли изолированные временные миры, которые порождали эф-
фект утраты времени и истории, оказывавший воздействие на жизнь в
пространстве. Семантика времени перестраивается, отказывается от схе-
мы «прошлое/будущее» и переориентирует коммуникационные понятия с
традиции (прошлое, тождество), на модерн (будущее, случайность). Вре-
мя стало глобальным гораздо раньше, чем пространство.
Наконец, еще один шаг к пространственной глобальности, указыва-
ет Луман, связан с развитием массмедиа. Уже книгопечатание неизмери-
мо расширило объем и уплотнило коммуникационную связанность плане-
ты. Эта коммуникационная связанность, однако, долго существовала в
абстрактном времени, во времени письма. Средства связи, придавая
письменной коммуникации реальное временное бытие, создали информа-
ционно-новостные потоки. Огромные объемы текстов получили времен-
ную привязанность к «здесь и теперь» и соответственно совершенно но-
вую информационную ценность, спрос на которую и сегодня лишь растет.
СМИ в течение 20-го века создали собственное коммуникативное про-
странство, гораздо более мощное и эффективное, чем иные способы ком-
муникации, например, бюрократическая коммуникация. Сегодня министр
нередко узнает о своем увольнении через СМИ. Преимуществами такой
глобальной коммуникационной сети пользуются и те, кто никогда иначе
не мог бы стать самостоятельным источником информации. Через СМИ
люди знают не только о том, что включены в мировое общество, но и о
том, что мировое общество знает о них.
СМИ, в особенности телевидение, в каком-то смысле обесценивают
место, из которого ведется наблюдение. Хотя разные события, которые-
показывают по телевизору, происходят где-то в других местах, все они
синхронны и место не имеет значения. Террористический акт утрачивает
локализацию, потому что вызванный им информационный шок бъет по
всему обществу, по всей стране одновременно. В этом смысле наносимый
им ущерб , смертоноснее локального удара физическим оружием. «Бла-
годаря росту пространства для возможного движения и возросшим скоро-
стям произошла перестройка в переживании пространства: ориентацию
238
на место сменила ориентация на движение», пишет Луман.415 Тезис об
ослаблении коммуникации по мере удаленности утратил свой смысл.
Все это оказывает прямое воздействие на восприятие единства ми-
ра. Мир уже не есть ни aggregatio corporum, ни universitas rerum, т.е. не
является конечным или бесконечным, вещным: «Мир – это лишь совокуп-
ный горизонт всякого смыслового переживания, которое может быть
направлено как внутрь, так и вовне, обращено вперед или назад во вре-
менном измерении».416 Отпала предпосылка, которая лежала в основании
старого мира и гласила: мир для всех наблюдателей один и тот же, и че-
рез наблюдение может получить определенность. Теперь наблюдатель
видит в мире не тайну, а коммуникативную недоступность, парадоксаль-
ность которой оказывается еще выше, чем прежде, поскольку недоступно
наблюдение себя самого. Как только отношение наблюдателя к миру про-
блематизируется, разрушается традиционное представление о мета-
единстве и тождестве мира для всех: «Если мир для всех один и тот же,
он теряет определенность. Если же мир допускает возможность опреде-
ления, он не может быть для всех одним и тем же, ибо определение тре-
бует различений… Мир являет собой такое недостижимое единство, кото-
рое можно наблюдать различными – и только различными – способа-
ми».417 Понятие мирового общества (в том смысле, что как единство оно
существует не актуально, а лишь потенциально), подразумевает, что
адекватны только различные проекты мира, что всякое общество само
конституирует мир. Формы дифференциации современного общества тре-
буют отказаться от мирового порядка, в котором существовала иерархи-
ческая организация, различение центра и периферии. Мир, предстающий
этому обществу – гетерархичный и ацентричный. «Его мир – это коррелят
свяхывания операций в сеть, он одинаково доступен с позиции любой
операции».418
В таком свете Лумана едва ли может удовлетворить понятие «гло-
бального мира», поскольку говоря о глобальной системе, имеют в виду
415 Там же. С. 150.
416 Там же. С. 151.
417 Там же. С. 153.
418 Там же. С. 153.
239
«международную систему», подразумевая преимущественно экномико-
культурные взаимодействия государств или в лучшем случае систему
международного сообщества, которая сегментарно поделена на нации, а
не дифференцируется на различные функциональные системы. Луман бо-
лее удачным находит термин И. Валлерштейна «мировая система» (world-
system), в котором уже не слышно отзвука государственного и нацио-
нального плюрализма.
Таким образом, Луман разрабатывает социологическую концепцию,
которая по-новому осмысливает не только суть, но и параметры обще-
ства. Это не нации и государства, но это и не человечество. Под обще-
ством он понимает социум как таковой, - прежде всего, функционально
стратифицированный социум, а остальные общественные образования –
суть лишь проявления, продукты дифференциации этого общества, по
каким бы принципам она ни производилась.В свете этого обсуждению
подлежит не то обстоятельство, что мировое общество есть, а вопрос о
том, оправданно ли социологической точки зрения релятивизировать
продукты теоретической дифференциации – национальные общества, ко-
торым Луман фактически отказывает в праве называться обществом.
Национальные общества, вопреки исторической привычке и практике не
обладают свойствами социальности, они, по Луману, суть плод умозри-
тельной абстракции. Тем не менее, если емуприходится упорно доказы-
вать единство общества, то это говорит о том, что он имеет здесь дело
отнюдь не с конструкциями теоретиков, а с сопротивлением эмпириче-
ских данностей, которые ему приходится преодолевать на сугубо умозри-
тельный лад.
240
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевые понятия, призванные раскрывать узловые элементы тео-
ретической конструкции общества, способны стираться в ходе рутинного
употребления. Между тем, социологические понятия – не понятия мате-
матики или повседневной жизни, требующие строгости и однозначности.
На них не построить математически долговременных теоретических моде-
лей. Отсутствие однозначности они компенсируют возможностью обога-
щения и многозначностью, возможностью постоянного развития теории -
не путем расширения, а путем смены фокуса наблюдения, теоретических
парадигм. Именно многообразием и разноречием социальная наука га-
рантирует развитие познания общественной действительности. И те ра-
дикальные теоретические изменения, которые точные и естественные
науки воспринимают как «научные революции», для социальных наук яв-
ляются повседневной нормой и потребностью развития.
К таким понятиям, переживающим кризис тем очевиднее, чем они
становятся интереснее и актуальнее для научной дискуссии, относится
понятие коммуникации. В данном случае кризис заключается в его теоре-
тической консервации и заскорузлости, в содержательном обеднении и
шаблонизации. Введенное в широкий обиход в 50-е годы прошлого века в
прикладных математических теориях, понятие коммуникации явно проде-
монстрировало свою содержательную бедность для социально-
философской дискуссии, как только оказалось в ее центре.419 С помощью
простой коммуникативной схемы Шенона, описывающей только интерак-
цию передачи и приема информации, было невозможно ни обосновать со-
циальное значение коммуникации, ни вскрыть ее глубинные истоки.420
419 См. Merten K. Kommunikation: Eine Begriffs- und Prozeßanalyse. Opladen 1977;
Watzlawick, Beavin J., Jackson D. Pragmatics of Human Communication: A Study of Interac-
tional Patterns, Pathologies, and Paradoxes, New York, 1967.
420 Возникновение общей статистическо-математической теории коммуникации в сере-
дине 20-го века было связано со стремлением более точно описать процессы коммуни-
кации. Теория коммуникации и информации развивалась преимущественно в рамках
кибернетических наук: системной теории, теории управления, теории организации,
241
Теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, коммуникативного со-
общества К.-О. Апеля стали важными вехами, ознаменовавшими собой
новую жизнь понятия.421
Ту философскую смелость и радикальность, можно понять до конца
лишь в свете вышесказанного. В его интерпретации это понятие почти
утратило связь с обыденными представлениями, опирающимися на повсе-
дневную практику. Тем не менее, именно подобная «модификация» поня-
тия позволяет с новой стороны взглянуть на коммуникацию и перевести
дискуссию в совершенно новые контексты.
Прежде всегокоммуникация у Лумана перестала быть обычным эм-
пирическим явлением, явлением вообще. Она стала обществом. И обще-
ство стало коммуникацией. Чтобы обосновать столь неожиданное обоб-
щение, Луману пришлось перестроить всю социальную теорию и ее аппа-
рат. Общество должны были «покинуть» люди, со всеми их индивидуаль-
ными переживаниями и способностями к общению, к сознанию, к истори-
ческой памяти; общество освободилось от балласта вещественных атри-
бутов, таких как территория или материальная культура. От общества в
интерпретации Лумана остались только чистые события коммуникации,
обрабатывающие смысловые формы, созданные в процессе ее самовос-
производства.
Более того, само понятие коммуникации, полностью покрывающее
область значений понятия общества, взято в предельно абстрактном,
теории сообщений и т.д. Наиболее заметную роль здесь сыграла теория сообщений,
связанная с именем Шенона, - в ее рамках разрабатывались синтаксические, семанти-
ческие и прагматические проблемы передачи информации. Наряду с ключевыми рабо-
тами Шенона, Вивера, Винера, Черии важное место принадлежитработам, в которых
описывались оптимальные коммуникативные системы и созданы модели коммуникатив-
ных структур. См. Shanon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication.
Urbana, 1949; Wiener N. Cybernetics. New York, 1949; Deutsch K.W. On Communication
Models in the Social Science. // The Public Opinion Quarterly, 1952 (16); Meckmann J.M. A
Flow Model of Communication. Towards an Economic Theory o Information. // Cowles
Commission Paper 1956 (20); Marshak J. Towards an Economic Theory of Organisation and
Information. // Thrall R.M. Decision Processes. New York, 1954.
421 См. Apel K.-O. Transformation der Philosophie, Band I - II. Frankfurt, 1973; Habermas
J. Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I-II. Frankfurt, 1981.
242
очищенном виде. К нему не относятся общающиеся люди или технические
средства коммуникации (без которых она, правда, невозможна). В комму-
никации, по Луману, не участвуют не только средства связи, но и созна-
ние! Коммуникация – как некий параллельный сознанию мир – сама есть
смысл и форма смысла, не нуждающаяся для процессирования смысла ни
в чем, кроме самой себя.
Нетривиальность подобного истолкования коммуникации усиливает-
ся положением, что коммуникаций не может быть много, даже две. Ком-
муникация - одна и в себе абсолютно едина, сколько бы коммуникатив-
ных актов ни происходило на свете. Она не может прекратиться и снова
начаться: если коммуникация однажды завершится, она уже не сможет
начаться никогда. Коммуникация – некий абсолют, вбирающий в себя все
пространство человеческого опыта, вполне способный занять место поня-
тия Бога в традиционных метафизических конструкциях.
Вместе с тем коммуникация - не пустая абстракция, обозначающая
всю реальность или весь мир. Коммуникация сложна – она состоит из ин-
формации, передаваемой в сообщении и понимаемой. Понимает при этом
не сознание, т.е. некий «приемник», - понимает сама коммуникация, и
создает, и передает информацию тоже она сама. В актах выбора инфор-
мации, сообщения, понимания она осуществляет селекции, каждая из ко-
торых является продолжением предыдущей и предпосылкой последующей
коммуникативной операции. Непрерывность процессирования этих опе-
раций гарантирует тотальность коммуникации. Коммуникация и только
коммуникация имеет дело с комплексностью окружения, актуализируя в
своих селекциях с помощью смысла одни возможности и потенциализируя
другие.
Коммуникация есть существующая, самодостаточная, автопоэтиче-
ская система – и этим, по Луману, о ней сказано все. Ее понятие очень
бедно. Она различает только одно – себя от окружения. Как система она
может тоже только одно – производить все новые операции, процессиро-
вать себя во времени. Но различая и оперируя, она может все, ибо таким
образом создает общество – ту версию редукции комплексности смысла,
которой социум обязан своим существованием.
Луман оставляет за скобками коммуникации весь мир – для того,
чтобы воспроизвести его в качестве коммуникативного феномена внутри
243
коммуникации. Если для Гуссерля мир был смысловым феноменом созна-
ния, то для Лумана как социолога мир выступает как смысл, конституи-
руемый в коммуникации. Но это уже совсем другой смысловой мир – его
историческая память иная, чем память сознаний. Она оседает не в ткани
личных воспоминаний, а в материальных текстах, устных пересказах или
СМИ. Реальность этого мира – не реальность, «даваемая в ощущениях», а
смысловая реальность, выражаемая посредством языка. Познание этой
реальности осуществляется не тем, что в традиции называется разумом
человека, а посредством разума общества - наблюдения, автореферент-
ности коммуникативной системы, т.е. конструирования смысла в процессе
коммуникации.
Таким образом, проблема общества выступает у Лумана как про-
блема конституирования социального смысла. Цикл работ Лумана о под-
системах общества – праве, экономике, науке, любви и т.д. – посвящен
не раскрытию отношений между различными социальными группами, т.е.
традиционной задаче социологии, а описанию констант и условий консти-
туирования смысла в рамках этих подсистем. Детализированные описания
у Лумана должны, по его замыслу, воссоздать механизм действия соци-
альной системы в ее окружении. Основа такого механизма - бинарные
формы и бинарные операции автореферентности и инореферентности,
выбирающие между позитивным и негативным значением формы. На бо-
лее высоком системном уровне он работает посредством бинарных кодов,
организующих по этому принципу жизнь высокосложных систем.
Основным механизмом бинарного кодирования для коммуникации
выступает язык: любому смыслу, к которому он прикасается, он придает
двузначность. На базе языка коммуникация создает средства символиче-
ской генерализации, открывающие перед ней возможности взрывной эво-
люции. Они позволяют не только более интенсивно распространять ком-
муникацию, но и наделять ее принудительностью и гарантировать ее
продолжение. Именно это дает ответ на вопрос, почему коммуникация,
хотя и невероятна, но необходима. Власть, деньги, любовь, истина –
средства коммуникации, которые создали общество и скрепили его. С по-
мощью символически генерализованных медиа многократно возрастает
уровень сложности общества. Это явление и стоит в центре исследова-
тельских интересов Лумана.
244
Интерпретировав общество как коммуникацию, Луман переосмысли-
вает основные разделы социологии, опирающиеся на ключевые социоло-
гические понятия. Понятие социального действия, по его мнению, не яв-
ляется ключевым в анализе общества в силу того, что предаставляет со-
бой лишь редуцированную версию понятия коммуникации. Любое соци-
альное действие есть коммуникация, но не любая коммуникация есть
действие. Посредством социального действия происходит самоидентифи-
кация (самореференция) коммуникации. Поскольку концепция социаль-
ного действия возникла в противопоставлении понятию индивидуально-
сти, то Луман, в таковом не нуждающийся, отказывает ему в статусе кри-
терия значении.
Представитель радикального функционализма, Луман как мысли-
тель выделяется своей концепцией системной дифференциации. Функци-
онализм Лумана проявляется в том, что в его концепции почти исчезают
структурный и стратификационный аспекты. В его теории нет отношений
между структурами, есть только отношения между субсистемами – само-
стоятельными организмами, реакции которых сверх детерминированны.
На место реляционных отношений, константных зависимостей и причин-
ностей приходит максимально динамичная концепция, в которой решаю-
щую роль играет время, момент, самодетерминированное действие. Все,
что возникает в системе, возникает методом отпочкования и формирова-
ния субсистем. И хотя субсистемы не могут быть автопоэтическими и са-
модостаточными, их связь друг с другом (и в этом лумановская концепция
отличается от традиционного понимания структурных связей системы),
является лишь связью системы-окружения, связью, опосредованной лишь
отношением к материнскому целому и характеризующейся высокой сте-
пенью свободы. Функциональная дифференциация, отличающая совре-
менное общество от традиционного, сегментарного, - свойство общества,
в котором принцип системной автономии пустил наиболее глубокие кор-
ни. Такое общество наиболее богато возможностями, но оно же поверже-
но наибольшему риску, посколькуосвобождает субсистемы для внутрен-
ней коммуникации путем отказа от координирующей коммуникации .
Обсуждая теорию Лумана в контексте современной научной дискус-
сии об обществе, следует отметить как основное ее отличительное свой-
ство и достоинство то, что она подняла социологию на предельную высо-
245
ту научной абстракции. Луман создал тип социальной теории, который
пытается опереться не на философские умозрения, а на системную кон-
цепцию естественных наук, утверждающую себе с середины 20-го века в
качестве парадигмы всего научного познания. Впрочем, Луман оказался
одним из немногих, кто отозвался на такой запрос со стороны основате-
лей теории систем. С того момента, когда были осознаны все методологи-
ческие проблемы, связанные с различиями в подходах разных типов
наук, – наук о природе и наук о духе, - стратегия методологического
единства оказалась под подозрением, и лишь немногие ученые брали на
себя смелость опираться на подобную теоретическую предпосылку.
Возможно, не всякий по достоинству оценит эту смелость. Социаль-
ная теория Лумана - одна из самых технократичных, формализованных
или, в других терминах, «обездушенных» концепций. Действительно, ма-
ло кто готов воспринимать общество как математику элементарных функ-
ций, а его отличие от иных систем видеть лишь в сложности этой матема-
тики, но не в самих функциях. Иных в лумановской концепции не удовле-
творит то, что программа общества написана на социологическом «ассем-
блере» - первичном, предельно абстрактном языке, пользуясь которым с
трудом можно распознать социальные явления, не говоря уже о том, что-
бы дать их полное описание и объяснение. В рассуждениях Лумана нет
места веяниям современности, духумодных социологических концепций.
Словно древний китайский мудрец, он не снисходит до «повестки дня» и
в своих умозаключениях опирается лишь на нескольких предшественни-
ков-единомышленников.
Тем не менее, несмотря на всю новизну терминологии и тем, подни-
маемых Луманом,в его книгах чувствуется дух великой традиции – а
именно, немецкой духовно-философской традиции, словно предназна-
ченной для «системосозидания». Принимаясь за почти невозможное в
наше время предприятие – построение «всеобъемлющей» системы, Лу-
ман, принимая несколько нейтральных философских понятий, таких как
«смысл», «система», «коммуникация», впервые выводит на проблемное
поле социологии то, что до сих пор было предметом философского мыш-
ления. Начиная, казалось бы, с нуля, он с изяществом расставляет вехи
универсалистской социально-философской концепции новой эпохи, делая
это без помощиклассиков, без груза нерешенных проблем. И хотя время
246
берет свое, восстанавливая контексты, обнаруживая новые ошибки, уже
никто не сомневается в том, что Луман - классик философии и социоло-
гии 20-го века, продолжающий собой ряд великих представителей немец-
кой социально-философской мысли.
247
Список литературы
Произведения Н.Лумана
Луман Н. Власть. М., 2001.
Луман Н. Невероятность коммуникации. М., 2001 Луман Н. Понятие общества. М., 2001
Луман Н. Общество как социальная система. М., 2004.
Луман Н. Понятие риска. // THESIS, М., 1994, № 5.
Луман Н. Почему необходима "системная теория? // http://hq.soc.pu.ru:8101/persons/golovin/r_luhmann2.html
Луман Н. Почему необходима «системная теория»? // Проблемы теоретической
социологии. СПб., 1994. С. 43-52. Луман Н. Что такое коммуникация. Пер с нем.//Социологический журнал.1995,
№3.
Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2001.
Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества //
Социо-логос. М., 1991. Вып. 1, С. 194-216.
Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий. //
http://knowledge.isras.ru/sj/sj/sj1-2-00luhm.html
Luhman N., Becker F. Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz: Möglichkeiten ge-setzlicher Regelung der Rücknehmbarkeit von Verwaltungsakten. Berlin (Duncker &
Humblot), 1963.
Luhman N. Funktionen und Folgen formaler Organisation. Berlin (Duncker &
Humblot) 1964, 4. Aufl. mit einem Epilog 1994, Berlin, 1995.
Luhman N. Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet. Berlin (Duncker & Humblot), 1965.
Luhmann N. Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie. Ber-lin (Duncker & Humblot) 1965, 3. Aufl. 1986.
Luhmann N. Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung: Eine verwal-tungswissenschaftliche Untersuchung. Berlin (Duncker & Humblot), 1966.
Luhmann N. Theorie der Verwaltungswissenschaft: Bestandsaufnahme und Entwurf. Köln-Berlin, 1966.
Luhmann N. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität.
Stuttgart (Enke), 1968, 2. erweiterte Aufl., 1973.
Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität: Über die Funktion von Zwecken
in sozialen Systemen. Tübingen (J.C.B. Mohr, Paul Siebeck), 1968; Frankfurt (Suhrkamp), 1973.
Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Neuwied-Berlin (Luchterhand), 1969. 2.
Aufl. (Luchterhand) 1975; Frankfurt (Suhrkamp), 1983.
248
Luhmann N. Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. Köln-Opladen (Westdeutscher Verlag), 1970; 4. Aufl., 1974.
Luhmann N., Habermas J. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt (Suhrkamp), 1971.
Luhmann N. Politische Planung: Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung.
Opladen (Westdeutscher Verlag), 1971; 2. Aufl. 1975.
Luhmann N. Rechtssoziologie, 2 Bde., Reinbek (Rowohlt), 1972; 2. erweiterte Aufl.,
Opladen (Westdeutscher Verlag), 1983.
Luhmann N., Mayntz R. Personal im öffentlichen Dienst: Eintritt und Karrieren. Ba-den-Baden (Nomos), 1973.
Luhmann N. Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart (Kohlhammer), 1974.
Luhmann N. Macht. Stuttgart (Enke), 1975; 2. Aufl. 1988.
Luhmann N. Soziologische Aufklärung. Bd. 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1975, 2. Aufl. 1982.
Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt (Suhrkamp), 1977.
Luhmann N. Organisation und Entscheidung. Vorträge. Rheinisch-Westfälische Aka-demie der Wissenschaften. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1978.
Luhmann N., Schorr K.E. Reflexionsprobleme im Erziehungssystem. Stuttgart (Klett-Cotta) 1979; Frankfurt (Suhrkamp), 1988.
Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. I, Frankfurt (Suhrkamp), 1980.
Luhmann N. Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. München (Olzog), 1981.
Luhmann N., Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. II, Frankfurt (Suhrkamp), 1981.
Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie. Frankfurt (Suhrkamp), 1981.
Luhmann N. Soziologische Aufklärung. Bd. 3: Soziales System, Gesellschaft, Orga-
nisation. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1981.
Luhmann N. The Differentiation of Society. New York (Columbia UP), 1982.
Luhmann N. Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität. Frankfurt (Suhrkamp), 1982.
Luhmann N. Paradigmawechsel in der Systemtheorie: Vorträge in Japan. Tokyo
(Ochanomisu), 1983 (japanisch).
Luhmann N. Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt (Suhr-
kamp), 1984.
Luhmann N. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen ein-stellen? Vorträge der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Opla-
den (Westdeutscher Verlag), 1985.
Luhmann N. Die soziologische Beobachtung des Rechts. Frankfurt (Metzner), 1986.
Luhmann N. Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen (Westdeutscher Verlag), 1986.
249
Luhmann N. Soziologische Aufklärung. Bd. 4: Beiträge zur funktionalen Differenzie-rung der Gesellschaft. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1987.
Luhmann N. Archimedes und wir: Interviews. Herausgegeben von Dirk Baecker und Georg Stanitzek, Berlin (Merve Verlag), 1987.
Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt (Suhrkamp), 1988.
Luhmann N. Erkenntnis als Konstruktion. Bern (Benteli), 1988.
Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der
modernen Gesellschaft. Bd. 3, Frankfurt (Suhrkamp), 1989.
Luhmann N., Fuchs P. Reden und Schweigen. Frankfurt (Suhrkamp), 1989.
Luhmann N. Risiko und Gefahr. Aulavorträge 48, St. Gallen, 1990.
Luhmann N. Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral. Frankfurt (Suhr-kamp), 1990.
Luhmann N. Essays on Self-Reference, New York (Columbia U.P.), 1990.
Luhmann N. Soziologische Aufklärung, Bd. 5: Konstruktivistische Perspektiven. Op-
laden (Westdeutscher Verlag), 1990.
Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt (Suhrkamp), 1990.
Luhmann N. Soziologie des Risikos. Berlin (de Gruyter), 1991.
Luhmann N. Raffaele De Giorgi, Teoria della societŕ. Milano (Franco Angeli), 1992.
Luhmann N. Beobachtungen der Moderne. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1992.
Luhmann N. Universität als Milieu. (Hrsg. von André Kieserling), Bielefeld (Haux), 1992.
Luhmann N. Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? Heidel-
berg (C.F. Müller), 1993.
Luhmann N. Das Recht der Gesellschaft. Frankfurt (Suhrkamp), 1993.
Luhmann N. Die Ausdifferenzierung des Kunstsystems. Bern (Benteli), 1994.
Luhmann N. Die Realität der Massenmedien. Vorträge G 333 der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Opladen 1995; 2. erweiterte Auflage,
Opladen, 1996.
Luhmann N. Soziologische Aufklärung. Bd. 6: Die Soziologie und der Mensch. Opla-
den (Westdeutscher Verlag), 1995.
Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 4, Frankfurt (Suhrkamp), 1995.
Luhmann N. Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt (Suhrkamp), 1995.
Luhmann N. Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Wien (Pi-
cus), 1996.
Luhmann N. Protest: Systemtheorie und soziale Bewegungen (hg. von Kai-Uwe Hellmann). Frankfurt, 1996.
Luhmann N. Modern Society Shocked by its Risks. Department of Sociology, The University of Hongkong, Occasional Papers 17, Hongkong, 1996.
Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt, 1997.
250
Литература о Лумане
Александр Дж., Коломи П. Неофункционализм сегодня: восстанавливая теоре-
тическую традицию. // Социс. 1992. № 10. С. 112-120.
Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958.
Головин Н. А. Никлас Луман превращает невероятность коммуникации в веро-ятность и надежность // http://www.spbumag.nw.ru/no02-98/10.html
Головин Н.А. Что такое организация? - подходы Никласа Лумана и аутопойези-
са // http://big.spb.ru/publications/other/org_culture/chto_takoe_organizaciya.shtml
Давыдов Ю.Н. и др. Очерки по истории теоретической социологии ХХ столетия: от М.Вебера к Ю.Хабермасу, от Г.Зиммеля к постмоернизму. М., 1994.
Зименкова Т.В. Никлас Луман глазами коллег // Журнал социологии и социаль-ной антропологии. 1999 год, том II, выпуск 1.
Карташев В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. М., 1995.
Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ. М., 1978.
Посконина О.В. Никлас Луман о политической и юридической подсистемах об-
щества. Ижевск, 1997.
Посконина О.В. Общественно-политическая теория Н.Лумана: методологиче-ский аспект. Ижевск, 1997.
Посконина О.В. Философия государства Никласа Лумана. Ижевск, 1996.
Стратий Л. М. Основные понятия информатики "информация" и "коммуникация"
в свете теории систем Н. Лумана // http://www.ito.su/2003/tezis/I-1-1899-Ustniy.html
Филиппов А.Ф. Луман Н. Наблюдения современности // Социс, 1994, № 1, С.
185-188.
Филиппов А.Ф. Социально-философские концепции Никласа ЛУмана // Социо-
логические исследования. 1983. № 2. С. 177-184.
Филиппов А.Ф. Теоретические основы социологии Н.Лумана. Дисс. Канд. Филос. Н. Инст. Социол.исследований АН СССР, М., 1984.
Augstein F. Protest ohne Podest. Niklas Luhmann geht auf die Straße // Frankfurter
Allgemeine vom 5. November 1996, Nr. 258, L 13.
Baecker D., Markowitz J., Stichweh R., Tyrell H., Willke H. (Hrsg.) Theorie als Pas-sion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Baecker D., Abschied vom Durchschnitt. Neue Orientierung in der Soziologie. // So-ziale Welt, Jg. 1990, H. 2, С. 243-249.
Baecker D. Auf dem Rücken des Wals. Das Spiel mit der Kultur - die Kultur als Spiel. // Lettre International, Jg. 1995, H. Sommer, С. 24-28.
251
Baecker D. Oszillierende Öffentlichkeit. // Maresch R. (Hrsg.): Medien und Öffent-lichkeit. Positionierungen, Symptome, Simulationsbrüche. o.O. (Klaus Boer Verlag),
1996. С. 89-107.
Baecker D, Ranulph Glanville und der Thermostat: Zum Verständnis von Kybernetik und Konfusion. // Merkur, Jg. 1989, H. 6, С. 513-524.
Baecker D. Weil es so nicht weiter geht. Organisation und Gedächtnis in der Trans-formationsgesellschaft. // Lettre International, Jg. 1997, H. Frühjahr, С. 26-29.
Baecker D. Wenn es im System rauscht. // gdi impuls, Jg. 1996, H. 1, С. 65-74.
Baecker D., Bardmann Th. (Hrsg.) Gibt es eigentlich den Berliner Zoo noch? - Erin-nerungen an Niklas Luhmann. o.O. (UVK), 1999.
Baecker D. "Explosivstoff Selbstreferenz" // Archiv für Rechts- und Sozialphiloso-phie, LXXII, Heft 2, С. 246-256.
Baecker D. Das Gedächtnis der Wirtschaft // Baecker, Dirk u.a. (Hrsg.): Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum 60. Geburtstag. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. С.
519-546.
Baecker D. Information und Risiko in der Marktwirtschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988.
Baecker D. Womit handeln Banken? Eine Untersuchung zur Risikoverarbeitung in der Wirtschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1991.
Baecker D. Kommunikation mit Videospielen. Eine Untersuchung der sozialen Di-mension der künstlichen Intelligenz. Projektantrag zu einem zweijährigen For-schungsvorhaben. 1992. С. 1-25.
Baecker, Dirk 1994: Die Wirtschaft als selbstreferentielles soziales System // Lan-ge, Elmar (Hrsg.): Der Wandel der Wirtschaft. Soziologische Perspektiven. Berl//
Edition Sigma. С. 17-45.
Baecker D. Zweifel am homo oeconomicus // Ethik und Sozialwissenschaften, 1994, Jg. 5, Heft 1, С. 13-15.
Baecker D. Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft // Zeitschrift für Sozi-ologie, 1994, Jg. 23, Heft 2, С. 93-110.
Baecker D. Nichttriviale Transformation // Soziale Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 1, С. 101-118.
Baecker D. Gewalt im System // Soziale Welt, 1996, Jg. 47, Heft 1, С. 92-109.
Bahners P. Des Teufels Generalist. "Ich denke primär historisch": Niklas Luhmann, Soziologe des Risikos und Historiker der Sorglosigkeit // FAZ vom 29. Dezember
1992, Nr. 301, С. 25.
Baraldi C., Corsi G., Esposito E. GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1997.
Barben D. Zur interdisziplinären Problematik und diskursiven Konstitution der Theo-rie autopoietischer Systeme. Über Niklas Luhmanns Aufklärung der Aufklärung der
modernen Gesellschaft und ihrer Wirtschaft. FS II. 1992. С. 92-102.
Barben D. Theorietechnik und Politik bei Niklas Luhmann. Grenzen einer universa-len Theorie der modernen Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996.
252
Bardmann Th., Kersting H., Vogel H., Wolltmann B (Hrsg.) Irritation als Plan. Kon-struktivistische Einredungen. Aachen (Klenkes Druck und Verlag), 1991. (= Schrif-
ten des Instituts für Bertung und Supervision; Bd. 7)
Bardmann Th., Lamprecht A. Systemtheorie verstehen - eine multimediale Einfüh-rung in systemisches Denken. Wiesbaden (Westdeutscher Verlag), 1999.
Bardmann Th. (Hrsg.) Zirkuläre Positionen. Konstruktivismus als praktische Theorie Opladen (Westdeutscher Verlag), 1997.
Bassler M. Systeme kann man nicht lesen // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 387-404.
Beckenbach F. Die Wirtschaft der Systemtheorie // Das Argument 178, 1989, 31.
Jg., С. 887-904.
Beermann W. Luhmanns Autopoiesisbegriff - "Order From Noise"? // Fischer, Hans
R. (Hrsg.): Autopoiesis. Eine Theorie im Brennpunkt der Kritik. Heidelberg: Auer, 1991. С. 243-261.
Bendel K. Selbstreferenz, Koordination und gesellschaftliche Steuerung. Zur Theorie der Autopoiesis sozialer Systeme bei Niklas Luhmann. Paffenweiler (Centaurus-Verlagsgesellschaft), 1993.
Bendel K. Funktionale Differenzierung und gesellschaftliche Rationalität. Zu Niklas Luhmanns Konzeption des Verhältnisses von Selbstreferenz und Koordination in
modernen Gesellschaften // Zeitschrift für Soziologie, 1993, Jg. 22, Heft 4, С. 261-278.
Bender Ch. Macht - eine von Habermas und Luhmann vergessene Kategorie? // Ös-
terreichische Zeitschrift für Soziologie, 1998, 23. Jg., Heft 1, С. 3-19.
Berger J. Autopoiesis: Wie 'systemisch' ist die Theorie sozialer Systeme? // Hafer-
kamp H., Schmid M. (Hrsg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 1987, С. 129-152.
Bergmann W. Was bewegt die soziale Bewegung? Überlegungen zur Selbstkonstitu-tion der "neuen" sozialen Bewegungen // Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum
60. Geburtstag. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. С. 362-393.
Bette K.-H. Theorie als Herausforderung. Beiträge zur systemtheoretischen Reflexi-on der Sportwissenschaft. Aachen: Meyer&Meyer, 1992.
Bette K.-H. Beobachtungs- und Reflexionsdefizite im Sportsystem // Winkler, Joachim/Weis, Kurt (Hrsg.): Soziologie des Sports. Theorieansätze, Forschungser-
gebnisse und Forschungsperspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995. С. 75-89.
Beyer P. Religion, residual problems, and functional differentiation: an ambiguous
relationship // Soziale Systeme, 1997, Jg. 3, Heft 2, С. 219-236.
Beyme K. Die vergleichende Politikwissenschaft und der Paradigmenwechsel in der
politischen Theorie // Politische Vierteljahresschrift, 1990, 31. Jg., Heft 3, С. 457-474.
Beyme K. Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoder-
ne. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992.
Beyme K. Niklas Luhmann und die 'sogenannte Postmoderne' // Rechtshistorisches
Journal, 1998, Jg. 17, С. 405-414.
253
Blöbaum B. Journalismus als soziales System. Geschichte, Ausdifferenzierung und Verselbständigung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994.
Bobbio N. Rechts und Links. Zum Sinn einer politischen Unterscheidung // Blätter für deutsche und internationale Politik, 1994, Heft 5, С. 543-549.
Bohnen A. Die Systemtheorie und das Dogma von der Irreduzibilität des Sozialen //
Zeitschrift für Soziologie, 1994, Jg. 23, Heft 4, С. 292-305.
Bommes M., Halfmann J. Migration und Inklusion. Spannungen zwischen National-
staat und Wohlfahrtsstaat // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1994, 46. Jg., Heft 3, С. 406-424.
Bommes M. Migration, Nationalstaat und Wohlfahrtsstaat - kommunale Probleme in
föderalen Systemen. // Bade, Klaus J. (Hrsg.): Migration - Ethnizität - Konflikt Sys-temfragen und Fallstudien. o.O. 1996. (=IMIS-Studien I) С. 213-250.
Bonacker Th. Kommunikation zwischen Konsens und Konflikt. Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Rationalität bei Jürgen Habermas und Niklas Luhmann.
Oldenburg (BIS-Verlag). С. 1998.
Bonacker Th. Paradoxe Beobachtung der Gewalt. zum Verhältnis von Recht und Gewalt bei Nikals Luhmann und Jacques Derrida. // E-Journal für Politiktheorie, Jg.
1996, H. 1, С. 21.
Bredekamp H. Die Kunst der Paradoxie // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17,
С. 415-421.
Breitenbach J. Tanz der Kulturen. München, 1998.
Bretone M. Irritazioni // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 422-426.
Brill A. ,Lost in sea': Die Realität der Massenmedien // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 2, С. 419-428.
Brodocz A. Verbände als strukturelle Kopplung // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 2, С. 361-388.
Brunkhorst H. Die ästhetische Konstruktion der Moderne. Adorno, Gadamer, Luh-
mann // Leviathan, 1988, Jg. 16, Heft 1, С. 77-96.
Brunkhorst H. Abschied von Alteuropa. Die Gefährdung der Moderne und der
Gleichmut des Betrachters - Niklas Luhmanns monumentale Studie über die 'Gesell-schaft der Gesellschaft' // DIE ZEIT vom 13. Juni 1997, Nr. 25, С. 50.
Buchholz M. 'Person' und 'Identität' in Luhmanns Systemtheorie. Eine kritische Aus-
einandersetzung // System Familie, 1993, Jg. 6, С. 110-122.
Bude H. Die Rhetorik der Sozialwissenschaften und die Rückkehr der Geschichte //
Mittelweg 36, 1993, Jg. 2, Heft 1, С. 5-14.
Bühl W. Grenzen der Autopoiesis // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-chologie, 1987, Jg. 39, С. 225-254.
Bühl W. Rezension von Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen // Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1987, Jg. 39, С. 376-378.
Bühl W. Politische Grenzen der Autopoiese sozialer Systeme // Fischer, Hans R. (Hrsg.): Autopoiesis. Eine Theorie im Brennpunkt der Kritik. Heidelberg: Auer,
1991. С. 201-225.
254
Bußhoff H. Der politische Code. Ein neuer Mythos in systemtheoretischer Sicht // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1976, 28. Jg., С. 335-350.
Chaves M. Secularization: A Luhmannian Reflexion // Soziale Systeme, Jg. 3, Heft 2, 1997. С. 439-449.
Cisik A., Eisert J. Beratergestützte Innovationsprozesse und organisatorische Ak-
zeptanz. // Maas P.; Schüller A.; Stras А. (Hrsg.) Beratung von Organisationen: Zukunftspespektiven praktischer und theoretischer Konzepte. Stuttgart (Ferdinand
Enke Verlag) 1992. С. 145-164.
Cohn J., Arato A. The Systems-Theoretic Critique // dies.: Civil Society and Political Theory. Boston: The MIT Press, 1990. С. 299-341.
Dallmann H.-U. Die Systemtheorie Niklas Luhmanns und ihre theologische Konzep-tion. Stuttgart ( Kohlhammer Verlag), 1994.
Damerow P. Sprache und Schrift. Anmerkungen zu Niklas Luhmanns der Kommuni-kationsmedien // Rechtshistorisches Journal, Jg. 17, 1998. С. 427-436.
Dammann K., Grunow D., Japp K. P. (Hrsg.) Die Verwaltung des politischen Sys-tems. Mit einem Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen Niklas Luhmanns. Opla-den: Westdeutscher Verlag, 1994.
Daub C. Intime Systeme. Eine soziologische Analyse der Paarbeziehung. Basel: Helbing&Lichtenhahn, 1996.
Degele N. Zur Steuerung komplexer Systeme - eine soziokybernetische Reflexion // Soziale Systeme, 1997, Jg. 3, Heft 1, С. 81-100.
Deggau H. Niklas Luhmann: Protest. Systemtheorie und soziale Bewegungen.
Buchzeit beim Südwestfunk. Gesendet am 3. März 1997.
Dotzler B. "... dieses Lernen, meine ich, hat doch das Unangenehme, daß man ge-
wissermaßen genötigt wird, an das zu denken, was man liest": Zur Literaturtheorie der Systemtheorie // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 437-448.
Drepper Th. "Unterschiede, die keine Unterschiede machen". Inklusionsprobleme im
Erziehungssystem und Reflexionsleistungen der Integrationspädagogik im Primär-bereich // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 1, С. 59-85.
Dziewas R. Der Mensch - ein Konglomerat autopoietischer Systeme? // Krawietz W., Welker M. (Hrsg.) Kritik der Theorie sozialer Systeme. Auseinandersetzungen mit Luhmanns Hauptwerk. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992. С. 113-132.
Ellrich L. Der unbezeichnete Faschismus // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 449-465.
Esposito E. Macht als Persuasion oder Kritik der Macht. // Maresch R., Werber N. (Hrsg.) Kommunikation, Medien, Macht. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1999. С. 83-107.
Esposito E. Observing Interpretation: A Sociological View of Hermeneutics. // MLN,
Jg. 1996, H. 111, С. 593-619.
Esposito E. Interaktion, Interaktivität und Personalisierung der Massenmedien //
Soziale Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 2, С. 225-260.
Esposito E. Unlösbarkeit der Reflexionsprobleme // Soziale Systeme, 1997, Jg. 3, Heft 2, С. 379-392.
Esser H., Luhmann N. Individualismus und Systemdenken in der Soziologie // So-ziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 1, С. 131-136.
255
Esser H. Aufklärung als Passion. Betrachtungen als Theorie // Soziologische Revue, 1991, 14. Jg., С. 5-13.
Esser H. Der Doppelpaß als soziales System // Zeitschrift für Soziologie, 1991, Jg. 20, Heft 2, С. 153-166.
Exner A., Königswieser R., Titscher S. Unternehmensberatung - systemisch. Theo-
retische Annahmen und Interventionen im Vergleich zu anderen Ansätzen. // DBW, Jg. 1987, H. 3, С. 265-284.
Festenberg N. Mutter Beimers News. Niklas Luhmann entdeckt 'Die Realität der Massenmedien' // Der Spiegel 1996, Nr. 41, С. 274-276
Firsching H. Moral und Gesellschaft. Zur Soziologisierung des ethischen Diskurses in
der Moderne. Frankfurt/M: Campus, 1994.
Firsching H. Ist der Begriff ,Gesellschaft' theoretisch haltbar? Zur Problematik des
Gesellschaftsbegriffs in Niklas Luhmanns ,Die Gesellschaft der Gesellschaft' // So-ziale Systeme, Jg. 4, 1998, Heft 1, С. 161-173.
Flasch K. Zwischen Gesellschaftsspekulation und Feldforschung. Am Beispiel von Nikolaus von Kues // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 466-476.
Fleischer M. Normative, Stereotype und Ereigniskonstrukte (aussystemtheoretischer
und konstruktivistischer Perspektive). // kultuRRevolution, 38/39. Jg. (1999), H. März, С. 95-105.
Fohrmann J. Gesellige Kommunikation um 1800. Skizze einer Form // Soziale Sys-teme, 1997, Jg. 3, Heft 2, С. 351-360.
Foscht Th. Interaktive Medien in der Kommunikation. Verhaltenswissenschaftliche
und systemtheoretische Analyse der Wirkung neuer Medien. Leverkusen (Deutscher Universitäts Verlag), 1998.
Fritscher W. Romantische Beobachtungen. Niklas Luhmanns soziologische Aufklä-rung als moderne soziologische Romantik // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 1, С. 35-52.
Froschauer U., Lueger M. Ökologie als blinder Fleck: Funktionale Differenzierung und Ökologiebewegung // Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 1993, 18. Jg.,
Heft 2, С. 17-31.
Fuchs S., Marshall D. A. Across the Great (and Small) Divides // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 1, С. 5-30.
Fuchs S. The Stratified Order of Gossip. Informal Communication in Organizations and Science // Soziale Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 1, С. 47-72.
Fuchs S Von der Überwindung der Furcht - Niklas Luhmanns soziologische Aufklä-rung und andere Wege der Erleuchtung // Berliner Debatte INITIAL, 1996, Heft 4, С. 84-95.
Füllsack M. Geltungsansprüche und Beobachtung zweiter Ordnung: Wie nahe kom-men sich Diskurs- und Systemtheorie? // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 1, С.
185-198.
Ganßmann H. Kommunikation und Reproduktion. Über Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Soziologie // Leviathan. Zeitschrift für Sozial-
wissenschaft, 1986, Jg. 14, Heft 1, С. 143-156.
256
Gensicke Th. Sozialer Wandel durch Modernisierung, Individualisierung und Werte-wandel. // Aus Politik und Zeitgeschichte, Jg. 1996, H. B 42, С. 3-17.
Gerhard U. Normative Integration moderner Gesellschaften als Probleme der sozio-logischen Theorie Talcott Parsons. // Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie, Jg. 1998, H. 2, С. 281-313.
Gerhards J. Wahrheit und Ideologie. Eine kritische Einführung in die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Janus Presse, 1984.
Gerhards J. Funktionale Differenzierung der Gesellschaft und Prozesse der Entdiffe-renzierung // Fischer H. R. (Hrsg.): Autopoiesis. Eine Theorie im Brennpunkt der Kritik. Heidelberg: Carl Auer Verlag. 1991. С. 263-279.
Gerhardt U. Normative Integration moderner Gesellschaften als Problem der sozio-logischen Theorie Talcott Parsons' // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 2, С. 281-
314.
Geyer J. Niklas im Gespräch. Broschüre des Suhrkamp Verlages anläßlich des Todes
Niklas Luhmanns (Interview aus dem Jahre 1996). Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998.
Giegel H.-J. System und Krise. Kritik der Luhmannschen Gesellschaftstheorie. Theo-rie-Diskussion Supplement II. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1975.
Giegel H. –J. Interpenetration und reflexive Bestimmung des Verhältnisses von psy-chischem und sozialem System // Haferkamp, Hans/Schmid, Michael (Hrsg.): Sinn,
Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1987. С. 212-244.
Giegel H. –J. Moral und funktionale Differenzierung // Soziale Systeme, 1997, Jg. 3,
Heft 2, С. 327-350.
Gikas M., Vierke W. Methodologische Probleme des soziologischen Funktionalismus.
Minerva, 1981.
Gilgenmann K. Kommunikation - ein Reißverschlußmodell // Soziale Systeme, 1997, Jg. 3, Heft 1, С. 33-56.
Gizewski Ch. Systemtheorie und Historik. Niklas Luhmanns Arbeit aus der Sicht ei-nes Althistorikers // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 477-492.
Göbel M., Schmidt J. F.K. Inklusion/Exklusion: Karriere, Probleme und Differenzie-rungen eines systemtheoretischen Begriffspaars // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 1, С. 87-117.
Görke A., Kohring M. Worüber reden wir? Vom Nutzen systemtheoretischen Den-kens für die Publizisitikwissenschaft. // Medien Journal - Zeitschrift für Kommunika-
tionskultur, Jg. 1997, H. 1, С. 3-14.
Görke A., Kollbeck J. (Welt-)Gesellschaft und Mediensystem. Zur Funktion und Evo-lution internationaler Medienkommunikation. // Meckel, Miriam; Kriener Markus
(Hrsg.): Internationale Kommunikation. Eine Einführung. Opladen (Westdeutscher Verlag) 1996. С. 263-281.
Groth T. Wie systemtheoretisch ist 'Systemische Organisationsberatung'? Neuere Beratungskonzepte für Organisationen im Kontext der Luhmannschen Systemtheo-rie (2. überarb. Aufl.). Münster (LIT-Verlag) 1999.
Groys B. Die dunkle Seite der Kunst // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 1, С. 160-165.
257
Grünberger H. Das Auge des Systems: Handeln und Beobachten in den sozialen Systemen N. Luhmanns // Politische Vierteljahresschrift, 1985, 26. Jg., Heft 1, С.
5-12.
Grünberger H. Dehumanisierung der Gesellschaft und Verabschiedung staatlicher Souveränität: das Politische System in der Gesellschaftstheorie Niklas Luhmanns //
Fetscher I., Münkler H. (Hrsg.): Pipers Handbuch der politischen Ideen. München: Piper, 1987. С. 620-633.
Grundmann R. Luhmann Conservative, Luhmann Progressive. EUI Working Paper LAW No. 90/7, Badia Fiesolana, San Domenico (FI), 1990. С. 1-40.
Gumbrecht H. Zitate zum Vortrag. Die Tiefe der hermeneutischen Lebensform und
die Leichtigkeit der Kommunikation, Luhmann-Autoren-Kolloquim im ZiF, 1993, Bielefeld am 5.2.93.
Günther K. Niklas Luhmanns neues Buch 'Das Recht der Gesellschaft' // FR, 1994, 72 vom 26. März 1994, С. ZB 4.
Habermas J. Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frank-furt/M: Suhrkamp, 1985.
Haferkamp H., Schmid M. (Hrsg.) Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung.
Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1987.
Haferkamp H. Autopoietisches soziales System oder konstruktives soziales Han-
deln? Zur Ankunft der Handlungstheorie und zur Abweisung empirischer Forschung in Niklas Luhmanns Systemtheorie // Haferkamp, Hans/Schmid, Michael (Hrsg.): Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie
sozialer Systeme. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1987. С. 51-88.
Hahn A. Identität und Nation in Europa. // Berliner Journal für Soziologie, Jg. 1993,
H. 2, С. 193-203.
Hahn A. Überlegungen zu einer Soziologie des Fremden. // Simmel Newsletter, Jg. 1992, H. 2,1, С. 54-61.
Hahn A. Verständigung als Strategie. // Haller, Max; Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim; Zapf, Wolfgang (Hrsg.): Kultur und Gesellschaft: Soziologentag Zürich
1988 Frankfurt/M. 1989. С. 346-359.
Hahn A., Jacob R. Der Körper als soziales Bedeutungssystem. // Fuchs, Peter; Gö-bel, Andreas (Hrsg.): Der Mensch - das Medium der Gesellschaft? Frankfurt/M.
(Suhrkamp Verlag) 1994. С. 146-187.
Hahn A. Funktionale und stratifikatorische Differenzierung und ihre Rolle für die ge-
pflegte Semantik. Zu Niklas Luhmanns "Gesellschaftsstruktur und Semantik" // Köl-ner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1981, Jg. 33, С. 345-360.
Hahn A. Theorien zur Entstehung der europäischen Moderne // Philosophische
Rundschau, Heft 3/4, 31. Jg., 1984, С. 178-202.
Hahn A. Sinn und Sinnlosigkeit // Haferkamp, Hans/Schmid, Michael (Hrsg.): Sinn,
Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. С. 155-164.
Hahn A. Rede- und Schweigeverbote // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-
psychologie, Jg. 43, Heft 1, 1991. С. 88-105.
Hahn M. Vom Kopfstand des Phonozentrismus auf den Brettern der Systemtheorie
oder: Luhmann und/oder Derrida - einfach eine Entscheidung? Anmerkungen zu Die
258
Form der Schrift von Niklas Luhmann // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 2, С. 283-306.
Halfmann J. Politischer Inklusionsmechanismus und migratorisches Exklusionsrisiko // Berliner Journal für Soziologie, Band 8, Heft 4, 1998. С. 549-560.
Hanke S. Weiß die Weltbank, was sie tut? Über den Umgang mit Unsicherheit in ei-
ner Organisation der Entwicklungsfinanzierung // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 2, С. 331-360.
Hard G. Der Raum - einmal systemtheoretisch gesehen // Geographica Helvetica, Jg. 1986, H. 2, С. 77-83.
Haupt V. Politik in unsicheren Schleifen. Oder: Braucht eine grüne Partei die Sys-
temtheorie? // Kommune, 1987, Jg. 9, С. 48-50.
Haupt V. Zwischen Stasimorphie und Entfesselung. Die Sowjetunion auf dem Weg
in die ausdifferenzierte Gesellschaft // Kommune Nr. 4, 1990. С. 40-45.
Haupt V. Zum politischen Gehalt der Systemtheorie. MS. 1992. С. 1-10.
Heidenscher J. Zurechnung als soziologische Kategorie. Zu Luhmanns Verständnis von Handlung als Systemleistung // Zeitschrift für Soziologie, 1992, Jg. 21, Heft 6, С. 440-455.
Hellmann K.-U. Die Herausforderung durch das Fremde. Eine Studie zur Soziologie des Fremden. Berlin 1996.
Hellmann K.-U. Protest: Eine andere Politik der Unterscheidung. unveröff. Manu-skript Berlin 1997.
Hellmann K.-U. Zur Eigendynamik sozialer Probleme // Soziale Probleme, Heft 3/4,
1994. С. 144-167.
Helmich W. Nur noch bellen und beißen... Niklas Luhmann traut der modernen Ge-
sellschaft nicht über den Weg // WAZ+NRZ+WR+WP vom 21. April 1997, Nr. 92, 1997.
Helmstetter R. Die weißen Mäuse des Sinns. Luhmanns Humorisierung der Wissen-
schaft der Gesellschaft // Merkur, Jg. 1993, H. 532, С. 601-619.
Herzog M. Jugend und Sustainable Development, ein soziales Denkbuch über Zu-
kunft. Peter Lang Verlag, 1997.
Höffe O. Eine entmoralisierte Moral: Zur Ethik der modernen Politik // Politische Vierteljahresschrift, 1991, 32. Jg., Heft 2, С. 302-316.
Horster D. Das Recht der modernen Gesellschaft. Luhmanns Antwort auf Habermas // Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 1994, 41. Jg., Heft 4, С. 371-374.
Horster D. 'Abklärung der Aufklärung'. Ist die Kritische Theorie 'konservativ'? Niklas Luhmanns neue Gedankenordnung // Frankfurter Rundschau vom 27. Juni 1995.
Horster D. Politische Perspektiven in Niklas Luhmanns Systemtheorie // Vorgänge,
1998, 37. Jg., Heft 1, С. 61-72.
Hug D. Konflikte und Öffentlichkeit. Zur Rolle des Journalismus in sozialen Konflik-
ten. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1997.
Japp K. Systemtheorie und Kritik // Kerber H., Schmieder A. (Hrsg.): Soziologie. Arbeitsfelder. Theorien, Ausbildung. ein Grundkurs. Reinbek. Rowohlt, 1991. С.
579-594.
259
Japp K. Die Beobachtung von Nichtwissen // Soziale Systeme, Jg. 3, 1997, Heft 2, С. 289-312.
Horster D. Niklas Luhmann. München, 1997.
Kampmann A., Karentzos T. (Hg.) Gender Studies und Systemtheorie. Studien zu einem Theorietransfer, Bielefeld, 2004.
Kieserling A. Kommunikation unter Anwesenden. Studien über Interaktion Mün-chen, Diss. 1997.
Kieserling A. Die Autonomie der Interaktion // Küppers, Günter (Hrsg.): Chaos und Ordnung. Formen der Selbstorganisation in Natur und Gesellschaft. Stuttgart: Rec-lam, 1996. С. 257-289.
Kieserling A. Klatsch: Die Moral der Gesellschaft in der Interaktion unter Anwesen-den // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 2, С. 387-411.
King M. Managerialism versus Virtue. The Phoney War for the Soul of Social Work // Soziale Systeme, Jg. 2, 1996, Heft 1, С. 53-72.
Kiss G. Grundzüge und Entwicklung der Luhmannschen Systemtheorie. Stuttgart: Enke, 1990.
Kleger H. Der neue Ungehorsam. Widerstände und politische Verpflichtung in einer
lernfähigen Demokratie. Frankfurt/M.: Campus, 1993.
Kneer G., Nassehi A. Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Einführung.
UTB, 1993.
Kneer G. Rationalisierung, Disziplinierung und Differenzierung. Sozialtheorie und Zeitdiagnose bei Habermas, Foucault und Luhmann. Opladen: Westdeutscher Ver-
lag, 1996.
Kött A. Systemtheorie und Religion. Mit einer Religionstypologie im Anschluss an
Niklas Luhmann. Königshausen & Neumann, 2003.
Kogge W. Semantik und Struktur - eine 'alteuropäische' Unterscheidung in der Sys-temtheorie. unveröff. Als Manuskript gedruckt.
Kohring M. Die Funktion des Wissenschaftsjournalismus. Ein systemtheoretischer Entwurf. Opladen (Westdeutscher Verlag) 1997.
Kraemer K. Der Markt der Gesellschaft. Zu einer soziologischen Theorie der Markt-vergesellschaftung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997.
Kraft V. Systemtheorie des Verstehens Frankfurt/M. (Haag + Herrchen) 1989.
Krause D. Luhmann-Lexikon. Eine Einführung in das Gesamtwerk von Niklas Luh-mann. Stuttgart, 1996.
Krawietz W., Welker M. (Hrsg.) Kritik der Theorie sozialer Systeme. Auseinander-setzungen mit Luhmanns Hauptwerk. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1992.
Krieger D. J. Einführung in die allgemeine Systemtheorie. München (Fink Verlag),
1996.
Krüger H. –P. Luhmanns autopoietische Wende. Eine kommunikationsorientierte
Grenzbestimmung // Niedersen, Uwe (Hrsg.): Selbstorganisation. Jahrbuch für Komplexität in den Natur, Sozial- und Geisteswissenschaften. Duncker&Humblot, 1990. С. 129-147.
260
Lipp W. Autopoiesis biologisch, Autopoiesis soziologisch. Wohin fürhrt Luhmanns Paradigmenwechsel? // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg.
1987, H. 3, С. 452-470.
Lipp W. Autopoiesis biologisch, Autopoiesis soziologisch. Wohin führt Luhmanns Pa-radigmenwechsel? // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 39,
1987, 452-470.
Lohmann G. Autopoiesis und die Unmöglichkeit von Sinnverlust. Ein marginaler Zu-
gang zu Niklas Luhmanns Theorie "Soziale Systeme" // Haferkamp H., Schmid M. (Hrsg.) Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Beiträge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. С. 165-184.
Maciejewski F. (Hrsg.) Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Beiträge zur Habermas-Luhmann-Diskussion von Klaus Eder, Bernhard Willms, Karl-Hermann
Tjaden, Karl Otto Hondrich, Hartmut v. Hentig, Harald Weinrich und Wolfgang Lipp. Theorie-Diskussion Supplement I. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1973.
Mackert J. Jenseits von Inklusion/Exklusion. Staatsbürgerschaft als Modus sozialer Schließung // Berliner Journal für Soziologie, Band 8, 1998, Heft 4, С. 561-576.
Marcinkowski F. Publizistik als autopoietisches System. Politik und Massenmedien.
Eine systemtheoretische Analyse. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993.
Marcinkowski F. Die Massenmedien der Gesellschaft als soziales System? // Soziale
Systeme, Jg. 2, Heft 2, 1996, С. 428-440.
Maresch R., Werber N. (Hrsg.) Kommunikation, Medien, Macht. Frankfurt/M. (Suhr-kamp), 1999.
Martens W. Die Autopoiesis sozialer Systeme // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 43. Jg., Heft 4, 1991, С. 625-646.
Martens W. Der verhängnisvolle Unterschied. Bemerkungen zu den Beiträgen von Gerhard Wagner und Niklas Luhmann in der Zeitschrift für Soziologie 4 und 6, 1994 // Zeitschrift für Soziologie, Jg. 24, 1995, Heft 3, С. 229-234.
Martens W. Die Selbigkeit des Differenten. Über die Erzeugung und Beschreibung sozialer Einheiten // Soziale Systeme, Jg. 1, Heft 2, 1995, С. 301-328.
Meffert H. Systemtheorie aus betriebswirtschaftlicher Sicht // Schenk, Karl-Ernst (Hrsg.): Systemanalyse in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Berlin, Duncker&Humblot. 1970, С. 174-206.
Metzner A. Probleme sozio-ökologischer Systemtheorie. Natur und Gesellschaft in der Soziologie Luhmanns. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993.
Münch R. Die Wirtschaft der Gesellschaft - ein autopoietisches System? Vortrag auf dem 25. Deutschen Soziologentag in Frankfurt/M., 1990, С. 1-10.
Nassehi A. Zum Funktionswandel von Ethnizität im Prozeß gesellschaftlicher Moder-
nisierung // Soziale Welt, Jg. 41, 1990, Heft 3, С. 261-282.
Neckel S., Wolf J. The Fascination of Amorality: Luhmann's Theory of Morality and
its Resonances among German Intellectuals // Theory, Culture & Society, 1994, Vol. 11, С. 69-99.
Obermeier O.-P. Zweck - Funktion - System. Kritisch konstruktive Untersuchung zu
Niklas Luhmanns Theoriekonzeptionen. Freiburg: Karl Alber, 1988.
261
Pasero U., Weinbach C. (Hg.) Frauen, Männer, Gender Trouble. Systemtheoretische Essays, Frankfurt/M., 2003
Pfeiffer R. Philosophie und Systemtheorie. Die Architektonik der Luhmannschen Theorie. Leverkusen (Deutscher Universitäts Verlag), 1998.
Pfütze H. Theorie ohne Bewußtsein. Zu Niklas Luhmanns Gedankenkonstruktion //
Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 1988, 42. Jg., Heft 470, С. 300-314.
Pokol B. Professionelle Institutionensysteme oder Teilsysteme der Gesellschaft zu Niklas Luhmanns Systemtypologie. Reformulierungsvorschläge zu Niklas Luhmanns Systemtypologie // Zeitschrift für Soziologie, 1990, Jg. 19, Heft 5, С. 329-344.
Pollack D. Möglichkeiten und Grenzen einer funktionalen Religionsanalyse. Zum re-ligionssoziologischen Ansatz Niklas Luhmanns // Deutsche Zeitschrift für Philoso-
phie, 1991, 39. Jg., Heft 9, С. 957-975.
Preyer G., Grünberger J. Die Problemstufenordnung in der systemtheoretischen Ar-
gumentation Niklas Luhmanns. // Soziale Welt, Jg. 1980, H. 30, С. 48-67.
Priebe D. Kommunikation und Massenmedien in englischen und amerikanischen Utopien des 20. Jahrhunderts. Interpretationen aus systemtheoretischer Sicht.
Frankfurt/M., Berlin, Bern u.a. (Peter Lang) 1998.
Reckwitz A. Kulturtheorie, Systemtheorie und das sozialtheoretische Muster der In-
nen-Außen-Differenz // Zeitschrift für Soziologie, 1997, Jg. 26, Heft 5, С. 317-336.
Reese-Schäfer W. Luhmann zur Einführung. Junius, 1992.
Richter D. Nation als Form. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996.
Rill I. Symbolische Identität. Dynamik und Stabilität bei Ernst Cassirer und Niklas Luhmann. Würzburg: Königshausen&Neumann, 1995.
Roellecke G. Die Legitimation des Grundgesetzes in der Sicht der Systemtheorie, MS, 1994, С. 1-20.
Röttgers K. Rezension von 'Die Wissenschaft der Gesellschaft' // Soziologische Re-
vue, 1992, Jg. 15, С. 163-166.
Rühl M. Theorie des Journalismus. // Burkhart, Roland; Hömberg, Walter (Hrsg.):
Kommunikationstheorien. Wien 1992. (=Studienbücher zur Publizistik- und Kom-munikationswissenschaft) С. 117-133.
Ryffel H. Rechtssoziologie. Eine systematische Orientierung. Neuwied: Luchterhand,
1974.
Schimank U. Gesellschaftlicher Strukturwandel als Evolution: Konzepte und Erklä-
rungsleistungen der systemtheoretischen Perspektiven Niklas Luhmanns, 1990, С. 1-34.
Schimank U. Teilsystemevolutonen und Akteursstrategien: Die zwei Seiten struktu-
reller Dynamiken moderner Gesellschaften // Soziale Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 1, 73-100.
Schmid G. Funktionsanalyse und politische Theorie. Funktionalismustheorie, poli-tisch-ökonomische Faktoranalyse und Elemente einer genetisch-funktionalen Sys-tem theorie. Gütersloh: Bertelsmann, 1974.
262
Schmid H. ,Europa' und die ,Weltgesellschaft'- Zur systemtheoretischen Kritik der transzendentalen Phänomenologie // Soziale Systeme, 1997, Jg. 3, Heft 2, С. 271-
288.
Schneider W. Die Beobachtung von Kommunikation. Zur kommunikativen Konstruk-tion sozialen Handelns. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1994.
Schneider W. Objektives Verstehen. Rekonstruktion eines Paradigmas: Gadamer, Popper, Toulmin, Luhmann. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1991.
Schneider W. L. Objektive Hermeneutik als Forschungsmethode der Systemtheorie // Soziale Systeme, Jg. 1, Heft 1, 1995, С. 129-152.
Schneider W. ,Überheblichkeit' als Delikt. Das Modell der Gesinnungsgemeinschaft
als Prämisse ostdeutscher Beobachtung westdeutschen Verhaltens // Soziale Sys-teme, 1998, Jg. 4, Heft 2, С. 413-444.
Schöfthaler T. Soziologie als 'interaktionsfreie Kommunikation'. Niklas Luhmanns leidenschaftlicher Antihumanismus // Das Argument 151, 1985, 27. Jg., С. 372-
383.
Scholl A., Weischenberg S. Journalismus in der Gesellschaft. Theorie, Methodologie und Empirie. Opladen (Westdeutscher Verlag), 1998.
Scholz F Freiheit als Indifferenz. Alteuropäische Probleme mit der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982.
Sciulli D. An Interview with Niklas Luhmann. // Theory, Culture & Society, Jg. 1994, H. 11, С. 37-68.
Seyfarth C. Wieviel Theorie kann Soziologie vertragen? // Soziologische Revue,
1986, Jg. 9, С. 20-25.
Sigrist С. Das gesellschaftliche Milieu der Luhmannschen Theorie // Das Argument
178, 1989, 31. Jg., С. 837-853.
Simnon F. B. (Hrsg.): Lebende Systeme. Wirklichkeitskonstruktion in der Systemi-schen Therapie. Berlin, Heidelberg, New York 1988.
Simon F. B. Die Form der Psyche. Psychoanalyse und neuere Systemtheorie // Psy-che, 1994, 48. Jg., Heft 1, С. 50-79
Stäheli U. Der Code als leerer Signifikant? Diskurstheoretische Beobachtungen // Soziale Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 2, С. 257-282.
Stähli U. Die Nachträglichkeit der Semantik. Zum Verhältnis von Sozialstruktur und
Semantik. // Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische Theorie, Jg. 1998, H. 2, С. 315-339.
Stähli U. Gesellschaftstheorien und die Unmöglichkeit ihres Gegenstandes: Diskurs-theoretische Perspektiven. // Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, Jg. 1995, H. 2, С. 361-390.
Stark C. Systemsteuerung und Gesellschaftssteuerung. Zur modernen Beschrän-kung des Politischen // Berliner Journal für Soziologie, 1998, Band 8, Heft 2, С.
181-200.
Steinbeck B. Einige Aspekte des Funktionsbegriffs in der positiven Soziologie und in der kritischen Theorie der Gesellschaft // Soziale Welt, 1964, Jg. 15, С. 97-129.
Stichweh R. Der Körper des Fremden. // Hagner, Michael (Hrsg.): Der falsche Kör-per. Beiträge zu einer Geschichte der Monstrositäten. Göttingen (Wallstein), 1995.
263
Stichweh R. Fremde im Europa der Frühen Neuzeit. // Mitteilungen des Zentrums zur Erforschung der Fr. Neuzeit, Jg. 1994, С. 205-221.
Stichweh R. Universitätsmitglieder als Fremde. // Fögen M. (Hrsg.): Fremde der Gesellschaft. Historische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur Differen-zierung von Normalität und Fremdheit. o.O. 1991. С. 169-191.
Stichweh R. (Hrsg.) Niklas Luhmann. Wirkungen eines Theoretikers. Bielefeld (transcript Verlag), 1999.
Stichweh R. Die Autopoiesis der Wissenschaft // Theorie als Passion. Niklas Luh-mann zum 60. Geburtstag. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. С. 447-481.
Stichweh R. Wissenschaft, Universität, Professionen. Soziologische Analysen. Frank-
furt/M.: Suhrkamp, 1994.
Stichweh R. Differenz und Integration in der Weltgesellschaft. (unveröffentlicht),
1995.
Stichweh R. Variationsmechanismen im Wissenschaftssystem der Moderne // Sozia-
le Systeme, 1996, Jg. 2, Heft 1, С. 73-90.
Stichweh R. Raum, Region und Stadt in der Systemtheorie // Soziale Systeme, Jg. 4, 1998, Heft 2, С. 341-358.
Teubner G. Hyperzyklus in Recht und Organisation. Zum Verhältnis von Selbstbe-obachtung, Selbstkonstitution und Autopoiese // Haferkamp H., Schmid M. (Hrsg.)
Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung. Bei träge zu Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. С. 89-128.
Teubner G. Recht als autopoietisches System. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1989.
Teubner G. Im blinden Fleck der Systeme: Die Hybridisierung des Vertrages // So-ziale Systeme, 1997, Jg. 3, Heft 2, С. 313-326.
Titscher S., Meyer M. Text und Gegentext. Die Differenztheoretische Text-Analyse (DTA: Ein Methodenvorschlag. // Soziale Systeme. Zeitschrift für soziologische The-orie, Jg. 1998, H. 2, С. 445-479.
Tyrell H. Zur Diversität der Differenzierungstheorie. Soziologiehistorische Anmer-kungen // Soziale Systeme, 1998, Jg. 4, Heft 1, С. 119-149.
Tyrell H. Anfragen an die Theorie der gesellschaftlichen Differenzierung // Zeit-schrift für Soziologie, 1978, Jg. 7, Heft 23, С. 175-193.
Unverferth H.-J. (Hrsg.) System und Selbstproduktion. Frankfurt/M.: Verlag Peter
Lang, 1986.
Vries M. ,Up or Out' in Partnerships: Karriere- und Organisationsprinzipien als
Strukturen zur Selbsterhaltung von Beratungsgesellschaften // Soziale Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 1, С. 119-128.
Wagner G. Vertrauen in Technik. Überlegungen zu einer Voraussetzung alltäglicher
Technikverwendung. MS, 1992.
Wagner G. Niklas Luhmanns Gesellschaft der Gesellschaft und ihre Bedeutung für
die Wissenschafts- und Technikforschung // Rechtshistorisches Journal, 1998, Jg. 17, С. 574-588.
Wagner G. Am Ende der systemtheoretischen Soziologie. Niklas Luhmann und die
Dialektik // Zeitschrift für Soziologie, Jg. 23, 1994, Heft 4, С. 275-291.
264
Wasser H. Psychoanalyse als Theorie autopoietischer Systeme // Soziale Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 2, С. 329-350.
Weinbach C., Stichweh R. Die Geschlechterdifferenz in der funktional differenzierten Gesellschaft // B. Heinz (Hg.): Geschlechtersoziologie, Wiesbaden 2001, С. 30-52.
Weinbach C. Systemtheorie und Gender. Überlegungen zum Zusammenhang von
politischer Inklusion und Geschlechterdifferenz // Soziale Systeme 8 (2002), С. 307-333.
Weinbach C. Systemtheorie und Gender. Das Geschlecht im Netz der Systeme, Wiesbaden 2004.
Weinbach C. ... und gemeinsam zeugen sie geistige Kinder. Erotische Phantasien
um Niklas Luhmann und Pierre Bourdieu // A. Nassehi, G. Nollmann (Hg.): Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich, Frankfurt/M. 2004.
Weinbach C. Systemtheorie und Gender: Geschlechtliche Ungleichheit in der funkti-onal differenzierten Gesellschaft // С. Kampmann, A. Karentzos, T. Küpper (Hg.):
Gender Studies und Systemtheorie. Studien zu einem Theorietransfer, Bielefeld 2004.
Welker M. (Hrsg.) Theologie und funktionale Systemtheorie. Luhmanns Religionsso-
ziologie in theologischer Diskussion. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985.
Werber N. Nur Kunst ist Kunst // Soziale Systeme, Jg. 2, 1996, Heft 1, С. 166-177.
Weyer J. System und Akteur. Zum Nutzen zweier soziologischer Paradigmen bei der Erklärung erfolgreichen Scheitens // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-chologie, Jg. 1993, H. 1, С. 1-22.
Wiesenthal H. Lernchancen der Risikogesellschaft. Über gesellschaftliche Innovati-onspotentiale und die Grenzen der Risikosoziologie // Leviathan, 1994, Jg. 22, Heft
1, С. 135-159.
Willke H. Beobachtung, Beratung und Steuerung von Organisationen in systemtheo-retischer Sicht. // Wimmer R. (Hrsg.) Organisationsberatung. Neue Wege und Kon-
zepte. Wiesbaden (Gabler Verlag) 1992. С. 17-42.
Willke H. Strategien der Intervention in autonome Systeme // Baecker D. u.a.
(Hrsg.): Theorie als Passion. Niklas Luhmann zum 60. Gerburtstag. Frankfurt/M. (Suhrkamp) 1987. С. 333-361.
Willke H. Transformation der Demokratie als Steuerungsmodell hochkomplexer Ge-
sellschaften // Soziale Systeme, Jg. 1, 1995, Heft 2, С. 283-300.
Zanetti V. Kann man ohne Körper denken? Über das Verhältnis von Leib und Be-
wußtsein bei Luhmann und Kant // Gumbrecht H. U., Pfeiffer K. (Hrsg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 1988, С. 280-294.
Zeleny M. Ecosocieties: Societal Aspects of Biological Self-Production // Soziale
Systeme, 1995, Jg. 1, Heft 2, С. 179-202.
Zolo D. Reflexive Selbstbegründung der Soziologie und Autopoiesis. Über die epis-
temologischen Voraussetzungen der "allgemeinen Theorie sozialer Systeme" Niklas Luhmanns // Soziale Welt, Jg. 36, 1985, Heft 4, С. 519-534.
Zwingmann E., Schwertl W., Staubach M. L., Emlein G. Managment von Dissens.
Die Kunst systemischer Beratung von Organisationen. Frankfurt/M., New York (Campus Verlag), 1998.
265
УДК 303.01
ББК 60.5
Н 19
Назарчук А.В.
Учение Никласа Лумана о коммуникации. – М.: Издательство «Весь Мир»,
2012. – 248 с.
ISBN 978-5-7777-0516-7
Выдающийся немецкий социолог и философ Никлас Луман (1927-1988) оказался послед-
ним из гигантов-социологов ХХ века, предложившим целостную и универсальную теорию
общества. Его идеи, опирающиеся на революционные достижения кибернетики и теории
информации, получают новое звучание в контексте современного информационного об-
щества, инновационных изменений коммуникационных технологий последних десятиле-
тий. Сложные построения ученого, считающиеся весьма трудными для понимания, в
частности и в используемой терминологии, получают в книге доктора философских наук
А.В. Назарчука подробное разъяснение, систематизацию и обоснование, восполняя суще-
ствующий пробел в нашей исследовательской литературе.
Для читателей, интересующихся состоянием современной философской и социологиче-
ской мысли.