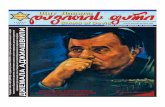Профессия "историк" в романе М. А. Булгакова "Мастер и...
Transcript of Профессия "историк" в романе М. А. Булгакова "Мастер и...
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Курский государственный медицинский
университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
ГРАНИ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Сборник статей
к 60-летию профессора Сергея Павловича Щавелева
Курск – 2013
2
УДК: 009 (082) Печатается по решению
ББК: 6/8 Я43 редакционно-издательского
Щ 14 совета ГБОУ ВПО КГМУ
Минздрава России
Грани гуманитарного знания. Сборник статей к 60-летию
профессора Сергея Павловича Щавелева. – Курск: Изд-во КГМУ, 2013. –
634 с., ил.
Составители и редакторы:
канд. филос. н., доц. Д.П. Кузнецов (Курский гос. мед. ун-т);
канд. филос. н. О.В. Пыжова (Курский гос. мед. ун-т).
Сборник посвящён юбилею философа, историка, историографа Сергея
Павловича Щавелева. Издание составлено из статей его друзей и коллег разных
поколений, с которыми он сотрудничает с 1970 – 1980-х годов и по настоящее время.
Представлены труды исследователей из Институтов философии, археологии, всеобщей
истории РАН; Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов;
Санкт-Петербургского филиала Архива РАН; Академии управления при Президенте
Республики Беларусь; Института археологии Национальной Академии наук,
Черниговского университета, Донецкого национального университета Украины;
Белгородского национального исследовательского, Брянского, Воронежского,
Нижневартовского, Тверского, Тульского педагогического, Калужского, Курского
государственных университетов; целого ряда других научных центров.
Разделы книги — по сути, коллективной монографии — отражают научные
интересы юбиляра, а потому разнообразны: археология, история, историография,
лингвистика и литературоведение, философия и методология науки и практики.
Издание обильно иллюстрировано — портретами многочисленных авторов,
рабочими моментами их научной деятельности.
Книга привлечёт внимание специалистов, студентов и аспирантов по разным
гуманитарным дисциплинам; всех, кого интересуют вопросы гуманитарного знания.
Оформление обложки М.В. Хруслова.
В оформлении обложки использована репродукция фрески Рафаэля Санти
«Афинская школа» («Философия») 1498-1511 гг. Ватикан. Рабочий кабинет Папы
Римского.
В оформлении издания использованы рисунки археологических находок
С.П. Щавелёва. На титульном листе помещено граффити на фрагменте стенки
лепного сосуда (тамга? кириллическая буква «шта»?), обнаруженного при раскопках
археологического комплекса Липино (Октябрьский р-н Курской обл.). Рис.
И.В. Гуреевой. На последней странице обложки — ювелирное украшение (височное
кольцо?; фрагмент) с серпентинным орнаментом и руноподобным знаком. Из сборов
на Липинском селище. Рис. Н.В. Срывковой.
ISBN 978-5-7487-1643-7 ББК: 009 (082)
Щ 14
Коллектив авторов, 2013
ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2013
460
А.С. Щавелёв *
Профессия историк в романе М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»
«Только Палыч может прочитать книжку
или фильм посмотреть и про это статью написать…»
Профессор А.Н. Курцев.
(Из разговоров у экспедиционного костра).
Die Maske muß mir köstlich stehn…
J.W. Goethe.
Faust.
Der Tragödie erster und zweiter Teil.
Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в русской литературе
— один из самых популярных и комментированных. Как всякий
модернистский и постмодернистский текст, этот роман изначально
рассчитан на непрерывное наращивание метаконтекста, умножение своего
* Алексей Сергеевич Щавелёв — кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН. [email protected]
461
метафорического конвоя. Первый слой такого метатекста «Мастера и
Маргариты» составляют черновые наброски, ранние варианты и
отброшенные автором эпизоды 414
. Это слой апокрифов неканонического
по своему замыслу «Евангелия от Сатаны». Второй слой составляет
неизбежный культурологический комментарий — расшифровка реалий и
выявление прототипов — наиболее полно, но не исчерпывающе,
собранный в «Булгаковской энциклопедии». Третий — старые добрые
академические литературоведческие разъяснения центонов и
заимствований из художественной и научной литературы. Здесь
первопроходец и лидер М.О. Чудакова. Четвёртый — структурный анализ
схемы романа и набора мотивов 415
. Пятый — толкование метафор,
символов, подтекстов 416
. Шестой — так называемые «фанфики» —
продолжения и альтернативные версии — метаапокрифы 417
. Седьмой —
свободные ассоциации 418
. К ним можно отнести всю «конспирологию»,
сделанную по типу «Булгаков и масоны», или же рассуждении об
антисемитизме и филосемитстве писателя: ведь, как гласит вторая
заповедь постмодернизма, в содержании каждого литературного текста
содержится всё то, что ему прямо не противоречит.
Я же хочу обратить внимание, что М.А. Булгаков написал роман, в
том числе и исторический 419
. Тема «истории» (и её актуальности для
настоящего) и «исторического познания» — сквозная для романа.
414
Булгаков М.А. Собрание сочинений в восьми томах. Т. IV. Князь тьмы.
Ранние редакции и варианты романа «Мастер и Маргарита». М., 2004. 415
Гаспаров М.Б. Из наблюдений над мотивной структурой М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита» // Гаспаров М.Б. Литературные лейтмотивы. Очерки русской
литературы XX в. М., 1994. С. 28–82. 416
См. в первом приближении: Руднев В.П. Мастер и Маргарита // Руднев В.П.
Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты. М., 2003.
С. 226–229.
Также см. «альтернативное прочтение» Альфреда Баркова
(http://www.masterandmargarita.eu/estore/pdf/emru002_barkov.pdf). 417
Например, см.: Еськов К. Евангелие от Афрания. М., 2003. 418
К таковым стоит отнести профессионально сделанную, но явно и неизбежно
ортодоксально ангажированную книгу: Кураев А.В. «Мастер и Маргарита»: за Христа
или против? М., 2005. 419
Развивая и переосмысливая идеи М.М. Бахтина, можно сказать, что любой
роман — «исторический», основа любого романа — его хронотоп («единство времени и
пространства») — категория историческая и историчная. Без категории
поступательного исторического процесса в мышлении роман невозможен. Любое
антиисторичное (мифологическое, религиозное, тоталитарное) мировидение отрицает
сам жанр романа (См. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 3. Теория романа (1930–
1961 гг.). М., 2012).
Здесь я расхожусь с трактовкой М.Б. Гаспарова, который видит в «Мастере и
Маргарите» только аисторичный «роман-миф». Повторяемость событий,
параллельность Ершалаима и Москвы, Москвы и Рима, Москвы и Парижа — не
признак замкнутого мифологического цикла, а скорее иллюстрация исторической
типологии.
462
Совершенно мало обращается внимания на то, что все ключевые
персонажи романа профессиональные историки 420
.
Первый из них Мастер: «…Историк по образованию, он ещё два года
тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался
переводами…
− Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, —
английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну,
немножко — ещё читаю по-итальянски…». Кстати, уточнение «кроме
родного» типичная ремарка филолога-профессионала. А в те времена, до и
даже какое-то время после (с перерывом) революции, гуманитарный
университетский факультет — историко-филологический (юридический
носил по преимуществу прикладной да общеобразовательный для части
слушателей характер).
Перед нами историк ушедшей эпохи. Не гений, не сверхчеловек.
Вопреки усилиям В.П. Руднева встроить его в их череду, у него мало
общего с доктором Фаустом и Адрианом Леверкюном. Он ремесленник и,
в общем-то, пожизненный ученик. Он пишет свой первый роман. Заглавная
буква в прозвании «Мастер» не должна вводить в заблуждение. Это просто
характеризующее прозвище, другое имя. М.А. Булгаков писал образ
Мастера как явный автопортрет, а значит, он как настоящий писатель
хорошо понимал свой уровень, свою позицию в иерархии гуманитариев-
тяжеловесов «гамбургского счёта» (по В.Б. Шкловскому). М.А. Булгаков и
Мастер — крепкие профессионалы, каждый на своём поле. Кстати, в итоге
Мастер преуспел (по тому же общегуманитарному счёту) не столько как
писатель, сколько как учёный, «угадав», т. е. реконструировав реальную
историю «wie es eigentlich gewesen» (Л. фон Ранке) Иешуа и Пилата. Желая
выступить как писатель, Мастер выступил как историк-пророк,
«предсказывающий назад». До него эту историю реконструировал
правильно в подробностях только один немец, единственный в мире
специалист по рукописям Герберта Орильякского, он же в романе
Аврилакский, т. е. папа Сильвестр II (около 946–1003).
Мастер воплощает поколение наших гуманитариев начала XX века,
когда в России сложились школы текстологии, формального
(структурного) литературоведения, византинистики, востоковедения,
экономической географии, исторической социологии и археологии; всё
мирового уровня и значения. Ещё в 80 – 90-е гг. XIX века
Б.В. Фармаковский писал, что на русских археологов (и, добавлю, других
гуманитариев) за границей «… смотрят с презрением, как на оборванцев,
которыми отчасти русские и являются, в сравнении с иностранными
учёными…» 421
. И дело здесь было не только в материальном обеспечении,
420
Более заметную роль в творчестве М.А. Булгакова играют только врачи и
писатели. Вполне понятна отсюда иерархия его самоощущения собственных призваний
в жизни. 421
Цит. по: Платонова Н.И. История археологической мысли в России. Вторая
половина XIX – первая треть XX века. СПб., 2010. С. 92.
463
но и в профессиональном уровне. А уже к началу прошлого века русские
учёные полностью сравняли тот самый пресловутый гамбургский счёт с
Европой и стали изредка выходить вперёд, иногда пятикратно. Но их
судьба была ещё хуже, чем у Мастера; покоя они не обрели, а получили в
лучшем случае изгнание, а на родине — травлю, концлагеря и
психбольницы.
Второй историк в романе — Воланд — немецкий профессор,
полиглот и специалист по средневековым рукописям («Я — историк, —
подтвердил учёный…»). Он воплощает великую немецкую историко-
филологическую школу. Стоит в ряду с Т. Моммзеном, Б.Г. Нибуром,
Ф. Боппом, Я. Гримом и т. п. столпами этой школы. Он, «старый софист»,
великолепно спорит. Он жёсткий беспристрастный преподаватель. Именно
он начал переподготовку Ивана Понырёва в будущие историки. Именно он
жёстко отреагировал на исторические спекуляции Берлиоза и «не купился»
на его «совково-толерантную» манеру вести дискуссию («…Мы уважаем
ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой
точки зрения…»). Совершенно не случайно М.А. Булгаков, изначально
представивший воплощение Сатаны в ипостаси инженера, затем сменил
ему квалификацию. Мышление Воланда исторично, он мыслит в русле
постоянного исторического сравнения. Он принципиальный диалектик и
критик. Его стезя — не вера, а анализ вне догм и авторитетов. Как
историка его можно причислить к школе неогелельянцев, с идейной
примесью позитивизма. Должно быть, именно поэтому он когда-то спорил
с Иммануилом Кантом.
Преемник Мастера — «сотрудник института истории и философии»
профессор Иван Николаевич Понырёв. Это профессор нового тогда —
советского поколения. Не знающий языков, не очень в интеллектуальном
анамнезе начитанный, но хотя бы честный, немного успевший пообщаться
с настоящим Мастером и видевший мельком немецкого профессора
Воланда. Именно благодаря таким людям, как бывший комсомольский
поэт, русская гуманитарная наука деградировала, но не ушла совсем в
небытие, которого так не любил позитивист и неогегельянец Воланд.
Противоположного мнения о литературной миссии Понырёва
придерживается А.В. Кураев, настаивая, что Понырёв-экс-Бездомный —
философ, конъюнктурщик и выдвиженец по партийной линии, поскольку
пройти путь от малограмотного необразованного поэта-кустаря до
профессора истории за семь-десять лет якобы совершенно невозможно 422
.
На самом деле примеры таких научных биографий вполне
профессиональных учёных-гуманитариев раннесоветского периода
находятся без труда. Впрочем, Кураев вообще недолюбливает и критикует
Мастера, не говоря уже о Воланде. Причём сам допускает при этом
диковатые исторические ляпы, например, утверждая, что в 1930-е годы в
Москве существовал только один музей — «Музей революции».
422
Кураев А.В. «Мастер и Маргарита»… С. 52–54.
464
В общем, персонажная цепочка «Воланд – Мастер – Понырёв»
видится мне позитивной метафорой преемственности гуманитарного
знания дореволюционной и советской России, которая внушает
сдержанный оптимизм.
Михаил Александрович Берлиоз же воплощает все яркие черты
«красного профессора»: «был человек начитанный» и «обнаруживал
солидную эрудицию». Его стилем написаны советские вузовские учебники
истории, по которым (косметически подредактированным) студенты
учатся до сих пор. В его же стиле читаются лекции на лучших старейших
исторических факультетах. Но его ангажированным творениям
предназначено в конечном итоге «ничто», сейчас коэффициент
цитируемости такого типа работ уже стремится к нулю. Социологические
схемы в гуманитаристике стареют и умирают чаще всего вместе со своими
создателями.
Иешуа Га-Ноцри — «по типу врач», как сказал бы Шерлок Холмс.
Психотерапевт. Его основная жизненная задача — понимать и прощать. Но
он метко ставит диагнозы. А этот врачебный и криминалистический
(«уликовый») дискурс создал предпосылки для эпистемологического
переворота конца XIX века в истории, археологии и искусствоведении.
Гуманитарии стали изучать детали, они перестали быть лишь философами-
фарисеями и стали (ис)следователями и диагностами 423
. Их Бог оказался в
деталях. «Уликовая парадигма» — основа метода исторической критики
до сих пор. Га-Ноцри по когнитивному стилю — неокантианец в духе
«понимающей социологии» М. Вебера.
Историком де-факто является и ученик Иешуа Левий Матвей.
Именно он пишет основу, протограф для канонических Евангелий. В
каком-то смысле перед нами один из основоположников так называемой
«устной истории», набирающей популярность в наши дни. Но он историк
ангажированный, «честно-партийный», не зря Иешуа просил его
выбросить пергаменные свитки, на которых этот спутник мессии вёл
дневник их странствий. Да и с Воландом ему в спорах не тягаться. Он
воплощает в себе донаучный (и постнаучный, журналистко-
пропагандистский), а значит, тупиковый путь исторического познания.
Недаром его пергамен хочет почитать «старый солдат» Пилат, умный, но
не склонный к тонкому анализу событий. Типичный представитель
массового сознания как-то образованной публики своей эпохи. Такие
всегда предпочитают мифы о прошлом его сложному и противоречивому
анализу.
Следует заметить, что ключевой спор, происходящий на разных
уровнях романа — спор об историчности и реальности Иисуса. Спор
актуален даже для Иешуа, который сам не знает, является ли он мессией,
т. е. будущим Иисусом Христом, или нет. Вопрос не праздный, и
423
Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни // Гинзбург К. Мифы –
эмблемы – приметы. Морфология и история. М., 2004. С. 189–241.
465
наводящий на мысль, что при несомненной и обязательной
несовместимости принципов науки и религии 424
, христианство —
наименее вредная среда для развития науки, в том числе истории.
Значимость профессии историка в фабуле романа объясняется,
видимо, его сверхзамыслом. М.А. Булгаков писал его как ответ на
советскую действительность, как своё личное духовное противоядие; он
прозорливо интуитивно понимал, что именно История вынесет приговор
советскому строю. Другое дело, он не мог даже предполагать, когда и как
это произойдёт и что из этого получится.
* * *
Надеюсь, нашей гуманитарной науке ещё предстоит вернуть
воландовский люциферианский блеск, его космополитическую
утончённость, умение мыслить критически и независимо, избавляться от
вирусов идеологий, включая религиозные их разновидности; умение
работать с источниками, особенно с рукописями. Вернуть утраченное
мастерство. Ведь плеяда современных историографов, к которым
принадлежит юбиляр и его наставник А.А. Формозов, уже научилась
понимать и беспристрастно судить своих современников и
предшественников, как это умели Иешуа и Мастер. Пока что в целом наше
гуманитарное сообщество ещё по многим параметрам не достигло уровня
пресловутого уровня 1913 года. А почему так происходит, недавно написал
в своей книге юбиляр С.П. Щавелёв 425
, двадцать лет назад прочитавший
мне вслух со своими комментариями «Мастера и Маргариту».
424
Докинз Р. Бог как иллюзия. М., 2008. 425
Щавелёв С.П. Этика и психология науки. Дополнительные главы курса
истории и философии науки. Курск, 2010.