Результаты наблюдений за периодическими явлениями в жизни птиц в Харьковской области в 2009 году
Тишков В.А. Единство в многообразии. Оренбург. 2011.
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Тишков В.А. Единство в многообразии. Оренбург. 2011.
В.А. Тишков
ЕДИНСТВОВ МНОГООБРАЗИИ
Известный российский ученый, историк, этнолог и антрополог, специалист по этни- ческой истории, межэтническим отношени-ям, этнополитике и конфликтам, академик РАН, директор Института этнологии и ан-тропологии Российской академии наук, вице-президент Международного союза антропо-логических и этнологических наук.
Он автор многих монографий, в том числе «Очерки теории и политики этничности», «Эт-ничность, национализм и конфликт», «Поли-тическая антропология», «Реквием по этносу», «Общество в вооруженном конфликте»; автор и редактор энциклопедических изданий: «На-роды и религии мира», «Народы и культуры».
Оренбург
ТИШКОВВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕДИ
НС
ТВО
В М
НО
ГОО
БРА
ЗИИ
В.А
. Ти
шков
ЕДИНСТВОВ МНОГООБРАЗИИ
В.А. ТИШКОВ
ОРЕНБУРГ – 2011
публикации из журнала«ЭТНОПАНОРАМА»1999–2011 гг.
24
существования этих государств требует постоянного подтвержде-ния, в т.ч. и на уровне как повседневного внутреннего референду-ма, так и академических предписаний. Применительно к Россииситуация оказалась наиболее сложной, ибо ее больше всего затро-нула своего рода «революция двойного отрицания», когда вместе сдемонтажом политического режима и его идеологии, которая, кста-ти, включала мощный компонент государственного (советского)патриотизма, оказалось отринутым и само государство и даже жиз-ненная повседневность на протяжении десятилетий. Многообразиепрошлой общественной жизни и противоречивые результаты со-ветской политики, в т.ч. и в так называемом национальном вопро-се, оказались редуцированными к литературным версиям «манкур-тизации», «народоубийства» и т.п. Применительно к современномусостоянию доминирует версия о «криминальном государстве» и«разбойном капитализме», которая также отрицает легитимностьгосударства уже в его новой конфигурации.
Своего рода уходом от заботы о признании государства и егообустройстве как в экономике и политике, так и в ментальном кон-струировании являются метадебаты об уникальности России, рос-сийской или евразийской цивилизации, российском суперэтносе,разных вариантах географического и культурного детерминизма, атакже одержимость пропагандой «многонациональное» при трети-ровании общероссийской культурно-языковой и ценностно-ориенти-рованной общности. От ученых, а не от политиков идут первичныепредписания считать «родным» языком не материнский язык, языкдома и общения, а тот, который совпадает с паспортной записьюнациональности. От ученых, а не от политиков поступают настав-ления гражданам, что шаманизм и язычество есть их «настоящие»,«традиционные», «национальные» религии, а не та вера, которуюприняли их предки сто, двести или более лет тому назад. От уче-ных, а не от политиков поступают археологические, физико-антро-пологические и архивные данные, что часть владельцев домов наодной и той же улице живет на «своей этнической территории», ачасть не на своей. Из тех же академических постулатов родилисьдоктрины «своей» государственности или «безгосударственности»,хотя в пределах России все имеют общее государство и у каждогоесть паспорт на правовое подтверждение этого факта. Российскиереспублики-государства также существуют в равной мере для всех,если граждане сами не позволяют узурпации со стороны предста- 1
Тишков, В.А.Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанора-
ма» 1999–2011 гг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург: Издатель-ский центр ОГАУ, 2011. – 232 с.
В сборник работ известного российского ученого, академика РАН, директораИнститута этнологии и антропологии РАН В.А. Тишкова включены статьи, ранееопубликованные в журнале «Этнопанорама» (1999–2011 гг.), по проблемам межэт-нических отношений, этничности, культурного многообразия, этнологического мо-ниторинга.
Для широкого круга читателей: ученых-обществоведов, политиков, преподава-телей и студентов.
© Тишков В.А., 2011.
УДК 323.1ББК 66.5 (2Рос)Т – 47
ISBN 978-5-88838-691-0
ISBN 978-5-88838-691-0
Научное изданиеТишков Валерий Александрович
Единство в многообразии
Подписано в печать 06.09.2011. Формат 6084/16. Усл. печ. л. 13,5.Печать оперативная. Бумага офсетная. Заказ № 4155. Тираж 100 экз.
Издательский центр ОГАУ,460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. Тел.: (3532)77-61-43
23
сти как компонента культуры поможет лучше понять причины рас-пада СССР и, отчасти, кризис государства в России, а не облегчен-ные формулы «распадающейся империи» или «заговора», хотя бе-зусловно личностный момент и борьба элит за власть и ресурсыимели, на наш взгляд, решающее значение.
Возникновение и исчезновение государств не определяютсядетерминированными закономерностями или установленными гло-бальными, а тем более внутренними нормами. Ни одно государ-ство не прописывает процедуру своего упразднения. Не делает это-го и международная норма. В современную эпоху закончившегося«огосударствления» Земли этот процесс происходит в результатеволенавязывания силовыми средствами или в итоге элитных выбо-ров и решений, которые могут оформляться массовой мобилизаци-ей в их пользу в разной форме или не оформляться вообще. Миро-вое сообщество, под которым чаще всего имеется в виду евроаме-риканский мир, его коалиции и ценности, легко признает процессгосударственных новообразований за своими пределами и даже емусодействует, если он происходит через дробление, а не укрупнениегосударств и тем самым не грозит их экономическим и другим ин-тересам.
Современные государства так же уязвимы, как и в прошлом,ибо склонны к соперничеству за ресурсы и к навязыванию тех норми правил, по которым они живут сами или которые им представля-ются как универсальные. И все же главные вызовы государству се-годня находятся внутри самих политических сообществ. Важней-шим моментом для существования общей лояльности (на бытовомязыке – «любви к родине» и т.п.) являются условия социальногопреуспевания, которые создаются данным государством и для чеголюди образуют, принимают и защищают свое государство. Эти ус-ловия могут быть далеко не самыми плохими, но восприниматьсякак таковые в результате навязываемого мнения непредставитель-ного меньшинства при слабой компетенции индивидуального со-знания и даже внешней пропаганды. Ситуация в России последнихлет с этой точки зрения в отечественном обществоведении факти-чески не рассматривается, хотя в ней ответ на многие мучительныевопросы. Хотя формально как все бывшие члены ООН (в т.ч. СССР,Югославия, Чехословакия и ГДР), так и нынешние постсоветскиегосударства являются легитимными государствами, ибо оформле-ны приемлемыми внутренними и внешними процедурами, сам факт
3
ПРЕДИСЛОВИЕ 4АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХТРАНСФОРМАЦИЙ 6ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ДИАСПОРЫ 33СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 59ЯЗЫК И АЛФАВИТ КАК ПОЛИТИКА 75ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ В. ТИШКОВЫМ 82ВООРУЖЕННЫЙ СЕПАРАТИЗМ ЕСТЬОБЩАЯ УГРОЗА 101О МЕХАНИЗМАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ 106ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ 110СЕТЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГАДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 118КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 135ЭТНИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ МНОГООБРАЗИЕ –ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 153РОССИЯ – ЭТО НАЦИЯ НАЦИЙ 174
ТРИ КАРТЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ,АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯИ ЭТНИЧЕСКАЯ 179О НАЦИОНАЛЬНОМ ИДЕАЛЕ И ЦЕННОСТЯХ 193ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ИСТОРИКИВ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 202ПРО РАЗНЫЕ ИСТОРИИ(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИСЕРГЕЯ НАРЫШКИНА) 212ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА 227
ОГЛАВЛЕНИЕ
22
джакузи, в которую нерегулярно течет ржавая вода. Большинствоэтих домов-монстров не функционирует, и перспектива их полно-ценного использования неясна, как и большинства миллионов но-вых дачных построек. Работающие горожане жить в них не смогут,а новому эффективному селу они не нужны в таком количестве.Видимо, это останется памятником нашему неправильному соци-альному планированию, отсталому менталитету и неразвитой го-родской антропологии.
О государстве и проблеме лояльности
Политическая антропология, в том числе и отечественная, мно-го сделала для изучения ранних форм государствообразования идля понимания символьно-статусной и инструментальной приро-ды власти. Но эта традиция не отвечает потребности осмысленияновых явлений и потребности понимания проявления базовыхструктур организации общественной жизни в современном процес-се. Отметим только несколько моментов провала в понимании, чтоесть государство.
В ходе человеческой эволюции люди создают различные коали-ции для обеспечения наиболее благоприятных условий своего со-циального существования. В современную эпоху и на видимую пер-спективу самой мощной и всепроникающей формой социальнойгруппировки людей является государство. Государства не являют-ся божественным промыслом и не существуют вечно, но они суще-ствуют достаточно долго и тем самым обретают историческую ле-гитимность как дополнительный аргумент своего существования.Однако существование государств обусловлено все же не истори-ей, а тем, что каждое новое поколение граждан делает (или повто-ряет) выбор в пользу данного государства, идентифицирует себя сэтим государством и демонстрирует ему свою лояльность. Госу-дарство – это не только охраняемая границами территория, фикси-рованное членство и набор институтов, правил и символов, но иналичие в сознании его граждан общеразделяемого представленияо том, что есть данное государство (или страна) или своего рода«доминирующая идея». Если у данного поколения нет такого доми-нирующего образа страны, то фактически нет и государства илионо пребывает в состоянии «квази-государства». Видимо, толькоболее глубокое объяснение недостатка общегражданской лояльно-
4
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящей книге собраны научно-публицистические ста-тьи известного ученого, историка, этнолога и антрополога,академика РАН, директора Института этнологии и антро-пологии Российской академии наук Валерия АлександровичаТишкова.
Этнический и религиозный факторы играют заметнуюроль в общественной жизни России. Поэтому работы В.А. Тиш-кова как никогда актуальны, важны и неоценимы именно се-годня, в условиях глубоких российских трансформаций для ре-гионов России, имеющих сложный этнический и религиозныйсостав населения, в которых в постсоветские годы идут слож-ные процессы возрождения национального самосознания, наблю-даются проявления сепаратизма и сецессии, демонстрация раз-ного рода фобий и даже расизма.
Его исследования по вопросам теории этнической и поли-тической практик, по проблемам межэтнических отношений,этничности и национализма, обновленных подходов в сферегосударственной политики в отношении «национального воп-роса», а также изучения культурного многообразия необходи-мы обществоведческому сообществу для выработки и усовер-шенствования теоретико-методологических подходов в совре-менной этнологической науке и разработки на этой основеспецкурсов в гуманитарных вузах в регионах.
Изучение этнических проблем невозможно и без пересмот-ра понятийно-терминологического аппарата, что успешноудается осуществлять этнически и политически незаангажи-рованному ученому.
21
заводов. Текущая госстатистика жилья мало о чем говорит, ибо неучитывает загородное строительство и многие другие вещи (новыепристройки, многоквартирное частное жилье). Но даже эта стати-стика говорит о том, что общая площадь жилищ в стране увеличи-лась с 2,1 млрд. м2 в 1985 г. до 2,7 млрд. м2 в 1997 г. Причем част-ный фонд увеличился в два раза, а на самом деле во много раз, еслисчитать все построенное гражданами жилье.
Люди получили бесплатно или купили по мизерным ценам мил-лионы новых земельных участков и научились строить более про-сторное и комфортное жилье, в котором население за всю историюстраны не проживало. Еще десять лет тому назад раму для арочно-го окна было сделать некому, и кроме наличников и железных пе-тушков на печных трубах никакие архитектурные украшения неиспользовались. Сейчас большинство новых домов, как сельских,так и дачных, обставлено солидными мебельными предметами, надвсеми телевизионные антенны и почти рядом со всеми автомобиль-ные гаражи.
Безусловно, процесс создания основы благосостояния людей– жилья – сопровождается уродливыми явлениями, которые мож-но было избежать и еще придется исправлять. Вместо массывычурных журналов по домоустройству нужно было создавать ус-ловия и объяснять, что настрой на дачную жизнь в дорогих и боль-ших домах – это неправильно и против наших климатических ус-ловий. Городское население вбухало миллиарды долларов в заго-родное жилье, которое не имеет коммуникаций, которое невоз-можно отопить зимой и в котором работающая семья с детьмипостоянно проживать не может из-за отдаленности от места служ-бы и из-за отсутствия рядом школы и больницы. Конечно, былобы лучше строить все эти комфортные дома в городской черте, исейчас бы и города выглядели лучше, и потребность в квартирахбыла бы меньше. Но примитивная мечта советского человека о дачеи нежелание городских властей предоставить землю для частныхдомов (столько их сносили, чтобы построить многоэтажки!) оказа-лись сильнее.
К социальным издержкам в целом положительного сдвига всоздании людьми и государством нового жилья можно отнести су-етность тех, кто много заработал или украл и поспешил этопродемонстрировать перед миром, чтобы утвердить и возвыситьсебя среди других, и потешить себя биллиардным залом и ванной-
5
В.А. Тишков один из представителей научной элиты, пос-ледовательно отстаивающий мнение о российском народе како гражданской нации. При этом особое внимание он уделяетсохранению и развитию культуры, самобытности этническихобщностей. Российская нация, по мнению Тишкова, не проти-вопоставляет гражданское и этническое начала, а предпола-гает общероссийскую гражданскую солидарность при сохране-нии собственных идентичностей.
Изучение этих взаимосвязанных и взаимообусловленныхпроцессов не только открывает новое научное направление, нои имеет большое значение в общероссийской и региональнойполитике, способствует противодействию экстремизму иутверждению толерантности в полиэтничных, многоконфес-сиональных регионах.
Редакция научно-публицистического журнала «Этнопано-рама» в течение 12 лет имеет привилегию публикаций ста-тей В.А. Тишкова, за что благодарна автору.
Тиражирование, а значит и доступность, высокопрофесси-ональных и обстоятельных работ ученого по различным про-блемам межэтнических отношений дает возможность ученымв субъектах Российской Федерации знакомиться с новыми иде-ями и разработками, сверять свои позиции, более цельно пред-ставлять сложные этнополитические процессы, происходящиев России.
Знакомство с публикациями В.А. Тишкова позволяет ру-ководителям регионов использовать некоторые его теорети-ческие разработки и практический опыт для принятия по-литических решений, успешно управлять многоэтническимиобществами.
В.В. АМЕЛИН,редактор журнала «Этнопанорама»,
доктор исторических наук, профессор
20
больших городах коммунальные квартиры и частное жилье малыхгородов и сел. Здесь жилое пространство было явно ограниченным,быт неустроен и требовавшиеся для жизнеобеспечения усилия не-имоверными (ежедневные дрова для печки, вода из колодца и про-чее). Здесь фактически был «третий мир», но не афроазиатскаянищета, а тот, который можно наблюдать в изобилии во многих стра-нах мира, особенно в Северном полушарии, где в бедных деревняхИрландии, Испании, Греции, не говоря о Восточной Европе, жизньостается достаточно скудной и некомфортной.
Под воздействием этнографических описаний о традиционномрусском жилище мне иногда казалось, что «пятистенка» с русскойпечью – это надолго, если не навсегда (климат, историко-культур-ная привычка и прочее). Даже еще десять лет тому назад, проезжаяпо российским дорогам, можно было наблюдать, как граждане, рас-полагавшие средствами, строили кирпичные дома в деревнях ималых городах, фактически повторяя русскую избу по параметрами архитектуре. В большинстве же своем в 1960–80-е гг. индивиду-альное жилье почти не строилось вообще.
Подлинная перестройка в социокультурном смысле в Россииначалась не с торговых кооперативов или с московских политичес-ких манифестаций. Она началась с изменений в отношении к жи-лью и к вещам, и в этом смысле перемены носят глубокий ибезусловно позитивный характер. По всем стандартам жизненногоблагосостояния основным считается жилье, его размеры и благоус-троенность. В СССР в 1960–80-е гг. строилось много городскогомногоквартирного жилья и крайне мало строилось частных до-мов. За последние десять лет в России построено больше домов,чем за весь послевоенный период. В российских деревнях сегод-ня каждый третий дом – это новый дом. Граждане преодолели се-рьезный культурный барьер в представлении о жилище, и послемноговекового бытования на смену одно- или двукамерному жи-лищу пришел дом с более крупными параметрами, многоуровне-вый и с несколькими комнатами, а также с встроенным в жилищетуалетом.
В целом, россияне построили столько новых домов, сколько ихне было построено за предыдущие 40–50 лет! В стране бум произ-водства строительных материалов, и по обочинам дорог и в горо-дах на целые кварталы бурлят рынки по их продаже. Помимо дей-ствующих, закуплены за рубежом и запущены сотни кирпичных
6
АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХТРАНСФОРМАЦИЙ*
Введение
Непросто, но крайне полезно оценить трансформации и обще-ственный процесс в России с точки зрения социально-культурнойантропологии, которая изучает человека во всем многообразии со-здаваемых им социальных коалиций на основе этнографическогометода, или метода включенного наблюдения. Во всем мире соци-ально-культурные антропологи выполняют важные познавательныеи экспертные функции, необходимые для самопонимания обществаи для его управления. Управленческая потребность в антропологахособенно выросла в последние годы, ибо общества (имеются в видупрежде всего государства) становятся все более сложными по сво-ему составу, и они не только сохраняют, но и увеличивают своекультурное многообразие.
Без «домашней» антропологии сегодня невозможно обеспечитьадекватную экспертизу трансформирующихся обществ, когда ста-тистика, социологический опрос и политологический анализ неспособны уловить характер и траекторию перемен. Только хорошообученный антрополог может объяснить, что частная стратегиялюдей всегда была и будет выше любой «национальной идеи», чтожелающих управлять всегда больше и поэтому «рваться к влас-ти» – это естественно, что содержание и границы групповой куль-турной отличительности подвижны, что люди могут использоватьэтничность и так называемую «историческую память» в инстру-менталистских целях, и поэтому так называемые «национальные»,казаческие, языческие и прочие «возрождения» или «движения» дол-жны восприниматься прежде всего как манипуляции активистов со-циального пространства, а не буквально. Не менее важен и просве-тительский аспект антропологии, когда современный взгляд на расу_____________* Этнопанорама. 1999. №2. С. 2–12.
19
ры, печи-ВЧ, цветные телевизоры с дистанционными пультами имногое другое).
Еще десять лет тому назад подавляющее большинство совет-ских семей обходилось крайне ограниченным набором жизненныхвещей, не зная об их существовании или не будучи способными«достать» (именно достать, а не купить!). Информация о существо-вании используемых человеком вещей поступала из узкого кругаисточников: полки магазина, подсмотренная на телеэкране «другаяжизнь», знакомые и друзья, поездки «в город» или за рубеж. Стрем-ление обрести и пользоваться многими вещами в силу высокой гра-мотности населения при ограниченных формах социальной само-реализации (работа, семья, квартира, отдых в регулярный отпуск)было огромным, и потенциальная идеология потребительства усоветских людей была не ниже, а даже выше, чем в других, дажеболее состоятельных обществах. В 60–80-е гг. эта идеология с ог-ромной энергией и изобретательностью утверждалась в частныхстратегиях людей. Обшарпанные подъезды и захламленные лест-ничные клетки скрывали за дверями квартир обустроенное жильес приличной мебелью, хорошим набором посуды и вполне снос-ным гардеробом. Жилье моих зарубежных коллег – молодых уче-ных-обществоведов, которых я посещал четверть века тому назадв США, Канаде, Мексике, Великобритании, ГДР, Венгрии, малочем отличалось от моей московской малогабаритной квартиры вИзмайлово.
Одержимость обустройством, скромная красота и чистота былиразительными по сравнению с загаженностью пространства, начи-навшегося за квартирной дверью. Именно здесь лежала впечатля-ющая грань между миром частного, личного и миром обществен-ного, вернее, государственного, а значит, и ничьего. Советскийчеловек был очень частным человеком, и именно это обстоятель-ство пропустила наша экспертиза, увлекшись анализом мира про-паганды и верхушечных установок. Советский человек даже напервомайскую демонстрацию или на избирательные участки хо-дил с удовольствием не просто «по зову сердца» в смысле полити-ческом, а чтобы надеть и показать свой наряд («это я одену на май-ские праздники») или приобрести дефицит в школьном и клубномбуфетах.
Что действительно отличалось от более обустроенных обществ,если говорить в масштабе всей страны, так это сохранявшиеся в
7
и этничность может помочь избежать этноцентризма, ксенофобиии насилия, которые громко заявили о себе на территории бывшегоСССР в последнее десятилетие.
Если в центре нашей дисциплины стоит изучение человека, то,видимо, обращение к его антропологической сущности должно бытьодной из отправных точек анализа. Человек как существо социаль-ное рождается в этот мир, чтобы исполнить свою первичную сущ-ность – обеспечить благоприятные условия собственного существо-вания: дольше и комфортно прожить, произвести и вырастить по-томство, обеспечить свои статус и безопасность, удовлетворитькультурные запросы, исполнить идеологическую миссию, если егов нее рекрутировали. Для этого человек вступает в сотрудничествои в соперничество с себе подобными. Для этой цели он создает все-возможные социальные коалиции и институты, начиная от семьи икончая государством. Все эти усилия направлены на обладание(possession) и производство как можно большего объема ресурсов,включая территорию, материальные и духовные ценности, здоро-вье, образование, связи, власть, статус – все, что называется «ре-альным» и символическим капиталом.
Эти постулаты хорошо известны антропологам применительнок прошлым, особенно к древним или к так называемым «племен-ным» сообществам. Но мы оказались слабыми знатоками антропо-логии современных обществ, в которых прошла или проходит нашаличная жизнь. Сегодня можно только поражаться, насколько слабыобъяснительные модели советского общества, просуществовавше-го много десятилетий. Здесь преобладают или политизированныепостфактические рационализации и литературные метафоры о «со-ветской империи», «тюрьме народов», «всеобщем Гулаге», или инер-ция советской пропаганды, дополненная риторикой жалоб старше-го поколения, среди которых присутствуют и представители науки.Главная слабость объяснений советского общества – это утвержде-ние о его исключительности и аномальности, вызванное проекция-ми оценок политического режима и его идеологического багажа навсе общество, его нормы и ценности.
При всех социальных деформациях и политических аномалияхСССР был не менее легитимным государством, чем многие другиестраны мира в Азии, Африке, Латинской Америке и даже в Европе.Более того, советское общество, вернее, советский человек в своихбазовых проявлениях, в своих частных и коллективных стратегиях
18
столовые и в институтские буфеты отнимали время и даже здоро-вье. Рестораны были не для того, чтобы поужинать, а чтобы «гуль-нуть». Сегодня ситуация с «общепитом» значительно иная. Резковозросло общее число ресторанов и кафе, не говоря о новой куль-туре уличных продуктовых ларьков и палаток, одиночных частныхторговцах разной едой на улицах и дорогах. Впервые в таких мас-штабах люди в России стали есть и пить за пределами дома, и этоогромная перемена в народной культуре.
Еще одна разительная перемена в жизни людей за последниегоды – это радикальное расширение используемых предметов бытаи социальных благ. Номенклатура используемых человеком пред-метов для повседневной жизни (так называемые «вещи») – это край-не важный показатель сложности и степени модернизации обще-ства. Хотя количество окружающих и используемых человеком ве-щей необязательно определяет мораль и ценности общества и де-лает человека счастливым, все же в целом это так. Безусловно, чточем больше человек использует в повседневной жизни вещей, темлучше качество этой жизни, даже если в некоторых культурах, как,например, в японской, можно встретить иную мораль, что, кста-ти, неравносильно реальному поведению. Особенно это касаетсябыта, что прямо связано с комфортом, гигиеной и здоровьем лю-дей. Некоторые перемены в этом плане могут казаться малозна-чимыми, тем более, что они не столь связаны с макроэкономически-ми успехами и личными средствами. Если за последние десять летмиллионы людей стали пользоваться туалетной бумагой, а не смя-той газетой, чистить зубы (оказывается, бывают щетки мягкие, сред-ние и жесткие!) набором из десятка паст, пользоваться шампунями(для разных волос, для взрослых и детей, с ополаскивателем и без),то только одно это принципиально к лучшему изменило бытовуюкультуру.
Недовольство некоторых по поводу телерекламы женских про-кладок, жевательной резинки и памперсов не должно заслонить фактогромной перемены в бытовой гигиене. И таких внешне малых, нокрайне значительных новаций в бытовой жизни россиян произошлобольше, чем в какой-либо предшествовавший исторический пери-од. За короткие десять лет люди узнали и освоили использованиесотен новых вешей и услуг: от уже упоминавшихся до технологи-чески сложных бытовых новаций (стиральные машины-автоматы,телефоны с автоответчиком и мобильные, обогревательные прибо-
8
имел гораздо больше общего, чем отличительного от членов дру-гих государственных сообществ, включая и те, которые представля-ются европейской научной традицией как «нормальные общества».Это общее находило отражение в повседневном стремлении к лич-ному преуспеванию, в создании и функционировании семейно-род-ственных союзов, этнических и профессиональных коалиций, в эмо-ционально-психологических установках и, наконец, в формах де-виантного поведения, включая тривиальное воровство и внебрач-ные связи. Как отмечает английский антрополог Крис Ханн в рабо-те по антропологии социализма, «в большинстве стран (имеется ввиду – социалистических) и на протяжении большей части временибольшинство «простых людей» просто воспринимали систему какданное, приспособились к ней и продолжали жить без вступления вряды коммунистической партии или диссидентской группы. Дру-гими словами, они «карабкались по жизни» (muddled through) точ-но так же, как люди это делают в другого рода обществах».
В советской жизни что-то было задавлено, как, например, граж-данские свободы и уважение человеческой жизни. Что-то, наобо-рот, спонсировалось, как, например, социальный коллективизм,профессиональная культура и образование. Что-то было простонедостижимо в силу неэффективного хозяйствования и плохогоуправления, как, например, личное богатство, обустроенная средаобитания, достойная бытовая культура и пространственная мобиль-ность. Но даже в этой существенной отличительности Россия быладо тривиальности похожа на многие другие общества, а метафораHomo sovieticus (или «совок») утвердилась уже позднее и стала ско-рее саморефлексией, а не внешней категоризацией. На пороге XXI в.приходится признать, что отечественная наука упустила этногра-фию советскости и этот долг предстоит вернуть как можно скорее,пока не исчезла «традиционная» культура советского времени.
Не меньшая потребность существует в познании постсоветско-сти как уже новой культурной традиции, особенно смысла глубо-ких общественных трансформаций в России. Сразу же выскажумнение, что установка на радикальную социальную инженерию(чем, кстати, люди занимаются довольно часто в истории) была нетолько оправдана, но и в целом экспертно обеспечена в макроэко-номическом и в политическом планах, как бы ни старалось каждоеновое правительство и оппозиция отрицать уже сделанное. Одна-ко исполнители и толкователи российских реформ плохо знали и
17
ощущений и духовных ценностей. И все же основное населениеживет повседневными заботами материального обеспечения, кото-рые лежат в основе уровня и качества жизни. Некоторые вопросыпостсоветской материальной культуры заслуживают внимания.
На протяжении всей истории России ее население (за исключе-нием южных районов) имело достаточно небогатую кухню со скром-ной диетой, в которой был явный недостаток витаминизированнойуглеводной пищи, прежде всего фруктов. Свой первый в жизниапельсин и банан я съел уже будучи студентом МГУ, ибо в неболь-шом уральском городке, кроме яблок и новогодних мандаринов,фруктов не продавалось. Сегодня в этом городке, которому остает-ся очень далеко до экономического процветания, все те же азер-байджанцы обеспечивают хороший рынок основных фруктов ифруктовых соков, которые жители регулярно покупают (иначе быне привозили!). Абсолютно новый и огромный по своим размерамввоз в страну фруктов внес историческое изменение в структурупитания россиян. Безусловно увеличилось потребление рыбы, дажеесли официальная статистика не показывает этого по причине «вне-системной» добычи и продажи этого продукта. Увеличилось потреб-ление сыров и колбасных изделий (опять же в основном за счетимпорта), и население уже забыло времена плавленых сырков«Волна» и буфетных сарделек.
Снижение потребления мяса, молока и яиц мало о чем говорит,как и общее снижение потребления продуктов питания. В послед-ние десятилетия население страны не страдало недоеданием. Ина-че не было бы на порядок больше людей с лишним весом по срав-нению с дистрофиками. Оно страдало несбалансированной струк-турой питания, и если этот дисбаланс выравнивается даже за счетсокращения общего потребления продуктов (в некоторых семьях,например, практически прекратили покупать яйца), но расширениямассортимента потребляемых продуктов, то этот процесс скорее но-сит позитивный характер.
Не менее важным является изменение в системе организациипитания. Современный человек готовит и потребляет пищу не толь-ко дома, но и через общественные системы питания. Еще десятьлет тому назад огромной проблемой для небогатого гражданинабыло пообедать на Невском проспекте в Ленинграде или на улицеГорького в Москве, не говоря уже о более провинциальных местах.Унизительные очереди в грязные уличные пельменные, в рабочие
9
недостаточно учли антропологический аспект общественной жиз-ни, а именно – частную стратегию человека и создаваемую чело-веком социокультурную среду, включая мироощущение. Самымифатальными оказались идеалистическое представление о приро-де самого человека (должен честно трудиться, не должен воро-вать, должен любить Родину и «служить нации», обязан заботить-ся о других и т.п.) и вера в то, что улучшение условий жизни обяза-тельно ведет к адекватному восприятию этих улучшений. Непрос-тительными были упущения по защите национальных интересов исуверенитета государства в геополитическом соперничестве, вклю-чая регион нового зарубежья.
Российское общество (советское и постсоветское) в этом планеимеет характерную отличительность. При массовой образованнос-ти оно очень идеологизировано, ибо имеет непропорциональнобольшую и крайне претенциозную культурную элиту («инженерычеловеческих душ»), которая довольно успешно узурпирует массо-вое сознание в пользу своих субъективных представлений и влияетна поведение рядовой массы граждан, привыкших к одномерномумышлению и к вере в одну версию событий, исходящую из «цент-ральных» газет и телевидения. Однажды французский философМишель Фуко, отвечая на вопрос о роли радикальной интеллиген-ции в процессах общественных преобразований, сказал: «Главнаяпроблема – это как избежать излишнего воздействия интеллектуа-лов, носящихся со своими утопическими проектами, и позволитьуправленцам делать свое дело по переустройству общества». В Рос-сии сделать этого не удалось. Все эти годы театральные режиссе-ры, писатели, актеры, журналисты и литературоведы выступали икак законодатели, и как авторы «обустройства России», и как глав-ные колумнисты ведущих газет, и, наконец, как «совесть нации»,чтобы исповедовать ее лидера.
О чем и почему сегодняшние акции протеста? Если верить боль-шинству политиков, ученых и масс-медиа, а это значит – и «челове-ку с улицы» (в современном обществе здесь разрыва почти не су-ществует), это есть протест против антинародного режима и про-тив невыносимой жизни. Но если перестать повторять бесконеч-ные заклинания о «нашем тяжелом времени», в которое теперь ве-рят фактически все, то этнография российской жизни вы-глядит по-иному. Прежде всего следует сказать, что сама власть, т.е. управлен-цы и эксперты, т.е. ученые, в годы правления Михаила Горбачева
16
(карамахинец), локально-этнический (тоджинец, андиец), нацио-нально-этнический (аварец, даргинец), регионально-культурный(дагестанец, татарстанец, якутянин), культурно-гражданский(россиянин). Это не разные общности в смысле членства (глубокоезаблуждение отечественной экспертизы), а оформляемые челове-ком коалиции, по которым его самосознание совершает дрейф ло-яльности или может пребывать во всех их одновременно. Стоилопоменять процедуру фиксации мордвы, как для будущих ученых –сторонников теории этноса и этнических процессов – «вымер эт-нос» или совершилась «парцелляция этноса»: вместо мордвы по-явились эрзя и мокша, а мордва осталась только за пределами Мор-довии. На самом деле ничего в этнокультурном профиле предста-вителей данной группы не изменилось, кроме некорректной фор-мулировки статистиков. В России остались и продолжают житьграждане, которые в местном сообществе проводят между собойдовольно четкое (основанное на языке) различие, а во внешнем ок-ружении они ощущают себя мордвой.
Многоуровневая и подвижная культурная идентичность в усло-виях идеологической либерализации и цветущего этнонационализ-ма – это новая реальность, и в будущем могут появиться десятки«новых этносов»: людям будет интересно или важно по какой-топричине считать себя булгаром, аланом, помором, калмыком, сойо-том и еще кем-то, о чем они прослышали в семье, подсмотрели всемейных фото, прочитали в книге или услышали на митинге. Это– значимый для людей и для науки процесс, но только государстводолжно меньше всего лезть в него с бюрократической процедурой,а тем более с кадровой анкетой. В целом же период реформ в Рос-сии связан с некоторыми серьезными демографическими пробле-мами (прежде всего относительно высокая смертность, особенносреди мужчин и детей), но ни одна из них не может квалифициро-ваться как катастрофическая.
Пища, одежда, жилище
Каждый антрополог знает, что пища, одежда и жилище – этотри столпа материальной культуры, а состояние здоровья – основ-ной показатель уровня модернизации общества. Этими категория-ми далеко не ограничивается жизнь современного человека, ибо естьеще огромный мир других используемых вещей и услуг, как и мир
10
и Бориса Ельцина не поняли многого, что пришло в общество спроцессом радикальных перемен. Они верили и продолжают ве-рить, что социальный порядок и поведение граждан переустраива-ются вслед за изменением характера политического устройства иэкономическими реформами. А если этого не происходит, значит,режим не тот («построили криминальное государство») и курс ре-форм неверен («ограбили народ и устроили геноцид»). До сих порникто грамотно не смог объяснить, что реальные свободы и жиз-ненные улучшения люди даже с научными званиями могут психо-логически не замечать и даже отрицать по причине политическихмотивов или пропагандистского воздействия. Но самое главное, чтобыстрые жизненные перемены могут «перегрузить» сознание каж-дого отдельного человека и общества в целом настолько, что дажеулучшение условий существования может отвергаться в пользу бо-лее привычного уклада. На основе собственных полевых наблюде-ний я могу утверждать, что за последние десять лет в стране про-изошла революция в жизненном обустройстве людей. Ее позитив-ный потенциал еще не проявился в полной мере, но будущая тен-денция дает хорошие шансы преемникам Ельцина, при условии,если страна справится с вооруженным сепаратизмом.
Демография как политика
Для иллюстрации «России в обвале» чаще всего называютсяданные о «вымирании нации», о катастрофических демографичес-ких потерях, включая несколько миллионов неродившихся детей,об уменьшении численности «государствообразующего» народа –русских – и т.п. Однако, если анализировать демографические про-цессы последнего десятилетия более спокойно, то следует сказать,что сам факт уменьшения общей численности населения страныне должен рассматриваться как однозначно негативное явление.Многие страны мира, особенно из числа наиболее благополучных,имеют в последние десятилетия отрицательный рост населения.В России фактически наблюдается ситуация нулевого роста, и об-щая численность жителей страны в 1998 г. такая же, какой она быладесять лет тому назад (147 миллионов). На самом же деле совре-менное население на 2–4 миллиона больше, ибо в стране находит-ся большое число не учитываемых статистикой бывших советскихграждан из других государств (Азербайджана, Армении, Грузии,
15
был рост у армян и осетин (за счет мигрантов), у якутов и у наро-дов Северного Кавказа, особенно у народов Дагестана (за счетестественного прироста). Самый высокий рост численности сре-ди населения самых бедных районов страны говорит о том, чтотак называемое «вымирание народов» с состоянием условий жиз-ни никак прямо не связано. Более того, исчезновение народа (факточень распространенный, но в России редкий) совсем не означаетфакт депопуляции или физического исчезновения представителейопределенной культуры, а означает смену ими этнической иден-тичности.
Хорошо или плохо, что демография периода трансформацийотмечена более быстрым ростом численности северокавказцев, азначит сокращением доли русских (кстати, татар и чувашей также)в общем населении страны? К сожалению, это – вопрос громкихспекуляций, и профессионально его никто не осмелился обсуждать.Какова доля русских в стране – это не вопрос жизненной стратегиигосударства. В дореволюционной России и в СССР русские никог-да не составляли более 55%, но государство существовало и распа-лось не по этой причине. Сейчас по доле самой большой этническойгруппы – русских – Россия почти такая же моноэтничная страна, каки Китай, где, кроме 90% ханьцев, имеется не менее 100 миллионовпредставителей разных национальностей. Демографическое господ-ство одной группы имеет значение для крепости государства. Одна-ко даже 1% населения и территории, который составляяют чеченцыи Чечня в России, способен стать базой вооруженной сецессии имасштабной войны. Действительной проблемой является высокаярождаемость в горных дагестанских и в других северокавказскихселах, где недостаточно ресурсов, завышенные социальные ожида-ния и неприятие бедности вызывают напряженность, конфликты ивыход граждан из правового пространства.
Демография зависит от процедуры. В фиксации этнического этоособенно важно. Когда меня спрашивают «Сколько народов живетв России?» или когда я слышу очередную цифру, выученную поли-тиком, то я отвечаю: «В России живет столько народов, сколько Вамхочется». Культурных идентичностей людей существует много, рав-но как и языковых различий, особенно если перевести некоторыеязыковые системы коммуникаций людей из разрядов диалектов вразряд языков. Эти идентичности многоуровневы и не взаимоиск-лючают друг друга, они могут носить местно-общинный характер
11
Таджикистана, Украины, Молдовы). Подавляющее большинство изних – это молодые мужчины, которые трудятся в сфере обслу-живания, строительстве, торговле и приносят огромную пользу стра-не. Без них не состоялись бы многие стройки и не было бы фруктовна рынках и в магазинах российских городов.
Наблюдающаяся в последние шесть лет естественная убыльнаселения (здесь сказались кризис, нестабильность и воздействиенеблагоприятного демографического цикла) почти наполовину былакомпенсирована миграционным приростом населения, часть кото-рого имеет хорошее образование и полезные профессии. Такая им-миграция может только приветствоваться, хотя с ней связаны соци-ально-психологические и культурные проблемы интеграции ново-жителей в местах переселения, ибо старожилы обычно негативновоспринимают изменение привычного состава населения.
Однако до момента очевидного процветания массовая иммиг-рация России не грозит, ибо этот процесс (как и эмиграция из стра-ны) носит в своей основе экономический характер, хотя можеткамуфлироваться в идеологическую аргументацию («воссоединениес собственным народом», «возврат на историческую родину», «из-гнание» и прочее). Наивная установка правительства Гайдара, чтов Россию как на «историческую родину» должны прибыть десяткимиллионов русских и они помогут поднять российскую сельскуюглубинку, не оправдалась. Приехало гораздо меньше, и это в основ-ном горожане, которые почти никогда не переселяются в сельскуюместность, если только не на временное жилье. Каковы перспекти-вы иммиграции, сказать сложно, но Россия останется принимаю-щей страной по ряду причин и прежде всего по этнокультурным иэкономическим показателям. Причем в страну будут мигрироватьне только этнические русские, татары, украинцы, молдаване но ипредставители народов Средней Азии и Закавказья, если не будутвведены более жесткие миграционные квоты.
Примечательным фактом является устойчивое соотношениемежду городским и сельским населением на протяжении всего де-сятилетия (73% и 27%). Плохо это или хорошо? Скорее плохо, ибочем развитее общество, тем меньше людей должно быть занято всельском хозяйстве. Модернизация – это прежде всего урбаниза-ция, и этот процесс замедлился после 1989 г. в значительной мерепо причине отсутствия настоящей аграрной реформы и по причинеболее конкурентной среды на рынке труда в городах. Последнее
14
порции между этническими группами, составляющими одно госу-дарство. Возможно, спокойнее ведут себя этнически гомогенныестраны, но таковых почти нет в мире. Более проблемными являют-ся государственные образования, когда имеются две-три равные почисленности группы, каждая из которых претендует на контрольцентра. Самым распространенным вариантом являются страны содной демографически и культурно доминирующей группой и груп-пами меньшинств. К этой категории относится и Россия, в которойрусские составляют 80% населения. Естественно, что нет ни одно-го государства с жесткой номенклатурой этнических общностей, ив каждом государстве имеются процессы ассимиляции обычно впользу доминирующей культуры. Для России таковой является рус-ская культура и русский язык, а если говорить точнее – российскаякультура на основе русского языка.
К чести нашей страны, ни в прошлые десятилетия, ни в годытрансформаций не произошло того, что называют «вымирание»народов. Даже самые малые группы, в т.ч. и северные народы, запоследние годы сохранили или увеличили свою численность. При-чем следует учитывать, что численность этнической группы меня-ется не только в результате естественного движения населения (рож-даемость и миграция), но и в результате смены идентичности.В начале процесса перемен мне представлялось, что к переписи1989 г. самую большую демографическую потерю понесут русскиеиз-за снижения престижности быть русским, особенно в пределахэтнотерриториальных образований (республик и округов). Но это-го не произошло, по крайней мере, в драматической форме: счи-таться русским для потомков смешанных браков продолжает бытьболее (или в равной мере) престижным даже в российских республи-ках. В Татарстане, например, в последние годы дети из смешанныхтатарско-русских семей записывались примерно поровну в ту илидругую группы. Не произошло и резкого пополнения евреев и нем-цев за счет тех, кто считался русскими, хотя этого можно было ожи-дать по причине эмиграционных преференций.
После 1989 г. большинство крупных российских народов, в т.ч.русские, башкиры, татары, чуваши, буряты, кабардинцы, коми, ку-мыки, тувинцы, удмурты, имели нулевой или незначительный ростчисленности. Уменьшилась абсолютная численность украинцев,белорусов, мордвы, российских немцев, марийцев, казахов, евре-ев. Высокий по сравнению со средними показателями по стране
12
удерживает сельчан от когда-то легкого шага пополнять городскую«лимиту».
Столь же стабильным (47% и 53%) оставалось на протяжениивсех лет соотношение мужчин и женщин. Эта достаточно большаядиспропорция представляет собою негативное явление, но в пре-дыдущие десятилетия положение было не лучше. Причина ее нестолько в особенностях биологического воспроизводства населе-ния, сколько в более высокой смертности среди мужчин по соци-альным причинам (алкоголизм, курение, травматизм, убийства).
За десять лет произошли существенные изменения в простран-ственном движении населения. Общая интенсивность внутреннихмиграций снизилась из-за экономической нестабильности и пре-кращения практики оргнаборов на грандиозные стройки в пе-риферийных регионах. Зато частные интересы людей опять же при-шли в противоречие с политическими установками и наивнымипрожектами. Речь идет о слабой заселенности Севера, Сибири иДальнего Востока. На самом же деле усиленное заселение небла-гоприятных для проживания людей арктических и субарктическихрайонов страны в предшествовавшие десятилетия носило характеркосвенного насилия (через романтическую пропаганду, «длинныйрубль», сохранение московской прописки). Начавшаяся в конце1980-х гг. человеческая конверсия Севера стала вполне нормаль-ным явлением к неудовольствию огромной армии чиновников и тор-говцев, занятых «северным завозом».
В основе этот процесс носит благотворный характер: россиянепереезжают в более благоприятный климат, где могут легче (де-шевле) и дольше прожить, снижается нагрузка на хрупкую природ-ную среду и сохраняются важные ресурсы для будущих поколе-ний, появляется больше возможностей (в т.ч. и благоустроенногожилья) для остающегося населения, а тем более для аборигенныхжителей, для которых эта среда является родной и навсегда. Си-бирь, особенно южная, и Дальний Восток – это несколько другоедело: здесь возможно и даже необходимо действительно массовоезаселение и новое освоение, но не только через индустриальныемегапроекты (охрана среды и ресурсов здесь столь же актуальна),но и через своего рода систему гомстедов, т.е. наделение гражданза символическую плату участками земли.
Кстати, в сибирских и дальневосточных регионах естественнаяубыль населения меньше, чем в среднем по стране, а в некоторых
13
районах сохраняется естественный рост (Алтай, Тюменская, Хан-ты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Тува, Таймырский, Усть-Ордын-ский Бурятский, Агинский Бурятский, Якутия, Чукотский). По на-шим оценкам, за последние десять лет численность аборигенныхнародов Севера и Сибири не уменьшилась, а некоторых – даже уве-личилась. Принятие в 1999 г. Закона о защите прав малочисленныхнародов России даст мощное пополнение этих групп за счет потом-ков смешанных семей и культурно ассимилированных граждан. Вос-паленная риторика о вымирании северных народов беспочвенна,хотя коллапс системы государственного патернализма и разгул но-вого предпринимателя (от охотника-«европейца» до нефтегазовыхкорпораций) принесли огромные проблемы для сохранения системжизнеобеспечения и самобытной культуры аборигенных народовСевера, Сибири и Дальнего Востока.
Этнический процесс и этническаяпроцессуальность
В России этнический аспект демографии является наиболее чув-ствительным по причине не столько самого факта культурного мно-гообразия, сколько по причине длительного опыта огосударст-вле-ния этничности. Здесь политические спекуляции неимоверны, а воценках ученых господствует старая схоластика. Во-первых, в стра-не сохраняется старая практика жесткого и официального деленияграждан на народы, или национальности, и поэтому этническая ста-тистика играет политическую роль точно так же, как и сохраняю-щаяся расовая статистика в США, хотя именно американское ака-демическое сообщество успешно инициировало отказ от понятия«раса» как научной категории. Во-вторых, остается жить клише:сколько «наций и народов» живет в том или ином месте или работа-ет на том или ином заводе, и этот подсчет ведется навязчиво нетолько через переписи населения, но и через кадровые и жэковскиеанкеты. В-третьих, так называемая «национальная структура» (име-ется в виду этнический состав населения) – это часто единствен-ное средство для обоснования этнократического правления и длямобилизации граждан.
Трудно сказать, что является нормой или позитивным в этни-ческой демографии, но одно бесспорно: это – сохранение этничес-кого многообразия страны. Не существует некой оптимальной про-
12
удерживает сельчан от когда-то легкого шага пополнять городскую«лимиту».
Столь же стабильным (47% и 53%) оставалось на протяжениивсех лет соотношение мужчин и женщин. Эта достаточно большаядиспропорция представляет собою негативное явление, но в пре-дыдущие десятилетия положение было не лучше. Причина ее нестолько в особенностях биологического воспроизводства населе-ния, сколько в более высокой смертности среди мужчин по соци-альным причинам (алкоголизм, курение, травматизм, убийства).
За десять лет произошли существенные изменения в простран-ственном движении населения. Общая интенсивность внутреннихмиграций снизилась из-за экономической нестабильности и пре-кращения практики оргнаборов на грандиозные стройки в пе-риферийных регионах. Зато частные интересы людей опять же при-шли в противоречие с политическими установками и наивнымипрожектами. Речь идет о слабой заселенности Севера, Сибири иДальнего Востока. На самом же деле усиленное заселение небла-гоприятных для проживания людей арктических и субарктическихрайонов страны в предшествовавшие десятилетия носило характеркосвенного насилия (через романтическую пропаганду, «длинныйрубль», сохранение московской прописки). Начавшаяся в конце1980-х гг. человеческая конверсия Севера стала вполне нормаль-ным явлением к неудовольствию огромной армии чиновников и тор-говцев, занятых «северным завозом».
В основе этот процесс носит благотворный характер: россиянепереезжают в более благоприятный климат, где могут легче (де-шевле) и дольше прожить, снижается нагрузка на хрупкую природ-ную среду и сохраняются важные ресурсы для будущих поколе-ний, появляется больше возможностей (в т.ч. и благоустроенногожилья) для остающегося населения, а тем более для аборигенныхжителей, для которых эта среда является родной и навсегда. Си-бирь, особенно южная, и Дальний Восток – это несколько другоедело: здесь возможно и даже необходимо действительно массовоезаселение и новое освоение, но не только через индустриальныемегапроекты (охрана среды и ресурсов здесь столь же актуальна),но и через своего рода систему гомстедов, т.е. наделение гражданза символическую плату участками земли.
Кстати, в сибирских и дальневосточных регионах естественнаяубыль населения меньше, чем в среднем по стране, а в некоторых
13
районах сохраняется естественный рост (Алтай, Тюменская, Хан-ты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Тува, Таймырский, Усть-Ордын-ский Бурятский, Агинский Бурятский, Якутия, Чукотский). По на-шим оценкам, за последние десять лет численность аборигенныхнародов Севера и Сибири не уменьшилась, а некоторых – даже уве-личилась. Принятие в 1999 г. Закона о защите прав малочисленныхнародов России даст мощное пополнение этих групп за счет потом-ков смешанных семей и культурно ассимилированных граждан. Вос-паленная риторика о вымирании северных народов беспочвенна,хотя коллапс системы государственного патернализма и разгул но-вого предпринимателя (от охотника-«европейца» до нефтегазовыхкорпораций) принесли огромные проблемы для сохранения системжизнеобеспечения и самобытной культуры аборигенных народовСевера, Сибири и Дальнего Востока.
Этнический процесс и этническаяпроцессуальность
В России этнический аспект демографии является наиболее чув-ствительным по причине не столько самого факта культурного мно-гообразия, сколько по причине длительного опыта огосударст-вле-ния этничности. Здесь политические спекуляции неимоверны, а воценках ученых господствует старая схоластика. Во-первых, в стра-не сохраняется старая практика жесткого и официального деленияграждан на народы, или национальности, и поэтому этническая ста-тистика играет политическую роль точно так же, как и сохраняю-щаяся расовая статистика в США, хотя именно американское ака-демическое сообщество успешно инициировало отказ от понятия«раса» как научной категории. Во-вторых, остается жить клише:сколько «наций и народов» живет в том или ином месте или работа-ет на том или ином заводе, и этот подсчет ведется навязчиво нетолько через переписи населения, но и через кадровые и жэковскиеанкеты. В-третьих, так называемая «национальная структура» (име-ется в виду этнический состав населения) – это часто единствен-ное средство для обоснования этнократического правления и длямобилизации граждан.
Трудно сказать, что является нормой или позитивным в этни-ческой демографии, но одно бесспорно: это – сохранение этничес-кого многообразия страны. Не существует некой оптимальной про-
11
Таджикистана, Украины, Молдовы). Подавляющее большинство изних – это молодые мужчины, которые трудятся в сфере обслу-живания, строительстве, торговле и приносят огромную пользу стра-не. Без них не состоялись бы многие стройки и не было бы фруктовна рынках и в магазинах российских городов.
Наблюдающаяся в последние шесть лет естественная убыльнаселения (здесь сказались кризис, нестабильность и воздействиенеблагоприятного демографического цикла) почти наполовину былакомпенсирована миграционным приростом населения, часть кото-рого имеет хорошее образование и полезные профессии. Такая им-миграция может только приветствоваться, хотя с ней связаны соци-ально-психологические и культурные проблемы интеграции ново-жителей в местах переселения, ибо старожилы обычно негативновоспринимают изменение привычного состава населения.
Однако до момента очевидного процветания массовая иммиг-рация России не грозит, ибо этот процесс (как и эмиграция из стра-ны) носит в своей основе экономический характер, хотя можеткамуфлироваться в идеологическую аргументацию («воссоединениес собственным народом», «возврат на историческую родину», «из-гнание» и прочее). Наивная установка правительства Гайдара, чтов Россию как на «историческую родину» должны прибыть десяткимиллионов русских и они помогут поднять российскую сельскуюглубинку, не оправдалась. Приехало гораздо меньше, и это в основ-ном горожане, которые почти никогда не переселяются в сельскуюместность, если только не на временное жилье. Каковы перспекти-вы иммиграции, сказать сложно, но Россия останется принимаю-щей страной по ряду причин и прежде всего по этнокультурным иэкономическим показателям. Причем в страну будут мигрироватьне только этнические русские, татары, украинцы, молдаване но ипредставители народов Средней Азии и Закавказья, если не будутвведены более жесткие миграционные квоты.
Примечательным фактом является устойчивое соотношениемежду городским и сельским населением на протяжении всего де-сятилетия (73% и 27%). Плохо это или хорошо? Скорее плохо, ибочем развитее общество, тем меньше людей должно быть занято всельском хозяйстве. Модернизация – это прежде всего урбаниза-ция, и этот процесс замедлился после 1989 г. в значительной мерепо причине отсутствия настоящей аграрной реформы и по причинеболее конкурентной среды на рынке труда в городах. Последнее
14
порции между этническими группами, составляющими одно госу-дарство. Возможно, спокойнее ведут себя этнически гомогенныестраны, но таковых почти нет в мире. Более проблемными являют-ся государственные образования, когда имеются две-три равные почисленности группы, каждая из которых претендует на контрольцентра. Самым распространенным вариантом являются страны содной демографически и культурно доминирующей группой и груп-пами меньшинств. К этой категории относится и Россия, в которойрусские составляют 80% населения. Естественно, что нет ни одно-го государства с жесткой номенклатурой этнических общностей, ив каждом государстве имеются процессы ассимиляции обычно впользу доминирующей культуры. Для России таковой является рус-ская культура и русский язык, а если говорить точнее – российскаякультура на основе русского языка.
К чести нашей страны, ни в прошлые десятилетия, ни в годытрансформаций не произошло того, что называют «вымирание»народов. Даже самые малые группы, в т.ч. и северные народы, запоследние годы сохранили или увеличили свою численность. При-чем следует учитывать, что численность этнической группы меня-ется не только в результате естественного движения населения (рож-даемость и миграция), но и в результате смены идентичности.В начале процесса перемен мне представлялось, что к переписи1989 г. самую большую демографическую потерю понесут русскиеиз-за снижения престижности быть русским, особенно в пределахэтнотерриториальных образований (республик и округов). Но это-го не произошло, по крайней мере, в драматической форме: счи-таться русским для потомков смешанных браков продолжает бытьболее (или в равной мере) престижным даже в российских республи-ках. В Татарстане, например, в последние годы дети из смешанныхтатарско-русских семей записывались примерно поровну в ту илидругую группы. Не произошло и резкого пополнения евреев и нем-цев за счет тех, кто считался русскими, хотя этого можно было ожи-дать по причине эмиграционных преференций.
После 1989 г. большинство крупных российских народов, в т.ч.русские, башкиры, татары, чуваши, буряты, кабардинцы, коми, ку-мыки, тувинцы, удмурты, имели нулевой или незначительный ростчисленности. Уменьшилась абсолютная численность украинцев,белорусов, мордвы, российских немцев, марийцев, казахов, евре-ев. Высокий по сравнению со средними показателями по стране
10
и Бориса Ельцина не поняли многого, что пришло в общество спроцессом радикальных перемен. Они верили и продолжают ве-рить, что социальный порядок и поведение граждан переустраива-ются вслед за изменением характера политического устройства иэкономическими реформами. А если этого не происходит, значит,режим не тот («построили криминальное государство») и курс ре-форм неверен («ограбили народ и устроили геноцид»). До сих порникто грамотно не смог объяснить, что реальные свободы и жиз-ненные улучшения люди даже с научными званиями могут психо-логически не замечать и даже отрицать по причине политическихмотивов или пропагандистского воздействия. Но самое главное, чтобыстрые жизненные перемены могут «перегрузить» сознание каж-дого отдельного человека и общества в целом настолько, что дажеулучшение условий существования может отвергаться в пользу бо-лее привычного уклада. На основе собственных полевых наблюде-ний я могу утверждать, что за последние десять лет в стране про-изошла революция в жизненном обустройстве людей. Ее позитив-ный потенциал еще не проявился в полной мере, но будущая тен-денция дает хорошие шансы преемникам Ельцина, при условии,если страна справится с вооруженным сепаратизмом.
Демография как политика
Для иллюстрации «России в обвале» чаще всего называютсяданные о «вымирании нации», о катастрофических демографичес-ких потерях, включая несколько миллионов неродившихся детей,об уменьшении численности «государствообразующего» народа –русских – и т.п. Однако, если анализировать демографические про-цессы последнего десятилетия более спокойно, то следует сказать,что сам факт уменьшения общей численности населения страныне должен рассматриваться как однозначно негативное явление.Многие страны мира, особенно из числа наиболее благополучных,имеют в последние десятилетия отрицательный рост населения.В России фактически наблюдается ситуация нулевого роста, и об-щая численность жителей страны в 1998 г. такая же, какой она быладесять лет тому назад (147 миллионов). На самом же деле совре-менное население на 2–4 миллиона больше, ибо в стране находит-ся большое число не учитываемых статистикой бывших советскихграждан из других государств (Азербайджана, Армении, Грузии,
15
был рост у армян и осетин (за счет мигрантов), у якутов и у наро-дов Северного Кавказа, особенно у народов Дагестана (за счетестественного прироста). Самый высокий рост численности сре-ди населения самых бедных районов страны говорит о том, чтотак называемое «вымирание народов» с состоянием условий жиз-ни никак прямо не связано. Более того, исчезновение народа (факточень распространенный, но в России редкий) совсем не означаетфакт депопуляции или физического исчезновения представителейопределенной культуры, а означает смену ими этнической иден-тичности.
Хорошо или плохо, что демография периода трансформацийотмечена более быстрым ростом численности северокавказцев, азначит сокращением доли русских (кстати, татар и чувашей также)в общем населении страны? К сожалению, это – вопрос громкихспекуляций, и профессионально его никто не осмелился обсуждать.Какова доля русских в стране – это не вопрос жизненной стратегиигосударства. В дореволюционной России и в СССР русские никог-да не составляли более 55%, но государство существовало и распа-лось не по этой причине. Сейчас по доле самой большой этническойгруппы – русских – Россия почти такая же моноэтничная страна, каки Китай, где, кроме 90% ханьцев, имеется не менее 100 миллионовпредставителей разных национальностей. Демографическое господ-ство одной группы имеет значение для крепости государства. Одна-ко даже 1% населения и территории, который составляяют чеченцыи Чечня в России, способен стать базой вооруженной сецессии имасштабной войны. Действительной проблемой является высокаярождаемость в горных дагестанских и в других северокавказскихселах, где недостаточно ресурсов, завышенные социальные ожида-ния и неприятие бедности вызывают напряженность, конфликты ивыход граждан из правового пространства.
Демография зависит от процедуры. В фиксации этнического этоособенно важно. Когда меня спрашивают «Сколько народов живетв России?» или когда я слышу очередную цифру, выученную поли-тиком, то я отвечаю: «В России живет столько народов, сколько Вамхочется». Культурных идентичностей людей существует много, рав-но как и языковых различий, особенно если перевести некоторыеязыковые системы коммуникаций людей из разрядов диалектов вразряд языков. Эти идентичности многоуровневы и не взаимоиск-лючают друг друга, они могут носить местно-общинный характер
9
недостаточно учли антропологический аспект общественной жиз-ни, а именно – частную стратегию человека и создаваемую чело-веком социокультурную среду, включая мироощущение. Самымифатальными оказались идеалистическое представление о приро-де самого человека (должен честно трудиться, не должен воро-вать, должен любить Родину и «служить нации», обязан заботить-ся о других и т.п.) и вера в то, что улучшение условий жизни обяза-тельно ведет к адекватному восприятию этих улучшений. Непрос-тительными были упущения по защите национальных интересов исуверенитета государства в геополитическом соперничестве, вклю-чая регион нового зарубежья.
Российское общество (советское и постсоветское) в этом планеимеет характерную отличительность. При массовой образованнос-ти оно очень идеологизировано, ибо имеет непропорциональнобольшую и крайне претенциозную культурную элиту («инженерычеловеческих душ»), которая довольно успешно узурпирует массо-вое сознание в пользу своих субъективных представлений и влияетна поведение рядовой массы граждан, привыкших к одномерномумышлению и к вере в одну версию событий, исходящую из «цент-ральных» газет и телевидения. Однажды французский философМишель Фуко, отвечая на вопрос о роли радикальной интеллиген-ции в процессах общественных преобразований, сказал: «Главнаяпроблема – это как избежать излишнего воздействия интеллектуа-лов, носящихся со своими утопическими проектами, и позволитьуправленцам делать свое дело по переустройству общества». В Рос-сии сделать этого не удалось. Все эти годы театральные режиссе-ры, писатели, актеры, журналисты и литературоведы выступали икак законодатели, и как авторы «обустройства России», и как глав-ные колумнисты ведущих газет, и, наконец, как «совесть нации»,чтобы исповедовать ее лидера.
О чем и почему сегодняшние акции протеста? Если верить боль-шинству политиков, ученых и масс-медиа, а это значит – и «челове-ку с улицы» (в современном обществе здесь разрыва почти не су-ществует), это есть протест против антинародного режима и про-тив невыносимой жизни. Но если перестать повторять бесконеч-ные заклинания о «нашем тяжелом времени», в которое теперь ве-рят фактически все, то этнография российской жизни вы-глядит по-иному. Прежде всего следует сказать, что сама власть, т.е. управлен-цы и эксперты, т.е. ученые, в годы правления Михаила Горбачева
16
(карамахинец), локально-этнический (тоджинец, андиец), нацио-нально-этнический (аварец, даргинец), регионально-культурный(дагестанец, татарстанец, якутянин), культурно-гражданский(россиянин). Это не разные общности в смысле членства (глубокоезаблуждение отечественной экспертизы), а оформляемые челове-ком коалиции, по которым его самосознание совершает дрейф ло-яльности или может пребывать во всех их одновременно. Стоилопоменять процедуру фиксации мордвы, как для будущих ученых –сторонников теории этноса и этнических процессов – «вымер эт-нос» или совершилась «парцелляция этноса»: вместо мордвы по-явились эрзя и мокша, а мордва осталась только за пределами Мор-довии. На самом деле ничего в этнокультурном профиле предста-вителей данной группы не изменилось, кроме некорректной фор-мулировки статистиков. В России остались и продолжают житьграждане, которые в местном сообществе проводят между собойдовольно четкое (основанное на языке) различие, а во внешнем ок-ружении они ощущают себя мордвой.
Многоуровневая и подвижная культурная идентичность в усло-виях идеологической либерализации и цветущего этнонационализ-ма – это новая реальность, и в будущем могут появиться десятки«новых этносов»: людям будет интересно или важно по какой-топричине считать себя булгаром, аланом, помором, калмыком, сойо-том и еще кем-то, о чем они прослышали в семье, подсмотрели всемейных фото, прочитали в книге или услышали на митинге. Это– значимый для людей и для науки процесс, но только государстводолжно меньше всего лезть в него с бюрократической процедурой,а тем более с кадровой анкетой. В целом же период реформ в Рос-сии связан с некоторыми серьезными демографическими пробле-мами (прежде всего относительно высокая смертность, особенносреди мужчин и детей), но ни одна из них не может квалифициро-ваться как катастрофическая.
Пища, одежда, жилище
Каждый антрополог знает, что пища, одежда и жилище – этотри столпа материальной культуры, а состояние здоровья – основ-ной показатель уровня модернизации общества. Этими категория-ми далеко не ограничивается жизнь современного человека, ибо естьеще огромный мир других используемых вещей и услуг, как и мир
8
имел гораздо больше общего, чем отличительного от членов дру-гих государственных сообществ, включая и те, которые представля-ются европейской научной традицией как «нормальные общества».Это общее находило отражение в повседневном стремлении к лич-ному преуспеванию, в создании и функционировании семейно-род-ственных союзов, этнических и профессиональных коалиций, в эмо-ционально-психологических установках и, наконец, в формах де-виантного поведения, включая тривиальное воровство и внебрач-ные связи. Как отмечает английский антрополог Крис Ханн в рабо-те по антропологии социализма, «в большинстве стран (имеется ввиду – социалистических) и на протяжении большей части временибольшинство «простых людей» просто воспринимали систему какданное, приспособились к ней и продолжали жить без вступления вряды коммунистической партии или диссидентской группы. Дру-гими словами, они «карабкались по жизни» (muddled through) точ-но так же, как люди это делают в другого рода обществах».
В советской жизни что-то было задавлено, как, например, граж-данские свободы и уважение человеческой жизни. Что-то, наобо-рот, спонсировалось, как, например, социальный коллективизм,профессиональная культура и образование. Что-то было простонедостижимо в силу неэффективного хозяйствования и плохогоуправления, как, например, личное богатство, обустроенная средаобитания, достойная бытовая культура и пространственная мобиль-ность. Но даже в этой существенной отличительности Россия быладо тривиальности похожа на многие другие общества, а метафораHomo sovieticus (или «совок») утвердилась уже позднее и стала ско-рее саморефлексией, а не внешней категоризацией. На пороге XXI в.приходится признать, что отечественная наука упустила этногра-фию советскости и этот долг предстоит вернуть как можно скорее,пока не исчезла «традиционная» культура советского времени.
Не меньшая потребность существует в познании постсоветско-сти как уже новой культурной традиции, особенно смысла глубо-ких общественных трансформаций в России. Сразу же выскажумнение, что установка на радикальную социальную инженерию(чем, кстати, люди занимаются довольно часто в истории) была нетолько оправдана, но и в целом экспертно обеспечена в макроэко-номическом и в политическом планах, как бы ни старалось каждоеновое правительство и оппозиция отрицать уже сделанное. Одна-ко исполнители и толкователи российских реформ плохо знали и
17
ощущений и духовных ценностей. И все же основное населениеживет повседневными заботами материального обеспечения, кото-рые лежат в основе уровня и качества жизни. Некоторые вопросыпостсоветской материальной культуры заслуживают внимания.
На протяжении всей истории России ее население (за исключе-нием южных районов) имело достаточно небогатую кухню со скром-ной диетой, в которой был явный недостаток витаминизированнойуглеводной пищи, прежде всего фруктов. Свой первый в жизниапельсин и банан я съел уже будучи студентом МГУ, ибо в неболь-шом уральском городке, кроме яблок и новогодних мандаринов,фруктов не продавалось. Сегодня в этом городке, которому остает-ся очень далеко до экономического процветания, все те же азер-байджанцы обеспечивают хороший рынок основных фруктов ифруктовых соков, которые жители регулярно покупают (иначе быне привозили!). Абсолютно новый и огромный по своим размерамввоз в страну фруктов внес историческое изменение в структурупитания россиян. Безусловно увеличилось потребление рыбы, дажеесли официальная статистика не показывает этого по причине «вне-системной» добычи и продажи этого продукта. Увеличилось потреб-ление сыров и колбасных изделий (опять же в основном за счетимпорта), и население уже забыло времена плавленых сырков«Волна» и буфетных сарделек.
Снижение потребления мяса, молока и яиц мало о чем говорит,как и общее снижение потребления продуктов питания. В послед-ние десятилетия население страны не страдало недоеданием. Ина-че не было бы на порядок больше людей с лишним весом по срав-нению с дистрофиками. Оно страдало несбалансированной струк-турой питания, и если этот дисбаланс выравнивается даже за счетсокращения общего потребления продуктов (в некоторых семьях,например, практически прекратили покупать яйца), но расширениямассортимента потребляемых продуктов, то этот процесс скорее но-сит позитивный характер.
Не менее важным является изменение в системе организациипитания. Современный человек готовит и потребляет пищу не толь-ко дома, но и через общественные системы питания. Еще десятьлет тому назад огромной проблемой для небогатого гражданинабыло пообедать на Невском проспекте в Ленинграде или на улицеГорького в Москве, не говоря уже о более провинциальных местах.Унизительные очереди в грязные уличные пельменные, в рабочие
7
и этничность может помочь избежать этноцентризма, ксенофобиии насилия, которые громко заявили о себе на территории бывшегоСССР в последнее десятилетие.
Если в центре нашей дисциплины стоит изучение человека, то,видимо, обращение к его антропологической сущности должно бытьодной из отправных точек анализа. Человек как существо социаль-ное рождается в этот мир, чтобы исполнить свою первичную сущ-ность – обеспечить благоприятные условия собственного существо-вания: дольше и комфортно прожить, произвести и вырастить по-томство, обеспечить свои статус и безопасность, удовлетворитькультурные запросы, исполнить идеологическую миссию, если егов нее рекрутировали. Для этого человек вступает в сотрудничествои в соперничество с себе подобными. Для этой цели он создает все-возможные социальные коалиции и институты, начиная от семьи икончая государством. Все эти усилия направлены на обладание(possession) и производство как можно большего объема ресурсов,включая территорию, материальные и духовные ценности, здоро-вье, образование, связи, власть, статус – все, что называется «ре-альным» и символическим капиталом.
Эти постулаты хорошо известны антропологам применительнок прошлым, особенно к древним или к так называемым «племен-ным» сообществам. Но мы оказались слабыми знатоками антропо-логии современных обществ, в которых прошла или проходит нашаличная жизнь. Сегодня можно только поражаться, насколько слабыобъяснительные модели советского общества, просуществовавше-го много десятилетий. Здесь преобладают или политизированныепостфактические рационализации и литературные метафоры о «со-ветской империи», «тюрьме народов», «всеобщем Гулаге», или инер-ция советской пропаганды, дополненная риторикой жалоб старше-го поколения, среди которых присутствуют и представители науки.Главная слабость объяснений советского общества – это утвержде-ние о его исключительности и аномальности, вызванное проекция-ми оценок политического режима и его идеологического багажа навсе общество, его нормы и ценности.
При всех социальных деформациях и политических аномалияхСССР был не менее легитимным государством, чем многие другиестраны мира в Азии, Африке, Латинской Америке и даже в Европе.Более того, советское общество, вернее, советский человек в своихбазовых проявлениях, в своих частных и коллективных стратегиях
18
столовые и в институтские буфеты отнимали время и даже здоро-вье. Рестораны были не для того, чтобы поужинать, а чтобы «гуль-нуть». Сегодня ситуация с «общепитом» значительно иная. Резковозросло общее число ресторанов и кафе, не говоря о новой куль-туре уличных продуктовых ларьков и палаток, одиночных частныхторговцах разной едой на улицах и дорогах. Впервые в таких мас-штабах люди в России стали есть и пить за пределами дома, и этоогромная перемена в народной культуре.
Еще одна разительная перемена в жизни людей за последниегоды – это радикальное расширение используемых предметов бытаи социальных благ. Номенклатура используемых человеком пред-метов для повседневной жизни (так называемые «вещи») – это край-не важный показатель сложности и степени модернизации обще-ства. Хотя количество окружающих и используемых человеком ве-щей необязательно определяет мораль и ценности общества и де-лает человека счастливым, все же в целом это так. Безусловно, чточем больше человек использует в повседневной жизни вещей, темлучше качество этой жизни, даже если в некоторых культурах, как,например, в японской, можно встретить иную мораль, что, кста-ти, неравносильно реальному поведению. Особенно это касаетсябыта, что прямо связано с комфортом, гигиеной и здоровьем лю-дей. Некоторые перемены в этом плане могут казаться малозна-чимыми, тем более, что они не столь связаны с макроэкономически-ми успехами и личными средствами. Если за последние десять летмиллионы людей стали пользоваться туалетной бумагой, а не смя-той газетой, чистить зубы (оказывается, бывают щетки мягкие, сред-ние и жесткие!) набором из десятка паст, пользоваться шампунями(для разных волос, для взрослых и детей, с ополаскивателем и без),то только одно это принципиально к лучшему изменило бытовуюкультуру.
Недовольство некоторых по поводу телерекламы женских про-кладок, жевательной резинки и памперсов не должно заслонить фактогромной перемены в бытовой гигиене. И таких внешне малых, нокрайне значительных новаций в бытовой жизни россиян произошлобольше, чем в какой-либо предшествовавший исторический пери-од. За короткие десять лет люди узнали и освоили использованиесотен новых вешей и услуг: от уже упоминавшихся до технологи-чески сложных бытовых новаций (стиральные машины-автоматы,телефоны с автоответчиком и мобильные, обогревательные прибо-
6
АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХТРАНСФОРМАЦИЙ*
Введение
Непросто, но крайне полезно оценить трансформации и обще-ственный процесс в России с точки зрения социально-культурнойантропологии, которая изучает человека во всем многообразии со-здаваемых им социальных коалиций на основе этнографическогометода, или метода включенного наблюдения. Во всем мире соци-ально-культурные антропологи выполняют важные познавательныеи экспертные функции, необходимые для самопонимания обществаи для его управления. Управленческая потребность в антропологахособенно выросла в последние годы, ибо общества (имеются в видупрежде всего государства) становятся все более сложными по сво-ему составу, и они не только сохраняют, но и увеличивают своекультурное многообразие.
Без «домашней» антропологии сегодня невозможно обеспечитьадекватную экспертизу трансформирующихся обществ, когда ста-тистика, социологический опрос и политологический анализ неспособны уловить характер и траекторию перемен. Только хорошообученный антрополог может объяснить, что частная стратегиялюдей всегда была и будет выше любой «национальной идеи», чтожелающих управлять всегда больше и поэтому «рваться к влас-ти» – это естественно, что содержание и границы групповой куль-турной отличительности подвижны, что люди могут использоватьэтничность и так называемую «историческую память» в инстру-менталистских целях, и поэтому так называемые «национальные»,казаческие, языческие и прочие «возрождения» или «движения» дол-жны восприниматься прежде всего как манипуляции активистов со-циального пространства, а не буквально. Не менее важен и просве-тительский аспект антропологии, когда современный взгляд на расу_____________* Этнопанорама. 1999. №2. С. 2–12.
19
ры, печи-ВЧ, цветные телевизоры с дистанционными пультами имногое другое).
Еще десять лет тому назад подавляющее большинство совет-ских семей обходилось крайне ограниченным набором жизненныхвещей, не зная об их существовании или не будучи способными«достать» (именно достать, а не купить!). Информация о существо-вании используемых человеком вещей поступала из узкого кругаисточников: полки магазина, подсмотренная на телеэкране «другаяжизнь», знакомые и друзья, поездки «в город» или за рубеж. Стрем-ление обрести и пользоваться многими вещами в силу высокой гра-мотности населения при ограниченных формах социальной само-реализации (работа, семья, квартира, отдых в регулярный отпуск)было огромным, и потенциальная идеология потребительства усоветских людей была не ниже, а даже выше, чем в других, дажеболее состоятельных обществах. В 60–80-е гг. эта идеология с ог-ромной энергией и изобретательностью утверждалась в частныхстратегиях людей. Обшарпанные подъезды и захламленные лест-ничные клетки скрывали за дверями квартир обустроенное жильес приличной мебелью, хорошим набором посуды и вполне снос-ным гардеробом. Жилье моих зарубежных коллег – молодых уче-ных-обществоведов, которых я посещал четверть века тому назадв США, Канаде, Мексике, Великобритании, ГДР, Венгрии, малочем отличалось от моей московской малогабаритной квартиры вИзмайлово.
Одержимость обустройством, скромная красота и чистота былиразительными по сравнению с загаженностью пространства, начи-навшегося за квартирной дверью. Именно здесь лежала впечатля-ющая грань между миром частного, личного и миром обществен-ного, вернее, государственного, а значит, и ничьего. Советскийчеловек был очень частным человеком, и именно это обстоятель-ство пропустила наша экспертиза, увлекшись анализом мира про-паганды и верхушечных установок. Советский человек даже напервомайскую демонстрацию или на избирательные участки хо-дил с удовольствием не просто «по зову сердца» в смысле полити-ческом, а чтобы надеть и показать свой наряд («это я одену на май-ские праздники») или приобрести дефицит в школьном и клубномбуфетах.
Что действительно отличалось от более обустроенных обществ,если говорить в масштабе всей страны, так это сохранявшиеся в
5
В.А. Тишков один из представителей научной элиты, пос-ледовательно отстаивающий мнение о российском народе како гражданской нации. При этом особое внимание он уделяетсохранению и развитию культуры, самобытности этническихобщностей. Российская нация, по мнению Тишкова, не проти-вопоставляет гражданское и этническое начала, а предпола-гает общероссийскую гражданскую солидарность при сохране-нии собственных идентичностей.
Изучение этих взаимосвязанных и взаимообусловленныхпроцессов не только открывает новое научное направление, нои имеет большое значение в общероссийской и региональнойполитике, способствует противодействию экстремизму иутверждению толерантности в полиэтничных, многоконфес-сиональных регионах.
Редакция научно-публицистического журнала «Этнопано-рама» в течение 12 лет имеет привилегию публикаций ста-тей В.А. Тишкова, за что благодарна автору.
Тиражирование, а значит и доступность, высокопрофесси-ональных и обстоятельных работ ученого по различным про-блемам межэтнических отношений дает возможность ученымв субъектах Российской Федерации знакомиться с новыми иде-ями и разработками, сверять свои позиции, более цельно пред-ставлять сложные этнополитические процессы, происходящиев России.
Знакомство с публикациями В.А. Тишкова позволяет ру-ководителям регионов использовать некоторые его теорети-ческие разработки и практический опыт для принятия по-литических решений, успешно управлять многоэтническимиобществами.
В.В. АМЕЛИН,редактор журнала «Этнопанорама»,
доктор исторических наук, профессор
20
больших городах коммунальные квартиры и частное жилье малыхгородов и сел. Здесь жилое пространство было явно ограниченным,быт неустроен и требовавшиеся для жизнеобеспечения усилия не-имоверными (ежедневные дрова для печки, вода из колодца и про-чее). Здесь фактически был «третий мир», но не афроазиатскаянищета, а тот, который можно наблюдать в изобилии во многих стра-нах мира, особенно в Северном полушарии, где в бедных деревняхИрландии, Испании, Греции, не говоря о Восточной Европе, жизньостается достаточно скудной и некомфортной.
Под воздействием этнографических описаний о традиционномрусском жилище мне иногда казалось, что «пятистенка» с русскойпечью – это надолго, если не навсегда (климат, историко-культур-ная привычка и прочее). Даже еще десять лет тому назад, проезжаяпо российским дорогам, можно было наблюдать, как граждане, рас-полагавшие средствами, строили кирпичные дома в деревнях ималых городах, фактически повторяя русскую избу по параметрами архитектуре. В большинстве же своем в 1960–80-е гг. индивиду-альное жилье почти не строилось вообще.
Подлинная перестройка в социокультурном смысле в Россииначалась не с торговых кооперативов или с московских политичес-ких манифестаций. Она началась с изменений в отношении к жи-лью и к вещам, и в этом смысле перемены носят глубокий ибезусловно позитивный характер. По всем стандартам жизненногоблагосостояния основным считается жилье, его размеры и благоус-троенность. В СССР в 1960–80-е гг. строилось много городскогомногоквартирного жилья и крайне мало строилось частных до-мов. За последние десять лет в России построено больше домов,чем за весь послевоенный период. В российских деревнях сегод-ня каждый третий дом – это новый дом. Граждане преодолели се-рьезный культурный барьер в представлении о жилище, и послемноговекового бытования на смену одно- или двукамерному жи-лищу пришел дом с более крупными параметрами, многоуровне-вый и с несколькими комнатами, а также с встроенным в жилищетуалетом.
В целом, россияне построили столько новых домов, сколько ихне было построено за предыдущие 40–50 лет! В стране бум произ-водства строительных материалов, и по обочинам дорог и в горо-дах на целые кварталы бурлят рынки по их продаже. Помимо дей-ствующих, закуплены за рубежом и запущены сотни кирпичных
4
ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящей книге собраны научно-публицистические ста-тьи известного ученого, историка, этнолога и антрополога,академика РАН, директора Института этнологии и антро-пологии Российской академии наук Валерия АлександровичаТишкова.
Этнический и религиозный факторы играют заметнуюроль в общественной жизни России. Поэтому работы В.А. Тиш-кова как никогда актуальны, важны и неоценимы именно се-годня, в условиях глубоких российских трансформаций для ре-гионов России, имеющих сложный этнический и религиозныйсостав населения, в которых в постсоветские годы идут слож-ные процессы возрождения национального самосознания, наблю-даются проявления сепаратизма и сецессии, демонстрация раз-ного рода фобий и даже расизма.
Его исследования по вопросам теории этнической и поли-тической практик, по проблемам межэтнических отношений,этничности и национализма, обновленных подходов в сферегосударственной политики в отношении «национального воп-роса», а также изучения культурного многообразия необходи-мы обществоведческому сообществу для выработки и усовер-шенствования теоретико-методологических подходов в совре-менной этнологической науке и разработки на этой основеспецкурсов в гуманитарных вузах в регионах.
Изучение этнических проблем невозможно и без пересмот-ра понятийно-терминологического аппарата, что успешноудается осуществлять этнически и политически незаангажи-рованному ученому.
21
заводов. Текущая госстатистика жилья мало о чем говорит, ибо неучитывает загородное строительство и многие другие вещи (новыепристройки, многоквартирное частное жилье). Но даже эта стати-стика говорит о том, что общая площадь жилищ в стране увеличи-лась с 2,1 млрд. м2 в 1985 г. до 2,7 млрд. м2 в 1997 г. Причем част-ный фонд увеличился в два раза, а на самом деле во много раз, еслисчитать все построенное гражданами жилье.
Люди получили бесплатно или купили по мизерным ценам мил-лионы новых земельных участков и научились строить более про-сторное и комфортное жилье, в котором население за всю историюстраны не проживало. Еще десять лет тому назад раму для арочно-го окна было сделать некому, и кроме наличников и железных пе-тушков на печных трубах никакие архитектурные украшения неиспользовались. Сейчас большинство новых домов, как сельских,так и дачных, обставлено солидными мебельными предметами, надвсеми телевизионные антенны и почти рядом со всеми автомобиль-ные гаражи.
Безусловно, процесс создания основы благосостояния людей– жилья – сопровождается уродливыми явлениями, которые мож-но было избежать и еще придется исправлять. Вместо массывычурных журналов по домоустройству нужно было создавать ус-ловия и объяснять, что настрой на дачную жизнь в дорогих и боль-ших домах – это неправильно и против наших климатических ус-ловий. Городское население вбухало миллиарды долларов в заго-родное жилье, которое не имеет коммуникаций, которое невоз-можно отопить зимой и в котором работающая семья с детьмипостоянно проживать не может из-за отдаленности от места служ-бы и из-за отсутствия рядом школы и больницы. Конечно, былобы лучше строить все эти комфортные дома в городской черте, исейчас бы и города выглядели лучше, и потребность в квартирахбыла бы меньше. Но примитивная мечта советского человека о дачеи нежелание городских властей предоставить землю для частныхдомов (столько их сносили, чтобы построить многоэтажки!) оказа-лись сильнее.
К социальным издержкам в целом положительного сдвига всоздании людьми и государством нового жилья можно отнести су-етность тех, кто много заработал или украл и поспешил этопродемонстрировать перед миром, чтобы утвердить и возвыситьсебя среди других, и потешить себя биллиардным залом и ванной-
3
ПРЕДИСЛОВИЕ 4АНТРОПОЛОГИЯ РОССИЙСКИХТРАНСФОРМАЦИЙ 6ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ДИАСПОРЫ 33СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 59ЯЗЫК И АЛФАВИТ КАК ПОЛИТИКА 75ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ В. ТИШКОВЫМ 82ВООРУЖЕННЫЙ СЕПАРАТИЗМ ЕСТЬОБЩАЯ УГРОЗА 101О МЕХАНИЗМАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ 106ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОГО МНОГООБРАЗИЯ 110СЕТЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГАДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 118КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 135ЭТНИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ МНОГООБРАЗИЕ –ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 153РОССИЯ – ЭТО НАЦИЯ НАЦИЙ 174
ТРИ КАРТЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ,АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯИ ЭТНИЧЕСКАЯ 179О НАЦИОНАЛЬНОМ ИДЕАЛЕ И ЦЕННОСТЯХ 193ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ИСТОРИКИВ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 202ПРО РАЗНЫЕ ИСТОРИИ(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИСЕРГЕЯ НАРЫШКИНА) 212ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА 227
ОГЛАВЛЕНИЕ
22
джакузи, в которую нерегулярно течет ржавая вода. Большинствоэтих домов-монстров не функционирует, и перспектива их полно-ценного использования неясна, как и большинства миллионов но-вых дачных построек. Работающие горожане жить в них не смогут,а новому эффективному селу они не нужны в таком количестве.Видимо, это останется памятником нашему неправильному соци-альному планированию, отсталому менталитету и неразвитой го-родской антропологии.
О государстве и проблеме лояльности
Политическая антропология, в том числе и отечественная, мно-го сделала для изучения ранних форм государствообразования идля понимания символьно-статусной и инструментальной приро-ды власти. Но эта традиция не отвечает потребности осмысленияновых явлений и потребности понимания проявления базовыхструктур организации общественной жизни в современном процес-се. Отметим только несколько моментов провала в понимании, чтоесть государство.
В ходе человеческой эволюции люди создают различные коали-ции для обеспечения наиболее благоприятных условий своего со-циального существования. В современную эпоху и на видимую пер-спективу самой мощной и всепроникающей формой социальнойгруппировки людей является государство. Государства не являют-ся божественным промыслом и не существуют вечно, но они суще-ствуют достаточно долго и тем самым обретают историческую ле-гитимность как дополнительный аргумент своего существования.Однако существование государств обусловлено все же не истори-ей, а тем, что каждое новое поколение граждан делает (или повто-ряет) выбор в пользу данного государства, идентифицирует себя сэтим государством и демонстрирует ему свою лояльность. Госу-дарство – это не только охраняемая границами территория, фикси-рованное членство и набор институтов, правил и символов, но иналичие в сознании его граждан общеразделяемого представленияо том, что есть данное государство (или страна) или своего рода«доминирующая идея». Если у данного поколения нет такого доми-нирующего образа страны, то фактически нет и государства илионо пребывает в состоянии «квази-государства». Видимо, толькоболее глубокое объяснение недостатка общегражданской лояльно-
Тишков, В.А.Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанора-
ма» 1999–2011 гг. – 2-е изд., перераб. и доп. – Оренбург: Издатель-ский центр ОГАУ, 2011. – 232 с.
В сборник работ известного российского ученого, академика РАН, директораИнститута этнологии и антропологии РАН В.А. Тишкова включены статьи, ранееопубликованные в журнале «Этнопанорама» (1999–2011 гг.), по проблемам межэт-нических отношений, этничности, культурного многообразия, этнологического мо-ниторинга.
Для широкого круга читателей: ученых-обществоведов, политиков, преподава-телей и студентов.
© Тишков В.А., 2011.
УДК 323.1ББК 66.5 (2Рос)Т – 47
ISBN 978-5-88838-691-0
ISBN 978-5-88838-691-0
Научное изданиеТишков Валерий Александрович
Единство в многообразии
Подписано в печать 06.09.2011. Формат 6084/16. Усл. печ. л. 13,5.Печать оперативная. Бумага офсетная. Заказ № 4155. Тираж 100 экз.
Издательский центр ОГАУ,460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. Тел.: (3532)77-61-43
23
сти как компонента культуры поможет лучше понять причины рас-пада СССР и, отчасти, кризис государства в России, а не облегчен-ные формулы «распадающейся империи» или «заговора», хотя бе-зусловно личностный момент и борьба элит за власть и ресурсыимели, на наш взгляд, решающее значение.
Возникновение и исчезновение государств не определяютсядетерминированными закономерностями или установленными гло-бальными, а тем более внутренними нормами. Ни одно государ-ство не прописывает процедуру своего упразднения. Не делает это-го и международная норма. В современную эпоху закончившегося«огосударствления» Земли этот процесс происходит в результатеволенавязывания силовыми средствами или в итоге элитных выбо-ров и решений, которые могут оформляться массовой мобилизаци-ей в их пользу в разной форме или не оформляться вообще. Миро-вое сообщество, под которым чаще всего имеется в виду евроаме-риканский мир, его коалиции и ценности, легко признает процессгосударственных новообразований за своими пределами и даже емусодействует, если он происходит через дробление, а не укрупнениегосударств и тем самым не грозит их экономическим и другим ин-тересам.
Современные государства так же уязвимы, как и в прошлом,ибо склонны к соперничеству за ресурсы и к навязыванию тех норми правил, по которым они живут сами или которые им представля-ются как универсальные. И все же главные вызовы государству се-годня находятся внутри самих политических сообществ. Важней-шим моментом для существования общей лояльности (на бытовомязыке – «любви к родине» и т.п.) являются условия социальногопреуспевания, которые создаются данным государством и для чеголюди образуют, принимают и защищают свое государство. Эти ус-ловия могут быть далеко не самыми плохими, но восприниматьсякак таковые в результате навязываемого мнения непредставитель-ного меньшинства при слабой компетенции индивидуального со-знания и даже внешней пропаганды. Ситуация в России последнихлет с этой точки зрения в отечественном обществоведении факти-чески не рассматривается, хотя в ней ответ на многие мучительныевопросы. Хотя формально как все бывшие члены ООН (в т.ч. СССР,Югославия, Чехословакия и ГДР), так и нынешние постсоветскиегосударства являются легитимными государствами, ибо оформле-ны приемлемыми внутренними и внешними процедурами, сам факт
Автор благодарит фонд «СОВЕСТЬ»и его президента Храмова Рэма Андреевича
за оказание финансовой помощи в издании книги
ЕДИНСТВОВ МНОГООБРАЗИИ
В.А. ТИШКОВ
ОРЕНБУРГ – 2011
публикации из журнала«ЭТНОПАНОРАМА»1999–2011 гг.
24
существования этих государств требует постоянного подтвержде-ния, в т.ч. и на уровне как повседневного внутреннего референду-ма, так и академических предписаний. Применительно к Россииситуация оказалась наиболее сложной, ибо ее больше всего затро-нула своего рода «революция двойного отрицания», когда вместе сдемонтажом политического режима и его идеологии, которая, кста-ти, включала мощный компонент государственного (советского)патриотизма, оказалось отринутым и само государство и даже жиз-ненная повседневность на протяжении десятилетий. Многообразиепрошлой общественной жизни и противоречивые результаты со-ветской политики, в т.ч. и в так называемом национальном вопро-се, оказались редуцированными к литературным версиям «манкур-тизации», «народоубийства» и т.п. Применительно к современномусостоянию доминирует версия о «криминальном государстве» и«разбойном капитализме», которая также отрицает легитимностьгосударства уже в его новой конфигурации.
Своего рода уходом от заботы о признании государства и егообустройстве как в экономике и политике, так и в ментальном кон-струировании являются метадебаты об уникальности России, рос-сийской или евразийской цивилизации, российском суперэтносе,разных вариантах географического и культурного детерминизма, атакже одержимость пропагандой «многонациональное» при трети-ровании общероссийской культурно-языковой и ценностно-ориенти-рованной общности. От ученых, а не от политиков идут первичныепредписания считать «родным» языком не материнский язык, языкдома и общения, а тот, который совпадает с паспортной записьюнациональности. От ученых, а не от политиков поступают настав-ления гражданам, что шаманизм и язычество есть их «настоящие»,«традиционные», «национальные» религии, а не та вера, которуюприняли их предки сто, двести или более лет тому назад. От уче-ных, а не от политиков поступают археологические, физико-антро-пологические и архивные данные, что часть владельцев домов наодной и той же улице живет на «своей этнической территории», ачасть не на своей. Из тех же академических постулатов родилисьдоктрины «своей» государственности или «безгосударственности»,хотя в пределах России все имеют общее государство и у каждогоесть паспорт на правовое подтверждение этого факта. Российскиереспублики-государства также существуют в равной мере для всех,если граждане сами не позволяют узурпации со стороны предста- 1
25
вителей одной группы, как это имеет место, например, в Адыгееили Башкирии.
Западное академическое сообщество с энтузиазмом разделяетсаморазрушительные язык и методологию российского общество-знания. Казавшаяся когда-то несерьезной рейгановская метафора«империи зла» или поверхностная формула французского истори-ка Каррер Данкосс о «распадающейся империи» ныне стали непре-рекаемыми объяснительными концептами. Инерция мышления хо-лодной войны и энтузиазм молодых соискателей степеней и гран-тов, чутко улавливающих потребности новых геополитических со-перничеств, активно утверждают наши же собственные подсказкио «криминальном государстве», о «мини-империи», о «многонаци-ональной стране», о «своей» и «не своей» государственности внут-ри одной страны, о самоопределении «несамоопределившихся на-ций» и т.п. Из всего этого рождается образ России как чего-то несвершившегося, на некоей «ничейной территории» (terra nullis),открытой для новых геополитических дизайнов.
Эти метадебаты представляются достаточно радикальным раз-рывом с сознанием молчаливого большинства, тех самых «дорогихроссиян», которые некоторым ученым и политикам представляют-ся эвфемизмом наподобие «марсиан». Да, действительно, в 1991 г.было выкрикнуто слово «Россия» в виде советской республикиРСФСР – государство не очень понятное и плохо продуманное.В этом смысле Россия состоялась сначала как акт речи, но именноэтот акт речи быстро обрел реальность. В этом нет социально-куль-турной аномалии, ибо равным образом состоялись и другие совре-менные государства («Мы сделали Италию, сейчас будем делатьитальянцев», – говорили вожди объединения). Рядовые гражданеприняли новое государство, ибо вопрос о государстве для них – этоне вопрос трудно разделяемого элитой символьного и ресурсногонаследия, а вопрос о тех новых возможностях для личной жизни,которые ожидаются за новым государственным обозначением тер-ритории, где они жили и продолжают жить.
У обывателя, в том числе и просвещенного интеллигента, нетгосударственного мышления в его повседневном варианте. Его го-сударство там, где лучше или где привычнее. Постулат, когда-товысказанный академиком Л.И. Абалкиным, занимавшимся поис-ком национальной идеи, что служение стране и нации должно бытьвыше личного интереса, является, строго говоря, ненаучным. Ни
48
ся с китайской, индийской или японской, а возможно, даже и мень-ше магрибской или тюркской.
Где и когда российская диаспора?
Нам не хотелось бы вдаваться в упрощенный пересказ, однаконапомню, что Россия за последние полтора века была в демографи-ческом аспекте довольно мощным поставщиком эмиграции, а зна-чит, – потенциальной диаспоры, если таковая образовывалась попредложенным нами различительным критериям. Опять же заме-тим, что не все выехавшие из России – это состоявшаяся диаспораили всегда диаспора. Всего примерно за сто лет с начала массовыхвнешних миграций из дореволюционной России выехало 4,5 мил-лиона. Кстати, следует помнить, что в этот же период в страну при-было 4 миллиона иностранцев, часть которых образовала услов-ные внутрироссийские диаспоры, о которых следует говорить осо-бо. Можно ли считать эту массу выходцев из дореволюционнойРоссии диаспорой? Наш ответ, конечно, нет. Во-первых, террито-риально почти всех эмигрантов того периода поставляли Польша,Финляндия, Литва, Западная Белоруссия и Правобережная Украи-на (Волынь), и тем самым Россия создавала диаспорный материалв значительной мере для других стран, которые исторически воз-никли в последующие периоды. Хотя многие из выехавших культур-но были сильно русифицированы и даже считали родным языкомрусский, едва ли возможно ближайшего соратника Адольфа Гитле-ра Альфреда Розенберга, который был выходцем из Литвы и лучшеговорил по-русски, чем по-немецки, считать представителем рус-ской эмиграции. Хотя современные политические спекуляции ис-ториков позволяют подобные конструкции.
Во-вторых, этнический состав этой эмиграции также повлиялна ее судьбу в смысле возможности стать и интерпретироваться ужеисториками как российская диаспора. В числе российских эмигран-тов в США 41,5% составляли евреи (72,4% прибывших в эту стра-ну евреев). Травма погромов и сильной дискриминации в России, ане только бегство от нищеты обусловили глубокий и длительносохраняющийся отрицательный образ родины, который отчасти со-храняется до сих пор. Интеграция этой части эмигрантов в амери-канское общество (не без проблем и дискриминации вплоть до се-редины XX в.) также обусловила быстрое забывание российско-
2
26
один человек, включая академиков, ни одного дня в своей жизни поэтому принципу не прожил и жить не должен, за исключением осо-бо распропагандированных энтузиастов.
Таким образом, если российские граждане, в том числе и че-ченцы, не побросали свои паспорта (неважно, что они еще совет-ского образца) и не выбирают массовую эмиграцию из страны, зна-чит они принимают свое новое государство, какие бы интерпретациине предлагали от имени народа активисты социального простран-ства. Случившееся государство под названием Российская Федера-ция есть свершившийся факт, и все рассуждения в обратном направ-лении есть плохая услуга этому государству (в морально-полити-ческом плане) и разрыв с реальностью (в научно-академическомсмысле). В равной мере существует и российское согражданство,гораздо более гомогенное, чем в большинстве государств мира.
Другое дело, что есть проблема кризиса и меняющихся иден-тичностей, особенно диалог между прошлой советской и нынеш-ней российской лояльностью, который фиксируют многие этноло-ги и социологи. Однако в последнем мне видится некоторая акаде-мическая форма увеличения проблемы, в методике исследованиякоторой мы не всегда улавливаем элемент заданного самим воп-росником: это своего рода вариант школьного сочинения на задан-ную тему. Наблюдения повседневности не улавливают, чтобы нашиграждане ложились спать (если только они не дождались опроса-пародии в программе «Времечко») и вставали утром с подобнымивопросами или терзали ими своих сослуживцев.
Современная российская антропология должна сделать предме-том своего интереса социально-политическую и сложно-культурнуюобщность россиян. Именно сложная (гибридная) культурная целост-ность, «негомогенное целое» (выражение М.М. Бахтина), а не абст-ракция «межнациональных отношений» и даже не «многокультур-ность» заслуживают настоящего внимания и научной реабилитации.
Антропология власти или феномен«племени на холме»
Жизнь на Кремлевском или на Капитолийском холме – это восновном профессиональное занятие политологов. Однако культур-ный аспект феномена власти не менее важен и интересен. Властькак право и способность определять социальное пространство дру-
47
Диаспору объединяет и сохраняет большее, чем культурная от-личительность. Культура может исчезнуть, а диаспора сохранится.Ибо диаспора как политический проект и жизненная ситуация вы-полняет особую по сравнению с этничностью миссию. Это – поли-тическая миссия служения, сопротивления, борьбы и реванша. Аме-риканские ирландцы в этнокультурном смысле уже давно не большеирландцы, чем остальное население США, дружно празднующееДень Святого Патрика. Но вот по части политического и другого уча-стия по вопросам ситуации в Ольстере, здесь они продолжают вестисебя отчетливо как ирландская диаспора. Именно диаспорные фор-мы поведения демонстрируют российские армяне и азербайджанцыв вопросе о конфликте вокруг Карабаха, хотя в других ситуациях ихдиаспорность носит никак не выраженный характер («Зачем я дол-жен отдавать землю, где покоятся кости моих предков?» – заявилодин известный азербайджанец, проживший всю жизнь в Москве).
Более широкие границы диаспорных коалиций могут строить-ся на основе общего негативного опыта расовой или экономичес-кой маргинализации. Общая история колониальной и неоколони-альной эксплуатации объединяет проживающих во Франции выход-цев из Алжира, Марокко и Туниса и делает их франко-магрибскойдиаспорой. В свое время, в 1970-е гг., можно было наблюдать, как вАнглии мощный наплыв иммигрантов из Южной Азии, афро-ка-рибцев и африканцев заставлял последних выстраивать солидар-ные диаспорные сети на основе неразделенного восприятия этихиммигрантов как «черных» со стороны доминирующего общества.
Итак, что и как производит диаспору, если это не просто им-мигрантская группа в населении той или иной страны? И каковы вэтом аспекте перспективы российской диаспоры? Одним из основ-ных производителей диаспоры является страна-донор, причем непросто в утилитарном смысле как поставщик человеческого мате-риала, хотя последнее обстоятельство носит отправной характер.Нет страны исхода – нет и диаспоры. Однако часто бывает, чтодиаспора старше самой страны, по крайней мере, в пониманиистраны как государственного образования. Пример с российски-ми немцами мною уже приводился. Особенно он распространен вотношении регионов недавнего государствообразования (Азия иАфрика), которые в глобальном масштабе являются основными по-ставщиками мировых, наиболее крупных диаспор. Российская ди-аспора, хотя и одна из самых многочисленных, не может сравнить-
27
гих – это глобальное антропологическое явление. Власть исполня-ет не только важнейшую общественную функцию, но и есть полесоперничества людей за материальные вознаграждения властвова-ния и удовлетворения людьми гедонистических устремлений.Власть ее носителю приятна и полезна; желающих властвовать вобществе всегда гораздо больше, чем желающих быть управляе-мыми. Поэтому негативный смысл слов «рваться к власти» с науч-ной точки зрения бессмыслен, как и вредно пренебрежительноеотношение к власти и к тем, кто у власти. Задача антрополога по-нять и объяснить власть, в т.ч. и для самих властвующих. В этомплане новое российское знание серьезно отстает от потребности, астарое знание этими вопросами фактически и не занималось, ибосоветская власть во многом носила сакральный, а не только про-фанный характер и академическому скальпелю не поддавалась.
Здесь есть целый ряд свежих проблем. Одна из них – это деле-гирование во власть и выход из власти. Нам здесь интересны нестолько правовые нормы и другие механизмы, сколько поведениеособого человеческого материала, вернее мутации человеческогоматериала в системе властных отношений. Открывшийся для бо-лее широкой состязательности и внешней экспертизы феномен вла-сти в России оказался достаточно неожиданной научной задачей ипородил ряд поверхностных взглядов, которые в свою очередь при-вели и к «ошибкам власти». В частности, утвердился и сохраняетсяпостулат «честной» и «нечестной власти», имея в виду, что во властьпопадают жулики и взяточники, и от этого многие российские беды.Число не оправдавших надежд множится с каждой новой сменойкогорты властвующих, и уже это заставляет усомниться в верностиисходной посылки приоритета положительной моральности челове-ка во власти. Не дает ответа на вопрос и рецепт сделать властвую-щих достаточно состоятельными людьми, чтобы они не воровали,хотя действительно нищие политики порождают и нищую политику.
Вопрос честной власти в России – это вопрос прежде всего пра-вил и контроля, а уже потом вопрос моральных внутренних регуля-торов и внешних моральных воздействий. Поскольку власть – этоодна из самых престижных и значимых для общества профессий,рекрутирование во власть происходит трудным и сложным селек-тивным путем. В принципе, как и в племенном обществе, этот про-цесс основан на компетенции, авторитете, силе и богатстве в раз-личных сочетаниях значимости и использования этих факторов. Но
46
скими» за рубежом считались все, кто прибыл из России, в том чис-ле и, конечно, евреи. Это же остается характерным для современ-ного периода. Даже в «ближнем зарубежье», например, в СреднейАзии, украинцы, белорусы, татары в местном восприятии – это «рус-ские». Кстати, для собирательного обозначения большую роль иг-рает и чисто лингвистическая гетероглоссия. Для западного и шире– для внешнего мира понятие Russian Diaspora обозначает не рус-ская, а российская диаспора, то есть это понятие изначально неносит исключительно этнической привязки. Сужение происходитпри обратном неточном переводе на русский язык слова Russian,которое в большинстве случаев должно переводиться как россий-ский. Но дело далеко не в языковой гетероглоссии при формирова-нии ментальных границ диаспоры.
Диаспора часто принимает новую целостность и более гетеро-генную (внеэтническую) идентичность и считает себя таковой попричине как внешнего стереотипа, так и по причине реально суще-ствующей общности по стране происхождения и даже по культуре.При всем идеологически мотивированном скептицизме, homosovieticus – это далеко не химера как форма идентичности в быв-шем СССР, а тем более как форма общей солидарности представи-телей советского народа за границей («все равно все говорим, хотябы между собой, по-русски, а не на иврите или на армянском», ска-зал мне один из советских эмигрантов в Нью-Йорке). В равной меремногоэтничный, более широкий характер носят такие мно-гочисленные диаспоры, которые называются «китайская», «индий-ская», «вьетнамская». Здесь, наоборот, я встретил в Москве торгу-ющих индусов и вьетнамцев, которые общались между собою наанглийском и русском соответственно, ибо их родные языки былиразными. Но в Москве они воспринимаются и ведут себя как инду-сы и вьетнамцы.
Таким образом, диаспорные коалиции основываются преиму-щественно на факторе общей страны происхождения. Так называе-мое национальное государство, а не этническая общность есть клю-чевой момент диаспорообразования. Современная «русская диас-пора» в США происходит из государства, где этничность имелазначение (или просто настойчиво насаждалась), а в стране новогопребывания – уже нет. Здесь для «русских» общие язык, образова-ние, игра КВН становятся объединителями и заставляют забывать,что было записано в пятой графе советского паспорта.
28
те, кто приходят во власть, будучи специфически отборным (и чащевсего лучшим) человеческим материалом, обладают завышеннымизапросами и ожиданиями. Они способны к рациональной самореф-лексии: «я управляю такой богатой страной (краем, отраслью, ком-панией)» или «я так много делаю для страны (республики, народа,института)», что имею право жить лучше и даже богато. Сентен-ция Коржакова в его мемуарах «что же, я так и уйду из Кремлянищим?» является вполне правильной в смысле всеобщего прави-ла. В России это всеобщее правило обрело особые формы привати-зации принадлежавших государству собственности и ресурсов че-рез власть или через приближенность к власти. В народной мета-форе и на языке политической оппозиции этот процесс получилобозначение «разграбление страны» или «ограбление народа».
В значительной мере это оказалось возможным в силу безглас-ности основного населения в эпоху, получившую обозначениеglasnost.
По этой причине усилия антропологов-специалистов по влас-ти, а вместе с ними и более широкой общественности, должны бытьнаправлены не столько на бесполезное морализаторство, сколькона установление пределов обеспечения материальной состоятель-ности властвующих, в том числе в зависимости от материальногоположения самих управляемых. Новая российская власть действу-ет по принципу полезных аналогий и заимствований. Посещая Ка-питолий, российские законодатели видят многочисленный штатпомощников у своих коллег, но не замечают их личные машины(без водителей) на платной парковке у здания парламента. Они хо-тят таких же просторных служебных офисов, но не спрашиваютпро арендуемые или покупаемые конгрессменами квартиры в Ва-шингтоне.
Именно разрушение старых и отсутствие новых правил и об-щественного контроля позволили российским властвующим создатьсимбиоз старых и новых привилегий, которые обрели внешне не-приличный, но, к сожалению, терпимый избирателями и нало-гоплательщиками характер. В этом смысле власть такая, как и мысами, – это наше отражение. Задача экспертного сообщества спо-собствовать выработке ограничителей запросов власти и просве-щать в этом направлении остальное общество.
Властвующие почти всегда составляют горизонтальные корпо-рации или неформальные сети, чтобы через солидарность держать
45
поры, хотя в академическом и политическом просторечии эта кате-гория населения в США называется Spanish. Но тогда – что и поче-му становится диаспорой?
Хорошей разъясняющей антитезой здесь может быть пример скубинской иммиграцией США. Это почти миллионное население собщим доходом, превышающим валовой национальный продуктвсей Кубы, безусловно является кубинской диаспорой. Потому чтооно демонстрирует одну из важнейших характеристик диаспорно-го поведения – активный и политизированный дискурс о родине,который включает идею «возвращения» как на родину, так и тойродины, которую, по их представлению, у них украл Фидель Каст-ро. Вполне возможно, что идея возвращения – это лишь изощрен-ная форма и средство интеграции кубинских иммигрантов в домини-рующем обществе, политики которого уже несколько десятилетийтоже одержимы вернуть старую Кубу. Однако нельзя исключать,что кубинская эмиграция (причем не только в США) ведет себя какдиаспора, ибо через это выражается сопротивление ее прини-женному статусу в новой стране пребывания и, возможно, желаниевернуться жить на родину или вернуть родину как место деловойдеятельности, ностальгических путешествий и родственно-дружес-ких связей.
Во-вторых, очертания каждой конкретной диаспоры и группо-вые этнокультурные границы часто не совпадают, и это не одина-ковые ментальные и пространственные ареалы. Диаспора частобывает многоэтничной и своего рода собирательной (более обоб-щенной) категорией, чем категория иммигрантской группы. Про-исходит это по двум причинам. По причине более дробного вос-приятия культурного многообразия в стране происхождения (инду-сы – это для внешнего мира, а в самой Индии живут не индусы, абихарцы, гуджаратцы и еще около сотни других групп, не говоря орелигиях и кастах) и по причине более обобщенного восприятияинокультурного населения в принимающем обществе (все выгля-дят как индусы или даже азиаты, все выходцы из Испании на Кубе– просто испанцы, а все адыгские народы с Кавказа за рубежамиРоссии – это черкесы).
Одним из таких собирательных и многоэтничных образов явля-ется русская (российская) диаспора, особенно так называемое «даль-нее» зарубежье в отличие от «нового» зарубежья, которое еще тре-бует своего осмысления. На протяжении длительного времени «рус-
29
власть и иногда отправлять непосредственные функции управле-ния. Даже в советское время система номенклатуры держалась нетолько на жестких правилах отбора через партийную и хозяйствен-ную службы, но и через клановые сети, выстраивавшиеся по реги-ональному, профессиональному или этническому принципам. Дажепервое поколение большевиков, пришедших к власти в 1917 г., опи-ралось на солидарность замкнутой группировки лидеров, связан-ных с деятельностью в Кавказском регионе. Позднее неформаль-ные связи строились на основе выпускников партийных школ илисовместной работы, а в период радикальной смены политическогопоколения – и на основе идеологических установок. Эти сети, ихособый язык, символика и ритуал изучаются слабо, хотя их рольчаще важнее институциональных связей, а их сила – выше закона.
Имеется и особая культурная специфика образов российскойвласти и властных иерархических взаимодействий, которая во мно-гом оказалась заимствованной из старой системы статусных приви-легий и символов. Это – градация особых номеров служебных авто-машин, служебных пропусков (вплоть до «вездехода»), количествоохраны, месторасположения дачного дома и т.п. Нецензурная речьи особенно ритуально-рутинное потребление алкоголя – это уже непросто культурологическая, а социально-политическая проблема,выходящая на уровень вопросов национальной безопасности. Фак-тически все решения по Чечне, от самых высших до военно-поле-вых, принимались в состоянии алкогольной интоксикации.
Есть проблема амбиций и самонадеянности власти, также дос-тавшаяся в наследство от периода «слуг народа». Только вместострогой иерархии и культа вождя, за которым было высшее и пос-леднее слово, появились множественные центры власти и многиевожди, каждый из которых узурпировал избирательный механизмдля собственной легитимизации и персональной свободы действий.Особенно это проявилось в заимствовании новых или возрожде-нии старых обозначений для «первых лиц» разного уровня. Так вРоссии появились «президенты» и «губернаторы», чтобы иметь воз-можность сказать: «я и мой народ», как это стал делать одним изпервых президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, а за нимпоследовали и другие.
Если говорить о проблемах политической антропологии в со-временной России, то есть еще ряд важных моментов. Это состоя-ние компетенции правящего корпуса и экспертного обеспечения
44
национальной армии. Тогда американский генерал уже начал бывести себя как представитель диаспоры. Именно так появились аме-риканские пенсионеры и более молодые предприниматели от ди-аспоры в должности президентов и министров ряда постсо-ветских государств или сепаратистских регионов (как, например,американцы и канадцы в должности президентов стран Балтии, иор-данец Юзеф в должности дудаевского министра иностранных делили американец Хованисян в той же должности в Армении).
Механизм и динамика диаспоры
Именно социально конструируемые и реконструируемые содер-жательные образы диаспоры делают ее трудно определимой в смыс-ле границ и членства и в то же время очень динамичным явлением,особенно в современной истории. Диаспоры новейшего времени –это далеко не «сколки с этноса», как полагают некоторые ученые.Это – мощнейшие исторические факторы, способные вызывать ивлиять на события самого высокого порядка (например, войны, конф-ликты, создание или распад государств, опорное культурное произ-водство). Диаспоры – это политика и даже геополитика на протяже-нии всей истории, а в современный период особенно. Не случайноспециальный научный журнал на эту тему называется «Диаспора:журнал транснациональных исследований». Но сначала о механиз-ме и языке диаспоры как одной из форм исторического дискурса.
Поскольку мы проводим различие между понятием «миграция»и понятием «диаспора», многие механизмы анализа и описанияпоследнего явления должны быть также отличными и не ограничи-ваться традиционным интересом к процессам ассимиляции, стату-са и этнокультурного своеобразия. Другими словами, изучение аме-риканских калмыков как иммигрантской группы и взгляд на неекак на диаспору – это два разных ракурса исследования и даже двасхожих, но разных явления. В равной мере, диаспора – это не про-сто этнически или религиозно отличительные группы иммигрант-ского происхождения. Во-первых, не все иммигрантские группыведут себя как диаспора и считаются таковой в восприятии окружа-ющего общества. Едва ли можно назвать диаспорой испано-амери-канцев в США, включая не только потомков жителей к северу отРио-Гранде, но и более «свежих» эмигрантов из Мексики. Явно,что эта группа – не мексиканская и тем более не испанская диас-
30
законодательно-правовых норм и управленческих решений. Этонеобоснованная или цинично политизированная эскалация низо-вой мифологии и несостоятельных доктрин на уровень официаль-ных текстов и деклараций. Это проблема гражданской ответствен-ности властвующих и проблема их «мягкого» выхода из власти.
Поведенческие нормы и духовная жизнь
Традиционное обществоведение анализирует в обычной дихо-томии: власть и народ. Однако общественная либерализация поро-дила нового актора среднего уровня. Под этим понятием я пони-маю слой активистов, политических и этнических предприни-мателей, действующих вне институциональной власти и систем-ных отношений. Это также новое явление со своей культурнойспецификой. Здесь есть явная узурпация коллективной воли тех,от имени которых действуют активисты. Как правило, это лидеры(легитимные и самозванные) групп меньшинств, в том числе эт-нических и религиозных. Достаточно юридически зарегистриро-вать реальную или мифическую организацию под названием «Союзмусульман России» и сразу стать «лидером мусульман» в стране.Современное самозванство (от «академиков» и «человеков года» до«национальных лидеров») – это крайне интересная черта менталь-ных приватизаций российских граждан, которые обнаружили, чтоможно гораздо больше, чем это было долгое время позволено. Кста-ти, этим (в основе своей советским) стремлением к статусности ииерархии довольно ловко пользуются авантюристы-предпринима-тели: за последние годы разные «нью-йоркские академии» и дарите-ли дипломов и званий неплохо заработали на денежных переводахи взносах россиян, посылая им разного рода красиво напечатанныебумажки.
Можно иронизировать или гневаться по поводу того, что наря-ду с «настоящими» появились «ненастоящие» академики, можноревностно оберегать узкий мир официальных привилегий и наград(как заявил Олег Табаков, прижимая врученный Президентом дип-лом, «получали, получаем и будем получать»), но в целом символь-но-статусная сфера российской жизни стала существенно другой.Она лучше прежней, ибо свободнее и разнообразнее. Но это не зна-чит, что нет проблем. Главная проблема – как статус и престиж, атакже ресурсы, условно говоря, внесистемных (имея в виду ста-
43
революции. На прошлое матери я смело мог рассчитывать: оно все-гда оставалось при мне (мать Майкла – канадка английского про-исхождения. – В.Т.). Прошлое же отца для меня значило гораздобольше: это прошлое мне еще предстояло воссоздать, прежде чемоно стало моим». Но далее читаем: «Сам я тоже никогда не изучалрусский язык. Мою неспособность выучить его я объясняю теперьподсознательным сопротивлением прошлому, которое я, казалосьбы, сам для себя выбрал. Предания старины никогда не навязыва-лись мне, так что мой протест был направлен не против отца илиего братьев, а скорее против моего собственного внутреннего вле-чения к этим чудесным историям, против того, что казалось мнепостыдным стремлением устроить свою маленькую жизнь в тениих славы. Я не был уверен, что имею право на протекцию со сторо-ны прошлого, а если и допускал это, то не желал воспользоватьсятакой привилегией. Когда я поделился своими сомнениями с однимиз моих друзей, тот ехидно заметил, что не слыхал, чтобы кто-ни-будь и когда-нибудь отказывался от своих привилегий. Поэтому япользовался своим прошлым всегда, когда это было мне необхо-димо, но всякий раз испытывал при этом чувство вины. Мои друзьяв большинстве своем имели заурядное прошлое, или даже такое, окотором предпочитали не распространяться. Я же имею в роду рядзнаменитостей, убежденных монархистов, переживших несколькореволюций и героическое изгнание (курсив наш. – В.Т.). И все-таки,чем сильнее была моя в них нужда, тем сильнее становилась внут-ренняя потребность от них отречься, чтобы создать себя самому.Выбрать прошлое означало для меня – установить пределы его вла-сти над моей жизнью»4.
В период служения главнокомандующим вооруженных силНАТО в Европе американский генерал грузинского происхожденияникак не желал реагировать на горячие призывы-напоминания состороны Грузии о его принадлежности к грузинской диаспоре, аэто означает, что он ею и не был. Он был просто американцем сдавними грузинскими корнями, о которых ему напоминала толькофамилия (возможно, не всегда в позитивном контексте в процессепродвижения по службе). Уход в отставку от воинских обязаннос-тей и появление досуга для других жизненных проявлений вполнемогли проявить в нем интерес к Грузии, особенно если бы прези-дент Шеварднадзе направил ему приглашение оказать оплачивае-мую (или бескорыстную) консультацию в строительстве грузинской
31
рую систему) акторов сосуществуют с порядком и государственно-стью и насколько они признают последние. Здесь есть проблемаполитически корректных симпатий: почему один «внесистемный»активист с нашитыми на штаны казачьими лампасами получаеткабинет в Кремле и входит в систему, а другого третируют или незамечают. Или же замечают и поддерживают откровенные внешниеманипуляторы, чтобы разрушить легитимный порядок. Ибо имен-но на этом среднем уровне инициируется вызов статусу-кво и дажемассовый выход из правового пространства.
Что касается уровня «масс», то традиционный подход трактуетего как инертный и больше всего страдающий. Здесь произошли неменее глубокие трансформации, которые подтверждают мое наблю-дение, что способность общества к инновациям и модернизациигораздо выше, чем это представляют и замечают ученые, особен-но отслеживающие макроуровни общественного процесса, или эт-нографы «традиционных общин». В стране произошла массоваяприватизация времени и пространства и, отчасти, ресурсов (здеськруг гораздо уже). В последние годы россияне открывают внешниймир, хотя, к сожалению, за счет снижения интереса к собственнойстране. Сейчас ежегодно выезжает за рубеж порядка 10 миллионовчеловек, причем не за государственные 7 долларов в день, как впрошлом, а на свои собственные средства. Такого не могут позво-лить себе бразильцы или мексиканцы, которые, по официальнойстатистике, пребывают с россиянами примерно на одном уровнедостатка.
Российские «народные массы» демонстрируют разительныйпрорыв в культурном производстве, которое и до этого относилоськ числу приоритетных для человека и для государства. Из этой сфе-ры я возьму только образование, науку и высокую культуру. Здесь,пожалуй, сократилось только число дошкольных образовательныхучреждений (у родителей появилось больше возможности воспи-тывать детей дома за счет неработающих матерей). Все школы ивузы функционируют, и престиж образования не снизился, еслисудить по набору студентов и по более богатому выбору образова-тельных институтов. Число вузов с 502 в 1985 г. выросло до 880 в1997 г., а число студентов – с 2,9 до 3,2 млн. за тот же период.
Так называемый «кризис науки», возможно, касается ряда есте-ственных наук и военно-промышленных разработок, но к обще-ственным наукам он имеет отношение только в плане кризиса тео-
42
житель Калифорнии Семен Климсон, «как я увидел это богатство(речь шла об американском лагере для перемещенных лиц. – В.Т.),так и возвращаться из плена в мою разоренную Белоруссию не за-хотелось».
Идеальная родина и политическое отношение к ней могут сильноразличаться, и поэтому «возвращение» понимается как восстанов-ление некой утраченной нормы или приведение в соответствие сидеальным (рассказанным) домом. И отсюда рождается еще однахарактерная черта диаспоры – это убеждение, что ее члены долж-ны коллективно служить сохранению или восстановлению сво-ей первоначальной родины, ее процветанию и безопасности.В ряде случаев именно вера в эту миссию обеспечивает этнооб-щинное сознание и солидарность диаспоры. Фактически отноше-ния в самой диаспоре строятся вокруг «служения родине», без чегонет самой диаспоры.
Далеко не все случаи могут включать описанные характеристи-ки, но именно этот широкий комплекс чувств и веры является оп-ределительной основой диаспоры. Поэтому, если говорить о болеестрогой дефиниции, то, вероятно, наиболее подходящей может бытьне та, которая исходит из объективного набора культурных, демо-графических или политических характеристик, а та, которая стро-ится на понимании феномена как ситуации и как ощущения. Ис-тория и культурная отличительность – это только основа, на кото-рой возникает феномен диаспоры, но сама по себе эта основа неявляется достаточной. Таким образом, диаспора – это культурно-отличительная общность на основе представления об общейродине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи,солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Еслинет подобных характеристик, значит, и нет диаспоры. Другими сло-вами, диаспора – это стиль жизненного поведения, а не жесткаядемографическая и даже этнокультурная реальность, и тем са-мым это явление отличается от остальной рутинной миграции.
В подтверждение своего тезиса, что диаспора – это ситуация иличный выбор (или предписание), приведу несколько примеров.Очень интересная и противоречивая рефлексия прочитывается наэтот счет в книге Майкла Игнатьева: «Я чувствовал, что долженвыбирать одно из двух прошлых, канадское или русское. Экзотикавсегда привлекательнее, и я старался быть сыном своего отца.Я выбрал прошлое исчезнувшее, прошлое, утраченное в пожаре
32
ретико-методологических основ, да и это касается больше на-чального этапа российских трансформаций. Риторика жалоб здесь(и не только здесь) скорее используется, чтобы сохранить государ-ственное обеспечение, действующую систему организации наукии имеющиеся кадровые ресурсы. Это само по себе понятно, но креальному кризису имеет условное отношение. За последние десятьлет Институт этнологии и антропологии РАН произвел научную про-дукцию, в три-четыре раза превышающую продукцию предыдуще-го десятилетия. Такая же ситуация в других гуманитарных инсти-тутах. В обществоведческих арсеналах введено огромное количе-ство новых и забытых имен ученых и осуществлены масштабныепереводческие проекты. Новым и позитивным стала деятельностьдвух государственных научных фондов (РФФИ и РГНФ), через ко-торые получает поддержку лучшая часть научного сообщества.
ПримечаниеОснову данной статьи составляет доклад, прочитанный В.А. Тишковым на IIIКонгрессе этнографов и антропологов России 7–11 июня 1999 г. в г. Москве.
41
полагает, что ее члены не верят в то, что они являются и, воз-можно, никогда не смогут быть полностью принятыми в обще-ство проживания, и по этой причине хотя бы частично чувству-ют свое отчуждение от этого общества. Чувство отчужденностипрежде всего связано с социальными факторами, особенно с диск-риминацией и приниженным статусом представителей той или инойгруппы. Безусловным фактором отчуждения является культурный(прежде всего языковой) барьер, который, кстати, легче и быстреевсего преодолевается. В ряде случаев труднопреодолимый и почтинепроницаемый барьер может создавать фенотипическое (расовое)различие. Но даже успешная социальная интеграция и благоприят-ная (или нейтральная) общественно-политическая среда могут неизбавлять от чувства отчуждения. Иногда, особенно в случае тру-довых (прежде всего аграрных) миграций, отчуждение вызванотрудностями хозяйственной адаптации к новой природной среде,требующей радикальной смены систем жизнеобеспечения и дажеприродно-климатической адаптации. Горы долго снятся тем, комуприходится учиться обрабатывать равнинные пашни, а березки –тем, кто сражается с пыльными бурями в канадских прериях, что-бы спасти свой урожай. И все же последнее проходит быстрее, чемжесткие социальные (расовые тоже в этой же категории) клетки, изкоторых представители диаспор выбираются поколениями, а иног-да и на протяжении всей известной истории.
Именно отсюда рождается еще одна отличительная черта диас-поры – это романтическая (ностальгическая) вера в родинупредков как в подлинный, настоящий (идеальный) дом и мес-то, куда они или их потомки должны рано или поздно возвра-титься. Обычно здесь имеет место довольно драматическая колли-зия. Образование диаспоры связано с травмой миграции (переездвсегда есть жизненно важное решение), и тем более – с трагедиейнасильственного перемещения или исхода. Чаще всего перемеще-ние происходит из менее благополучной социальной среды в болееблагополучные и обустроенные социальные и политические сооб-щества (основным фактором пространственного движения людейостаются на протяжении всей истории прежде всего экономичес-кие соображения). Хотя в отечественной истории XX в. идеологи-ческие и вооруженные коллизии выступали часто на переднем пла-не. Но даже в этих случаях частная социальная стратегия присут-ствовала подспудно. Как сказал мне один из моих информаторов,
33
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕНДИАСПОРЫ*
Слабости традиционного подхода
Наиболее употребляемым современным понятием диаспорыявляется обозначение совокупности населения определенной этни-ческой или религиозной принадлежности, которое проживает в стра-не или районе нового расселения. Однако это хрестоматийное по-нимание, как и более сложные дефиниции, встречающиеся в отече-ственных текстах, являются мало удовлетворительными, ибо стал-киваются с рядом серьезных несоответствий. Первое, это слишкомрасширенное понимание категории диаспора, включающее все слу-чаи крупных человеческих перемещений на транснациональном идаже – на внутригосударственном уровнях во всей исторически обо-зримой перспективе. Другими словами, косовские адыги, румын-ские липоване и русские в США – это безусловная российская внеш-няя диаспора, а московские осетины, чеченцы и ингуши – это внут-ренняя российская диаспора. Московские и ростовские армяне –это бывшая внутренняя, а ныне – внешняя диаспора государстваАрмении в России.
В этом случае под категорию диаспоры подпадают огромныемассы населения, а в случае с Россией – это, возможно, цифра, рав-ная нынешнему населению страны. По крайней мере, если следо-вать логике принятого в 1999 г. Федеральным Собранием РФ Зако-на «О государственной поддержке соотечественников за рубежом»,то это наверняка так, ибо закон определяет «соотечественников»как всех выходцев из Российской Империи, РСФСР, СССР, Россий-ской Федерации и их потомков по нисходящей линии. А это, на-сколько можно предполагать, – около трети населения Израиля иоколо четверти населения США и Канады, не говоря о несколькихмиллионах жителей других государств, даже если не считать насе-_____________* Этнопанорама. 2000. №2. С. 2–12.
40
выученная конструкция, и как любая коллективистская идеологияона авторитарна по отношению к отдельной личности или к каждо-му отдельному члену диаспоры. Ибо в личностном плане пред-ставление о родине у человека – это прежде всего его собственнаяистория, то есть то, что он сам прожил и помнит. Для каждого от-дельного человека родина – это место рождения и взросления. Так,для русского, родившегося и выросшего в Душанбе, родина – эторечка Душанбинка и отчий дом, а не рязанская или тульская дерев-ня, куда ему пришлось ныне переехать и куда ему указывают вы-ученная версия или местные таджики как на историческую родину.И тем не менее он (она) вынужден принимать эту версию и игратьпо навязанным правилам в историческую родину – Россию. Темболее, что часть местных русских, особенно представители стар-шего поколения, действительно приехали в Душанбе или в Нурекиз Рязани или из Тулы, о чем хорошо помнят, и передают эту па-мять своим детям. Таким образом, в диаспоре почти всегда присут-ствует коллективный миф о родине, который транслируется черезустную память или через тексты (литературные и бюрократические)и политическую пропаганду, включая устрашающие лозунги «Че-модан, вокзал, Россия!».
Несмотря на частое расхождение с индивидуальным опытом(чем старше диаспора, тем это расхождение больше), этот коллек-тивный миф постоянно поддерживается, широко разделяется и по-этому может длительно существовать, находя в каждом новом по-колении своих адептов. Причем приверженность ему не зависитстрого от исторической глубины диаспоры: «свежая диаспора» мо-жет отвергать коллективную память и даже индивидуальную исто-рию в пользу других более актуальных установок, но в какой-томомент ее реанимировать в грандиозном масштабе. Даже в случае,казалось бы, вполне очевидной полной ассимиляции всегда могутнайтись культурные предприниматели, которые возьмут на себямиссию возрождения и коллективной мобилизации, и добиться ра-зительных успехов. Почему это происходит? Конечно, не по причи-не некоего «генетического кода» или культурной предопределеннос-ти, а прежде всего по причине рациональных (или иррациональных)стратегий и с инструменталистскими (утилитарными) целями.
И здесь мы подходим еще к одной характеристике феноменадиаспоры, которую я называю фактором доминирующего обществаили среды существования диаспоры. Идеология диаспоры пред-
34
ление Польши и Финляндии, которое формально почти целикомпопадает под эту категорию. Если из общего числа историческихвыходцев из нашей страны и их потомков исключить тех, кто пол-ностью ассимилировался, не владеет языком предков и считает себяфранцузом, аргентинцем, мексиканцем или иорданцем и никакогочувства связи с Россией не испытывает, все равно число «соотече-ственников за рубежом» остается не только крайне большим, но итрудно определимым по неким «объективным» характеристикам,тем более если эти характеристики относятся к сфере самосозна-ния и эмоционального выбора, что тоже следует считать объек-тивными факторами.
Подлинную проблему представляет не сам факт слишком боль-шой численности диаспоры (такую проблему скорее создал длягосударства вышеупомянутый закон, предусматривающий выдачу«удостоверений соотечественников» по всему миру). Диаспорыв их традиционном значении могут превышать население странисхода, и у России в силу ряда исторических обстоятельств сум-марная эмиграция была действительно многочисленной, как и уряда других стран (Индия, Ирландия, Китай, Польша, Филип-пины). Проблема с традиционным определением диаспоры со-стоит в его опоре на объективные факторы самого акта переме-щения человека или его предков из одной страны в другуюи сохранения особого чувства привязанности к «историческойродине».
Вторая слабость общепринятого определения диаспоры состо-ит в том, что оно основывается на перемещении (миграции) людейи исключает другой распространенный случай образования диас-поры – это перемещение государственных границ, в результате чегокультурно родственное население, проживавшее в одной стране,оказывается в двух или в нескольких странах, никуда не перемеща-ясь в пространстве. Так появляется реальность, нагруженная поли-тической метафорой «разделенного народа» как некоей истори-ческой аномалии. И хотя «неразделенных народов» история почтине знает (административные, государственные границы никогда несовпадают с этнокультурными ареалами), эта метафора составляетодин из важных компонентов идеологии этнонационализма, кото-рый исходит из утопического постулата, что этнические и государ-ственные границы должны совпадать в пространстве. Однако этаважная оговорка не отменяет самого факта образования диаспоры
39
распространено в общественно-политическом дискурсе и даже ка-жется самоочевидным. Я же не могу ему дать строгую академичес-кую дефиницию, но признаю как условность и поэтому считаю воз-можным включить в набор характеристик, которые могут обозна-чать или отличать феномен диаспоры. То есть диаспора – это те,кто сам или их предки были рассеяны из особого «изначально-го» центра в другой или другие периферийные или зарубеж-ные регионы. Обычно под «родиной» имеется в виду регионили страна, где сформировался историко-культурный обликдиаспорной группы и где продолжает жить основной культур-но схожий массив. Это своего рода штатная ситуация, но и она приближайшем рассмотрении оказывается сомнительной.
Скорее всего под родиной понимается политическое образова-ние, которое через эпоним или доктрину провозглашает себя роди-ной той или иной культуры при отсутствии других конкурентов.Так, едва ли современная Турция будет оспаривать у Армении пра-во называться исторической родиной армян (хотя у нее может бытьна это право) и по понятным соображениям (геноцид армян) усту-пает это право современной Армении. Зато Греция и Болгария, пополитическим и культурным соображениям, не желают передаватьправо «родины» македонцам – жителям государства с подобнымназванием. Иногда одна и та же территория (Косово и Карабах) счи-тается «исторической родиной» нескольких групп (сербы и албан-цы, армяне и азербайджанцы). Одна и та же группа, в зависимостиот ситуации, может считать «родиной» несколько мест, вернее, го-сударств. Для российских немцев в Казахстане это может быть какГермания, так и Россия. На оба случая есть свои аргументы. Ноглавное – это сам момент ситуативного, то есть определенного вы-бора в определенный-исторический момент.
Диаспора как коллективная памятьи как предписание
Здесь мы подходим к следующей характеристике диаспоры. Этоналичие и поддержание коллективной памяти, представленияили мифа о «первичной родине» («отечестве» и прочее), кото-рые включают географическую локацию, историческую вер-сию, культурные достижения и культурных героев. Представ-ление о родине как коллективная память есть сконструированная и
35
в результате изменения государственных границ. Проблема тольков том, по какую сторону границы появляется диаспора, а по какую– «основная территория проживания». С Россией и с русскими пос-ле распада СССР, казалось бы, все ясно: здесь «диаспора» одно-значно располагается за пределами Российской Федерации. Хотяэта новая (в прошлом ее не было вообще) тоже может быть истори-чески изменчивой, и вариант самостоятельной «балто-славянскос-ти» вполне может заместить нынешнюю пророссийскую иденти-фикацию данной категории русских.
Однако если в трактовке русских в Прибалтике и в других госу-дарствах бывшего СССР как новой российской диаспоры на ны-нешний исторический момент существует высокая степень согла-сия, то уже с осетинами, лезгинами, эвенками (половина послед-них живет в Китае) вопрос обстоит несколько сложнее. Здесь диас-пора – это прежде всего вопрос политического выбора со стороныпредставителей самой группы и вопрос межгосударственных стра-тегий. Хорошо интегрированные и более урбанизированные азер-байджанские лезгины могут не чувствовать себя «российской ди-аспорой» по отношению к дагестанским лезгинам. Зато лишенныетерриториальной автономии и пережившие вооруженный конфликтс грузинами южные осетины сделали выбор в пользу диаспорноговарианта, и этот выбор стимулируется североосетинским обществоми властями данной российской автономии.
В последнее время в отечественной литературе стало встречать-ся понятие «диаспорных народов» применительно к российскимнациональностям, не имеющим «своей» государственности (укра-инцы, греки, цыгане, ассирийцы, корейцы и прочие). В МиннацеРоссии даже появился департамент по делам диаспорных народов,и тем самым академическая новация подкрепилась бюрократичес-кой процедурой. Или же диаспорой стали называть часть нерус-ских граждан страны, проживающих за пределами «своих» рес-публик (осетинская, татарская, чеченская и другие диаспоры).В некоторых республиках принимаются официальные документыи пишутся научные труды по поводу «их» диаспор. Обе последниевариации представляются нам порождением все той же несо-стоятельной доктрины этнонационализма (на советском жаргоне«национально-государственного устройства») и деформированнойпод ее воздействием практики. Сибирские и астраханские татары идаже татары в Башкирии или московские татары – это автохтонные
38
ти, жестким напоминанием было интернирование части американ-цев – гавайцев японского происхождения – вскоре после Перл Хар-бора в декабре 1941 г. К тому времени они уже себя японцами несчитали, а считали «азиато-американцами». Жителям югославско-го Косово албанского происхождения тоже сегодня жестко напом-нили, что они – диаспора, и их родина – Албания, хотя распропаган-дированные радикальными национал-сепаратистами косовары рань-ше были готовы больше считать себя отдельной общностью, кото-рая культурно ближе к сербам, чем к южным албанцам. В случае салбанцами и в ситуации косовского кризиса вообще крайне риско-ванно определять, где есть албанская диаспора на Балканах. Ал-банская диаспора легко определяется в США или в Германии, но вКосово вполне возможен исторический вариант самоопределения(в рамках Югославии или вне ее) уже новой общности – косоваров,ибо последним воссоединяться с бедной «исторической родиной»не очень хочется. А значит, разрабатывать диаспорный проект по-литически невыгодно.
Именно поэтому и чаще всего «родина» – это рациональный(инструменталистский) выбор, а не исторически детерминирован-ное предписание. Понтийские греки в России, эмигрирующие на«историческую родину», – еще один пример достаточно произ-вольного и рационального выбора. Родина появляется, если она неСомали, а сытая Германия и благополучная Греция. Нищая Алба-ния на «родину» не дотягивает, хотя сама Албания всячески стара-ется выступать в подобной роли. Не будь столь циничного исклю-чения русских из гражданства в Латвии и Эстонии, более благо-приятная социальная (и даже климатическая) среда в этих стра-нах по сравнению с нынешней Россией совсем не стимулируетвыбор исторической родины в пользу последней. Более 90% рус-ских жителей в этих странах считают их своей родиной, и частьместных интеллектуалов разрабатывает идею балто-славянской от-личительности. Но стоит России или хотя бы Ивангороду обрестиоблик сытости и благополучия, русские жители Нарвы могут су-щественно поменять свои ориентации, особенно если сохранятсяпрепятствия на пути полноправной интеграции в доминирующееобщество.
Исторические групповые миграции, дрейф самой этническойидентичности3 и подвижность политической лояльности затрудня-ют определение «исторической родины». Однако это понятие крайне
36
жители соответствующих российских регионов, причем обладаю-щие большой культурной отличительностью от казанских татар, иони ничьей диаспорой не являются. Общероссийская лояльность иидентичность вместе с чувством принадлежности к данным локаль-ным группам татар здесь преобладают над ощущением некоей раз-деленности с татарами «основной территории проживания». Хотяв последние годы (как и в более отдаленном прошлом) Казань до-вольно энергично внедряет политический проект «татарской диас-поры» за пределами соответствующей республики. У этого проек-та есть некоторые основания, ибо Татарстан на сегодня – это ос-новной очаг культурного производства татарской культуры, опира-ющейся на автономную государственность. И все же к татарскойдиаспоре будет правильнее относить татар в Литве или в Турции,чем татар в Башкирии или Оренбуржье. Но еще будет правильнеепроследить ощущение и поведение самих татар в этих двух место-нахождениях и только после этого осуществлять категоризацию тойили иной культурно отличительной группы населения как диаспо-ры. Именно эти два аспекта исторической ситуативной и лич-ностной идентификации не учитывает господствующий в оте-чественной науке традиционный (объективистский) подход кфеномену диаспоры.
Главная слабость в интерпретации исторического феноменадиаспоры в современной литературе заключается в эссенсиалист-ской реификации диаспоры как коллективных тел, причем не толь-ко как статистических множеств, но и как культурно-гомогенныхгрупп, чего при более чувствительном анализе установить почтине удается. «Более того, – как пишет автор одного из лучших очер-ков о теории диаспоры, – в разные времена своей истории в обще-ствах диаспоризм может вспыхивать и затухать в зависимости отменяющихся возможностей (установление и снятие преград, ан-тагонизмы и связи) в принимающей стране и на трансгосударствен-ном уровне»1. Мы бы только добавили в пользу историко-ситуа-тивного и личностно-ориентированного подхода к трактовке ди-аспоры не меньшее значение меняющихся возможностей в странеисхода, если таковая есть у диаспоры. Открывшиеся возможнос-ти быстрой «личной удачи» и занятия престижных должностей встранах бывшего СССР пробудили в «дальнем зарубежье» гораз-до больше диаспорности, чем желание послужить «историческойродине».
37
Диаспора и понятие «родины»
Употребление в историографии и других дисциплинах доста-точно условного понятия диаспора предполагает существование ещенескольких сопровождающих категорий, также не менее условных.Это – категория так называемой «родины» для той или иной груп-пы. Один из американских специалистов по проблемам этничнос-ти (Уолкер Коннор) определяет диаспору как «сегмент населения,живущий за пределами родины». Это примерно совпадает и сдоминирующим в отечественной историографии подходом. В оте-чественной этнографии также активно изучаются «сколки с этно-са», как, например, армяне в Москве2. Однако, как мы уже отмеча-ли, подобное слишком широкое обозначение диаспоры неоправдан-но включает все формы иммигрантских общин и фактически неделает различий между иммигрантами, экспатриантами, беженца-ми, гастарбайтерами и даже включает старожильческие и интегри-рованные этнические общины (например, китайцев в Малайзии,индусов на Фиджи, русских липован в Румынии, немцев и греков вРоссии). По нашему мнению, последние не являются диаспорой,как и русские в Украине и Казахстане. А вот российские немцы вГермании – это российская диаспора, а не наоборот. Именно такони себя ощущают ныне в Германии и именно так они воспринима-ются современными немцами (как «русские»).
Огромное разнообразие ситуаций сводится в единую категориюфактически на основе одного признака «исторической родины»,которая в свою очередь не может быть определена более или менеекорректно, и чаще всего это результат инструменталистского, пре-имущественно элитного выбора. То есть российские немцы (вер-нее, общественные активисты и интеллектуалы из их среды) реша-ют о Германии как о своей родине, хотя никогда из нее не уезжали,ибо Германии до 1861 г. не существовало (как не существовало исамих немцев как общности). Это решение обычно носит внутри-групповой характер и отражает в себе определенный утилитарныйсмысл (защита на месте проживания или аргумент в пользу из-бранного места экономической миграции). Но это решение можетбыть и навязано извне, особенно со стороны государства или окру-жающего населения. Таким мощным насильственным «напомина-нием», что у них другая родина, например, для российских немцев,была депортация в период Второй мировой войны. Таким же, кста-
36
жители соответствующих российских регионов, причем обладаю-щие большой культурной отличительностью от казанских татар, иони ничьей диаспорой не являются. Общероссийская лояльность иидентичность вместе с чувством принадлежности к данным локаль-ным группам татар здесь преобладают над ощущением некоей раз-деленности с татарами «основной территории проживания». Хотяв последние годы (как и в более отдаленном прошлом) Казань до-вольно энергично внедряет политический проект «татарской диас-поры» за пределами соответствующей республики. У этого проек-та есть некоторые основания, ибо Татарстан на сегодня – это ос-новной очаг культурного производства татарской культуры, опира-ющейся на автономную государственность. И все же к татарскойдиаспоре будет правильнее относить татар в Литве или в Турции,чем татар в Башкирии или Оренбуржье. Но еще будет правильнеепроследить ощущение и поведение самих татар в этих двух место-нахождениях и только после этого осуществлять категоризацию тойили иной культурно отличительной группы населения как диаспо-ры. Именно эти два аспекта исторической ситуативной и лич-ностной идентификации не учитывает господствующий в оте-чественной науке традиционный (объективистский) подход кфеномену диаспоры.
Главная слабость в интерпретации исторического феноменадиаспоры в современной литературе заключается в эссенсиалист-ской реификации диаспоры как коллективных тел, причем не толь-ко как статистических множеств, но и как культурно-гомогенныхгрупп, чего при более чувствительном анализе установить почтине удается. «Более того, – как пишет автор одного из лучших очер-ков о теории диаспоры, – в разные времена своей истории в обще-ствах диаспоризм может вспыхивать и затухать в зависимости отменяющихся возможностей (установление и снятие преград, ан-тагонизмы и связи) в принимающей стране и на трансгосударствен-ном уровне»1. Мы бы только добавили в пользу историко-ситуа-тивного и личностно-ориентированного подхода к трактовке ди-аспоры не меньшее значение меняющихся возможностей в странеисхода, если таковая есть у диаспоры. Открывшиеся возможнос-ти быстрой «личной удачи» и занятия престижных должностей встранах бывшего СССР пробудили в «дальнем зарубежье» гораз-до больше диаспорности, чем желание послужить «историческойродине».
37
Диаспора и понятие «родины»
Употребление в историографии и других дисциплинах доста-точно условного понятия диаспора предполагает существование ещенескольких сопровождающих категорий, также не менее условных.Это – категория так называемой «родины» для той или иной груп-пы. Один из американских специалистов по проблемам этничнос-ти (Уолкер Коннор) определяет диаспору как «сегмент населения,живущий за пределами родины». Это примерно совпадает и сдоминирующим в отечественной историографии подходом. В оте-чественной этнографии также активно изучаются «сколки с этно-са», как, например, армяне в Москве2. Однако, как мы уже отмеча-ли, подобное слишком широкое обозначение диаспоры неоправдан-но включает все формы иммигрантских общин и фактически неделает различий между иммигрантами, экспатриантами, беженца-ми, гастарбайтерами и даже включает старожильческие и интегри-рованные этнические общины (например, китайцев в Малайзии,индусов на Фиджи, русских липован в Румынии, немцев и греков вРоссии). По нашему мнению, последние не являются диаспорой,как и русские в Украине и Казахстане. А вот российские немцы вГермании – это российская диаспора, а не наоборот. Именно такони себя ощущают ныне в Германии и именно так они воспринима-ются современными немцами (как «русские»).
Огромное разнообразие ситуаций сводится в единую категориюфактически на основе одного признака «исторической родины»,которая в свою очередь не может быть определена более или менеекорректно, и чаще всего это результат инструменталистского, пре-имущественно элитного выбора. То есть российские немцы (вер-нее, общественные активисты и интеллектуалы из их среды) реша-ют о Германии как о своей родине, хотя никогда из нее не уезжали,ибо Германии до 1861 г. не существовало (как не существовало исамих немцев как общности). Это решение обычно носит внутри-групповой характер и отражает в себе определенный утилитарныйсмысл (защита на месте проживания или аргумент в пользу из-бранного места экономической миграции). Но это решение можетбыть и навязано извне, особенно со стороны государства или окру-жающего населения. Таким мощным насильственным «напомина-нием», что у них другая родина, например, для российских немцев,была депортация в период Второй мировой войны. Таким же, кста-
35
в результате изменения государственных границ. Проблема тольков том, по какую сторону границы появляется диаспора, а по какую– «основная территория проживания». С Россией и с русскими пос-ле распада СССР, казалось бы, все ясно: здесь «диаспора» одно-значно располагается за пределами Российской Федерации. Хотяэта новая (в прошлом ее не было вообще) тоже может быть истори-чески изменчивой, и вариант самостоятельной «балто-славянскос-ти» вполне может заместить нынешнюю пророссийскую иденти-фикацию данной категории русских.
Однако если в трактовке русских в Прибалтике и в других госу-дарствах бывшего СССР как новой российской диаспоры на ны-нешний исторический момент существует высокая степень согла-сия, то уже с осетинами, лезгинами, эвенками (половина послед-них живет в Китае) вопрос обстоит несколько сложнее. Здесь диас-пора – это прежде всего вопрос политического выбора со стороныпредставителей самой группы и вопрос межгосударственных стра-тегий. Хорошо интегрированные и более урбанизированные азер-байджанские лезгины могут не чувствовать себя «российской ди-аспорой» по отношению к дагестанским лезгинам. Зато лишенныетерриториальной автономии и пережившие вооруженный конфликтс грузинами южные осетины сделали выбор в пользу диаспорноговарианта, и этот выбор стимулируется североосетинским обществоми властями данной российской автономии.
В последнее время в отечественной литературе стало встречать-ся понятие «диаспорных народов» применительно к российскимнациональностям, не имеющим «своей» государственности (укра-инцы, греки, цыгане, ассирийцы, корейцы и прочие). В МиннацеРоссии даже появился департамент по делам диаспорных народов,и тем самым академическая новация подкрепилась бюрократичес-кой процедурой. Или же диаспорой стали называть часть нерус-ских граждан страны, проживающих за пределами «своих» рес-публик (осетинская, татарская, чеченская и другие диаспоры).В некоторых республиках принимаются официальные документыи пишутся научные труды по поводу «их» диаспор. Обе последниевариации представляются нам порождением все той же несо-стоятельной доктрины этнонационализма (на советском жаргоне«национально-государственного устройства») и деформированнойпод ее воздействием практики. Сибирские и астраханские татары идаже татары в Башкирии или московские татары – это автохтонные
38
ти, жестким напоминанием было интернирование части американ-цев – гавайцев японского происхождения – вскоре после Перл Хар-бора в декабре 1941 г. К тому времени они уже себя японцами несчитали, а считали «азиато-американцами». Жителям югославско-го Косово албанского происхождения тоже сегодня жестко напом-нили, что они – диаспора, и их родина – Албания, хотя распропаган-дированные радикальными национал-сепаратистами косовары рань-ше были готовы больше считать себя отдельной общностью, кото-рая культурно ближе к сербам, чем к южным албанцам. В случае салбанцами и в ситуации косовского кризиса вообще крайне риско-ванно определять, где есть албанская диаспора на Балканах. Ал-банская диаспора легко определяется в США или в Германии, но вКосово вполне возможен исторический вариант самоопределения(в рамках Югославии или вне ее) уже новой общности – косоваров,ибо последним воссоединяться с бедной «исторической родиной»не очень хочется. А значит, разрабатывать диаспорный проект по-литически невыгодно.
Именно поэтому и чаще всего «родина» – это рациональный(инструменталистский) выбор, а не исторически детерминирован-ное предписание. Понтийские греки в России, эмигрирующие на«историческую родину», – еще один пример достаточно произ-вольного и рационального выбора. Родина появляется, если она неСомали, а сытая Германия и благополучная Греция. Нищая Алба-ния на «родину» не дотягивает, хотя сама Албания всячески стара-ется выступать в подобной роли. Не будь столь циничного исклю-чения русских из гражданства в Латвии и Эстонии, более благо-приятная социальная (и даже климатическая) среда в этих стра-нах по сравнению с нынешней Россией совсем не стимулируетвыбор исторической родины в пользу последней. Более 90% рус-ских жителей в этих странах считают их своей родиной, и частьместных интеллектуалов разрабатывает идею балто-славянской от-личительности. Но стоит России или хотя бы Ивангороду обрестиоблик сытости и благополучия, русские жители Нарвы могут су-щественно поменять свои ориентации, особенно если сохранятсяпрепятствия на пути полноправной интеграции в доминирующееобщество.
Исторические групповые миграции, дрейф самой этническойидентичности3 и подвижность политической лояльности затрудня-ют определение «исторической родины». Однако это понятие крайне
34
ление Польши и Финляндии, которое формально почти целикомпопадает под эту категорию. Если из общего числа историческихвыходцев из нашей страны и их потомков исключить тех, кто пол-ностью ассимилировался, не владеет языком предков и считает себяфранцузом, аргентинцем, мексиканцем или иорданцем и никакогочувства связи с Россией не испытывает, все равно число «соотече-ственников за рубежом» остается не только крайне большим, но итрудно определимым по неким «объективным» характеристикам,тем более если эти характеристики относятся к сфере самосозна-ния и эмоционального выбора, что тоже следует считать объек-тивными факторами.
Подлинную проблему представляет не сам факт слишком боль-шой численности диаспоры (такую проблему скорее создал длягосударства вышеупомянутый закон, предусматривающий выдачу«удостоверений соотечественников» по всему миру). Диаспорыв их традиционном значении могут превышать население странисхода, и у России в силу ряда исторических обстоятельств сум-марная эмиграция была действительно многочисленной, как и уряда других стран (Индия, Ирландия, Китай, Польша, Филип-пины). Проблема с традиционным определением диаспоры со-стоит в его опоре на объективные факторы самого акта переме-щения человека или его предков из одной страны в другуюи сохранения особого чувства привязанности к «историческойродине».
Вторая слабость общепринятого определения диаспоры состо-ит в том, что оно основывается на перемещении (миграции) людейи исключает другой распространенный случай образования диас-поры – это перемещение государственных границ, в результате чегокультурно родственное население, проживавшее в одной стране,оказывается в двух или в нескольких странах, никуда не перемеща-ясь в пространстве. Так появляется реальность, нагруженная поли-тической метафорой «разделенного народа» как некоей истори-ческой аномалии. И хотя «неразделенных народов» история почтине знает (административные, государственные границы никогда несовпадают с этнокультурными ареалами), эта метафора составляетодин из важных компонентов идеологии этнонационализма, кото-рый исходит из утопического постулата, что этнические и государ-ственные границы должны совпадать в пространстве. Однако этаважная оговорка не отменяет самого факта образования диаспоры
39
распространено в общественно-политическом дискурсе и даже ка-жется самоочевидным. Я же не могу ему дать строгую академичес-кую дефиницию, но признаю как условность и поэтому считаю воз-можным включить в набор характеристик, которые могут обозна-чать или отличать феномен диаспоры. То есть диаспора – это те,кто сам или их предки были рассеяны из особого «изначально-го» центра в другой или другие периферийные или зарубеж-ные регионы. Обычно под «родиной» имеется в виду регионили страна, где сформировался историко-культурный обликдиаспорной группы и где продолжает жить основной культур-но схожий массив. Это своего рода штатная ситуация, но и она приближайшем рассмотрении оказывается сомнительной.
Скорее всего под родиной понимается политическое образова-ние, которое через эпоним или доктрину провозглашает себя роди-ной той или иной культуры при отсутствии других конкурентов.Так, едва ли современная Турция будет оспаривать у Армении пра-во называться исторической родиной армян (хотя у нее может бытьна это право) и по понятным соображениям (геноцид армян) усту-пает это право современной Армении. Зато Греция и Болгария, пополитическим и культурным соображениям, не желают передаватьправо «родины» македонцам – жителям государства с подобнымназванием. Иногда одна и та же территория (Косово и Карабах) счи-тается «исторической родиной» нескольких групп (сербы и албан-цы, армяне и азербайджанцы). Одна и та же группа, в зависимостиот ситуации, может считать «родиной» несколько мест, вернее, го-сударств. Для российских немцев в Казахстане это может быть какГермания, так и Россия. На оба случая есть свои аргументы. Ноглавное – это сам момент ситуативного, то есть определенного вы-бора в определенный-исторический момент.
Диаспора как коллективная памятьи как предписание
Здесь мы подходим к следующей характеристике диаспоры. Этоналичие и поддержание коллективной памяти, представленияили мифа о «первичной родине» («отечестве» и прочее), кото-рые включают географическую локацию, историческую вер-сию, культурные достижения и культурных героев. Представ-ление о родине как коллективная память есть сконструированная и
33
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕНДИАСПОРЫ*
Слабости традиционного подхода
Наиболее употребляемым современным понятием диаспорыявляется обозначение совокупности населения определенной этни-ческой или религиозной принадлежности, которое проживает в стра-не или районе нового расселения. Однако это хрестоматийное по-нимание, как и более сложные дефиниции, встречающиеся в отече-ственных текстах, являются мало удовлетворительными, ибо стал-киваются с рядом серьезных несоответствий. Первое, это слишкомрасширенное понимание категории диаспора, включающее все слу-чаи крупных человеческих перемещений на транснациональном идаже – на внутригосударственном уровнях во всей исторически обо-зримой перспективе. Другими словами, косовские адыги, румын-ские липоване и русские в США – это безусловная российская внеш-няя диаспора, а московские осетины, чеченцы и ингуши – это внут-ренняя российская диаспора. Московские и ростовские армяне –это бывшая внутренняя, а ныне – внешняя диаспора государстваАрмении в России.
В этом случае под категорию диаспоры подпадают огромныемассы населения, а в случае с Россией – это, возможно, цифра, рав-ная нынешнему населению страны. По крайней мере, если следо-вать логике принятого в 1999 г. Федеральным Собранием РФ Зако-на «О государственной поддержке соотечественников за рубежом»,то это наверняка так, ибо закон определяет «соотечественников»как всех выходцев из Российской Империи, РСФСР, СССР, Россий-ской Федерации и их потомков по нисходящей линии. А это, на-сколько можно предполагать, – около трети населения Израиля иоколо четверти населения США и Канады, не говоря о несколькихмиллионах жителей других государств, даже если не считать насе-_____________* Этнопанорама. 2000. №2. С. 2–12.
40
выученная конструкция, и как любая коллективистская идеологияона авторитарна по отношению к отдельной личности или к каждо-му отдельному члену диаспоры. Ибо в личностном плане пред-ставление о родине у человека – это прежде всего его собственнаяистория, то есть то, что он сам прожил и помнит. Для каждого от-дельного человека родина – это место рождения и взросления. Так,для русского, родившегося и выросшего в Душанбе, родина – эторечка Душанбинка и отчий дом, а не рязанская или тульская дерев-ня, куда ему пришлось ныне переехать и куда ему указывают вы-ученная версия или местные таджики как на историческую родину.И тем не менее он (она) вынужден принимать эту версию и игратьпо навязанным правилам в историческую родину – Россию. Темболее, что часть местных русских, особенно представители стар-шего поколения, действительно приехали в Душанбе или в Нурекиз Рязани или из Тулы, о чем хорошо помнят, и передают эту па-мять своим детям. Таким образом, в диаспоре почти всегда присут-ствует коллективный миф о родине, который транслируется черезустную память или через тексты (литературные и бюрократические)и политическую пропаганду, включая устрашающие лозунги «Че-модан, вокзал, Россия!».
Несмотря на частое расхождение с индивидуальным опытом(чем старше диаспора, тем это расхождение больше), этот коллек-тивный миф постоянно поддерживается, широко разделяется и по-этому может длительно существовать, находя в каждом новом по-колении своих адептов. Причем приверженность ему не зависитстрого от исторической глубины диаспоры: «свежая диаспора» мо-жет отвергать коллективную память и даже индивидуальную исто-рию в пользу других более актуальных установок, но в какой-томомент ее реанимировать в грандиозном масштабе. Даже в случае,казалось бы, вполне очевидной полной ассимиляции всегда могутнайтись культурные предприниматели, которые возьмут на себямиссию возрождения и коллективной мобилизации, и добиться ра-зительных успехов. Почему это происходит? Конечно, не по причи-не некоего «генетического кода» или культурной предопределеннос-ти, а прежде всего по причине рациональных (или иррациональных)стратегий и с инструменталистскими (утилитарными) целями.
И здесь мы подходим еще к одной характеристике феноменадиаспоры, которую я называю фактором доминирующего обществаили среды существования диаспоры. Идеология диаспоры пред-
32
ретико-методологических основ, да и это касается больше на-чального этапа российских трансформаций. Риторика жалоб здесь(и не только здесь) скорее используется, чтобы сохранить государ-ственное обеспечение, действующую систему организации наукии имеющиеся кадровые ресурсы. Это само по себе понятно, но креальному кризису имеет условное отношение. За последние десятьлет Институт этнологии и антропологии РАН произвел научную про-дукцию, в три-четыре раза превышающую продукцию предыдуще-го десятилетия. Такая же ситуация в других гуманитарных инсти-тутах. В обществоведческих арсеналах введено огромное количе-ство новых и забытых имен ученых и осуществлены масштабныепереводческие проекты. Новым и позитивным стала деятельностьдвух государственных научных фондов (РФФИ и РГНФ), через ко-торые получает поддержку лучшая часть научного сообщества.
ПримечаниеОснову данной статьи составляет доклад, прочитанный В.А. Тишковым на IIIКонгрессе этнографов и антропологов России 7–11 июня 1999 г. в г. Москве.
41
полагает, что ее члены не верят в то, что они являются и, воз-можно, никогда не смогут быть полностью принятыми в обще-ство проживания, и по этой причине хотя бы частично чувству-ют свое отчуждение от этого общества. Чувство отчужденностипрежде всего связано с социальными факторами, особенно с диск-риминацией и приниженным статусом представителей той или инойгруппы. Безусловным фактором отчуждения является культурный(прежде всего языковой) барьер, который, кстати, легче и быстреевсего преодолевается. В ряде случаев труднопреодолимый и почтинепроницаемый барьер может создавать фенотипическое (расовое)различие. Но даже успешная социальная интеграция и благоприят-ная (или нейтральная) общественно-политическая среда могут неизбавлять от чувства отчуждения. Иногда, особенно в случае тру-довых (прежде всего аграрных) миграций, отчуждение вызванотрудностями хозяйственной адаптации к новой природной среде,требующей радикальной смены систем жизнеобеспечения и дажеприродно-климатической адаптации. Горы долго снятся тем, комуприходится учиться обрабатывать равнинные пашни, а березки –тем, кто сражается с пыльными бурями в канадских прериях, что-бы спасти свой урожай. И все же последнее проходит быстрее, чемжесткие социальные (расовые тоже в этой же категории) клетки, изкоторых представители диаспор выбираются поколениями, а иног-да и на протяжении всей известной истории.
Именно отсюда рождается еще одна отличительная черта диас-поры – это романтическая (ностальгическая) вера в родинупредков как в подлинный, настоящий (идеальный) дом и мес-то, куда они или их потомки должны рано или поздно возвра-титься. Обычно здесь имеет место довольно драматическая колли-зия. Образование диаспоры связано с травмой миграции (переездвсегда есть жизненно важное решение), и тем более – с трагедиейнасильственного перемещения или исхода. Чаще всего перемеще-ние происходит из менее благополучной социальной среды в болееблагополучные и обустроенные социальные и политические сооб-щества (основным фактором пространственного движения людейостаются на протяжении всей истории прежде всего экономичес-кие соображения). Хотя в отечественной истории XX в. идеологи-ческие и вооруженные коллизии выступали часто на переднем пла-не. Но даже в этих случаях частная социальная стратегия присут-ствовала подспудно. Как сказал мне один из моих информаторов,
31
рую систему) акторов сосуществуют с порядком и государственно-стью и насколько они признают последние. Здесь есть проблемаполитически корректных симпатий: почему один «внесистемный»активист с нашитыми на штаны казачьими лампасами получаеткабинет в Кремле и входит в систему, а другого третируют или незамечают. Или же замечают и поддерживают откровенные внешниеманипуляторы, чтобы разрушить легитимный порядок. Ибо имен-но на этом среднем уровне инициируется вызов статусу-кво и дажемассовый выход из правового пространства.
Что касается уровня «масс», то традиционный подход трактуетего как инертный и больше всего страдающий. Здесь произошли неменее глубокие трансформации, которые подтверждают мое наблю-дение, что способность общества к инновациям и модернизациигораздо выше, чем это представляют и замечают ученые, особен-но отслеживающие макроуровни общественного процесса, или эт-нографы «традиционных общин». В стране произошла массоваяприватизация времени и пространства и, отчасти, ресурсов (здеськруг гораздо уже). В последние годы россияне открывают внешниймир, хотя, к сожалению, за счет снижения интереса к собственнойстране. Сейчас ежегодно выезжает за рубеж порядка 10 миллионовчеловек, причем не за государственные 7 долларов в день, как впрошлом, а на свои собственные средства. Такого не могут позво-лить себе бразильцы или мексиканцы, которые, по официальнойстатистике, пребывают с россиянами примерно на одном уровнедостатка.
Российские «народные массы» демонстрируют разительныйпрорыв в культурном производстве, которое и до этого относилоськ числу приоритетных для человека и для государства. Из этой сфе-ры я возьму только образование, науку и высокую культуру. Здесь,пожалуй, сократилось только число дошкольных образовательныхучреждений (у родителей появилось больше возможности воспи-тывать детей дома за счет неработающих матерей). Все школы ивузы функционируют, и престиж образования не снизился, еслисудить по набору студентов и по более богатому выбору образова-тельных институтов. Число вузов с 502 в 1985 г. выросло до 880 в1997 г., а число студентов – с 2,9 до 3,2 млн. за тот же период.
Так называемый «кризис науки», возможно, касается ряда есте-ственных наук и военно-промышленных разработок, но к обще-ственным наукам он имеет отношение только в плане кризиса тео-
42
житель Калифорнии Семен Климсон, «как я увидел это богатство(речь шла об американском лагере для перемещенных лиц. – В.Т.),так и возвращаться из плена в мою разоренную Белоруссию не за-хотелось».
Идеальная родина и политическое отношение к ней могут сильноразличаться, и поэтому «возвращение» понимается как восстанов-ление некой утраченной нормы или приведение в соответствие сидеальным (рассказанным) домом. И отсюда рождается еще однахарактерная черта диаспоры – это убеждение, что ее члены долж-ны коллективно служить сохранению или восстановлению сво-ей первоначальной родины, ее процветанию и безопасности.В ряде случаев именно вера в эту миссию обеспечивает этнооб-щинное сознание и солидарность диаспоры. Фактически отноше-ния в самой диаспоре строятся вокруг «служения родине», без чегонет самой диаспоры.
Далеко не все случаи могут включать описанные характеристи-ки, но именно этот широкий комплекс чувств и веры является оп-ределительной основой диаспоры. Поэтому, если говорить о болеестрогой дефиниции, то, вероятно, наиболее подходящей может бытьне та, которая исходит из объективного набора культурных, демо-графических или политических характеристик, а та, которая стро-ится на понимании феномена как ситуации и как ощущения. Ис-тория и культурная отличительность – это только основа, на кото-рой возникает феномен диаспоры, но сама по себе эта основа неявляется достаточной. Таким образом, диаспора – это культурно-отличительная общность на основе представления об общейродине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи,солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Еслинет подобных характеристик, значит, и нет диаспоры. Другими сло-вами, диаспора – это стиль жизненного поведения, а не жесткаядемографическая и даже этнокультурная реальность, и тем са-мым это явление отличается от остальной рутинной миграции.
В подтверждение своего тезиса, что диаспора – это ситуация иличный выбор (или предписание), приведу несколько примеров.Очень интересная и противоречивая рефлексия прочитывается наэтот счет в книге Майкла Игнатьева: «Я чувствовал, что долженвыбирать одно из двух прошлых, канадское или русское. Экзотикавсегда привлекательнее, и я старался быть сыном своего отца.Я выбрал прошлое исчезнувшее, прошлое, утраченное в пожаре
30
законодательно-правовых норм и управленческих решений. Этонеобоснованная или цинично политизированная эскалация низо-вой мифологии и несостоятельных доктрин на уровень официаль-ных текстов и деклараций. Это проблема гражданской ответствен-ности властвующих и проблема их «мягкого» выхода из власти.
Поведенческие нормы и духовная жизнь
Традиционное обществоведение анализирует в обычной дихо-томии: власть и народ. Однако общественная либерализация поро-дила нового актора среднего уровня. Под этим понятием я пони-маю слой активистов, политических и этнических предприни-мателей, действующих вне институциональной власти и систем-ных отношений. Это также новое явление со своей культурнойспецификой. Здесь есть явная узурпация коллективной воли тех,от имени которых действуют активисты. Как правило, это лидеры(легитимные и самозванные) групп меньшинств, в том числе эт-нических и религиозных. Достаточно юридически зарегистриро-вать реальную или мифическую организацию под названием «Союзмусульман России» и сразу стать «лидером мусульман» в стране.Современное самозванство (от «академиков» и «человеков года» до«национальных лидеров») – это крайне интересная черта менталь-ных приватизаций российских граждан, которые обнаружили, чтоможно гораздо больше, чем это было долгое время позволено. Кста-ти, этим (в основе своей советским) стремлением к статусности ииерархии довольно ловко пользуются авантюристы-предпринима-тели: за последние годы разные «нью-йоркские академии» и дарите-ли дипломов и званий неплохо заработали на денежных переводахи взносах россиян, посылая им разного рода красиво напечатанныебумажки.
Можно иронизировать или гневаться по поводу того, что наря-ду с «настоящими» появились «ненастоящие» академики, можноревностно оберегать узкий мир официальных привилегий и наград(как заявил Олег Табаков, прижимая врученный Президентом дип-лом, «получали, получаем и будем получать»), но в целом символь-но-статусная сфера российской жизни стала существенно другой.Она лучше прежней, ибо свободнее и разнообразнее. Но это не зна-чит, что нет проблем. Главная проблема – как статус и престиж, атакже ресурсы, условно говоря, внесистемных (имея в виду ста-
43
революции. На прошлое матери я смело мог рассчитывать: оно все-гда оставалось при мне (мать Майкла – канадка английского про-исхождения. – В.Т.). Прошлое же отца для меня значило гораздобольше: это прошлое мне еще предстояло воссоздать, прежде чемоно стало моим». Но далее читаем: «Сам я тоже никогда не изучалрусский язык. Мою неспособность выучить его я объясняю теперьподсознательным сопротивлением прошлому, которое я, казалосьбы, сам для себя выбрал. Предания старины никогда не навязыва-лись мне, так что мой протест был направлен не против отца илиего братьев, а скорее против моего собственного внутреннего вле-чения к этим чудесным историям, против того, что казалось мнепостыдным стремлением устроить свою маленькую жизнь в тениих славы. Я не был уверен, что имею право на протекцию со сторо-ны прошлого, а если и допускал это, то не желал воспользоватьсятакой привилегией. Когда я поделился своими сомнениями с однимиз моих друзей, тот ехидно заметил, что не слыхал, чтобы кто-ни-будь и когда-нибудь отказывался от своих привилегий. Поэтому япользовался своим прошлым всегда, когда это было мне необхо-димо, но всякий раз испытывал при этом чувство вины. Мои друзьяв большинстве своем имели заурядное прошлое, или даже такое, окотором предпочитали не распространяться. Я же имею в роду рядзнаменитостей, убежденных монархистов, переживших несколькореволюций и героическое изгнание (курсив наш. – В.Т.). И все-таки,чем сильнее была моя в них нужда, тем сильнее становилась внут-ренняя потребность от них отречься, чтобы создать себя самому.Выбрать прошлое означало для меня – установить пределы его вла-сти над моей жизнью»4.
В период служения главнокомандующим вооруженных силНАТО в Европе американский генерал грузинского происхожденияникак не желал реагировать на горячие призывы-напоминания состороны Грузии о его принадлежности к грузинской диаспоре, аэто означает, что он ею и не был. Он был просто американцем сдавними грузинскими корнями, о которых ему напоминала толькофамилия (возможно, не всегда в позитивном контексте в процессепродвижения по службе). Уход в отставку от воинских обязаннос-тей и появление досуга для других жизненных проявлений вполнемогли проявить в нем интерес к Грузии, особенно если бы прези-дент Шеварднадзе направил ему приглашение оказать оплачивае-мую (или бескорыстную) консультацию в строительстве грузинской
29
власть и иногда отправлять непосредственные функции управле-ния. Даже в советское время система номенклатуры держалась нетолько на жестких правилах отбора через партийную и хозяйствен-ную службы, но и через клановые сети, выстраивавшиеся по реги-ональному, профессиональному или этническому принципам. Дажепервое поколение большевиков, пришедших к власти в 1917 г., опи-ралось на солидарность замкнутой группировки лидеров, связан-ных с деятельностью в Кавказском регионе. Позднее неформаль-ные связи строились на основе выпускников партийных школ илисовместной работы, а в период радикальной смены политическогопоколения – и на основе идеологических установок. Эти сети, ихособый язык, символика и ритуал изучаются слабо, хотя их рольчаще важнее институциональных связей, а их сила – выше закона.
Имеется и особая культурная специфика образов российскойвласти и властных иерархических взаимодействий, которая во мно-гом оказалась заимствованной из старой системы статусных приви-легий и символов. Это – градация особых номеров служебных авто-машин, служебных пропусков (вплоть до «вездехода»), количествоохраны, месторасположения дачного дома и т.п. Нецензурная речьи особенно ритуально-рутинное потребление алкоголя – это уже непросто культурологическая, а социально-политическая проблема,выходящая на уровень вопросов национальной безопасности. Фак-тически все решения по Чечне, от самых высших до военно-поле-вых, принимались в состоянии алкогольной интоксикации.
Есть проблема амбиций и самонадеянности власти, также дос-тавшаяся в наследство от периода «слуг народа». Только вместострогой иерархии и культа вождя, за которым было высшее и пос-леднее слово, появились множественные центры власти и многиевожди, каждый из которых узурпировал избирательный механизмдля собственной легитимизации и персональной свободы действий.Особенно это проявилось в заимствовании новых или возрожде-нии старых обозначений для «первых лиц» разного уровня. Так вРоссии появились «президенты» и «губернаторы», чтобы иметь воз-можность сказать: «я и мой народ», как это стал делать одним изпервых президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, а за нимпоследовали и другие.
Если говорить о проблемах политической антропологии в со-временной России, то есть еще ряд важных моментов. Это состоя-ние компетенции правящего корпуса и экспертного обеспечения
44
национальной армии. Тогда американский генерал уже начал бывести себя как представитель диаспоры. Именно так появились аме-риканские пенсионеры и более молодые предприниматели от ди-аспоры в должности президентов и министров ряда постсо-ветских государств или сепаратистских регионов (как, например,американцы и канадцы в должности президентов стран Балтии, иор-данец Юзеф в должности дудаевского министра иностранных делили американец Хованисян в той же должности в Армении).
Механизм и динамика диаспоры
Именно социально конструируемые и реконструируемые содер-жательные образы диаспоры делают ее трудно определимой в смыс-ле границ и членства и в то же время очень динамичным явлением,особенно в современной истории. Диаспоры новейшего времени –это далеко не «сколки с этноса», как полагают некоторые ученые.Это – мощнейшие исторические факторы, способные вызывать ивлиять на события самого высокого порядка (например, войны, конф-ликты, создание или распад государств, опорное культурное произ-водство). Диаспоры – это политика и даже геополитика на протяже-нии всей истории, а в современный период особенно. Не случайноспециальный научный журнал на эту тему называется «Диаспора:журнал транснациональных исследований». Но сначала о механиз-ме и языке диаспоры как одной из форм исторического дискурса.
Поскольку мы проводим различие между понятием «миграция»и понятием «диаспора», многие механизмы анализа и описанияпоследнего явления должны быть также отличными и не ограничи-ваться традиционным интересом к процессам ассимиляции, стату-са и этнокультурного своеобразия. Другими словами, изучение аме-риканских калмыков как иммигрантской группы и взгляд на неекак на диаспору – это два разных ракурса исследования и даже двасхожих, но разных явления. В равной мере, диаспора – это не про-сто этнически или религиозно отличительные группы иммигрант-ского происхождения. Во-первых, не все иммигрантские группыведут себя как диаспора и считаются таковой в восприятии окружа-ющего общества. Едва ли можно назвать диаспорой испано-амери-канцев в США, включая не только потомков жителей к северу отРио-Гранде, но и более «свежих» эмигрантов из Мексики. Явно,что эта группа – не мексиканская и тем более не испанская диас-
28
те, кто приходят во власть, будучи специфически отборным (и чащевсего лучшим) человеческим материалом, обладают завышеннымизапросами и ожиданиями. Они способны к рациональной самореф-лексии: «я управляю такой богатой страной (краем, отраслью, ком-панией)» или «я так много делаю для страны (республики, народа,института)», что имею право жить лучше и даже богато. Сентен-ция Коржакова в его мемуарах «что же, я так и уйду из Кремлянищим?» является вполне правильной в смысле всеобщего прави-ла. В России это всеобщее правило обрело особые формы привати-зации принадлежавших государству собственности и ресурсов че-рез власть или через приближенность к власти. В народной мета-форе и на языке политической оппозиции этот процесс получилобозначение «разграбление страны» или «ограбление народа».
В значительной мере это оказалось возможным в силу безглас-ности основного населения в эпоху, получившую обозначениеglasnost.
По этой причине усилия антропологов-специалистов по влас-ти, а вместе с ними и более широкой общественности, должны бытьнаправлены не столько на бесполезное морализаторство, сколькона установление пределов обеспечения материальной состоятель-ности властвующих, в том числе в зависимости от материальногоположения самих управляемых. Новая российская власть действу-ет по принципу полезных аналогий и заимствований. Посещая Ка-питолий, российские законодатели видят многочисленный штатпомощников у своих коллег, но не замечают их личные машины(без водителей) на платной парковке у здания парламента. Они хо-тят таких же просторных служебных офисов, но не спрашиваютпро арендуемые или покупаемые конгрессменами квартиры в Ва-шингтоне.
Именно разрушение старых и отсутствие новых правил и об-щественного контроля позволили российским властвующим создатьсимбиоз старых и новых привилегий, которые обрели внешне не-приличный, но, к сожалению, терпимый избирателями и нало-гоплательщиками характер. В этом смысле власть такая, как и мысами, – это наше отражение. Задача экспертного сообщества спо-собствовать выработке ограничителей запросов власти и просве-щать в этом направлении остальное общество.
Властвующие почти всегда составляют горизонтальные корпо-рации или неформальные сети, чтобы через солидарность держать
45
поры, хотя в академическом и политическом просторечии эта кате-гория населения в США называется Spanish. Но тогда – что и поче-му становится диаспорой?
Хорошей разъясняющей антитезой здесь может быть пример скубинской иммиграцией США. Это почти миллионное население собщим доходом, превышающим валовой национальный продуктвсей Кубы, безусловно является кубинской диаспорой. Потому чтооно демонстрирует одну из важнейших характеристик диаспорно-го поведения – активный и политизированный дискурс о родине,который включает идею «возвращения» как на родину, так и тойродины, которую, по их представлению, у них украл Фидель Каст-ро. Вполне возможно, что идея возвращения – это лишь изощрен-ная форма и средство интеграции кубинских иммигрантов в домини-рующем обществе, политики которого уже несколько десятилетийтоже одержимы вернуть старую Кубу. Однако нельзя исключать,что кубинская эмиграция (причем не только в США) ведет себя какдиаспора, ибо через это выражается сопротивление ее прини-женному статусу в новой стране пребывания и, возможно, желаниевернуться жить на родину или вернуть родину как место деловойдеятельности, ностальгических путешествий и родственно-дружес-ких связей.
Во-вторых, очертания каждой конкретной диаспоры и группо-вые этнокультурные границы часто не совпадают, и это не одина-ковые ментальные и пространственные ареалы. Диаспора частобывает многоэтничной и своего рода собирательной (более обоб-щенной) категорией, чем категория иммигрантской группы. Про-исходит это по двум причинам. По причине более дробного вос-приятия культурного многообразия в стране происхождения (инду-сы – это для внешнего мира, а в самой Индии живут не индусы, абихарцы, гуджаратцы и еще около сотни других групп, не говоря орелигиях и кастах) и по причине более обобщенного восприятияинокультурного населения в принимающем обществе (все выгля-дят как индусы или даже азиаты, все выходцы из Испании на Кубе– просто испанцы, а все адыгские народы с Кавказа за рубежамиРоссии – это черкесы).
Одним из таких собирательных и многоэтничных образов явля-ется русская (российская) диаспора, особенно так называемое «даль-нее» зарубежье в отличие от «нового» зарубежья, которое еще тре-бует своего осмысления. На протяжении длительного времени «рус-
27
гих – это глобальное антропологическое явление. Власть исполня-ет не только важнейшую общественную функцию, но и есть полесоперничества людей за материальные вознаграждения властвова-ния и удовлетворения людьми гедонистических устремлений.Власть ее носителю приятна и полезна; желающих властвовать вобществе всегда гораздо больше, чем желающих быть управляе-мыми. Поэтому негативный смысл слов «рваться к власти» с науч-ной точки зрения бессмыслен, как и вредно пренебрежительноеотношение к власти и к тем, кто у власти. Задача антрополога по-нять и объяснить власть, в т.ч. и для самих властвующих. В этомплане новое российское знание серьезно отстает от потребности, астарое знание этими вопросами фактически и не занималось, ибосоветская власть во многом носила сакральный, а не только про-фанный характер и академическому скальпелю не поддавалась.
Здесь есть целый ряд свежих проблем. Одна из них – это деле-гирование во власть и выход из власти. Нам здесь интересны нестолько правовые нормы и другие механизмы, сколько поведениеособого человеческого материала, вернее мутации человеческогоматериала в системе властных отношений. Открывшийся для бо-лее широкой состязательности и внешней экспертизы феномен вла-сти в России оказался достаточно неожиданной научной задачей ипородил ряд поверхностных взглядов, которые в свою очередь при-вели и к «ошибкам власти». В частности, утвердился и сохраняетсяпостулат «честной» и «нечестной власти», имея в виду, что во властьпопадают жулики и взяточники, и от этого многие российские беды.Число не оправдавших надежд множится с каждой новой сменойкогорты властвующих, и уже это заставляет усомниться в верностиисходной посылки приоритета положительной моральности челове-ка во власти. Не дает ответа на вопрос и рецепт сделать властвую-щих достаточно состоятельными людьми, чтобы они не воровали,хотя действительно нищие политики порождают и нищую политику.
Вопрос честной власти в России – это вопрос прежде всего пра-вил и контроля, а уже потом вопрос моральных внутренних регуля-торов и внешних моральных воздействий. Поскольку власть – этоодна из самых престижных и значимых для общества профессий,рекрутирование во власть происходит трудным и сложным селек-тивным путем. В принципе, как и в племенном обществе, этот про-цесс основан на компетенции, авторитете, силе и богатстве в раз-личных сочетаниях значимости и использования этих факторов. Но
46
скими» за рубежом считались все, кто прибыл из России, в том чис-ле и, конечно, евреи. Это же остается характерным для современ-ного периода. Даже в «ближнем зарубежье», например, в СреднейАзии, украинцы, белорусы, татары в местном восприятии – это «рус-ские». Кстати, для собирательного обозначения большую роль иг-рает и чисто лингвистическая гетероглоссия. Для западного и шире– для внешнего мира понятие Russian Diaspora обозначает не рус-ская, а российская диаспора, то есть это понятие изначально неносит исключительно этнической привязки. Сужение происходитпри обратном неточном переводе на русский язык слова Russian,которое в большинстве случаев должно переводиться как россий-ский. Но дело далеко не в языковой гетероглоссии при формирова-нии ментальных границ диаспоры.
Диаспора часто принимает новую целостность и более гетеро-генную (внеэтническую) идентичность и считает себя таковой попричине как внешнего стереотипа, так и по причине реально суще-ствующей общности по стране происхождения и даже по культуре.При всем идеологически мотивированном скептицизме, homosovieticus – это далеко не химера как форма идентичности в быв-шем СССР, а тем более как форма общей солидарности представи-телей советского народа за границей («все равно все говорим, хотябы между собой, по-русски, а не на иврите или на армянском», ска-зал мне один из советских эмигрантов в Нью-Йорке). В равной меремногоэтничный, более широкий характер носят такие мно-гочисленные диаспоры, которые называются «китайская», «индий-ская», «вьетнамская». Здесь, наоборот, я встретил в Москве торгу-ющих индусов и вьетнамцев, которые общались между собою наанглийском и русском соответственно, ибо их родные языки былиразными. Но в Москве они воспринимаются и ведут себя как инду-сы и вьетнамцы.
Таким образом, диаспорные коалиции основываются преиму-щественно на факторе общей страны происхождения. Так называе-мое национальное государство, а не этническая общность есть клю-чевой момент диаспорообразования. Современная «русская диас-пора» в США происходит из государства, где этничность имелазначение (или просто настойчиво насаждалась), а в стране новогопребывания – уже нет. Здесь для «русских» общие язык, образова-ние, игра КВН становятся объединителями и заставляют забывать,что было записано в пятой графе советского паспорта.
26
один человек, включая академиков, ни одного дня в своей жизни поэтому принципу не прожил и жить не должен, за исключением осо-бо распропагандированных энтузиастов.
Таким образом, если российские граждане, в том числе и че-ченцы, не побросали свои паспорта (неважно, что они еще совет-ского образца) и не выбирают массовую эмиграцию из страны, зна-чит они принимают свое новое государство, какие бы интерпретациине предлагали от имени народа активисты социального простран-ства. Случившееся государство под названием Российская Федера-ция есть свершившийся факт, и все рассуждения в обратном направ-лении есть плохая услуга этому государству (в морально-полити-ческом плане) и разрыв с реальностью (в научно-академическомсмысле). В равной мере существует и российское согражданство,гораздо более гомогенное, чем в большинстве государств мира.
Другое дело, что есть проблема кризиса и меняющихся иден-тичностей, особенно диалог между прошлой советской и нынеш-ней российской лояльностью, который фиксируют многие этноло-ги и социологи. Однако в последнем мне видится некоторая акаде-мическая форма увеличения проблемы, в методике исследованиякоторой мы не всегда улавливаем элемент заданного самим воп-росником: это своего рода вариант школьного сочинения на задан-ную тему. Наблюдения повседневности не улавливают, чтобы нашиграждане ложились спать (если только они не дождались опроса-пародии в программе «Времечко») и вставали утром с подобнымивопросами или терзали ими своих сослуживцев.
Современная российская антропология должна сделать предме-том своего интереса социально-политическую и сложно-культурнуюобщность россиян. Именно сложная (гибридная) культурная целост-ность, «негомогенное целое» (выражение М.М. Бахтина), а не абст-ракция «межнациональных отношений» и даже не «многокультур-ность» заслуживают настоящего внимания и научной реабилитации.
Антропология власти или феномен«племени на холме»
Жизнь на Кремлевском или на Капитолийском холме – это восновном профессиональное занятие политологов. Однако культур-ный аспект феномена власти не менее важен и интересен. Властькак право и способность определять социальное пространство дру-
47
Диаспору объединяет и сохраняет большее, чем культурная от-личительность. Культура может исчезнуть, а диаспора сохранится.Ибо диаспора как политический проект и жизненная ситуация вы-полняет особую по сравнению с этничностью миссию. Это – поли-тическая миссия служения, сопротивления, борьбы и реванша. Аме-риканские ирландцы в этнокультурном смысле уже давно не большеирландцы, чем остальное население США, дружно празднующееДень Святого Патрика. Но вот по части политического и другого уча-стия по вопросам ситуации в Ольстере, здесь они продолжают вестисебя отчетливо как ирландская диаспора. Именно диаспорные фор-мы поведения демонстрируют российские армяне и азербайджанцыв вопросе о конфликте вокруг Карабаха, хотя в других ситуациях ихдиаспорность носит никак не выраженный характер («Зачем я дол-жен отдавать землю, где покоятся кости моих предков?» – заявилодин известный азербайджанец, проживший всю жизнь в Москве).
Более широкие границы диаспорных коалиций могут строить-ся на основе общего негативного опыта расовой или экономичес-кой маргинализации. Общая история колониальной и неоколони-альной эксплуатации объединяет проживающих во Франции выход-цев из Алжира, Марокко и Туниса и делает их франко-магрибскойдиаспорой. В свое время, в 1970-е гг., можно было наблюдать, как вАнглии мощный наплыв иммигрантов из Южной Азии, афро-ка-рибцев и африканцев заставлял последних выстраивать солидар-ные диаспорные сети на основе неразделенного восприятия этихиммигрантов как «черных» со стороны доминирующего общества.
Итак, что и как производит диаспору, если это не просто им-мигрантская группа в населении той или иной страны? И каковы вэтом аспекте перспективы российской диаспоры? Одним из основ-ных производителей диаспоры является страна-донор, причем непросто в утилитарном смысле как поставщик человеческого мате-риала, хотя последнее обстоятельство носит отправной характер.Нет страны исхода – нет и диаспоры. Однако часто бывает, чтодиаспора старше самой страны, по крайней мере, в пониманиистраны как государственного образования. Пример с российски-ми немцами мною уже приводился. Особенно он распространен вотношении регионов недавнего государствообразования (Азия иАфрика), которые в глобальном масштабе являются основными по-ставщиками мировых, наиболее крупных диаспор. Российская ди-аспора, хотя и одна из самых многочисленных, не может сравнить-
25
вителей одной группы, как это имеет место, например, в Адыгееили Башкирии.
Западное академическое сообщество с энтузиазмом разделяетсаморазрушительные язык и методологию российского общество-знания. Казавшаяся когда-то несерьезной рейгановская метафора«империи зла» или поверхностная формула французского истори-ка Каррер Данкосс о «распадающейся империи» ныне стали непре-рекаемыми объяснительными концептами. Инерция мышления хо-лодной войны и энтузиазм молодых соискателей степеней и гран-тов, чутко улавливающих потребности новых геополитических со-перничеств, активно утверждают наши же собственные подсказкио «криминальном государстве», о «мини-империи», о «многонаци-ональной стране», о «своей» и «не своей» государственности внут-ри одной страны, о самоопределении «несамоопределившихся на-ций» и т.п. Из всего этого рождается образ России как чего-то несвершившегося, на некоей «ничейной территории» (terra nullis),открытой для новых геополитических дизайнов.
Эти метадебаты представляются достаточно радикальным раз-рывом с сознанием молчаливого большинства, тех самых «дорогихроссиян», которые некоторым ученым и политикам представляют-ся эвфемизмом наподобие «марсиан». Да, действительно, в 1991 г.было выкрикнуто слово «Россия» в виде советской республикиРСФСР – государство не очень понятное и плохо продуманное.В этом смысле Россия состоялась сначала как акт речи, но именноэтот акт речи быстро обрел реальность. В этом нет социально-куль-турной аномалии, ибо равным образом состоялись и другие совре-менные государства («Мы сделали Италию, сейчас будем делатьитальянцев», – говорили вожди объединения). Рядовые гражданеприняли новое государство, ибо вопрос о государстве для них – этоне вопрос трудно разделяемого элитой символьного и ресурсногонаследия, а вопрос о тех новых возможностях для личной жизни,которые ожидаются за новым государственным обозначением тер-ритории, где они жили и продолжают жить.
У обывателя, в том числе и просвещенного интеллигента, нетгосударственного мышления в его повседневном варианте. Его го-сударство там, где лучше или где привычнее. Постулат, когда-товысказанный академиком Л.И. Абалкиным, занимавшимся поис-ком национальной идеи, что служение стране и нации должно бытьвыше личного интереса, является, строго говоря, ненаучным. Ни
48
ся с китайской, индийской или японской, а возможно, даже и мень-ше магрибской или тюркской.
Где и когда российская диаспора?
Нам не хотелось бы вдаваться в упрощенный пересказ, однаконапомню, что Россия за последние полтора века была в демографи-ческом аспекте довольно мощным поставщиком эмиграции, а зна-чит, – потенциальной диаспоры, если таковая образовывалась попредложенным нами различительным критериям. Опять же заме-тим, что не все выехавшие из России – это состоявшаяся диаспораили всегда диаспора. Всего примерно за сто лет с начала массовыхвнешних миграций из дореволюционной России выехало 4,5 мил-лиона. Кстати, следует помнить, что в этот же период в страну при-было 4 миллиона иностранцев, часть которых образовала услов-ные внутрироссийские диаспоры, о которых следует говорить осо-бо. Можно ли считать эту массу выходцев из дореволюционнойРоссии диаспорой? Наш ответ, конечно, нет. Во-первых, террито-риально почти всех эмигрантов того периода поставляли Польша,Финляндия, Литва, Западная Белоруссия и Правобережная Украи-на (Волынь), и тем самым Россия создавала диаспорный материалв значительной мере для других стран, которые исторически воз-никли в последующие периоды. Хотя многие из выехавших культур-но были сильно русифицированы и даже считали родным языкомрусский, едва ли возможно ближайшего соратника Адольфа Гитле-ра Альфреда Розенберга, который был выходцем из Литвы и лучшеговорил по-русски, чем по-немецки, считать представителем рус-ской эмиграции. Хотя современные политические спекуляции ис-ториков позволяют подобные конструкции.
Во-вторых, этнический состав этой эмиграции также повлиялна ее судьбу в смысле возможности стать и интерпретироваться ужеисториками как российская диаспора. В числе российских эмигран-тов в США 41,5% составляли евреи (72,4% прибывших в эту стра-ну евреев). Травма погромов и сильной дискриминации в России, ане только бегство от нищеты обусловили глубокий и длительносохраняющийся отрицательный образ родины, который отчасти со-храняется до сих пор. Интеграция этой части эмигрантов в амери-канское общество (не без проблем и дискриминации вплоть до се-редины XX в.) также обусловила быстрое забывание российско-
2
49
сти, а тем более русскости. Встреченные мною в США, Канаде иМексике многие потомки этой части эмиграции почти никаким об-разом не сохранили и не ощущали своей сопричастности к России.А значит, и не были ее диаспорой. Но главное даже не в этом, ибосам по себе негативный образ и успешная интеграция не являютсябезоговорочными разрушителями диаспорной идентичности. В слу-чае с евреями важным оказалось еще одно историческое обстоя-тельство: это появление родины-конкурента, причем довольноуспешного. Израиль добился победы в этой конкуренции обраще-нием к религии и демонстрацией более успешного социальногоустройства, чем в России, а также сильной пропагандой идеи алии.
Из 4,5 миллиона эмигрантов из России только около 500 тысячбыли «русскими», но на самом деле это были также украинцы ибелорусы, а также часть евреев. Перепись США 1920 г. зафиксиро-вала 392 тысячи «русских» и 56 тысяч «украинцев», но это явнозавышенные цифры, так как среди них были представители мно-гих этнических групп, особенно евреев. В Канаде также перепись1921 г. зафиксировала почти 100 тысяч «русских», но на самом делев эту категорию были включены почти все восточные славяне иевреи, выехавшие из России. Таким образом, всего за годы дорево-люционной эмиграции Россия поставила 4,5 миллиона диаспорно-го материала для разных стран (Израиля, Польши, Германии, Фин-ляндии, Литвы), из которых только не более 500 тысяч были рус-ские, украинцы и белорусы. Кто из потомков этих людей ощущаетсегодня свою связь с Россией, сказать крайне трудно. С украинца-ми ситуация яснее, ибо они по ряду причин вели себя «диаспор-нее», чем этнические русские. Белорусы скорее всего совершилипереход в русскую или в украинскую группы потомков.
Фактически исторический отсчет традиционной для современ-ности российской диаспоры начинается позднее в связи с миграци-онными процессами после 1917 г. В 1918–22 гг. большого размахадостигла политическая эмиграция групп населения, которые неприняли советскую власть или потерпели поражение в граждан-ской войне. Размер так называемой белой эмиграции определитьтрудно (примерно 1,5–2 миллиона человек), но ясно одно, что впер-вые подавляющее большинство эмигрантов составили этническиерусские. Именно об этой категории населения можно говорить какне только о диаспорном человеческом материале, а как о манифест-ной (в смысле жизненного поведения) диаспоре с самого начала
72
же большинство этнических общностей прошло этап обучающей«национализации», т.е. их представители считают себя «нациями»,и это косвенно признается государством в конституционной записио «многонациональном народе России», хотя больше нигде в феде-ральных законодательных и правовых текстах этнические общнос-ти не квалифицируются как «нации». Понятие «национальности» всмысле этнической, а не гражданской принадлежности въелосьдовольно глубоко, лидер «Ассамблеи народов России» в своих бро-шюрах и открытых письмах президентам громит «национальныхнигилистов» по всем канонам этнонационализма, хотя и со ссылка-ми на «дружбу народов». Однако ждать, когда политики и ученые(когда это в одном лице, как это вдруг повелось в России, тогда –это совсем катастрофа!) дойдут до современного понимания про-блемы, уже невозможно. Перепись 2002 г. следует провести по со-временным канонам применительно ко многим аспектам. Сделатьэто еще не поздно. Особенно в вопросах о языке и национальности(о языке мы выскажемся несколько позднее, ибо с предлагаемойформулировкой есть серьезная проблема).
У нас считается, и из этого исходит вопрос переписи, что наци-ональность может быть только одна и только по одному из родите-лей. С отменой записи «национальность» в паспортах положениестало несколько лучше, ибо позволяет больший и сменяемый вы-бор этнических идентичностей и уменьшает возможность дискри-минации по этническому принципу. Сохраняется только глупаяпроцедура записи национальности в свидетельство о рождении,когда вновь рожденный человек вообще никакой этничностью необладает. Но несостоятельность этой процедуры довольно скоровыявится, а сейчас она – не более чем небольшая задачка для ро-дителей попробовать предугадать, кем их ребенку лучше быть вРоссии.
Перепись отличается тем, что собирает агрегированные данныео национальной (этнической) принадлежности, т.е. как бы устанав-ливает количество и общую численность проживающих в странеэтнических общностей (народов). Делается это на основе индиви-дуальной идентификации (личного самоопределения), кроме мало-летних, за которых решают родители. Длительные споры идут о том,сколько народов реально проживает в стране, и некоторые ученыеполагают, что для выяснения действительно полной и объективнойкартины необходимо только позволить фиксировать все самоназва-
3
50
возникновения этой волны мигрантов. Объясняется это рядом об-стоятельств, подтверждающих наш тезис, что диаспора – это яв-ление прежде всего политическое, а миграция – социальное.Элитный характер мигрантов, а значит – более обостренное чув-ство утраты родины (и имущества) в отличие от трудовых мигран-тов «в овечьих тулупах» (известная кличка в Канаде), обусловилигораздо более устойчивое и эмоционально окрашенное отношениек России. Именно эта эмиграция-диаспора вобрала в себя почтивсе вышеописанные мною характеристики, в т.ч. и производство па-раллельного культурного потока, который ныне во многом возвра-щается в Россию. Именно эта эмиграция не имела и не имеет ника-кой другой конкурирующей родины, кроме России, во всех ее исто-рических конфигурациях XX в. Именно к этой эмиграции оказалисьбольше всего направлены симпатии страны исхода в последнее де-сятилетие, согрешившее в процессе демонтажа господствовавшегополитического порядка радикальным отторжением и всего совет-ского периода как некой исторической аномалии. Ностальгией ока-залась охвачена не столько диаспора, сколько ее современные отече-ственные потребители, желавшие увидеть в ней некую утраченнуюнорму, начиная от манер поведения, кончая «правильной» русскойречью. Русская (российская) диаспора как бы родилась заново, об-ласканная вниманием и извиняющей щедростью современников наисторической родине. На наших глазах историки сконструировалимиф о «золотом веке» русской эмиграции, с которым еще придетсяразбираться новыми более спокойными прочтениями.
Было бы несправедливо с точки зрения исторической коррект-ности забыть то обстоятельство, что «белая эмиграция» существо-вала и сохранилась не просто в силу своего элитно-драматическогохарактера, но и потому, что продолжала получать пополнение впоследующие исторические периоды. Во время Второй мировойвойны из почти 9 миллионов пленных и вывезенных на работы к1953 г. вернулось около 5,5 миллиона человек. Многие были убитыили умерли от ран и болезней. Однако не менее 300 тысяч т.н. пере-мещенных лиц остались в Европе или уехали в США и в другиестраны мира. Правда, из этих 300 тысяч только меньше половиныбыли с территории старых границ СССР. Не только культурная бли-зость со старой эмиграцией, но и идеологическое сходство в оттор-жении (точнее, в невозможности возврата) СССР позволили болееинтенсивное смешение этих двух потоков (в сравнении с ситуаци-
71
В Дагестане средняя заработная плата научных работников состав-ляет 700 рублей в месяц (в нашем институте немного больше). Двоедагестанских коллег, с которыми я беседовал на тему детей, при-знали, что брак их молодых отпрысков стоил им по 15–20 тыс. дол-ларов личных средств. Похоже, что обнищания ученых, которыечаще всего цитируются в категории обездоленных, по крайней мерев Москве и Дагестане не существует.
Что и как считать в многоэтничной стране?
Это, собственно говоря, главный вопрос дискуссии, связаннойс новой переписью. Он гораздо сложнее, чем представляет себе Гос-комстат, хотя в нем работают хорошие специалисты. Прежде всегозададим фундаментальный вопрос, что мы собираемся зафик-сировать в переписи: некую номенклатуру «национальностей, на-циональных или этнографических групп» (как сейчас звучит фор-мулировка вопроса переписи) или наличие у российских граждан(у российского народа) различных форм этнокультурной идентич-ности, которые часто носят множественный и невзаимоисключаю-щий характер? Большинство развитых стран, проводящих перепи-си, данные об этническом составе населения или совсем не фикси-руют (предпочитая спрашивать о языке, религии или расе), илификсируют этническую принадлежность в ее единичном или мно-жественном вариантах.
Последняя перепись США, проведенная в начале 2000 г., по-зволяет давать множественный ответ не только на вопрос об этни-ческом происхождении, но и на вопрос о расе. Кстати, все усилияамериканских ученых демонтировать понятие «раса» из академи-ческого и общественно-политического языка пока не привели кустранению данной категории из переписного листа: слишкомсильна инерция в обществе воспринимать расовые отличия как ре-альные категории населения и слишком много политики и денегкрутится вокруг вопроса о расе.
Что-то похожее мы имеем и в России применительно к катего-рии «национальность». Глубоко примордиалистское понимание этойсубстанции на протяжении десятилетий (фактически начиная с пе-реписи 1926 г.) привело к глубокой вере, что население страны состо-ит из отдельных народов (этносов) и этнографических групп (су-бэтносов), которые и составляют реестр национальностей. К тому
51
ей враждующей диаспоры), а значит, и поддержание языка, и дажемизерных послесталинских связей с родиной (после Хрущева).
Не менее, а даже более идеологической была небольшая, ноочень политически громкая эмиграция из СССР в 1960–80 гг. вИзраиль, США, затем в Германию и Грецию. В 1951–91 гг. из стра-ны выехало около 1,8 миллиона человек (максимально в 1990 и1991 гг. – по 400 тысяч), из них почти 1 миллион евреев (две трети– в Израиль и одна треть – в США), 550 тысяч немцев и по 100тысяч армян и греков. Эмиграция продолжалась и в последующиегоды, но несколько меньшими темпами.
Какое число российских соотечественников живет в дальнемзарубежье? Само число 14,5 миллиона выехавших из страны малочто говорит, ибо более двух третей жили на территориях, которыевключались в состав Российской империи или в состав СССР, и этитерритории сейчас не являются частью России. Восточно-славян-ский компонент в этом населении был невелик до прибытия основ-ной части «белой эмиграции» и перемещенных лиц. После этогорусских выехало мало. В целом русских в дальнем зарубежье – около1,5 миллиона, в т.ч. в США – 1,1 миллиона. Что касается лиц, име-ющих «русские крови», то это в несколько раз больше.
Большой вопрос: как и кем считать представителей других эт-нических групп. Выходцы из России создали основные этническиеобщности в двух странах: в США евреи на 80% – это выходцы изРоссии или их потомки, в Израиле не менее четверти евреев – вы-ходцы из России.
Новые диаспоры или транснациональныеобщности?
Распад СССР создал ситуацию, которая трудно поддается жест-ким определениям. Бытовая (вне современной теории) наука иполитика, используя традиционный подход и данные переписи1989 г., объявила, что после распада СССР общая численность за-рубежных россиян – 29,5 миллиона, из которых русские составля-ют 85,5% (25290 тысяч)5. Все остальные народы, кроме немцев,татар и евреев, не образуют значительных групп в новом зарубе-жье. Все это стало называться «новыми диаспорами». Естествен-но, что о «своих» диаспорах заявили и другие постсоветские госу-дарства. В Украине началась обширная исследовательская програм-
70
из моих выводов сводится к тому, что «улучшение жизни детей естьобщее улучшение», причем не только в перспективе, но и в сегод-няшнем дне.
В ходе поднятой мною дискуссии обнаружился еще один суще-ственный момент, который затрудняет выявление истины. Это –крайне эмоциональная обостренность личного восприятия анали-зируемой проблемы. Многие мои коллеги готовы обсуждать дан-ные вопросы, но только без саморефлексии и без проекции оценокна ближний круг социальных связей. Несколько сот членов Рос-сийской академии наук готовы обсуждать катастрофическое поло-жение населения в стране, но не замечают, что у подъезда их ожи-дают водители служебных автомобилей, которые (водители), кста-ти, тоже стали жить лучше и уже имеют собственные автомобили.Члены Ученого совета Института этнологии также единодушны всходном заключении и склонны делать вывод после моего доклада,что «правильнее говорить, что некоторые директора институтовстали жить лучше». Однако мои наблюдения позволяют говорить,что все директора академических институтов и все их заместителистали жить лучше. Для определения положения остальной частичленов совета необходимы более тщательные частные разговоры,но и здесь картина будет неоднозначной. По крайней мере, 10 леттому назад один из моих главных оппонентов В.И. Козлов едва лисмог бы за счет личных средств издавать собственные монографии,хотя его приверженность науке тогда была нисколько не меньше.
Обращу внимание, что речь идет о научном сообществе, дей-ствительно меньше всего выигравшем от реформ. У здания, гдерасположен Институт этнологии с 200 сотрудниками, в длиннойчереде легковых автомобилей стоят только два, принадлежащихэтнологам, в т.ч. и мои собственные «Жигули». На остальных при-ехали сотрудники разных учреждений, которые арендуют у акаде-мии офисные помещения. Еще стоят два «Мерседеса-600», принад-лежащие один директору академического «комбината питания», дру-гой – директору конторы, отвечающей за техническое обслужива-ние здания. Ясно, что мое «улучшение» (учтем также отсутствиезагородного особняка, личных инвестиций и других действитель-ных признаков преуспевания) не идет ни в какое сравнение с поло-жением владельцев многочисленных иномарок по данному адресу.Но тогда все-таки насколько ученые пребывают в бедности? И мож-но ли оценивать положение по заработной плате и гонорарам?
52
ма изучения диаспор, в том числе и украинской диаспоры в России.Но вся эта конструкция зиждется на шатком основании советскихэтнографических и бюрократических классификаций, которые при-вязывали представителей той или иной национальности к доста-точно произвольно определенной административной территории,называвшейся «территорией своей» (или «национальной») го-сударственности. Никто из советских и нынешних этнических пред-принимателей от науки и политики не определял, на территориичьей государственности находится его подмосковная дача или го-родская квартира, но зато с удовольствием записывали территорию,контролировавшуюся красной конницей Валидова в период граж-данской войны и ставшую Башкирской Республикой, как террито-рию «своей государственности» башкир. И подобная операция со-вершалась на протяжении всей советской истории для тех граж-дан, национальность которых совпадала с названиями «националь-но-государственных образований» разного уровня.
Клише «своей не своей» этнической территории в рамках одно-го государства или на трансгосударственном уровне живуче до сихпор, и на его основе строится и современный дискурс о постсовет-ских диаспорах. К академическим постулатам только добавилисьдополнительные интерес и аргументы, продиктованные новымипостсоветскими соперничествами. Если Россия приоритетно забо-тится о разделенном русском народе и своей диаспоре, то тогдапочему Украине и Казахстану не ответить тем же, включая требо-вание паритетности в вопросах обеспечения культурных и другихзапросов представителей «своих» диаспор («Сколько там у вас вКраснодарском крае, в Сибири и на Дальнем Востоке детских са-диков на украинском языке?»).
«Новодиаспорная» конструкция безосновательно делит гражданодной страны на диаспору и, видимо, на «основное население»,когда для этого нет значимых культурных и других различий. Ук-раинцы в Сибири и в Краснодарском крае, равно как русские вХарькове и в Крыму, являются автохтонными жителями и равно-правными создателями всех форм государственности, на террито-рии которых они проживали и ныне проживают. От того, что вгеографическом пространстве прошли новые границы, в т.ч. в видевизуальных пограничных и таможенных постов, в их повседневно-сти мало что изменилось. Они не перестали быть «основным насе-лением».
69
Во-первых, это – некоторые макропоказатели, как, например,производство в стране кирпича и других строительных материа-лов, количество потребляемой населением электроэнергии, объемпроизводства и импорта легковых автомобилей, мебели, телевизо-ров, холодильников, текстиля, предметов быта и обихода, лекарстви многих других необходимых вещей. Не может же все это «ску-шать» мафия или даже 10% населения, если легковая машина (осо-бенно после появления действительно «народного автомобиля» ва-зовских моделей) стала достоянием почти каждой семьи (если счи-тать родителей и детей).
Во-вторых, это – собственные этнографические наблюдения.При всем уважении к представительным обследованиям бюджетовдомохозяйств, о котором упоминают авторы статьи в «НГ»(03.06.2000) В. Иванов и А. Суворов, наши наблюдения малогоуральского города Нижние Серги (17 тыс. жителей) и несколькихдеревень, не говоря о московской агломерации, приводят к иномувыводу. Хотя расчеты валового внутреннего продукта или доходовдомохозяйств, используемые для оценки уровня бедности, какправило, включают в себя оценки теневой экономики, более веро-ятно, что компенсация экономического спада деятельностью в не-официальном секторе намного больше, чем это принято считать.Эта деятельность и многие механизмы «выживания» остаются внесферы охвата статистики. Важнейшим моментом замещения до-ходов является, например, гораздо большая степень перераспре-деления средств в рамках родственных связей, когда более состо-ятельные родственники оказывают помощь менее состоятельным.Частные формы такого вспомоществования заменили в некоторойстепени прошлую систему социального обеспечения. Добротнойантропологии такого рода новых социальных отношений у нас, ксожалению, нет.
Безусловно, в стране имеются случаи, когда и родители живутна детские социальные пособия, а некоторые специалисты отмеча-ют этот фактор даже среди мотивов повышенной рождаемости,например в сельских семьях Дагестана. Но не менее очевидно идругое: сегодня гораздо больше молодых людей помогают даже ещенестарым и работающим родителям, чем это было в прошлые вре-мена. Вся статистика говорит о том, что молодые когорты самодея-тельного населения гораздо больше преуспели в новых условиях, иэта ситуация однозначно принимается родителями. Отсюда один
53
Новые диаспоры – это малоприемлемая категория, а тем болеекатегория «меньшинства», в которую запихнули эту часть населенияпредставители «титульных наций». В этой ситуации неустоявшихсятрансформаций и жесткой политизированности предпочтительнееначинать с анализа, а не с категории. Станут ли русские диаспорой всмысле своей групповой отличительности и демонстрируемой свя-зи с родиной – Россией? Это вопрос огромной значимости. И здесь,на наш взгляд, возможны четыре исторические перспективы.
Первая – это полноправная социально-политическая интегра-ция и частично культурная (на основе двуязычия и многокультур-ности) в новые гражданские сообщества, построенные на доктри-не равнообщинных государств. Это сейчас наиболее сложная, носамая реальная и конструктивная с точки зрения как национальныхинтересов этих стран, так и интересов России, не говоря о самихрусских. Кое-где признаки новой доктрины государственного стро-ительства на основе многоэтничных гражданских наций появля-ются, но наследованный и господствующий этнонационализм бло-кирует эту тенденцию.
Вторая – это формирование более широких конгломеративныхкоалиций с другими русскоязычными (славянской диаспоры), чтомаловероятно в условиях довольно успешной национализации ти-тульных групп, но тем не менее возможно.
Третья – это переход на статус меньшинств и мигрантских группс перспективой ассимиляции. Это фактически невозможно из-замирового статуса русского языка или культуры и мощногососедствующего воздействия России.
Четвертая – массовый исход в Россию. Это возможно толькодля Средней Азии и Закавказья, но не исключено и для других стран,особенно стран Балтии, если Россия вырвется вперед или хотя бысравняется по социально-экономическим условиям жизни с При-балтикой.
Самая маловероятная, но возможная перспектива – это отвоева-ние доминирующего статуса и государства под свой контроль, чтовозможно только в случае решающего демографического преиму-щества в условиях более быстрого роста русского населения и бо-лее значительного выезда из страны титульного населения. В обо-зримой перспективе это возможно только в Латвии и нигде больше.Но и в этом случае скорее будет существовать ситуация господ-ствующего меньшинства над большинством («диаспорой»?!) благо-
68
дов, т.е. выше одной тысячи долларов в год на человека) действи-тельно имеют бедное население, тогда в них должно умирать боль-ше младенцев и гораздо больше рождаться, а также не может бытьстоль большого числа грамотных людей, ибо это тоже стоит боль-ших денег.
Перепись населения и задача для экспертов
Моя позиция «жить стало лучше, но сложнее» лишь только от-части есть форма гуманитарной терапии. На самом деле это вызовнесостоятельному отечественному обществоведению, которое не-сет часть ответственности за метафоры «катастройки» и «обвалы»,ибо порождает подобных чудовищ прежде всего в головах людей.Статистика не может вырваться из этого дискурса, ибо сама дела-ется распропагандированными людьми или просто обслуживаетполитический запрос. Как можно оставлять без внимания наличиепочти 40 миллионов земельных участков в собственности граждан,большая часть из которых была получена и обустроена именно впоследние десять лет? Статистика (предстоящая перепись можетне стать исключением) обходит частное загородное строительство,в т.ч. дополнительные постройки, перестройки и прочие улучше-ния, поскольку очень многие владельцы недвижимости не могутпреодолеть канитель регистрации домостроений или не желаютэтого делать. Очень вероятно, что многие не сообщат данные све-дения и переписчикам в ходе переписи.
Но именно сюда (в новые дома и квартиры) ушли основные ре-сурсы и средства граждан (в большинстве «изъятые», если хотите,украдены у государства и из окружающей среды), кроме многочис-ленных квартирных улучшений (новые окна, двери, сантехника, ре-монт комнат, мебель и прочее). Кажется, что перепись может незафиксировать и загородные особняки, ибо подавляющее большин-ство их считаются недостроенными или официально неоформлен-ными. Если все это пройдет мимо, тогда цена предстоящей перепи-си в части социальных условий будет ничтожной. Можно ли испра-вить положение? Просто необходимо, и для этого есть разные ме-тоды, которые следует дополнительно предусмотреть.
На чем основана моя убежденность в том, что уровень и объемсоциальных улучшений на порядок больше, чем нас убеждают Гос-комстат и некоторые ученые и публицисты?
54
даря поддержке европейского сообщества и НАТО (если этот воен-ный блок сохранится).
Есть вариант массовой смены идентичности титульной груп-пой в пользу русской, но это возможно только в Белоруссии и толь-ко в случае единого государства с Россией. Но единое государствоснимает и вопрос о диаспоре.
В целом исторический процесс крайне подвижен и многовари-антен, особенно когда речь идет о динамике идентичностей. На го-ризонте мы уже видим принципиально новые явления, которыеневозможно осмыслить в старых категориях. Одно из таких явле-ний – это формирование транснациональных общностей за привыч-ным фасадом диаспоры. Исторический процесс в интересующемнас аспекте проходит как бы три стадии: миграция (или изменениеграниц), диаспора, транснациональные общности. Последнее по-нятие отражает явление, появившееся в связи с изменением харак-тера пространственных перемещений, новыми транспортными сред-ствами и коммуникативными возможностями, а также характеромчеловеческих занятий. Как мы уже отмечали, диаспора как жест-кий факт и как ситуация и ощущение – это порождение делениямира на государственные образования с охраняемыми границами ификсируемым членством. Строго говоря, при более или менее нор-мальной социально-политической ситуации внутри государств нетили не должно быть диаспор из «собственной» культурной среды,ибо государство есть равный дом для всех его граждан. Диаспорапоявляется, когда появляется разделенная пограничным паспорт-ным контролем оппозиция «там и здесь».
Но в последнее десятилетие (на Западе еще раньше) появилисьфакторы, размывающие привычные представления о диаспоре и намежгосударственном (транснациональном) уровне. Если москвич,формально эмигрировав в Израиль или в европейскую страну, со-храняет квартиру в российской столице и ведет основной бизнес народине, а также поддерживает привычный круг знакомств и связей,то это уже другой эмигрант. Это человек – не между двумя страна-ми и двумя культурами (что определяло диаспорное поведение впрошлом), а это человек в двух странах (иногда даже формально сдвумя паспортами) и в двух культурах одновременно. Где у него«бывшая родина» и где «дом» – такой строгой оппозиции уже несуществует. Не только на Западе, но и в Азиатско-Тихоокеанскомрегионе существуют большие группы людей, которые, как они за-
67
туберкулез и есть серьезные проблемы с детской смертностью издоровьем женской части населения. Здесь есть над чем задумать-ся статистикам, экономистам и социологам, если они хотят дей-ствительно «замерить» и «сосчитать» местные сообщества.
Одинокие нищие на российских городских улицах (в селах ихфактически нет) не идут ни в какое сравнение с уличной нищетойЛос-Анджелеса или Нью-Йорка. Тем, кого смущают подростки,продающие газеты или моющие автомобили в учебное время, мож-но посоветовать осмотреться получше на улицах мексиканских,бразильских или индийских городов. Россияне просто не видели,что есть подлинная нищета. Выход наружу части обездоленных(в большинстве нуждающихся в лечении от алкоголизма), а такжедемонстрация социальной расслоенности ныне уже за пределамиобкомовских заборов производит на них психологический шок. Несоставляют исключения и профессиональные обществоведы.
Но самый главный вопрос – это относительность самого поня-тия «бедность» или «обнищание». Бедность в Великобритании илив США – это не бедность в Индии или в странах Африки. Смеюутверждать, что Россия в данном случае скорее попадает в первую,чем во вторую категорию, а точнее, в категорию стран ВосточнойЕвропы, Балтии и западной части стран СНГ. «Наша» бедность ни-как не согласуется не только с хорошей одеждой и драгоценностя-ми в ушах жалующихся, но и с более глубокими социологически-ми и демографическими характеристиками феномена бедности. На-зову важные моменты, которые говорят скорее о «психологической»бедности образованного и имеющего высокие социальные ожида-ния населения, а не о реальной нищете. Например, 10 из наиболеебедных стран, ныне переживающих посткоммунистические транс-формации (с совокупным доходом менее 1000 долларов на челове-ка в год), имели среднюю детскую смертность 37 (число смертейна тысячу рожденных и доживших до одного года). Если взять стра-ны остального мира с подобным уровнем доходов, то там средняядетская смертность составляет 81! Грамотность среди взрослогонаселения в этих 10 странах составляет 98%, а в остальных стра-нах той же категории – не более 70%. Общая рождаемость нахо-дится на уровне 2–3 детей по сравнению с 5 детьми в остальныхстранах мира с аналогичными доходами. Другими словами, еслинекоторые посткоммунистические страны (кстати, Россия среди нихнаходится даже в более благополучной категории по уровню дохо-
55
являют, «могут жить везде, но только ближе к аэропорту». Это нетолько бизнесмены, но и разного рода профессионалы и поставщи-ки особых услуг. Дом, семья и работа, а тем более родина для нихимеют не только значение разделенных границами мест, но и носятмножественный характер. Домов может быть несколько, семья – вразных местах в разное время, а место работы меняться, не меняяпрофессии и принадлежности к фирме. Через телевизор, телефон ипутешествия они поддерживают культурные и семейно-родствен-ные связи не менее интенсивно, чем живущие в одном месте людис постоянным автобусным маршрутом дом – работа. Приезжая изПраги или Нью-Йорка в Москву, они видят своих родственников идрузей чаще, чем могут видеться родные братья или сестры, живу-щие в одном городе. Они участвуют в принятии решений на уровнемикрогрупп и влияют на другие важные аспекты жизни сразу двухили нескольких сообществ.
Таким образом, разные и далекие места и находящиеся в нихлюди начинают формировать единую общность «благодаря посто-янной циркуляции людей, денег, товаров и информации»6. Этунарождающуюся категорию человеческих коалиций и форм истори-ческих связей возможно называть транснациональными общнос-тями. Некоторые специалисты относят данные новые явления к про-блеме транснациональных миграционных циркуляций, но это есть ичасть проблемы диаспоры. Действительно, трудно назвать миллионазербайджанцев или полмиллиона грузин, курсирующих между Рос-сией и Азербайджаном (не беру в расчет старожильческую частьазербайджанцев и грузин в России), диаспорой, но в их культуре исоциальной практике бесспорно присутствует диаспорность, особен-но среди тех, кто подолгу находится в России. Пересекающие де-сятки раз в год границы между странами (не только бывшего СССР)люди не могут с обычной легкостью квалифицироваться как эмиг-ранты или иммигранты. Они не попадают в вышеупомянутые опи-сания диаспорных ситуаций. И все-таки это новая по своей приро-де диаспора, которая, возможно, заслуживает нового названия.
В любом случае современные диаспоры или транснациональныеобщности, как и в прошлом, пребывают в своем главном взаимо-действии с государственными образованиями: странами исхода истранами проживания. Этот диалог продолжает носить сложныйхарактер, но в нем есть ряд новых явлений. В большинстве своемчлены диаспорных групп оказываются в данном состоянии в ре-
66
Как считать бедность и богатство?
Еще более важен вопрос об оценке статистикой социальныхусловий жизни. Доминирующая позиция обществоведов и полити-ков сводится к тому, что в годы реформ произошло всеобщее обни-щание и грандиозное социальное расслоение населения страны.Обычно приводилась цифра: 10% выиграло от реформ и 90% про-играло (см., например, труды академиков Римашевской, Г.В. Оси-пова и других). В последнее время появились некоторые поправкив пользу «выигравших». Однако эмоциональная вовлеченность впользу «катастройки» настолько велика, что затрудняет дискуссию,а некоторые считают, что выражение отличных или противополож-ных взглядов является неким «социальным заказом».
Мои наблюдения расходятся с господствующими заключения-ми. Те, кто пишет об «обнищании народа», никаких убедительныхаргументов не приводят, кроме малонадежных данных о сокраще-нии потребления и об ухудшении состояния здоровья. Посетив вначале июня 2000 г. Дагестан – самый бедный, депрессивный и на85% дотационный регион страны, если верить статистике и дажехорошим специалистам, я еще больше убедился в наличии гранди-озной мистификации относительно реального положения дел в стра-не и в своем мнении, что имеются основания говорить о позитив-ных трансформациях в России не только применительно идеологи-ческих свобод и общей демократизации. Современный Дагестанпредстает исключительно динамичным обществом, где люди одер-жимы исполнением основной миссии – социальным обустройствомсобственной жизни, мобилизуя для этого не только самое изобре-тательное предпринимательство (в Махачкале, например, около4 тысяч частных «Газелей» и «Соболей» обслуживают пассажир-ские и транспортные перевозки), этнические и родственные коали-ции, неправовые методы (воровство и мафиозные структуры), но иотчаянный торг с центром за дополнительные ресурсы. В итоге, покрайней мере равнинная часть республики от Кизляра до Дербен-та, где сосредоточено около 70–80% населения, совсем не демон-стрирует бедность, если брать в расчет размеры и качество жилья,потребляемые товары длительного пользования и престижного ха-рактера. Общие данные о состоянии здоровья населения выглядятпо Северокавказскому региону лучше, чем в других, кроме Цент-рального. Хотя в сельских районах республики распространяется
56
зультате недобровольных решений и продолжают сталкиваться спроблемой отторжения. С той только разницей, что возможности,которыми располагают эти группы, существенно меняются. Если впрошлом единственная желаемая стратегия была – успешная ин-теграция во втором или в третьем поколении, то ныне ситуация ча-сто складывается по-другому. Как отмечает Р. Коэн, «чем большеприсутствует принуждения, тем меньше вероятность ожидаемойсоциализации в новом окружении. В этих условиях этнические илитранснациональные общности будут упорно сохраняться или пре-образовываться, но не растворяться. Сейчас невозможно отрицать,что многие диаспоры хотят иметь свой кусок пирога и хотят егокушать. Они хотят не только безопасности и равных возможностейв странах проживания. Но также и сохранения связей со странойпроисхождения и своими соплеменниками в других странах... Мно-гие иммигранты не являются более разрозненными и послушнымилюдьми, ожидающими гражданства. Вместо этого, они могут со-хранять двойное гражданство, выступать за особые отношения сосвоими родинами, требовать помощи в обмен на избирательнуюподдержку, влиять на внешнюю политику и бороться за сохране-ние семейных иммигрантских квот»7.
Современные диаспоры, их ресурсы и организации представ-ляют один из наиболее серьезных исторических вызовов для госу-дарств. В странах пребывания они формируют сети международ-ной незаконной торговли наркотиками, создают террористическиеорганизации, вовлекаются в другие акции, которые нарушают на-циональный закон и внутреннюю стабильность. Именно деятель-ность диаспорных групп (палестинских, кубинских, ирландских,албанских и других) превратила сегодня такие страны, как, напри-мер, США и Германия, в основные территории, откуда исходит меж-дународный терроризм. Часто это делается с ведома и откровенноиспользуется в геополитических целях самими государствами пре-бывания. В более мирных формах активная деятельность диаспорначинает представлять серьезную проблему для местных обществ.Выдвигаются требования и ведется активная борьба за признаниеобычного права, действующего в рамках традиционной культурыданных групп, законов стран пребывания. Более того, западные ли-беральные демократии, решившие в свое время в упорной борьбевопросы отделения церкви и государства, мира приватного и мирапубличного, сегодня вынуждены иметь дело с попытками привнес-
65
Официальная статистика почти всегда требует внимательногоанализа и корректив. Тот же Госкомстат России, например, приво-дил данные о росте сельского населения в период 1992–1995 гг.(38,8 млн. человек в 1991 г. и 40 млн. человек в 1995 г.), т.е. о свое-образном процессе деурбанизации страны. На самом же деле, ско-рее всего имел место другой процесс, а именно: перепрописка мно-гих горожан в сельской местности в связи с процессом приватиза-ции и ожиданиями граждан передачи земли в частную собствен-ность. В наблюдаемой нами рязанской деревне Алтухово, по дан-ным местного сельсовета, население в эти годы увеличилось на двадесятка человек. Однако мои наблюдения этого не подтвердили:просто некоторые уехавшие ранее в Рязань или в Москву сыновьяи дочки прописались на всякий случай в родительские дома, и неболее того. Это частное наблюдение вполне может касаться общейситуации по стране. Отметим к тому же, что в последние годы сель-ское население прибавилось почти на 1 млн. человек за счет пере-вода городских пунктов в категорию сельских.
Таким образом, перед переписью 2002 г. стоит важнейшая зада-ча установить более или менее точную численность населения Рос-сии. Неучтенное население – это извечная проблема переписей, нодолжны быть предусмотрены дополнительные меры, чтобы, напри-мер, сотни тысяч сезонных (часть из них фактически постоянныежители) рабочих и предпринимателей, которые занимаются строи-тельством или торговлей в Москве и других городах или строятчастные коттеджи в Подмосковье, попали в поле зрения перепис-чиков. Тем более данные не будут точными, если в перепись не по-падут миллионы жителей без российского гражданства или вы-ехавшие из зон конфликтов, которые могут просто побояться встре-чи с переписчиком. Закрытые железными дверьми подъезды домови отдельных квартир – это, пожалуй, самая главная проблема пред-стоящей переписи. Уже сейчас необходимо объявить законодатель-ную гарантию, что индивидуальные переписные данные не могутбыть предоставлены никаким ведомствам и службам, судебным,налоговым и миграционным органам, частным запросам, включаяисследователей (только по истечении минимум 50 лет). За наруше-ние – пять лет тюрьмы и 5 тысяч долларов штрафа, как, например,в США! Только так можно заранее создавать климат доверия, безкоторого перепись будет фикцией и просто выброшенными на ве-тер деньгами.
57
ти в их общества теократические идеи и нормы частной жизни, покоторым желают жить представители мусульманских общин, став-шие уже полноправными гражданами этих стран. Как предупреж-дает один из авторов, своим желанием изменить существующиеправила, а не принимать сложившиеся правила игры, диаспорыбудут служить «средством разрушения хрупкого баланса междуобщей культурой и отдельными различиями»8.
В то же время некоторые специалисты делают слишком поспеш-ные выводы по поводу исторических перспектив феномена диас-поры. Ссылаясь на то, что идеология национализма не способнасегодня эффективно ограничивать пространство социальной иден-тичности границами национальных государств, они полагают, чтопроцессы глобализации создают новые возможности для возраста-ния роли диаспор во многих сферах и для превращения диаспор вособые адаптивные формы социальной организации. Не отрицаяпоследнего, мы, однако, не можем согласиться с выводом, что «в ка-честве формы социальной организации диаспоры предшествовалинациональным государствам, трудно существовали в их рамках и,возможно, сейчас во многих аспектах могут превзойти и прийти имна смену»9. Причина нашего несогласия основывается на том, чтонынешняя стадия человеческой эволюции продолжает демонстри-ровать, что государства остаются наиболее мощной формой соци-альной группировки людей, обеспечивающих жизнедеятельность че-ловеческих сообществ. Никакой конкурентной формы на горизон-те не просматривается. Более того, именно государства использу-ют диаспоры в своих утилитарных целях, чаще всего для собствен-ного укрепления и для разрушения или ослабления других. И в этомплане диаспоры может ожидать совсем обратная перспектива.
Современные диаспоры обретают еще один важный аспект. Ониутрачивают обязательную ссылку на какую-то определенную ло-кальность – страну исхода и обретают на уровне самосознания иповедения референтную связь с определенными всемирно-исто-рическими культурными системами и политическими силами. Обя-зательность «исторической родины» уходит из диаспорного дис-курса. Связь выстраивается с такими глобальными метафорами, как«Африка», «Китай», «Ислам». Как отмечает в этой связи ДжеймсКлиффорд, «этот процесс – не столько по поводу быть африканцемили китайцем, сколь по поводу – быть американцем или британцемили кем-то еще в месте проживания, но с сохранением отли-
64
адаптируются во многих, в т.ч. и в европейских, странах и даже беззнания русского языка могут составить серьезную конкуренцию нарынке иммигрантов для выходцев из той же Средней Азии. Я неявляюсь сторонником идеи массового заселения Сибири и Дальне-го Востока выходцами из Китая, но обсуждать привлечение китай-ской рабочей силы в страну и ее рациональное размещение необхо-димо вместо воспаленных и необоснованных сентенций насчет яко-бы уже происходящей китайской экспансии на Дальнем Востоке.Эти сентенции – одна из наиболее ярких демонстраций не-компетенции специалистов и зашоренности политиков. Уже состо-явшаяся иммиграция и неизбежная (к большому благу для стра-ны!) будущая иммиграция обязательно повлияют на рост рождае-мости в России уже в самые ближайшие годы. Все выстраиваемыеграфики грозящей демографической катастрофы ровным счетомничего не стоят. Они, кстати, очень лукавы, ибо сходная ситуациясуществовала на территории РСФСР (особенно в так называемых«русских областях») и в 1970–1980 гг., а общий рост населения СССРобеспечивался за счет роста населения республик Средней Азии иЗакавказья, а не собственно России.
Рецепты вместо сентенций
Период реформ в России связан с серьезными демографически-ми проблемами: прежде всего – это относительно высокая смер-тность, особенно среди мужчин и детей, а также низкая рожда-емость среди населения центральных областей страны. Ни однаиз них не может квалифицироваться как катастрофическая, кро-ме мужской смертности среди средних возрастов. Тем более, чтодраматические и политизированные сентенции никак делу не по-могут: рожать от этого больше не станут, людей на дорогах будетгибнуть не меньше и травиться алкоголем также не меньше. Имен-но по конкретным направлениям сохранения здоровья и жизней лю-дей, а также содействия рождению второго и третьего ребенка всемье и нужно действовать, в том числе и направлять государствен-ные средства. Не помешают и пропаганда здорового образа жизнии деторождения, меры против курения, производства некачествен-ной водки, травматизма. А самое важное – внушение жителям стра-ны, каждому человеку, начиная с малого возраста, что прежде все-го сам человек ответствен за свое тело и за его здоровое состояние.
58
чительности. Это также отражает стремление ощущать глобальнуюпринадлежность. Ислам, подобно иудаизму в преимущественно хри-стианской культуре, может предложить чувство повсеместнойпринадлежности как в историко-временном, так и в пространствен-ном аспектах, принадлежности к разной современности»10. Следу-ет заметить, что построенная на позитивной сопричастности к ми-ровым культурным системам диаспорность в современных транс-национальных контекстах заключает в себе порою большую долюутопии и метафоричности, но она уходит от таких традиционныхидеологий, как «утрата», «изгнание», «маргинальность», и большеотражает конструктивные жизненные стратегии успешной адап-тации и полезного космополитизма. Возможно, эта перспективаглобализации будет означать исторический конец феномена диас-поры, но только наступит этот конец, видимо, не скоро.
Примечания:1 James Clifford. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century.
Cambridge, Mass.: 1997, p. 249.2 См.: Арутюнян, Ю.В. Армяне – москвичи: социальный портрет по материаламсоциологического исследования // Советская этнография. 1991. №2.
3 Об этом см.: Тишков, В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозре-ние. 1997. №3.
4 Игнатьев, М. Русский альбом: Семейная хроника. СПб., 1996. С. 9, 11–12.5 Брук, С.И. Там же. См. также: Миграции и новые диаспоры в постсоветскихгосударствах / отв. ред. В.А. Тишков. М.: Авиаиздат, 1996.
6 Roger Rouse. «Mexican Migration and the Social Space of Postmodernism». Diaspora,Vol. 1, no. 1, 1991, p. 14.
7 Robin Cohen. «Diasporas and the nation-state: from victims to challenge» //International Affairs. 1996/Vol. 72. No. 3. P. 9.
8 Moris Dickstein. «After the Cold War: culture as politics, politics as culture, SocialResearch», vol. 60, no. 3, 1993, pp. 539–540.
9 Robin Cohen. Ibidem.10 James Clifford. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, p. 257.
63
ских в России должно сократиться до 85 млн. и в дальнейшем бу-дет продолжать уменьшаться» («НГ». 10.02.1995). Эти данные о том,«сколько нас останется в России» (так заранее авторы газетных за-головков и текстов демонстрируют свое понимание проблемы –«НГ». 03.06.2000), строятся на примитивных проекциях графиковрождаемости и смертности в стране второй половины 1980-х – пер-вой половины 1990-х гг. Во-первых, никто и никогда для большогои сложного по составу населения государства таких долговремен-ных графиков не строит. Демографическое поведение людей дос-таточно причудливо и не связано жестко с «обнищанием» или «ог-раблением» народа. Рождаемость может увеличиваться в самые тя-желые времена (например, десятилетие после Второй мировой вой-ны) и среди относительно бедных групп населения (например,северокавказское село в последнее десятилетие).
Еще следует толком изучить, что повлияло больше на сокраще-ние рождаемости в России в 1990 гг.: «шоковая терапия» или ради-кальное изменение по части доступности противозачаточныхсредств и новые возможности выполнения более современных тес-тов и более простых операций по прерыванию ранней беременности.Сказался и отъезд за границу в более богатые страны на учебу иработу многих сотен молодых людей – фактор, который в объясне-ниях специалистов фактически не присутствует. Но самое важное– даже незначительное улучшение экономической ситуации и пси-хологического климата в стране, которое фактически уже имеетместо, может сильно повлиять в ближайшем будущем как на рож-даемость, так и на иммиграцию в Россию. Поэтому рисовать ужа-сающие графики крайне рискованно. Тем более, что ничего анало-гичного в недавнем историческом опыте нашей и других стран ненаблюдалось. Нам не известны современные государства, где бынаселение или доминирующая этническая общность сократилисьвдвое или втрое за 3–5 десятилетий.
Приходится также напоминать, что динамика численности на-селения страны складывается далеко не из одного только естествен-ного движения населения. Иммиграция в Россию будет сохранять-ся, учитывая ее огромную притягательность для культурно близ-кого населения других стран бывшего СССР и даже для жителейдругих стран, прежде всего для китайцев. Последние не представ-ляют собою носителей некой неадаптируемой «чуждой цивилиза-ции», как считают некоторые специалисты. Китайцы прекрасно
59
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ*
Статистическая инерция
Вопрос о «вымирании России» сегодня обсуждают многие, иболюди привыкли доверять статистике и тем, кто «в этом разбирает-ся». Отечественные статистика и демографическая наука имеютсильные традиции, но в данном вопросе специалисты, делающиеоценки и для руководства страны, разбираются плохо. Вопросы чис-ленности, социального и этнического состава населения страны,характера его расселения действительно являются кардинальны-ми, ибо от этого зависит многое в экономике, политике и даже внациональной безопасности государства. Но одержимость обяза-тельным ростом населения и страх перед «вымиранием» являютсяпроявлением отсталого сознания и плохого знания. Еще хуже, ког-да не умеют считать собственное население.
В последние десятилетия большинство развитых стран имееточень низкий или нулевой рост населения. Никто по этому поводуистерик не закатывает, даже Канада – второе после России по тер-ритории государство, где еще меньшее население, почти все (90%)проживает в полосе 200 миль вдоль границы с США. А менее раз-витые, особенно бедные страны больше озабочены сдерживаниемроста собственного населения, ибо увеличение числа жителей стра-ны далеко не всегда связано с успешным развитием и с благососто-янием. Факторы, которые определяют рост или уменьшение жите-лей государства, хорошо известны: больше рождений, меньше смер-тей и больше иммигрантов – население страны растет, если наобо-рот – население уменьшается. Однако строить прогнозы в этом воп-росе на дальнюю перспективу – вещь довольно скользкая. В начале90-х гг. многие специалисты уже прогнозировали, что в течениенескольких лет в Россию как на свою «историческую родину» при-едут 5–7, может быть, и 10–15 миллионов «соотечественников»._____________* Этнопанорама. 2000. №3. С. 23–28.
62
Иначе Госкомстат России и некоторые политизированные демо-графы фактически поставляют искаженную информацию одемографической ситуации в стране, квалифицируя некоторые кри-зисные явления, а также факт отрицательного роста населения стра-ны как «демографическую катастрофу». Эту подсказку еще до пре-зидента В.В. Путина повторил глава Правительства М.М. Касья-нов, выступая в Государственной Думе со своей программой вовремя процедуры утверждения в должности, говоря о снижении чис-ленности населения России на мифические 7 млн. человек. Такогоснижения нет, даже если это данные Госкомстата, который при те-кущей статистике считает только тех граждан и неграждан, на когоместные паспортные столы передали данные в виде «талонов реги-страции». Кстати, добрая часть этих талонов может валяться по пас-портным столам довольно значительное время или совсем не пере-даваться в вышестоящие органы. А сколько миллионов жителейпредпочитают не иметь дела с паспортными столами, к сожалению,неизвестно даже приблизительно.
Кстати, есть проблемы не только недоучета иммигрантов, нодвойного учета мигрантов. Такое было и в СССР, когда, например,многие «вахтовые города» были заинтересованы регистрироватьвременно работающих, ибо от этого зависели госдотации и раз-личные социальные нормы. В итоге в бывшем СССР статданныепоследних десятилетий завышали население страны минимум на2–3 миллиона человек только по этой причине. Сейчас этот фак-тор не имеет такого значения в связи с меньшей пространствен-ной мобильностью населения и меньшей заинтересованностьюраспорядителей местных бюджетов считать всех «нахлебников».Однако сама проблема двойного учета осталась, а ее «эхо» скажет-ся наверняка при сравнении данных переписей 1989 и 2002 гг., опятьже не в пользу последней, если иметь в виду под пользой ростнаселения.
Еше более непрофессиональными выглядят прогнозы скоройдепопуляции России и «вымирания» русских. Некоторыми обличи-телями «антинародного режима» Горбачева – Ельцина – Путина илипросто заблуждающимися специалистами численность населенияк 2025 г. называется в 120–125 миллионов человек, а численностьэтнических русских якобы сократится до 65–70 миллионов, а к се-редине нового века составит 35–40 миллионов! Историк Ю. Кобы-щанов объявил, что «к 2020 г. число потомственных (?! – В.Т.) рус-
60
В реальности оказалось, что приехало 2–3 миллиона из тех, когоожидали. Зато приехали несколько миллионов новых жителей стра-ны, которых не «прогнозировали» и которых, к сожалению, до сихпор отказываются считать жителями страны.
Дело в том, что госстатистика не учитывает (а значит, и не при-знает за часть населения!) примерно 4–5 миллионов человек, подав-ляющее большинство которых не имеет российского гражданства,но которые живут в России. Это прежде всего граждане Азер-байджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Украины, при-бывшие в Россию в последние годы и находящиеся здесь временноили постоянно. По всем принятым критериям, они входят в совокуп-ное население страны. Поскольку эти миллионы неучтенных, глав-ным образом молодых, совсем не «дряхлых» мужчин cоставляют однуиз динамичных частей населения страны, то в этом случае обнароду-емые данные о качестве населения и его возрастной структуре яв-ляются несостоятельными. Если бы таким же образом считали своенаселение Германия или Франция, где по десятку миллионов жите-лей не имеют гражданства, то там давно бы уже обнаружилась «де-мографическая катастрофа». А в США и Канаде, где в составе на-селения доля новожителей без гражданства и временных иммигран-тов еще больше, такая «катастрофа» наблюдается уже с полвека.
Какие бы чувства ни испытывали некоторые российские уче-ные и статистики к тем, кого бытовой расизм квалифицирует как«черные», «азиаты», «кавказцы» и прочие «чужие», серьезные спе-циалисты-демографы не могут согласиться, чтобы несколько мил-лионов жителей страны исключались из анализа демографическойситуации. Некоторые мои коллеги, фигурируя фантастическимиграфиками «вымирания русских» как «государствообразующего эт-носа», даже в отношении вновь прибывших в страну гражданрусского происхождения используют термин «не чисто русские» ив свой анализ категорию иммигрантов не включают, полагая, чтодемографическая ситуация в России определяется прежде всего такназываемым «постоянным населением». Конечно, это не так.
Очень часто в истории многих стран иммиграция или эмигра-ция играли существенную роль, причем не просто в качестве вре-менного фактора. Примером могут быть не только страны, образо-вавшиеся на основе переселенческой колонизации. Во второй по-ловине XX в. население государств Западной Европы (кроме Сре-диземноморского ареала) растет фактически за счет иммигрантов
61
и их потомков. Подобное происходит в последнее десятилетие и вРоссии. Мой прогноз предполагает, что именно иммиграция явля-ется и будет довольно долго оставаться существенным факто-ром формирования населения страны. Нужно только изменить кней отношение и научиться лучше считать.
Статорганы и специалисты не прилагают должных усилий, что-бы более точно оценить число и влияние на ситуацию вновь при-бывшего или временно находящегося на территории страны насе-ления. Я не отрицаю факты снижения рождаемости и роста смерт-ности, но именно по причине пренебрежения проблемой иммигра-ции официальная цифра численности населения России за послед-нее десятилетие выглядит столь неблагоприятной для тех, комухочется иметь обязательно больше жителей в своей стране. Но дажеи в этом случае общая цифра жителей страны за 10 лет измениласьмало: 147,4 млн. человек в 1989 г. и 148,7 млн. человек в 1992 г.(период роста); 148,4 млн. человек в 1994 г. и 146,7 млн. человек в1998 г. (период падения). За 1999 г. Госкомстат дает драматичес-кую цифру падения обшей численности населения – 1,2 млн. чело-век, если верить цифре 145,5 млн. человек на 1 января 2000 г.! Па-дение почти в три раза по сравнению с предыдущими несколькимигодами (примерно по 300–400 тыс. человек в год).
Для серьезных специалистов такие данные вызывают вопросы.Что должно было случиться, если при схожей динамике определяю-щих численность населения факторов (показатели рождаемости исмертности почти не изменились, несколько снизилась толькозарегистрированная иммиграция!) статистика зафиксировала такоесильное сокращение общей численности? На протяжении сколькихлет идет уменьшение численности на 750 тысяч ежегодно, чтобы«прогнозисты» сделали апокалиптический вывод о сокращении на-селения на 22 миллиона уже через 15 лет? Такого в мировом опытесовременных государств никогда не наблюдалось, а за подобные про-гнозы их авторов следует исключать из профессионального сообще-ства. Абсолютно уверен, что не будет подобного сокращения насе-ления в России при всей сложности демографической ситуации.
Кого и как считать
Как бы ни было сложно считать мигрирующих и официальнонезарегистрированных жителей страны, делать это необходимо.
60
В реальности оказалось, что приехало 2–3 миллиона из тех, когоожидали. Зато приехали несколько миллионов новых жителей стра-ны, которых не «прогнозировали» и которых, к сожалению, до сихпор отказываются считать жителями страны.
Дело в том, что госстатистика не учитывает (а значит, и не при-знает за часть населения!) примерно 4–5 миллионов человек, подав-ляющее большинство которых не имеет российского гражданства,но которые живут в России. Это прежде всего граждане Азер-байджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдовы, Украины, при-бывшие в Россию в последние годы и находящиеся здесь временноили постоянно. По всем принятым критериям, они входят в совокуп-ное население страны. Поскольку эти миллионы неучтенных, глав-ным образом молодых, совсем не «дряхлых» мужчин cоставляют однуиз динамичных частей населения страны, то в этом случае обнароду-емые данные о качестве населения и его возрастной структуре яв-ляются несостоятельными. Если бы таким же образом считали своенаселение Германия или Франция, где по десятку миллионов жите-лей не имеют гражданства, то там давно бы уже обнаружилась «де-мографическая катастрофа». А в США и Канаде, где в составе на-селения доля новожителей без гражданства и временных иммигран-тов еще больше, такая «катастрофа» наблюдается уже с полвека.
Какие бы чувства ни испытывали некоторые российские уче-ные и статистики к тем, кого бытовой расизм квалифицирует как«черные», «азиаты», «кавказцы» и прочие «чужие», серьезные спе-циалисты-демографы не могут согласиться, чтобы несколько мил-лионов жителей страны исключались из анализа демографическойситуации. Некоторые мои коллеги, фигурируя фантастическимиграфиками «вымирания русских» как «государствообразующего эт-носа», даже в отношении вновь прибывших в страну гражданрусского происхождения используют термин «не чисто русские» ив свой анализ категорию иммигрантов не включают, полагая, чтодемографическая ситуация в России определяется прежде всего такназываемым «постоянным населением». Конечно, это не так.
Очень часто в истории многих стран иммиграция или эмигра-ция играли существенную роль, причем не просто в качестве вре-менного фактора. Примером могут быть не только страны, образо-вавшиеся на основе переселенческой колонизации. Во второй по-ловине XX в. население государств Западной Европы (кроме Сре-диземноморского ареала) растет фактически за счет иммигрантов
61
и их потомков. Подобное происходит в последнее десятилетие и вРоссии. Мой прогноз предполагает, что именно иммиграция явля-ется и будет довольно долго оставаться существенным факто-ром формирования населения страны. Нужно только изменить кней отношение и научиться лучше считать.
Статорганы и специалисты не прилагают должных усилий, что-бы более точно оценить число и влияние на ситуацию вновь при-бывшего или временно находящегося на территории страны насе-ления. Я не отрицаю факты снижения рождаемости и роста смерт-ности, но именно по причине пренебрежения проблемой иммигра-ции официальная цифра численности населения России за послед-нее десятилетие выглядит столь неблагоприятной для тех, комухочется иметь обязательно больше жителей в своей стране. Но дажеи в этом случае общая цифра жителей страны за 10 лет измениласьмало: 147,4 млн. человек в 1989 г. и 148,7 млн. человек в 1992 г.(период роста); 148,4 млн. человек в 1994 г. и 146,7 млн. человек в1998 г. (период падения). За 1999 г. Госкомстат дает драматичес-кую цифру падения обшей численности населения – 1,2 млн. чело-век, если верить цифре 145,5 млн. человек на 1 января 2000 г.! Па-дение почти в три раза по сравнению с предыдущими несколькимигодами (примерно по 300–400 тыс. человек в год).
Для серьезных специалистов такие данные вызывают вопросы.Что должно было случиться, если при схожей динамике определяю-щих численность населения факторов (показатели рождаемости исмертности почти не изменились, несколько снизилась толькозарегистрированная иммиграция!) статистика зафиксировала такоесильное сокращение общей численности? На протяжении сколькихлет идет уменьшение численности на 750 тысяч ежегодно, чтобы«прогнозисты» сделали апокалиптический вывод о сокращении на-селения на 22 миллиона уже через 15 лет? Такого в мировом опытесовременных государств никогда не наблюдалось, а за подобные про-гнозы их авторов следует исключать из профессионального сообще-ства. Абсолютно уверен, что не будет подобного сокращения насе-ления в России при всей сложности демографической ситуации.
Кого и как считать
Как бы ни было сложно считать мигрирующих и официальнонезарегистрированных жителей страны, делать это необходимо.
59
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯИ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ*
Статистическая инерция
Вопрос о «вымирании России» сегодня обсуждают многие, иболюди привыкли доверять статистике и тем, кто «в этом разбирает-ся». Отечественные статистика и демографическая наука имеютсильные традиции, но в данном вопросе специалисты, делающиеоценки и для руководства страны, разбираются плохо. Вопросы чис-ленности, социального и этнического состава населения страны,характера его расселения действительно являются кардинальны-ми, ибо от этого зависит многое в экономике, политике и даже внациональной безопасности государства. Но одержимость обяза-тельным ростом населения и страх перед «вымиранием» являютсяпроявлением отсталого сознания и плохого знания. Еще хуже, ког-да не умеют считать собственное население.
В последние десятилетия большинство развитых стран имееточень низкий или нулевой рост населения. Никто по этому поводуистерик не закатывает, даже Канада – второе после России по тер-ритории государство, где еще меньшее население, почти все (90%)проживает в полосе 200 миль вдоль границы с США. А менее раз-витые, особенно бедные страны больше озабочены сдерживаниемроста собственного населения, ибо увеличение числа жителей стра-ны далеко не всегда связано с успешным развитием и с благососто-янием. Факторы, которые определяют рост или уменьшение жите-лей государства, хорошо известны: больше рождений, меньше смер-тей и больше иммигрантов – население страны растет, если наобо-рот – население уменьшается. Однако строить прогнозы в этом воп-росе на дальнюю перспективу – вещь довольно скользкая. В начале90-х гг. многие специалисты уже прогнозировали, что в течениенескольких лет в Россию как на свою «историческую родину» при-едут 5–7, может быть, и 10–15 миллионов «соотечественников»._____________* Этнопанорама. 2000. №3. С. 23–28.
62
Иначе Госкомстат России и некоторые политизированные демо-графы фактически поставляют искаженную информацию одемографической ситуации в стране, квалифицируя некоторые кри-зисные явления, а также факт отрицательного роста населения стра-ны как «демографическую катастрофу». Эту подсказку еще до пре-зидента В.В. Путина повторил глава Правительства М.М. Касья-нов, выступая в Государственной Думе со своей программой вовремя процедуры утверждения в должности, говоря о снижении чис-ленности населения России на мифические 7 млн. человек. Такогоснижения нет, даже если это данные Госкомстата, который при те-кущей статистике считает только тех граждан и неграждан, на когоместные паспортные столы передали данные в виде «талонов реги-страции». Кстати, добрая часть этих талонов может валяться по пас-портным столам довольно значительное время или совсем не пере-даваться в вышестоящие органы. А сколько миллионов жителейпредпочитают не иметь дела с паспортными столами, к сожалению,неизвестно даже приблизительно.
Кстати, есть проблемы не только недоучета иммигрантов, нодвойного учета мигрантов. Такое было и в СССР, когда, например,многие «вахтовые города» были заинтересованы регистрироватьвременно работающих, ибо от этого зависели госдотации и раз-личные социальные нормы. В итоге в бывшем СССР статданныепоследних десятилетий завышали население страны минимум на2–3 миллиона человек только по этой причине. Сейчас этот фак-тор не имеет такого значения в связи с меньшей пространствен-ной мобильностью населения и меньшей заинтересованностьюраспорядителей местных бюджетов считать всех «нахлебников».Однако сама проблема двойного учета осталась, а ее «эхо» скажет-ся наверняка при сравнении данных переписей 1989 и 2002 гг., опятьже не в пользу последней, если иметь в виду под пользой ростнаселения.
Еше более непрофессиональными выглядят прогнозы скоройдепопуляции России и «вымирания» русских. Некоторыми обличи-телями «антинародного режима» Горбачева – Ельцина – Путина илипросто заблуждающимися специалистами численность населенияк 2025 г. называется в 120–125 миллионов человек, а численностьэтнических русских якобы сократится до 65–70 миллионов, а к се-редине нового века составит 35–40 миллионов! Историк Ю. Кобы-щанов объявил, что «к 2020 г. число потомственных (?! – В.Т.) рус-
58
чительности. Это также отражает стремление ощущать глобальнуюпринадлежность. Ислам, подобно иудаизму в преимущественно хри-стианской культуре, может предложить чувство повсеместнойпринадлежности как в историко-временном, так и в пространствен-ном аспектах, принадлежности к разной современности»10. Следу-ет заметить, что построенная на позитивной сопричастности к ми-ровым культурным системам диаспорность в современных транс-национальных контекстах заключает в себе порою большую долюутопии и метафоричности, но она уходит от таких традиционныхидеологий, как «утрата», «изгнание», «маргинальность», и большеотражает конструктивные жизненные стратегии успешной адап-тации и полезного космополитизма. Возможно, эта перспективаглобализации будет означать исторический конец феномена диас-поры, но только наступит этот конец, видимо, не скоро.
Примечания:1 James Clifford. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century.
Cambridge, Mass.: 1997, p. 249.2 См.: Арутюнян, Ю.В. Армяне – москвичи: социальный портрет по материаламсоциологического исследования // Советская этнография. 1991. №2.
3 Об этом см.: Тишков, В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозре-ние. 1997. №3.
4 Игнатьев, М. Русский альбом: Семейная хроника. СПб., 1996. С. 9, 11–12.5 Брук, С.И. Там же. См. также: Миграции и новые диаспоры в постсоветскихгосударствах / отв. ред. В.А. Тишков. М.: Авиаиздат, 1996.
6 Roger Rouse. «Mexican Migration and the Social Space of Postmodernism». Diaspora,Vol. 1, no. 1, 1991, p. 14.
7 Robin Cohen. «Diasporas and the nation-state: from victims to challenge» //International Affairs. 1996/Vol. 72. No. 3. P. 9.
8 Moris Dickstein. «After the Cold War: culture as politics, politics as culture, SocialResearch», vol. 60, no. 3, 1993, pp. 539–540.
9 Robin Cohen. Ibidem.10 James Clifford. Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997, p. 257.
63
ских в России должно сократиться до 85 млн. и в дальнейшем бу-дет продолжать уменьшаться» («НГ». 10.02.1995). Эти данные о том,«сколько нас останется в России» (так заранее авторы газетных за-головков и текстов демонстрируют свое понимание проблемы –«НГ». 03.06.2000), строятся на примитивных проекциях графиковрождаемости и смертности в стране второй половины 1980-х – пер-вой половины 1990-х гг. Во-первых, никто и никогда для большогои сложного по составу населения государства таких долговремен-ных графиков не строит. Демографическое поведение людей дос-таточно причудливо и не связано жестко с «обнищанием» или «ог-раблением» народа. Рождаемость может увеличиваться в самые тя-желые времена (например, десятилетие после Второй мировой вой-ны) и среди относительно бедных групп населения (например,северокавказское село в последнее десятилетие).
Еще следует толком изучить, что повлияло больше на сокраще-ние рождаемости в России в 1990 гг.: «шоковая терапия» или ради-кальное изменение по части доступности противозачаточныхсредств и новые возможности выполнения более современных тес-тов и более простых операций по прерыванию ранней беременности.Сказался и отъезд за границу в более богатые страны на учебу иработу многих сотен молодых людей – фактор, который в объясне-ниях специалистов фактически не присутствует. Но самое важное– даже незначительное улучшение экономической ситуации и пси-хологического климата в стране, которое фактически уже имеетместо, может сильно повлиять в ближайшем будущем как на рож-даемость, так и на иммиграцию в Россию. Поэтому рисовать ужа-сающие графики крайне рискованно. Тем более, что ничего анало-гичного в недавнем историческом опыте нашей и других стран ненаблюдалось. Нам не известны современные государства, где бынаселение или доминирующая этническая общность сократилисьвдвое или втрое за 3–5 десятилетий.
Приходится также напоминать, что динамика численности на-селения страны складывается далеко не из одного только естествен-ного движения населения. Иммиграция в Россию будет сохранять-ся, учитывая ее огромную притягательность для культурно близ-кого населения других стран бывшего СССР и даже для жителейдругих стран, прежде всего для китайцев. Последние не представ-ляют собою носителей некой неадаптируемой «чуждой цивилиза-ции», как считают некоторые специалисты. Китайцы прекрасно
57
ти в их общества теократические идеи и нормы частной жизни, покоторым желают жить представители мусульманских общин, став-шие уже полноправными гражданами этих стран. Как предупреж-дает один из авторов, своим желанием изменить существующиеправила, а не принимать сложившиеся правила игры, диаспорыбудут служить «средством разрушения хрупкого баланса междуобщей культурой и отдельными различиями»8.
В то же время некоторые специалисты делают слишком поспеш-ные выводы по поводу исторических перспектив феномена диас-поры. Ссылаясь на то, что идеология национализма не способнасегодня эффективно ограничивать пространство социальной иден-тичности границами национальных государств, они полагают, чтопроцессы глобализации создают новые возможности для возраста-ния роли диаспор во многих сферах и для превращения диаспор вособые адаптивные формы социальной организации. Не отрицаяпоследнего, мы, однако, не можем согласиться с выводом, что «в ка-честве формы социальной организации диаспоры предшествовалинациональным государствам, трудно существовали в их рамках и,возможно, сейчас во многих аспектах могут превзойти и прийти имна смену»9. Причина нашего несогласия основывается на том, чтонынешняя стадия человеческой эволюции продолжает демонстри-ровать, что государства остаются наиболее мощной формой соци-альной группировки людей, обеспечивающих жизнедеятельность че-ловеческих сообществ. Никакой конкурентной формы на горизон-те не просматривается. Более того, именно государства использу-ют диаспоры в своих утилитарных целях, чаще всего для собствен-ного укрепления и для разрушения или ослабления других. И в этомплане диаспоры может ожидать совсем обратная перспектива.
Современные диаспоры обретают еще один важный аспект. Ониутрачивают обязательную ссылку на какую-то определенную ло-кальность – страну исхода и обретают на уровне самосознания иповедения референтную связь с определенными всемирно-исто-рическими культурными системами и политическими силами. Обя-зательность «исторической родины» уходит из диаспорного дис-курса. Связь выстраивается с такими глобальными метафорами, как«Африка», «Китай», «Ислам». Как отмечает в этой связи ДжеймсКлиффорд, «этот процесс – не столько по поводу быть африканцемили китайцем, сколь по поводу – быть американцем или британцемили кем-то еще в месте проживания, но с сохранением отли-
64
адаптируются во многих, в т.ч. и в европейских, странах и даже беззнания русского языка могут составить серьезную конкуренцию нарынке иммигрантов для выходцев из той же Средней Азии. Я неявляюсь сторонником идеи массового заселения Сибири и Дальне-го Востока выходцами из Китая, но обсуждать привлечение китай-ской рабочей силы в страну и ее рациональное размещение необхо-димо вместо воспаленных и необоснованных сентенций насчет яко-бы уже происходящей китайской экспансии на Дальнем Востоке.Эти сентенции – одна из наиболее ярких демонстраций не-компетенции специалистов и зашоренности политиков. Уже состо-явшаяся иммиграция и неизбежная (к большому благу для стра-ны!) будущая иммиграция обязательно повлияют на рост рождае-мости в России уже в самые ближайшие годы. Все выстраиваемыеграфики грозящей демографической катастрофы ровным счетомничего не стоят. Они, кстати, очень лукавы, ибо сходная ситуациясуществовала на территории РСФСР (особенно в так называемых«русских областях») и в 1970–1980 гг., а общий рост населения СССРобеспечивался за счет роста населения республик Средней Азии иЗакавказья, а не собственно России.
Рецепты вместо сентенций
Период реформ в России связан с серьезными демографически-ми проблемами: прежде всего – это относительно высокая смер-тность, особенно среди мужчин и детей, а также низкая рожда-емость среди населения центральных областей страны. Ни однаиз них не может квалифицироваться как катастрофическая, кро-ме мужской смертности среди средних возрастов. Тем более, чтодраматические и политизированные сентенции никак делу не по-могут: рожать от этого больше не станут, людей на дорогах будетгибнуть не меньше и травиться алкоголем также не меньше. Имен-но по конкретным направлениям сохранения здоровья и жизней лю-дей, а также содействия рождению второго и третьего ребенка всемье и нужно действовать, в том числе и направлять государствен-ные средства. Не помешают и пропаганда здорового образа жизнии деторождения, меры против курения, производства некачествен-ной водки, травматизма. А самое важное – внушение жителям стра-ны, каждому человеку, начиная с малого возраста, что прежде все-го сам человек ответствен за свое тело и за его здоровое состояние.
56
зультате недобровольных решений и продолжают сталкиваться спроблемой отторжения. С той только разницей, что возможности,которыми располагают эти группы, существенно меняются. Если впрошлом единственная желаемая стратегия была – успешная ин-теграция во втором или в третьем поколении, то ныне ситуация ча-сто складывается по-другому. Как отмечает Р. Коэн, «чем большеприсутствует принуждения, тем меньше вероятность ожидаемойсоциализации в новом окружении. В этих условиях этнические илитранснациональные общности будут упорно сохраняться или пре-образовываться, но не растворяться. Сейчас невозможно отрицать,что многие диаспоры хотят иметь свой кусок пирога и хотят егокушать. Они хотят не только безопасности и равных возможностейв странах проживания. Но также и сохранения связей со странойпроисхождения и своими соплеменниками в других странах... Мно-гие иммигранты не являются более разрозненными и послушнымилюдьми, ожидающими гражданства. Вместо этого, они могут со-хранять двойное гражданство, выступать за особые отношения сосвоими родинами, требовать помощи в обмен на избирательнуюподдержку, влиять на внешнюю политику и бороться за сохране-ние семейных иммигрантских квот»7.
Современные диаспоры, их ресурсы и организации представ-ляют один из наиболее серьезных исторических вызовов для госу-дарств. В странах пребывания они формируют сети международ-ной незаконной торговли наркотиками, создают террористическиеорганизации, вовлекаются в другие акции, которые нарушают на-циональный закон и внутреннюю стабильность. Именно деятель-ность диаспорных групп (палестинских, кубинских, ирландских,албанских и других) превратила сегодня такие страны, как, напри-мер, США и Германия, в основные территории, откуда исходит меж-дународный терроризм. Часто это делается с ведома и откровенноиспользуется в геополитических целях самими государствами пре-бывания. В более мирных формах активная деятельность диаспорначинает представлять серьезную проблему для местных обществ.Выдвигаются требования и ведется активная борьба за признаниеобычного права, действующего в рамках традиционной культурыданных групп, законов стран пребывания. Более того, западные ли-беральные демократии, решившие в свое время в упорной борьбевопросы отделения церкви и государства, мира приватного и мирапубличного, сегодня вынуждены иметь дело с попытками привнес-
65
Официальная статистика почти всегда требует внимательногоанализа и корректив. Тот же Госкомстат России, например, приво-дил данные о росте сельского населения в период 1992–1995 гг.(38,8 млн. человек в 1991 г. и 40 млн. человек в 1995 г.), т.е. о свое-образном процессе деурбанизации страны. На самом же деле, ско-рее всего имел место другой процесс, а именно: перепрописка мно-гих горожан в сельской местности в связи с процессом приватиза-ции и ожиданиями граждан передачи земли в частную собствен-ность. В наблюдаемой нами рязанской деревне Алтухово, по дан-ным местного сельсовета, население в эти годы увеличилось на двадесятка человек. Однако мои наблюдения этого не подтвердили:просто некоторые уехавшие ранее в Рязань или в Москву сыновьяи дочки прописались на всякий случай в родительские дома, и неболее того. Это частное наблюдение вполне может касаться общейситуации по стране. Отметим к тому же, что в последние годы сель-ское население прибавилось почти на 1 млн. человек за счет пере-вода городских пунктов в категорию сельских.
Таким образом, перед переписью 2002 г. стоит важнейшая зада-ча установить более или менее точную численность населения Рос-сии. Неучтенное население – это извечная проблема переписей, нодолжны быть предусмотрены дополнительные меры, чтобы, напри-мер, сотни тысяч сезонных (часть из них фактически постоянныежители) рабочих и предпринимателей, которые занимаются строи-тельством или торговлей в Москве и других городах или строятчастные коттеджи в Подмосковье, попали в поле зрения перепис-чиков. Тем более данные не будут точными, если в перепись не по-падут миллионы жителей без российского гражданства или вы-ехавшие из зон конфликтов, которые могут просто побояться встре-чи с переписчиком. Закрытые железными дверьми подъезды домови отдельных квартир – это, пожалуй, самая главная проблема пред-стоящей переписи. Уже сейчас необходимо объявить законодатель-ную гарантию, что индивидуальные переписные данные не могутбыть предоставлены никаким ведомствам и службам, судебным,налоговым и миграционным органам, частным запросам, включаяисследователей (только по истечении минимум 50 лет). За наруше-ние – пять лет тюрьмы и 5 тысяч долларов штрафа, как, например,в США! Только так можно заранее создавать климат доверия, безкоторого перепись будет фикцией и просто выброшенными на ве-тер деньгами.
55
являют, «могут жить везде, но только ближе к аэропорту». Это нетолько бизнесмены, но и разного рода профессионалы и поставщи-ки особых услуг. Дом, семья и работа, а тем более родина для нихимеют не только значение разделенных границами мест, но и носятмножественный характер. Домов может быть несколько, семья – вразных местах в разное время, а место работы меняться, не меняяпрофессии и принадлежности к фирме. Через телевизор, телефон ипутешествия они поддерживают культурные и семейно-родствен-ные связи не менее интенсивно, чем живущие в одном месте людис постоянным автобусным маршрутом дом – работа. Приезжая изПраги или Нью-Йорка в Москву, они видят своих родственников идрузей чаще, чем могут видеться родные братья или сестры, живу-щие в одном городе. Они участвуют в принятии решений на уровнемикрогрупп и влияют на другие важные аспекты жизни сразу двухили нескольких сообществ.
Таким образом, разные и далекие места и находящиеся в нихлюди начинают формировать единую общность «благодаря посто-янной циркуляции людей, денег, товаров и информации»6. Этунарождающуюся категорию человеческих коалиций и форм истори-ческих связей возможно называть транснациональными общнос-тями. Некоторые специалисты относят данные новые явления к про-блеме транснациональных миграционных циркуляций, но это есть ичасть проблемы диаспоры. Действительно, трудно назвать миллионазербайджанцев или полмиллиона грузин, курсирующих между Рос-сией и Азербайджаном (не беру в расчет старожильческую частьазербайджанцев и грузин в России), диаспорой, но в их культуре исоциальной практике бесспорно присутствует диаспорность, особен-но среди тех, кто подолгу находится в России. Пересекающие де-сятки раз в год границы между странами (не только бывшего СССР)люди не могут с обычной легкостью квалифицироваться как эмиг-ранты или иммигранты. Они не попадают в вышеупомянутые опи-сания диаспорных ситуаций. И все-таки это новая по своей приро-де диаспора, которая, возможно, заслуживает нового названия.
В любом случае современные диаспоры или транснациональныеобщности, как и в прошлом, пребывают в своем главном взаимо-действии с государственными образованиями: странами исхода истранами проживания. Этот диалог продолжает носить сложныйхарактер, но в нем есть ряд новых явлений. В большинстве своемчлены диаспорных групп оказываются в данном состоянии в ре-
66
Как считать бедность и богатство?
Еще более важен вопрос об оценке статистикой социальныхусловий жизни. Доминирующая позиция обществоведов и полити-ков сводится к тому, что в годы реформ произошло всеобщее обни-щание и грандиозное социальное расслоение населения страны.Обычно приводилась цифра: 10% выиграло от реформ и 90% про-играло (см., например, труды академиков Римашевской, Г.В. Оси-пова и других). В последнее время появились некоторые поправкив пользу «выигравших». Однако эмоциональная вовлеченность впользу «катастройки» настолько велика, что затрудняет дискуссию,а некоторые считают, что выражение отличных или противополож-ных взглядов является неким «социальным заказом».
Мои наблюдения расходятся с господствующими заключения-ми. Те, кто пишет об «обнищании народа», никаких убедительныхаргументов не приводят, кроме малонадежных данных о сокраще-нии потребления и об ухудшении состояния здоровья. Посетив вначале июня 2000 г. Дагестан – самый бедный, депрессивный и на85% дотационный регион страны, если верить статистике и дажехорошим специалистам, я еще больше убедился в наличии гранди-озной мистификации относительно реального положения дел в стра-не и в своем мнении, что имеются основания говорить о позитив-ных трансформациях в России не только применительно идеологи-ческих свобод и общей демократизации. Современный Дагестанпредстает исключительно динамичным обществом, где люди одер-жимы исполнением основной миссии – социальным обустройствомсобственной жизни, мобилизуя для этого не только самое изобре-тательное предпринимательство (в Махачкале, например, около4 тысяч частных «Газелей» и «Соболей» обслуживают пассажир-ские и транспортные перевозки), этнические и родственные коали-ции, неправовые методы (воровство и мафиозные структуры), но иотчаянный торг с центром за дополнительные ресурсы. В итоге, покрайней мере равнинная часть республики от Кизляра до Дербен-та, где сосредоточено около 70–80% населения, совсем не демон-стрирует бедность, если брать в расчет размеры и качество жилья,потребляемые товары длительного пользования и престижного ха-рактера. Общие данные о состоянии здоровья населения выглядятпо Северокавказскому региону лучше, чем в других, кроме Цент-рального. Хотя в сельских районах республики распространяется
54
даря поддержке европейского сообщества и НАТО (если этот воен-ный блок сохранится).
Есть вариант массовой смены идентичности титульной груп-пой в пользу русской, но это возможно только в Белоруссии и толь-ко в случае единого государства с Россией. Но единое государствоснимает и вопрос о диаспоре.
В целом исторический процесс крайне подвижен и многовари-антен, особенно когда речь идет о динамике идентичностей. На го-ризонте мы уже видим принципиально новые явления, которыеневозможно осмыслить в старых категориях. Одно из таких явле-ний – это формирование транснациональных общностей за привыч-ным фасадом диаспоры. Исторический процесс в интересующемнас аспекте проходит как бы три стадии: миграция (или изменениеграниц), диаспора, транснациональные общности. Последнее по-нятие отражает явление, появившееся в связи с изменением харак-тера пространственных перемещений, новыми транспортными сред-ствами и коммуникативными возможностями, а также характеромчеловеческих занятий. Как мы уже отмечали, диаспора как жест-кий факт и как ситуация и ощущение – это порождение делениямира на государственные образования с охраняемыми границами ификсируемым членством. Строго говоря, при более или менее нор-мальной социально-политической ситуации внутри государств нетили не должно быть диаспор из «собственной» культурной среды,ибо государство есть равный дом для всех его граждан. Диаспорапоявляется, когда появляется разделенная пограничным паспорт-ным контролем оппозиция «там и здесь».
Но в последнее десятилетие (на Западе еще раньше) появилисьфакторы, размывающие привычные представления о диаспоре и намежгосударственном (транснациональном) уровне. Если москвич,формально эмигрировав в Израиль или в европейскую страну, со-храняет квартиру в российской столице и ведет основной бизнес народине, а также поддерживает привычный круг знакомств и связей,то это уже другой эмигрант. Это человек – не между двумя страна-ми и двумя культурами (что определяло диаспорное поведение впрошлом), а это человек в двух странах (иногда даже формально сдвумя паспортами) и в двух культурах одновременно. Где у него«бывшая родина» и где «дом» – такой строгой оппозиции уже несуществует. Не только на Западе, но и в Азиатско-Тихоокеанскомрегионе существуют большие группы людей, которые, как они за-
67
туберкулез и есть серьезные проблемы с детской смертностью издоровьем женской части населения. Здесь есть над чем задумать-ся статистикам, экономистам и социологам, если они хотят дей-ствительно «замерить» и «сосчитать» местные сообщества.
Одинокие нищие на российских городских улицах (в селах ихфактически нет) не идут ни в какое сравнение с уличной нищетойЛос-Анджелеса или Нью-Йорка. Тем, кого смущают подростки,продающие газеты или моющие автомобили в учебное время, мож-но посоветовать осмотреться получше на улицах мексиканских,бразильских или индийских городов. Россияне просто не видели,что есть подлинная нищета. Выход наружу части обездоленных(в большинстве нуждающихся в лечении от алкоголизма), а такжедемонстрация социальной расслоенности ныне уже за пределамиобкомовских заборов производит на них психологический шок. Несоставляют исключения и профессиональные обществоведы.
Но самый главный вопрос – это относительность самого поня-тия «бедность» или «обнищание». Бедность в Великобритании илив США – это не бедность в Индии или в странах Африки. Смеюутверждать, что Россия в данном случае скорее попадает в первую,чем во вторую категорию, а точнее, в категорию стран ВосточнойЕвропы, Балтии и западной части стран СНГ. «Наша» бедность ни-как не согласуется не только с хорошей одеждой и драгоценностя-ми в ушах жалующихся, но и с более глубокими социологически-ми и демографическими характеристиками феномена бедности. На-зову важные моменты, которые говорят скорее о «психологической»бедности образованного и имеющего высокие социальные ожида-ния населения, а не о реальной нищете. Например, 10 из наиболеебедных стран, ныне переживающих посткоммунистические транс-формации (с совокупным доходом менее 1000 долларов на челове-ка в год), имели среднюю детскую смертность 37 (число смертейна тысячу рожденных и доживших до одного года). Если взять стра-ны остального мира с подобным уровнем доходов, то там средняядетская смертность составляет 81! Грамотность среди взрослогонаселения в этих 10 странах составляет 98%, а в остальных стра-нах той же категории – не более 70%. Общая рождаемость нахо-дится на уровне 2–3 детей по сравнению с 5 детьми в остальныхстранах мира с аналогичными доходами. Другими словами, еслинекоторые посткоммунистические страны (кстати, Россия среди нихнаходится даже в более благополучной категории по уровню дохо-
53
Новые диаспоры – это малоприемлемая категория, а тем болеекатегория «меньшинства», в которую запихнули эту часть населенияпредставители «титульных наций». В этой ситуации неустоявшихсятрансформаций и жесткой политизированности предпочтительнееначинать с анализа, а не с категории. Станут ли русские диаспорой всмысле своей групповой отличительности и демонстрируемой свя-зи с родиной – Россией? Это вопрос огромной значимости. И здесь,на наш взгляд, возможны четыре исторические перспективы.
Первая – это полноправная социально-политическая интегра-ция и частично культурная (на основе двуязычия и многокультур-ности) в новые гражданские сообщества, построенные на доктри-не равнообщинных государств. Это сейчас наиболее сложная, носамая реальная и конструктивная с точки зрения как национальныхинтересов этих стран, так и интересов России, не говоря о самихрусских. Кое-где признаки новой доктрины государственного стро-ительства на основе многоэтничных гражданских наций появля-ются, но наследованный и господствующий этнонационализм бло-кирует эту тенденцию.
Вторая – это формирование более широких конгломеративныхкоалиций с другими русскоязычными (славянской диаспоры), чтомаловероятно в условиях довольно успешной национализации ти-тульных групп, но тем не менее возможно.
Третья – это переход на статус меньшинств и мигрантских группс перспективой ассимиляции. Это фактически невозможно из-замирового статуса русского языка или культуры и мощногососедствующего воздействия России.
Четвертая – массовый исход в Россию. Это возможно толькодля Средней Азии и Закавказья, но не исключено и для других стран,особенно стран Балтии, если Россия вырвется вперед или хотя бысравняется по социально-экономическим условиям жизни с При-балтикой.
Самая маловероятная, но возможная перспектива – это отвоева-ние доминирующего статуса и государства под свой контроль, чтовозможно только в случае решающего демографического преиму-щества в условиях более быстрого роста русского населения и бо-лее значительного выезда из страны титульного населения. В обо-зримой перспективе это возможно только в Латвии и нигде больше.Но и в этом случае скорее будет существовать ситуация господ-ствующего меньшинства над большинством («диаспорой»?!) благо-
68
дов, т.е. выше одной тысячи долларов в год на человека) действи-тельно имеют бедное население, тогда в них должно умирать боль-ше младенцев и гораздо больше рождаться, а также не может бытьстоль большого числа грамотных людей, ибо это тоже стоит боль-ших денег.
Перепись населения и задача для экспертов
Моя позиция «жить стало лучше, но сложнее» лишь только от-части есть форма гуманитарной терапии. На самом деле это вызовнесостоятельному отечественному обществоведению, которое не-сет часть ответственности за метафоры «катастройки» и «обвалы»,ибо порождает подобных чудовищ прежде всего в головах людей.Статистика не может вырваться из этого дискурса, ибо сама дела-ется распропагандированными людьми или просто обслуживаетполитический запрос. Как можно оставлять без внимания наличиепочти 40 миллионов земельных участков в собственности граждан,большая часть из которых была получена и обустроена именно впоследние десять лет? Статистика (предстоящая перепись можетне стать исключением) обходит частное загородное строительство,в т.ч. дополнительные постройки, перестройки и прочие улучше-ния, поскольку очень многие владельцы недвижимости не могутпреодолеть канитель регистрации домостроений или не желаютэтого делать. Очень вероятно, что многие не сообщат данные све-дения и переписчикам в ходе переписи.
Но именно сюда (в новые дома и квартиры) ушли основные ре-сурсы и средства граждан (в большинстве «изъятые», если хотите,украдены у государства и из окружающей среды), кроме многочис-ленных квартирных улучшений (новые окна, двери, сантехника, ре-монт комнат, мебель и прочее). Кажется, что перепись может незафиксировать и загородные особняки, ибо подавляющее большин-ство их считаются недостроенными или официально неоформлен-ными. Если все это пройдет мимо, тогда цена предстоящей перепи-си в части социальных условий будет ничтожной. Можно ли испра-вить положение? Просто необходимо, и для этого есть разные ме-тоды, которые следует дополнительно предусмотреть.
На чем основана моя убежденность в том, что уровень и объемсоциальных улучшений на порядок больше, чем нас убеждают Гос-комстат и некоторые ученые и публицисты?
52
ма изучения диаспор, в том числе и украинской диаспоры в России.Но вся эта конструкция зиждется на шатком основании советскихэтнографических и бюрократических классификаций, которые при-вязывали представителей той или иной национальности к доста-точно произвольно определенной административной территории,называвшейся «территорией своей» (или «национальной») го-сударственности. Никто из советских и нынешних этнических пред-принимателей от науки и политики не определял, на территориичьей государственности находится его подмосковная дача или го-родская квартира, но зато с удовольствием записывали территорию,контролировавшуюся красной конницей Валидова в период граж-данской войны и ставшую Башкирской Республикой, как террито-рию «своей государственности» башкир. И подобная операция со-вершалась на протяжении всей советской истории для тех граж-дан, национальность которых совпадала с названиями «националь-но-государственных образований» разного уровня.
Клише «своей не своей» этнической территории в рамках одно-го государства или на трансгосударственном уровне живуче до сихпор, и на его основе строится и современный дискурс о постсовет-ских диаспорах. К академическим постулатам только добавилисьдополнительные интерес и аргументы, продиктованные новымипостсоветскими соперничествами. Если Россия приоритетно забо-тится о разделенном русском народе и своей диаспоре, то тогдапочему Украине и Казахстану не ответить тем же, включая требо-вание паритетности в вопросах обеспечения культурных и другихзапросов представителей «своих» диаспор («Сколько там у вас вКраснодарском крае, в Сибири и на Дальнем Востоке детских са-диков на украинском языке?»).
«Новодиаспорная» конструкция безосновательно делит гражданодной страны на диаспору и, видимо, на «основное население»,когда для этого нет значимых культурных и других различий. Ук-раинцы в Сибири и в Краснодарском крае, равно как русские вХарькове и в Крыму, являются автохтонными жителями и равно-правными создателями всех форм государственности, на террито-рии которых они проживали и ныне проживают. От того, что вгеографическом пространстве прошли новые границы, в т.ч. в видевизуальных пограничных и таможенных постов, в их повседневно-сти мало что изменилось. Они не перестали быть «основным насе-лением».
69
Во-первых, это – некоторые макропоказатели, как, например,производство в стране кирпича и других строительных материа-лов, количество потребляемой населением электроэнергии, объемпроизводства и импорта легковых автомобилей, мебели, телевизо-ров, холодильников, текстиля, предметов быта и обихода, лекарстви многих других необходимых вещей. Не может же все это «ску-шать» мафия или даже 10% населения, если легковая машина (осо-бенно после появления действительно «народного автомобиля» ва-зовских моделей) стала достоянием почти каждой семьи (если счи-тать родителей и детей).
Во-вторых, это – собственные этнографические наблюдения.При всем уважении к представительным обследованиям бюджетовдомохозяйств, о котором упоминают авторы статьи в «НГ»(03.06.2000) В. Иванов и А. Суворов, наши наблюдения малогоуральского города Нижние Серги (17 тыс. жителей) и несколькихдеревень, не говоря о московской агломерации, приводят к иномувыводу. Хотя расчеты валового внутреннего продукта или доходовдомохозяйств, используемые для оценки уровня бедности, какправило, включают в себя оценки теневой экономики, более веро-ятно, что компенсация экономического спада деятельностью в не-официальном секторе намного больше, чем это принято считать.Эта деятельность и многие механизмы «выживания» остаются внесферы охвата статистики. Важнейшим моментом замещения до-ходов является, например, гораздо большая степень перераспре-деления средств в рамках родственных связей, когда более состо-ятельные родственники оказывают помощь менее состоятельным.Частные формы такого вспомоществования заменили в некоторойстепени прошлую систему социального обеспечения. Добротнойантропологии такого рода новых социальных отношений у нас, ксожалению, нет.
Безусловно, в стране имеются случаи, когда и родители живутна детские социальные пособия, а некоторые специалисты отмеча-ют этот фактор даже среди мотивов повышенной рождаемости,например в сельских семьях Дагестана. Но не менее очевидно идругое: сегодня гораздо больше молодых людей помогают даже ещенестарым и работающим родителям, чем это было в прошлые вре-мена. Вся статистика говорит о том, что молодые когорты самодея-тельного населения гораздо больше преуспели в новых условиях, иэта ситуация однозначно принимается родителями. Отсюда один
51
ей враждующей диаспоры), а значит, и поддержание языка, и дажемизерных послесталинских связей с родиной (после Хрущева).
Не менее, а даже более идеологической была небольшая, ноочень политически громкая эмиграция из СССР в 1960–80 гг. вИзраиль, США, затем в Германию и Грецию. В 1951–91 гг. из стра-ны выехало около 1,8 миллиона человек (максимально в 1990 и1991 гг. – по 400 тысяч), из них почти 1 миллион евреев (две трети– в Израиль и одна треть – в США), 550 тысяч немцев и по 100тысяч армян и греков. Эмиграция продолжалась и в последующиегоды, но несколько меньшими темпами.
Какое число российских соотечественников живет в дальнемзарубежье? Само число 14,5 миллиона выехавших из страны малочто говорит, ибо более двух третей жили на территориях, которыевключались в состав Российской империи или в состав СССР, и этитерритории сейчас не являются частью России. Восточно-славян-ский компонент в этом населении был невелик до прибытия основ-ной части «белой эмиграции» и перемещенных лиц. После этогорусских выехало мало. В целом русских в дальнем зарубежье – около1,5 миллиона, в т.ч. в США – 1,1 миллиона. Что касается лиц, име-ющих «русские крови», то это в несколько раз больше.
Большой вопрос: как и кем считать представителей других эт-нических групп. Выходцы из России создали основные этническиеобщности в двух странах: в США евреи на 80% – это выходцы изРоссии или их потомки, в Израиле не менее четверти евреев – вы-ходцы из России.
Новые диаспоры или транснациональныеобщности?
Распад СССР создал ситуацию, которая трудно поддается жест-ким определениям. Бытовая (вне современной теории) наука иполитика, используя традиционный подход и данные переписи1989 г., объявила, что после распада СССР общая численность за-рубежных россиян – 29,5 миллиона, из которых русские составля-ют 85,5% (25290 тысяч)5. Все остальные народы, кроме немцев,татар и евреев, не образуют значительных групп в новом зарубе-жье. Все это стало называться «новыми диаспорами». Естествен-но, что о «своих» диаспорах заявили и другие постсоветские госу-дарства. В Украине началась обширная исследовательская програм-
70
из моих выводов сводится к тому, что «улучшение жизни детей естьобщее улучшение», причем не только в перспективе, но и в сегод-няшнем дне.
В ходе поднятой мною дискуссии обнаружился еще один суще-ственный момент, который затрудняет выявление истины. Это –крайне эмоциональная обостренность личного восприятия анали-зируемой проблемы. Многие мои коллеги готовы обсуждать дан-ные вопросы, но только без саморефлексии и без проекции оценокна ближний круг социальных связей. Несколько сот членов Рос-сийской академии наук готовы обсуждать катастрофическое поло-жение населения в стране, но не замечают, что у подъезда их ожи-дают водители служебных автомобилей, которые (водители), кста-ти, тоже стали жить лучше и уже имеют собственные автомобили.Члены Ученого совета Института этнологии также единодушны всходном заключении и склонны делать вывод после моего доклада,что «правильнее говорить, что некоторые директора институтовстали жить лучше». Однако мои наблюдения позволяют говорить,что все директора академических институтов и все их заместителистали жить лучше. Для определения положения остальной частичленов совета необходимы более тщательные частные разговоры,но и здесь картина будет неоднозначной. По крайней мере, 10 леттому назад один из моих главных оппонентов В.И. Козлов едва лисмог бы за счет личных средств издавать собственные монографии,хотя его приверженность науке тогда была нисколько не меньше.
Обращу внимание, что речь идет о научном сообществе, дей-ствительно меньше всего выигравшем от реформ. У здания, гдерасположен Институт этнологии с 200 сотрудниками, в длиннойчереде легковых автомобилей стоят только два, принадлежащихэтнологам, в т.ч. и мои собственные «Жигули». На остальных при-ехали сотрудники разных учреждений, которые арендуют у акаде-мии офисные помещения. Еще стоят два «Мерседеса-600», принад-лежащие один директору академического «комбината питания», дру-гой – директору конторы, отвечающей за техническое обслужива-ние здания. Ясно, что мое «улучшение» (учтем также отсутствиезагородного особняка, личных инвестиций и других действитель-ных признаков преуспевания) не идет ни в какое сравнение с поло-жением владельцев многочисленных иномарок по данному адресу.Но тогда все-таки насколько ученые пребывают в бедности? И мож-но ли оценивать положение по заработной плате и гонорарам?
50
возникновения этой волны мигрантов. Объясняется это рядом об-стоятельств, подтверждающих наш тезис, что диаспора – это яв-ление прежде всего политическое, а миграция – социальное.Элитный характер мигрантов, а значит – более обостренное чув-ство утраты родины (и имущества) в отличие от трудовых мигран-тов «в овечьих тулупах» (известная кличка в Канаде), обусловилигораздо более устойчивое и эмоционально окрашенное отношениек России. Именно эта эмиграция-диаспора вобрала в себя почтивсе вышеописанные мною характеристики, в т.ч. и производство па-раллельного культурного потока, который ныне во многом возвра-щается в Россию. Именно эта эмиграция не имела и не имеет ника-кой другой конкурирующей родины, кроме России, во всех ее исто-рических конфигурациях XX в. Именно к этой эмиграции оказалисьбольше всего направлены симпатии страны исхода в последнее де-сятилетие, согрешившее в процессе демонтажа господствовавшегополитического порядка радикальным отторжением и всего совет-ского периода как некой исторической аномалии. Ностальгией ока-залась охвачена не столько диаспора, сколько ее современные отече-ственные потребители, желавшие увидеть в ней некую утраченнуюнорму, начиная от манер поведения, кончая «правильной» русскойречью. Русская (российская) диаспора как бы родилась заново, об-ласканная вниманием и извиняющей щедростью современников наисторической родине. На наших глазах историки сконструировалимиф о «золотом веке» русской эмиграции, с которым еще придетсяразбираться новыми более спокойными прочтениями.
Было бы несправедливо с точки зрения исторической коррект-ности забыть то обстоятельство, что «белая эмиграция» существо-вала и сохранилась не просто в силу своего элитно-драматическогохарактера, но и потому, что продолжала получать пополнение впоследующие исторические периоды. Во время Второй мировойвойны из почти 9 миллионов пленных и вывезенных на работы к1953 г. вернулось около 5,5 миллиона человек. Многие были убитыили умерли от ран и болезней. Однако не менее 300 тысяч т.н. пере-мещенных лиц остались в Европе или уехали в США и в другиестраны мира. Правда, из этих 300 тысяч только меньше половиныбыли с территории старых границ СССР. Не только культурная бли-зость со старой эмиграцией, но и идеологическое сходство в оттор-жении (точнее, в невозможности возврата) СССР позволили болееинтенсивное смешение этих двух потоков (в сравнении с ситуаци-
71
В Дагестане средняя заработная плата научных работников состав-ляет 700 рублей в месяц (в нашем институте немного больше). Двоедагестанских коллег, с которыми я беседовал на тему детей, при-знали, что брак их молодых отпрысков стоил им по 15–20 тыс. дол-ларов личных средств. Похоже, что обнищания ученых, которыечаще всего цитируются в категории обездоленных, по крайней мерев Москве и Дагестане не существует.
Что и как считать в многоэтничной стране?
Это, собственно говоря, главный вопрос дискуссии, связаннойс новой переписью. Он гораздо сложнее, чем представляет себе Гос-комстат, хотя в нем работают хорошие специалисты. Прежде всегозададим фундаментальный вопрос, что мы собираемся зафик-сировать в переписи: некую номенклатуру «национальностей, на-циональных или этнографических групп» (как сейчас звучит фор-мулировка вопроса переписи) или наличие у российских граждан(у российского народа) различных форм этнокультурной идентич-ности, которые часто носят множественный и невзаимоисключаю-щий характер? Большинство развитых стран, проводящих перепи-си, данные об этническом составе населения или совсем не фикси-руют (предпочитая спрашивать о языке, религии или расе), илификсируют этническую принадлежность в ее единичном или мно-жественном вариантах.
Последняя перепись США, проведенная в начале 2000 г., по-зволяет давать множественный ответ не только на вопрос об этни-ческом происхождении, но и на вопрос о расе. Кстати, все усилияамериканских ученых демонтировать понятие «раса» из академи-ческого и общественно-политического языка пока не привели кустранению данной категории из переписного листа: слишкомсильна инерция в обществе воспринимать расовые отличия как ре-альные категории населения и слишком много политики и денегкрутится вокруг вопроса о расе.
Что-то похожее мы имеем и в России применительно к катего-рии «национальность». Глубоко примордиалистское понимание этойсубстанции на протяжении десятилетий (фактически начиная с пе-реписи 1926 г.) привело к глубокой вере, что население страны состо-ит из отдельных народов (этносов) и этнографических групп (су-бэтносов), которые и составляют реестр национальностей. К тому
49
сти, а тем более русскости. Встреченные мною в США, Канаде иМексике многие потомки этой части эмиграции почти никаким об-разом не сохранили и не ощущали своей сопричастности к России.А значит, и не были ее диаспорой. Но главное даже не в этом, ибосам по себе негативный образ и успешная интеграция не являютсябезоговорочными разрушителями диаспорной идентичности. В слу-чае с евреями важным оказалось еще одно историческое обстоя-тельство: это появление родины-конкурента, причем довольноуспешного. Израиль добился победы в этой конкуренции обраще-нием к религии и демонстрацией более успешного социальногоустройства, чем в России, а также сильной пропагандой идеи алии.
Из 4,5 миллиона эмигрантов из России только около 500 тысячбыли «русскими», но на самом деле это были также украинцы ибелорусы, а также часть евреев. Перепись США 1920 г. зафиксиро-вала 392 тысячи «русских» и 56 тысяч «украинцев», но это явнозавышенные цифры, так как среди них были представители мно-гих этнических групп, особенно евреев. В Канаде также перепись1921 г. зафиксировала почти 100 тысяч «русских», но на самом делев эту категорию были включены почти все восточные славяне иевреи, выехавшие из России. Таким образом, всего за годы дорево-люционной эмиграции Россия поставила 4,5 миллиона диаспорно-го материала для разных стран (Израиля, Польши, Германии, Фин-ляндии, Литвы), из которых только не более 500 тысяч были рус-ские, украинцы и белорусы. Кто из потомков этих людей ощущаетсегодня свою связь с Россией, сказать крайне трудно. С украинца-ми ситуация яснее, ибо они по ряду причин вели себя «диаспор-нее», чем этнические русские. Белорусы скорее всего совершилипереход в русскую или в украинскую группы потомков.
Фактически исторический отсчет традиционной для современ-ности российской диаспоры начинается позднее в связи с миграци-онными процессами после 1917 г. В 1918–22 гг. большого размахадостигла политическая эмиграция групп населения, которые неприняли советскую власть или потерпели поражение в граждан-ской войне. Размер так называемой белой эмиграции определитьтрудно (примерно 1,5–2 миллиона человек), но ясно одно, что впер-вые подавляющее большинство эмигрантов составили этническиерусские. Именно об этой категории населения можно говорить какне только о диаспорном человеческом материале, а как о манифест-ной (в смысле жизненного поведения) диаспоре с самого начала
72
же большинство этнических общностей прошло этап обучающей«национализации», т.е. их представители считают себя «нациями»,и это косвенно признается государством в конституционной записио «многонациональном народе России», хотя больше нигде в феде-ральных законодательных и правовых текстах этнические общнос-ти не квалифицируются как «нации». Понятие «национальности» всмысле этнической, а не гражданской принадлежности въелосьдовольно глубоко, лидер «Ассамблеи народов России» в своих бро-шюрах и открытых письмах президентам громит «национальныхнигилистов» по всем канонам этнонационализма, хотя и со ссылка-ми на «дружбу народов». Однако ждать, когда политики и ученые(когда это в одном лице, как это вдруг повелось в России, тогда –это совсем катастрофа!) дойдут до современного понимания про-блемы, уже невозможно. Перепись 2002 г. следует провести по со-временным канонам применительно ко многим аспектам. Сделатьэто еще не поздно. Особенно в вопросах о языке и национальности(о языке мы выскажемся несколько позднее, ибо с предлагаемойформулировкой есть серьезная проблема).
У нас считается, и из этого исходит вопрос переписи, что наци-ональность может быть только одна и только по одному из родите-лей. С отменой записи «национальность» в паспортах положениестало несколько лучше, ибо позволяет больший и сменяемый вы-бор этнических идентичностей и уменьшает возможность дискри-минации по этническому принципу. Сохраняется только глупаяпроцедура записи национальности в свидетельство о рождении,когда вновь рожденный человек вообще никакой этничностью необладает. Но несостоятельность этой процедуры довольно скоровыявится, а сейчас она – не более чем небольшая задачка для ро-дителей попробовать предугадать, кем их ребенку лучше быть вРоссии.
Перепись отличается тем, что собирает агрегированные данныео национальной (этнической) принадлежности, т.е. как бы устанав-ливает количество и общую численность проживающих в странеэтнических общностей (народов). Делается это на основе индиви-дуальной идентификации (личного самоопределения), кроме мало-летних, за которых решают родители. Длительные споры идут о том,сколько народов реально проживает в стране, и некоторые ученыеполагают, что для выяснения действительно полной и объективнойкартины необходимо только позволить фиксировать все самоназва-
3
73
ния (этнонимы) и не заниматься их корректировкой через «встреч-ный» список народов, который подготовлен учеными. Этот подходисходит из той же посылки, что где-то в глубине социума и личногосознания существует подлинное «национальное, или этническое,самосознание», выражаемое в групповом самоназвании. Это само-выражение якобы не имело места в прошлом по причине отказа впризнании со стороны государства и экспертов, которые отказыва-лись «признавать этносы». По части отказа в признании – это дей-ствительно так: в советский период манипуляции с перечнем наци-ональностей были довольно частыми и во многих случаях откро-венно насильственными. Более того, даже сам по себе встречныйсписок народов – это всегда не расширение, а сужение числа этни-ческих единиц. Но было и мирное конструирование «социалисти-ческих наций и народностей», в том числе и по рекомендациямответственных ученых, по обсуждению и выбору местных элит идаже по причине благозвучия. Проблема с данным подходом состо-ит в другом.
Во-первых, в наивной вере, что этническая идентификация все-гда есть некая эксклюзивность, всегда впереди других форм иден-тификации и всегда четко осознается человеком. На самом делефеномен этничности имеет более сложную природу, в том числе ипрежде всего на личностном уровне. Этническая идентичность мо-жет носить многоуровневый характер, и трудно отказать ботлихцу,цумандинцу или ахвахцу, что он не может называться также и авар-цем, или эрзянец не может одновременно называться мордвой (та-кая ошибка уже была допущена в переписи 1994 г.).
Во-вторых, в стране проживают миллионы граждан смешанно-го этнического происхождения, разделяющие культуру, язык и са-мосознание как минимум обоих своих родителей. Почему их нуж-но ставить перед необходимостью взаимоисключающего выбора,даже если они привыкли это делать в предыдущие времена, не подо-зревая, что имеется и другой выбор за пределами госинструкций.
В-третьих, этническая самоидентификация столь подвижна идостаточно легко конструируется, что даже если одна перепись за-фиксирует «полную картину этносов», то следующая перепись дастнаверняка другой больший или меньший список, и обязательноотличный от предыдущего. К тому же право менять и определятьсвою национальную принадлежность и даже указывать или не ука-зывать ее является полной прерогативой отдельного человека.
96
зад, когда авторы, писавшие в начале или в первой половине про-шлого века, вдруг становятся основными отсылочными авторите-тами со всей их безнадежно устаревшей методологией и наивно-романтическими или обскурантистскими (часто расистскими)воззрениями. Так, без должной критической оценки были «воз-вращены» в современный арсенал науки Ильин, Бердяев, Розанов,Соловьев, Федотов, Шпет, Широкогоров и многие другие.
Переводы и новые издания старых текстов даже самых круп-ных ученых всегда требуют критического анализа с точки зрениясовременного знания, которое очень быстро развивается. Сегод-ня переиздавать очень уязвимые даже для своего времени тео-ретические конструкции Широкогорова по поводу «этноса» илиработу Шпета по так называемой этнопсихологии и не сопровож-дать их должными комментариями с позиций современной антро-пологии – это означает делать шаг назад, а не вперед. Ибо не каж-дый рядовой потребитель данных текстов, а тем более студентыспособны осуществить критический анализ и многое воспринима-ют в старых текстах как некое открытие некогда запретных тем илидаже истин.
В отечественном обществознании сложилась еще одна серьез-ная коллизия уже в рамках нынешнего поколения. Десять лет томуназад мне представлялось, что перевод и издание современныхзарубежных авторов сами по себе вызовут серьезный пересмотрсуществовавшей теоретической базы и тематических горизонтов визучении культуры и общества в их антропологической перспекти-ве. По крайней мере, отход от эссенциалистского, глубоко примор-диального видения этнического фактора в условиях блистательныхдемонстраций социального конструирования культурных различийи этнических мобилизаций (пост)советского времени представлял-ся неизбежным и скорым. Я даже не стал публиковать свою статью«Реквием по этносу» с критикой так называемой советской теорииэтноса, чтобы не раздражать своих ближайших коллег излишнимэпатажем по поводу одной из «священных коров» отечественнойэтнографии с начала 60-х гг. Казалось, что массовая эволюция дис-циплины через конкретные исследовательские опыты будет болееестественной, чем громкое свержение доминирующей научной па-радигмы.
Но я оказался не прав. Произошло обратное по ряду причин.Этнические лояльности как форма групповой солидарности и по-
4
74
Поэтому отказ от списка ради «открытого листа», но с той жесамой методологической установкой ничего не даст, кроме сумяти-цы и новых споров, кто есть народ, этнос, нация, этнографическаягруппа и т.п. Не спасает положения и предложение ввести иерар-хию этнических общностей как по линии «в основном проживаю-щие на территории Российской Федерации» и «в основном прожи-вающие за пределами», так и по линии вертикальной иерархии (эт-носы – субэтносы): например, казаки или поморы как субэтносырусских, а булгары или мишари как субэтносы татар, дигорцы каксубэтнос осетин и т.д. В конечном списке все равно остаются наци-ональности казаков, булгар, дигорцев и многих других, которые илив списке не присутствовали или находились в некой подкатегории.
В нынешней общественно-политической ситуации идеальный,с точки зрения современной науки, вариант переписи этническихобщностей нам представляется невозможным. Дай бог преодолетьжесткое давление националистических сил и ассимиляционист-ские установки местных администраций в пользу так называемыхтитульных национальностей в республиках. Не исключено и дав-ление со стороны шовинистических групп и политиков приумно-жить «государствообразующий этнос». Отчаянную мобилизациювокруг переписи могут устроить и лидеры малых групп, не имею-щих территориальных автономий. Здесь важнее сохранить как мож-но больше свободы спокойного выбора при разумных разъяснени-ях переписчиков. А разъяснения эти должны быть следующими:Вы можете указать одну или несколько этнических (национальных)принадлежностей или никакой: например: русский и еврей, украи-нец и армянин, татарин и башкир и т.п. Вы можете указать слож-ную национальность, обозначив ее через дефис: например, морд-ва-эрзя, осетин-дигорец, русский-казак, калмык-казак, русский-по-мор, татарин-булгар и т.п. Таковы на данной стадии мои предложе-ния. Смогут ли ученые и статистики определить по итогам перепи-си тот самый «настоящий» список национальностей – это уже дру-гой вопрос, и он не имеет принципиальной важности, ибо в Россииживет один народ – россияне, как и многие народы других госу-дарств отличающийся богатством культурной сложности.
95
«этнография чеченской войны», ибо из 552 страниц около третитекста составляют «прямые голоса», т.е. свидетельства информан-тов, научный смысл и воздействующая сила которых нисколько неменьше (а возможно даже и больше!) собственно авторского тек-ста. Этой книгой я доказал самому себе, что могу заниматься эт-нографией, причем в ее крайне усложненном варианте недоступ-ности этнографического поля в его традиционном понимании.
Если говорить о смысле раздельного существования наук этно-логии, этнической социологии и социальной антропологии, то эт-нической социологии как науки не существует, этнология и соци-ально-культурная антропология – это во многом синонимы, хотяполе последней значительнее шире, но метод – один.
– Как бы Вы охарактеризовали ситуацию в теоретическихи эмпирических исследованиях в России и за рубежом? В какомнаправлении, с Вашей точки зрения, развивается современнаямировая и российская социология?
Я не делю исследования на теоретические и эмпирические. Луч-шая теория делается в виде заметок на полях полевых дневников.Без «эмпирики» трудно получить новое знание, а без нового знаниянет научного исследования, а может быть просто умное или поверх-ностное рассуждение или просвещенная журналистика. Эмпирикабез теории – это не исследование, в любой эмпирике есть система-тизация и скрытая теория, даже в тексте этикетки этнографическо-го экспоната, не говоря о концепции этнографической выставки.
Ситуация в отечественном обществознании неоднозначная. Естьряд дисциплин и направлений, которые на лидирующих мировыхпозициях. Главным образом – это домен так называемых класси-ческих штудий в сфере археологии, историографии, языкознания инекоторых других, которые с советских времен пользуются доб-ротной государственной поддержкой. В академической науке пос-леднего десятилетия утвердились новые дисциплины, но основноеобновление шло через «возвращение забытых имен» или через пе-ревод и издание зарубежных текстов. Оба эти процесса были на-гружены идеолого-политическими установками и некоторыми мо-рально-этическими соображениями (особенно если речь шла орепрессированных ученых). В итоге «навар» для подлинного раз-вития науки невелик. Ликвидация пробелов в форме издания тек-стов, которые студент был бы обязан прочитать на первом-второмкурсах, – это еще не развитие науки. Это даже может быть шаг на-
75
ЯЗЫК И АЛФАВИТ КАК ПОЛИТИКА*
В Приволжском федеральном округе, а именно в РеспубликеТатарстан, возникла, на наш взгляд, проблема большого общегосу-дарственного значения, хотя, казалось бы, речь идет всего лишь осмене алфавита татарского языка с кириллицы на латиницу. Руковод-ство Татарстана и часть местной интеллигенции инициировали при-нятие республиканского закона, который предусматривает началоданной реформы в 2001 г. Основной аргумент состоит в том, чтолатиница более адекватно отражает фонетический строй татарско-го языка, а длительное существование кириллицы наносило ущербфункциональному развитию этого языка, принося многие неудоб-ства его носителям. По мнению республиканских законодателей,языковые вопросы должен решать народ, которого это прежде все-го и касается, а остальное общество и федеральные власти не дол-жны здесь навязывать свое мнение. Возможно, так оно и должнобыть. Ибо язык – это важнейший механизм формирования и функ-ционирования культурной отличительности, это важный элементиндивидуальной и коллективной идентичности. «Без языка нет инарода», – считают многие политики и ученые. И каким быть та-тарскому языку, включая используемый алфавит, должны решатьсами татары. До этого за них решали волевым путем другие силы, аименно: государство и московские эксперты.
Однако все не так просто, как это кажется на первый взгляд.Есть ряд вопросов, которые нельзя сводить только к чисто лингви-стическим дебатам или к эмоциональным и политизированным ар-гументам. И эти вопросы следует задать сейчас, а еще лучше, иполучить на них ответы.
Безусловно, с точки зрения правоведов, этнологов и лингвис-тов, все языки равноправны, если они адекватно выполняют своюроль в системе коммуникации культурно схожих людей. С точкизрения современной науки, даже широко распространенное деле-_____________* Этнопанорама. 2001. №1. С. 71–73.
94
графами не должны отказываться от этого и называть себя этноло-гами. Кстати, сам характер труда некоторых специалистов в нашейсфере сосредоточен именно в этнографии. Однако что есть для меняэтнография? Этнография – это то, что этнолог или антрополог де-лает в поле, включая также и сам этнографический нарратив. Эт-нография есть цеховая основа дисциплины, которую называют эт-нология (российская, частично европейская традиция), социальнаяантропология (западноевропейская традиция), культурная антропо-логия (североамериканская традиция). Однако в современном мире,в том числе и в России, остается большая категория ученых и прак-тических работников, которые занимаются именно этнографией, приэтом не останавливаясь перед «вратами теории», а опираясь на иделая теорию, но только не в столь самодовлеющем ключе. Преждевсего я имею в виду многочисленный отряд работников этнографи-ческих музеев, включая растущее число местных, краеведческихмузеев и музеев под открытым небом. Некоторых специалистов,выполняющих разработки в области этнокультурных аспектов про-изводства (художественный промысел, шоу- и мода-бизнес, дизайн-индустрия и прочее) и этнических предпочтений рынка потребле-ния. Есть и кабинетные ученые в академических структурах, кото-рых адекватнее будет определять как этнографы и которые, воз-можно, слишком поспешно отказались от столь достойной дефи-ниции. Ученый ИЭА РАН, делающий историко-этнографическоеобследование зон хозяйствования коренных малочисленных группнаселения для утилитарных целей развития или для экономическо-го и правового обеспечения программ и проектов, «делает этногра-фию» или «прикладную антропологию».
Именно в целях более широкого понимания данной сферы на-учной и образовательной деятельности название основной профес-сиональной ассоциации в стране звучит как «Ассоциация этногра-фов и антропологов России». Мне представлялось несправедливым10 лет тому назад в самом начале процесса перемен зачислять всехэтнографов страны в этнологов. Даже в академическом институтеоставались стойкие приверженцы одного старого названия. Сейчасэтнолог и этнология чувствуют себя уверенно, и моя собственнаяозабоченность в данный момент – это чтобы люди не разучилисьделать этнографию и не утратили к ней вкуса. Только что вышед-шее в свет мое собственное исследование проблемы общества ввооруженном конфликте имеет на книжном титуле подзаголовок
76
ние на языки и диалекты является условным и во многом зависитот политики и от властных отношений. Среди ученых существуетяркое выражение: «Язык – это тот же диалект, но только с армией»,а «...диалект – это тот же язык, но только без армии». Другими сло-вами, за кем больше ресурсов (численность, власть и прочее) – утого больше и возможностей утвердить свою систему коммуникациив качестве главной или привилегированной и больше возможностиее защиты от внешнего вмешательства.
Кроме этого, на государственном и региональном уровнях все-гда существует языковая асимметрия. Один язык, обычно это языкболее многочисленной этнической группы, доминирует над языкамименьшинств, вплоть до того, что языки малых групп могут со време-нем оказаться в маргинальном положении или совсем исчезнуть. Такбыло на протяжении всей человеческой истории. Причем домини-рование языка большинства населения в одном государстве далеконе всегда происходит под воздействием силы. Часто это результатэкономических и социальных факторов, рационального выборалюдей, родительских стратегий в отношении собственных детей.
С момента возникновения современных государств последниевсегда стремятся к языковой унификации, к тому, чтобы населениегосударства могло говорить на одном языке. Единый знак – это од-новременно средство национальной консолидации и заметный мар-кер, отличающий население одного государства от внешнего мира.Но эта идеальная норма в реальности не существует. Языков в миреоколо 4–5 тысяч, т.е. гораздо больше, чем государств и даже этни-ческих общностей. Максимум, чего добиваются государства, этозакрепление за одним или несколькими языками официального ста-туса – статуса языков, на которых должны общаться государствен-ная бюрократия и отдаваться военные приказы.
Современные государства с демократическими нормами прав-ления признают языковое разнообразие своего населения и дажеподдерживают его (особенно малые языки), а также гарантируютязыковые права представителей меньшинств. В Италии, например,представители немецкоязычного меньшинства, проживающего насевере страны, обеспечены необходимым корпусом немецкоязыч-ных судей вплоть до Верховного суда, где обязательно один из су-дей владеет немецким языком. Я уже не говорю о таких вещах, каксфера государственных услуг или надписи в публичных местах. Ужев аэропорту Кеннеди в США вас сейчас встречают надписи, испол-
93
нологи уступают место немногим появившимся в стране ученым,которые к своим востоковедческим, историко-лингвистическим, ар-хеологическим, политологическим или социологическим самока-тегоризациям добавляют антропологическую дефиницию и в це-лом не выглядят «белыми воронами», если докладывают доброт-ные результаты научных исследований.
С учетом быстро меняющегося исторического контекста былоочевидно, что реконфигурация научной идентичности и смена не-которых приоритетов придут и в Россию. Тем более, что десяткитысяч лишенных привычных дисциплинарных ниш в рамках марк-систско-ленинского и научно-коммунистического комплекса будутвынуждены искать новые тематические сферы, статус и обозначе-ния. Еще в начале 90-х гг. я пришел к выводу, что если мы сами неосуществим доброкачественную экспансию, то рискуем остаться в«этнографическом кафтане» конца XIX в. – начала XX в., а антро-пологами в России станут другие, которые к тому же сами и опре-делят, что есть для них антропология. Отчасти, так оно и получи-лось. Выработанные отдельными активными членами общество-ведческого сообщества представления и даже «пробитый» через не-достаточно компетентное министерское руководство государствен-ный стандарт обучения по специальности «социальный антропо-лог» к антропологии имеют условное отношение.
Лишенные амбиций на рынке образовательных услуг и, отчас-ти, самонадеянные в собственном «величии» российские этногра-фы сделали всего один важный шаг в направлении собственноймодернизации, но и он был сделан не без труда. Это было иниции-рованное мною в самом начале 90-х гг. переименование Академи-ческого института этнографии в Институт этнологии и антрополо-гии, что неминуемо повлекло изменение названия дисциплины иболезненные коллизии в рамках профессионального сообществаэтнографов. Одни видели в смене названия разрушение «класси-ческой этнографии», другие вполне охотно принимали новое обо-значение «этнология», третьи были готовы сделать шаг в направле-нии обозначения себя социальным или культурным антропологом,четвертые (физические антропологи) – как были, так и оставалисьантропологами, немного опасаясь, что, помимо их самих, появля-ются еще и «другие» антропологи.
Моя позиция состояла в том, что подобные смены не должныпроисходить декретивным образом. Желающие оставаться этно-
77
ненные на английском и испанском языках, поскольку несколькодесятков миллионов американцев говорят по-испански.
В России наиболее широкое распространение имеет русскийязык, на котором фактически может говорить все население стра-ны, но в то же время сохранились многие другие языки, несмотряна сокращение числа носителей этих языков и сферы их использо-вания. Сегодня русский язык является родным языком не толькодля этнических русских, но и для миллионов граждан других наци-ональностей. Таким образом, русский язык стал своего рода куль-турной собственностью (или капиталом) не только русских, но ибольшинства чувашей, бурят, осетин и многих других, включая боль-шинство тех же российских татар.
Переход на русский язык многих представителей других наро-дов представляет собою выбор (иногда добровольный, иногда вы-нужденный) в пользу языка, который дает больше возможностейдля жизненного преуспевания граждан в едином государстве, длябольшей социальной и пространственной мобильности людей,живущих в одной стране. Кроме того, русский язык относится кнемногим мировым языкам (наряду с английским, испанским,французским и арабским), на котором функционирует одна изкрупнейших мировых цивилизаций. Русский язык более способ-ствует восприятию широких мировых культурных ценностей и бо-лее широкому взаимодействию в международном масштабе. Не зрявыехавшие в Израиль российские евреи сохраняют знание русско-го языка и даже требуют его признания как одного из официальныхязыков государства, наряду с ивритом и арабским.
В этой связи, прежде чем решать языковые вопросы в новыхдемократических условиях, возможно, следует сменить старые док-тринальные установки и считать родным языком не только язык,который совпадает с национальностью одного или обоих родителей,а прежде всего язык, который является для человека основным язы-ком, включая и домашнее общение. Нельзя считать русский языкродным языком только русских. При этом следует противостоятьстрашилкам радикальных националистов, что утрата, точнее – сме-на, языка однозначно ведет к утрате этнической идентичности и кисчезновению отдельного народа. В мире множество народов, боль-шинство представителей которых (или целиком все) сменили языки говорят на «чужом» языке, но от этого не утрачивают своей иден-тичности.
92
число «новых антропологий». Физическая антропология развиласьв огромное число направлений и стала обретать более расширитель-ное обозначение как «биологическая антропология». Более четковыделились и даже конституировались на уровне отдельных науч-ных обществ и комиссий городская, медицинская, политическая,прикладная, юридическая, тендерная, аудиовизуальная антропо-логии. Сами же западные антропологи начали жаловаться, что те-перь антропологией стали называться почти все отрасли гумани-тарного знания и следует более четко определять собственные дис-циплинарные границы, чтобы не потерять дисциплину вообще.
В последние два десятилетия произошла и географическая экс-пансия антропологии: из преимущественно европейской науки онастала мировой, с точки зрения идентификации исследователей иобозначения образовательных институтов. Появились новые и силь-ные национальные антропологические (не этнологические!) шко-лы в странах Азии, Латинской Америки и Африки. Несмотря на то,что в большинстве своем это были выпускники англо-американ-ских элитных университетов, ученые – выходцы из Индии, Китая,Филиппин, Индонезии, арабских и африканских стран составилиновое и неповторимое в своих ориентациях и по своему научномувкладу поколение (Стенли Тэмбайа, Шмадар Лэви, Мариан Цинк,Парта Чатарджи, Акхил Гупта и другие).
Последний бастион – восточно-европейская этнология и этно-графия – стал рушиться в 1990-е гг., когда многие коллеги в Польше,Венгрии, бывшей ГДР, Чехословакии, Югославии стали называтьсебя социальными или культурными антропологами, меняя назва-ния институтов, факультетов и кафедр. В 1992 г., по инициативебританского антрополога Адама Купера, была создана Европей-ская ассоциация социальных антропологов (ЕАСА), частично что-бы дистанцироваться от экспансионизма американской антрополо-гии, но, частично, и чтобы вобрать в рамки западноевропейскойсоциальной антропологии освободившееся от «коммунистическихпут» восточноевропейское научное сообщество. Не случайно при-глашение получили и стали первыми участниками учредительногосъезда в Коимбре (Португалия) именно представители нашего Ин-ститута этнографии. Только случайно мне не удалось быть на этомконгрессе и войти в число «отцов-основателей» этой ныне самоймощной ассоциации европейских социальных антропологов. В пос-ледние годы на конгрессах ЕАСА отечественные академические эт-
78
В России ситуация обстоит точно так же, и фактическая сте-пень распространения и использования русского языка гораздовыше, чем об этом свидетельствуют данные прошлых переписей,когда, например, многие родители записывали своим детям в каче-стве родного язык, на котором они не знают ни одного слова, пре-красно говоря при этом по-русски.
Измененная последовательность вопросов в вопроснике пред-стоящей переписи поможет точнее определить языковую ситуациюв стране, ибо сначала будут задавать вопрос о языке, а уже потом –о национальной принадлежности. Хотя рост этнонационализма сре-ди нерусских народов в последние годы (иногда его называют «на-циональным возрождением») может отчасти нейтрализовать этуболее точную процедуру в ходе переписи. Но в любом случае спе-циалисты знают, что россиян, для которых русский – это их основ-ной язык, гораздо больше, чем утверждает переписная статистика.Не являются исключением и татары, для большинства которых рус-ский язык – это их родной язык.
Можно ли осуществить политическими, законодательными идругими мерами их возврат к татарскому языку – это большой воп-рос. Скорее всего, нет, тем более, что большинство татар живет запределами Татарстана, и местное законодательство и образователь-но-информационная политика их фактически не достигают. По край-ней мере, подобные попытки в полностью независимом государ-стве Ирландии уйти от английского и вернуться к ирландскому языкузакончились неудачей.
Это означает, что большинство российских татар будут продол-жать пользоваться русским языком и кириллицей, не переставаясчитать себя татарами. Переход части татар на латиницу будет оз-начать огромный культурный раскол среди самих татар, которые ибез того неоднородны, и в переписи 2002 г. часть татар образуютновые группы (например, кряшены), которые до этого не были вклю-чены в официальный список народов СССР. Следующий вопрос –это в какой мере смена алфавита отвечает интересам, учитываетправа населения Республики Татарстан и насколько она будет спо-собствовать консолидации местного татарстанского сообщества.Все ссылки на «мнение» или на «волю народа» в данном случаемалосостоятельны. В Татарстане – государственном образовании,созданном от имени всего народа республики и существующем засчет всех налогоплательщиков, никакого референдума по данному
91
вое сообщество признавало нас, российских этнографов, «своими»,т.е. как этнологов и антропологов. И, казалось бы, вполне ясно, чтозарубежные антропологи, начиная с Ф. Боаса, Б. Малиновского,М. Мид и К. Леви-Стросса, – это представители той же самой на-уки, что и вышедшие из Музея и Института этнографии отечествен-ные классики В.Г. Тан-Богараз, Л.Я. Штернберг, А.Н. Максимов,Д.К. Зеленин, М.Г. Левин, Л.П. Потапов, В.О. Долгих и другие. Од-нако это было очевидно далеко не всем и далеко не без причины.Все-таки мировая социально-культурная антропология в последниедесятилетия ушла далеко вперед в изучении культурного многооб-разия и давно не ограничивалась пределами этнической пробле-матики. Российская традиция жестко держала соответствующеенаучное сообщество в рамках этнической тематики и этнографи-ческого метода. Даже изучая воздействие техногенных катастроф(ядерной аварии на Урале) на местные сообщества, исследовательпридавал своему интересу и старался всячески исполнять задачу,которую обозначал как «этнос и радиация». Можно также привес-ти пример, как трудно в рамках нашего института приживалась эт-ническая социология, т.е. изучение этничности методами социологи-ческого опроса. Хотя нужно отдать должное родоначальникам это-го направления (Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева),которые утвердили это направление в такой степени, что оно сталопочти отдельной дисциплиной на стыке двух наук – этнологии исоциологии. Хотя сегодняшняя дисциплинарная грань по методустановится достаточно условной, ибо современная «понимающаясоциология» все больше проявляет интерес к этнографическому ме-тоду включенного наблюдения. И все же именно этот метод остает-ся «торговой маркой» нашей дисциплины.
Однако само слово «антропология» к тому времени также обре-ло амбивалентный смысл. Помимо дисциплинарного обозначения,появились теоретико-методологические подходы в других дисцип-линах, связанные с комплексным изучением феномена человека (фи-лософская антропология), с изучением истории повседневности, ис-торико-культурного контекста больших сообществ (историческаяантропология) и т.п. Многим хотелось заиметь в своем арсеналеэто привлекательное слово «антропология», даже некоторым теле-ведущим в названии своих программ. Надо признать, что одновре-менно и сами антропологи (я имею в виду – зарубежные) непомернораздвинули собственные научные горизонты, и появилось большое
79
вопросу не проходило. Но даже если бы такой референдум состо-ялся, то его результаты не были бы бесспорны: все постсоветскиереферендумы доказали возможность высокой степени манипули-рования мнением населения, которое еще не обладает достаточнойгражданской и политической культурой. В том же Татарстане в пос-леднее десятилетие народные волеизъявления с интервалом в не-сколько месяцев давали противоположные результаты по причинеявных политико-информационных воздействий. Тем более, что не-татарская часть населения республики в данный исторический мо-мент политически организована гораздо слабее и явно недостаточ-но представлена в органах власти, особенно в ГосударственномСовете. Так стоит ли пользоваться этим (возможно, временным)преимуществом при решении вопросов, которые затрагивают судь-бу будущих поколений?
Ясно, что не менее половины населения республики, включая итех, кто еще будет проходить обучение, на использование латини-цы в своей языковой практике переходить не будет, а продолжитпользоваться кириллицей. Таким образом, переход на латиницуможет означать не только культурный раскол среди российских та-тар, но и социально-политическое отчуждение между двумя основ-ными общинами республики, отношения между которыми до сихпор были, по российским меркам, почти образцовыми и мирными.Именно с подобных расколов по вопросам языковой политики (дажене использования языка, а именно политики!) начинались многиеоткрытые конфликты в сложных сообществах.
Третий вопрос – это вопрос, связанный с судьбой огромного позначимости татарского культурного наследия и ценностей, создан-ных в XX в., в советский период, когда действовал кириллическийалфавит. По своему объему и значимости созданное в последние80 лет (особенно это касается письменной культуры) превосходитвсе предшествовавшие эпохи в истории татарского народа. Имен-но в этот период пришла всеобщая грамотность населения и былонаписано и издано не менее 90% всей литературы (учитывая назва-ния и тиражи) разного характера, начиная от художественной и на-учной вплоть до учебников и технических инструкций. Если по-добные реформы в начальный период советской власти затрагива-ли только малую часть населения и сравнительно небольшой пообъему культурно-информационный пласт (хотя среди татар и былвысокий уровень грамотности), то сейчас речь идет о судьбе ос-
90
тута этнографии, а в 1989 г. избран директором этого института.Ситуация и должность определили необходимость заниматься оте-чественной тематикой, а именно, вопросами межэтнических отно-шений, так называемой национальной политикой, политическойантропологией, этническими конфликтами. Все началось с публи-кации в 1989 г. статьи «Народы и государство» в журнале «Комму-нист» и брошюры «Да изменится молитва моя!.. О новых подходахв теории и практике межнациональных отношений» (на основе док-лада на заседании Секции общественных наук Президиума АНСССР 1 ноября 1989 г.), а затем статей об этническом аспекте Съез-да народных депутатов и XXVIII съезда КПСС. Уже потом, после1991 г., последовали более серьезные разработки в области изуче-ния феномена этничности и национализма, а также обновленныхподходов в сфере государственной политики в отношении «нацио-нального вопроса».
– Существует ли различие и единство между этнологией,этнической социологией и социальной антропологией? В чем онивыражаются и есть ли смысл в их раздельном развитии в со-временной науке?
Пожалуй, основной вопрос, который встал передо мной в каче-стве директора института в условиях глубоких российских транс-формаций, был вопрос определения границ и статуса, а также об-новления теоретико-методологических основ дисциплины, котораядо этого самоидентифицировалась как этнография и которая досих пор остается по ваковской классификации поддисциплиной ис-торической науки. Мне было ясно, что существующий мировойконтекст и номенклатура гуманитарного знания, а также радикаль-ные подвижки в отечественном обществознании, когда рухнулицелые дисциплины и появились новые интересы и новая инфор-мация, не оставят в покое так называемую традиционную этногра-фию. К тому времени я уже достаточно хорошо ориентировался вмеждународном сообществе этнологов и антропологов, приняв уча-стие в мировых конгрессах в Квебеке-Ванкувере (1983 г.), в Загре-бе (1988 г.) и в Мехико (1993 г.), где я был избран вице-президентомМеждународного союза антропологических и этнологических науки переизбран на новый 5-летний срок на конгрессе в Уильямсбурге(1998 г.).
Казалось, можно было бы жить и в рамках старой вполне дос-тойной научной идентичности, называемой этнографией. Миро-
80
новного культурного фонда. Чтобы в этом убедиться, достаточнозаглянуть в каталоги татарстанских библиотек.
Переход на латиницу предполагает забвение кириллицы, ибовыучившие латиницу дети должны будут читать другую литерату-ру, но какую? Сами же татарские специалисты и политики осужда-ют смену алфавита в 1920-е гг., так как татарам пришлось исклю-чить из своего культурного багажа тексты, созданные на арабскойграфике. Но по сравнению с татарским кириллическим письмен-ным наследием арабоязычное не идет ни в какое сравнение. Ещенесколько лет тому назад некоторые энтузиасты латиницы приво-дили в свою пользу аргумент бурно развивающегося на латиницемирового Интернета, но сейчас русскоязычный Интернет – один изсамых быстро растущих в мире. Переход на латиницу означает от-каз живущих в Татарстане татар от большей части собственногописьменного наследия, созданного в XX в.
Наконец, последний вопрос касается воздействия смены алфа-вита в Татарстане на статус и перспективы проживающих в рес-публике казанских татар в общероссийском культурном и социаль-но-политическом пространстве. Сегодня татары – это один из наи-более модернизированных и конкурентоспособных народов стра-ны. Наряду с русскими, татары – одни из основных создателей ис-торической российской государственности. В какой мере латиницапредоставит им дополнительные преимущества в жизненном пре-успевании в рамках всей страны и не станет ли она одним из пре-пятствий в социальной мобильности, сдерживая развитие народа внынешних более конкурентных условиях? Нам представляется, чтопереход на латиницу приведет к неоправданному дистанцирова-нию от общероссийского пространства, а точнее, к росту изолиро-ванности этой части граждан от остального населения страны поэлементарной причине недостаточного знания кириллицы, а зна-чит, и русского языка. Сегодняшнее двуязычие казанских татар –это их большое преимущество, а наличие двух алфавитов можетлишить их этого преимущества.
На фоне этих вопросов нам представляются гораздо менее зна-чимыми чисто фонетические аргументы, ибо они могут решатьсядополнительной адаптацией той же самой кириллицы к фонети-ческому строю татарского языка. Подобные реформы делаются исейчас во многих странах, а современные компьютерные техноло-гии вообще снимают вопрос даже о введении в кириллицу латин-
89
ностно-профессиональные связи, которые строятся годами в ходесовместных этнографических экспедиций и совместного научноготруда. Я с удовольствием стал осваивать этнографический методисследования и теоретико-методологическую базу отечественнойэтнографии, занимаясь изучением североамериканских индейцев идругих этнических проблем США и Канады. В 80-е гг., несмотряна существовавшие ограничения в зарубежных поездках, мне уда-лось провести полевые исследования во многих регионах и общи-нах этих двух стран (Гавайские острова, Аляска, Калифорния, Бри-танская Колумбия, Квебек, Канадская Арктика, район Великих озери другие). Совместно с коллегами по институту были написаны двекниги о современном положении коренного населения СевернойАмерики, а также было положено начало регулярным симпозиу-мам по проблемам индеанистики (вышло пять сборников материа-лов симпозиумов под моей редакцией).
В институте я нашел поддержку со стороны многих выдающихсяспециалистов: ныне покойного академика В.П. Алексеева, члена-корреспондента С.А. Арутюнова, профессора С.И. Брука и, конеч-но, Ю.В. Бромлея. Исповедуя своего рода методологический инди-видуализм и предрасположенность к научным инновациям, для менявсегда оставалось одним из принципов научной деятельности вни-мание к вопросам научной преемственности и внесение должноговклада в науку представителей старшего поколения. Именно по этойпричине мною были выполнены серии разговоров-интервью с вы-дающимися представителями отечественной этнологии (Л.П. По-тапов, Т.И. Жданко, С.И. Брук, К.В. Чистов, Е.П. Бусыгин), и этусерию я намерен завершить изданием отдельной книги в ближай-шем будущем. Эти интервью – своего рода попытка саморефлек-сии в рамках собственной дисциплины, если хотите, этнографияэтнографии. Этим же интересом продиктована и моя работа во гла-ве редколлегии серии «Этнографическая бибилиотека», в рамкахкоторой вышел ряд хорошо откомментированных трудов класси-ков зарубежной и отечественной антропологии и этнологии.
В конце 80-х гг. мною был накоплен большой материал для на-писания монографии по проблемам современного статуса корен-ного населения Американского Севера, но написать этот труд неудалось. Виной тому стала сама жизнь, когда события в собственнойстране стали более важны и интересны, чем зарубежная тематика.К тому же в 1988 г. я был назначен заместителем директора Инсти-
81
ских графических элементов. Достаточно на клавиатуре одновре-менно нажать две клавиши.
Алфавит – не священная корова, и его реформы – обычное дело,но лучше делать это без спешки, не повторяя ошибки большеви-ков. Однако меньше всего я бы сводил данные дебаты к вопросу онеких геополитических проектах со стороны татарского национа-лизма и сочувствующих ему или использующих его внешних сил,а тем более к вопросу об угрозе национальной безопасности Рос-сии. В СССР одновременно существовало четыре алфавита, ногосударство распалось не по этой причине. Поставленные здесьвопросы пока никем не были обозначены, но от ответа на них ухо-дить не стоит.
88
академиком-секретарем Отделения истории АН СССР, пригласилменя на работу ученым секретарем Отделения истории. Почти шестьлет были отданы этой достаточно интересной административнойработе в аппарате президиума академии, хотя занятия исследова-тельской работой по истории Канады мною не прекращались, и в1979 г. я защитил в Институте всеобщей истории докторскую дис-сертацию по вышедшей монографии «Освободительное движениев колониальной Канаде» (Наука, 1978). Работа с академиком Жу-ковым, а после его смерти – с академиками Б.Б. Пиотровским иС.Л. Тихвинским, которые возглавляли отделение истории, а такжеобщение со многими выдающимися советскими историками и при-частность к организационно-координационной работе в области ис-торических наук помогали профессиональному становлению какученого-историка. Мною была написаны общая «История Канады»(Мысль, 1982) и работа науковедческого и историографическогохарактера «История и историки в США» (Наука, 1985).
В те же годы в моих интересах появляется два новых направле-ния: это сотрудничество с академиком И.Д. Ковальченко в областиприменения количественных методов в истории и история амери-канских индейцев. Первое не вылилось в какие-то собственныенаучные разработки и ограничилось содействием в рамках совмест-ной советско-американской комиссии по данной проблеме органи-зации серии международных симпозиумов и двух коллективныхмонографий советских и американских историков. Тем не менеезнакомство с проблематикой и учеными, занимающимися пробле-мами социальной и аграрной истории (в США – это получившийпозднее Нобелевскую премию Роберт Фогель, Теодор Рабб, ЧарлзТилли, Натали Зеймон-Дэвис; в СССР – это В.З. Дробижев,Л.В. Милов, Б.Н. Миронов и другие), усилило мой интерес к мето-ду исторического исследования и к общетеоретическим вопросамсоциальной эволюции.
С 1982 г. по приглашению академика Ю.В. Бромлея я перешелна работу в Институт этнографии АН СССР, где был избран заве-дующим сектором народов Америки, когда-то возглавлявшимсяученицей Ф. Боаса и замечательной исследовательницей аме-риканских индейцев Ю.П. Аверкиевой, а затем краткое время –членом-корреспондентом АН СССР И.Р. Григулевичем. Это былнелегкий переход фактически в другую дисциплину и в другоеакадемическое сообщество, имевшее собственные традиции и лич-
82
ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМВ. ТИШКОВЫМ
(интервью подготовил и провелВ.В. Козловский)*
– С Вашим именем связаны крупные научные разработки вобласти этнологии и участие в практической политике в каче-стве министра по национальным отношениям Российской Фе-дерации. Как Вам удалось совмещать две весьма разнородныесферы деятельности и как долго это продолжалось?
В феврале 1992 г. я был назначен указом Президента председате-лем Комитета по делам национальностей, министром РоссийскойФедерации и занимал эту должность до середины октября 1992 г.,оставаясь на посту директора Института этнологии и антрополо-гии РАН. Новая российская власть понимала необходимость учреж-дения отдельного правительственного ведомства, которое осуще-ствляло бы государственную политику и управление в сфере ме-жэтнических отношений, если говорить точнее – политику в отно-шении российских меньшинств (национальностей), или этническуюполитику. Поскольку речь шла о создании нового правительствен-ного ведомства в условиях крайне быстрой и бурной политизацииэтнических проблем и серьезного кризиса в отношениях федераль-ного центра с этнотерриториальными автономиями (республика-ми), было необходимо обеспечить не только механизм государ-ственного управления этой сферой общественной жизни, но и вы-работать обновленные подходы и идеологию этнической политикина основе современного знания, а не старой догматики. Необходи-мость экспертного обеспечения нового министерства и крат-косрочность политической жизни в условиях глубоких перемен по-будили меня сохранить за собой должность директора академичес-кого института и даже продолжать некоторые научные разработки._____________* Этнопанорама. 2001. №4. С. 68–75. (Опубликовано с разрешения редакции «Жур-нала социологии и социальной антропологии». 2001. Т. IV. №4. С. 5–36). Социо-логическое общество М.М. Ковалевского, СПб., 2001.
87
Д.Е. Меламида и Г.Н. Севостьянова – ныне здравствующего акаде-мика и моего наставника по жизни («Валерий, я Вас сделаю ис-ториком», – сказал он мне при нашей первой встрече в 1962 г.).
Я стал историком и остаюсь таковым, хотя в последние два де-сятилетия интерес к этническому фактору в истории привел меня вдругую дисциплину – этнологию или социально-культурную антро-пологию. Мои первые работы, как и обе диссертации, были написа-ны по ранней североамериканской истории, точнее, по истории Ка-нады в период английского колониального господства. В аспиран-туре моим научным руководителем был ныне покойный академикA.Л. Нарочницкий. Он был первоклассным ученым, большим эру-дитом и поборником строгого академизма («Писать надо, как было»;«Хорошая работа по истории – это когда можно доверять хотя быполовине сносок»). «Я вместе со своим учеником изучал, историюКанады», – сказал он на банкете после моей защиты кандидатскойдиссертации. Он был прав в том, что давал свободу выбора и ин-терпретации, и даже не стал настаивать на включении в мой текстссылок на В.И. Ленина.
Хотя я закончил аспирантуру при МГПИ им. B.И. Ленина, у менясохранялись связи с Институтом всеобщей истории АН СССР, гдесектором истории США руководил Г.Н. Севостьянов, привлекав-ший меня к написанию секторальных трудов и статей в «Амери-канский ежегодник».
После нескольких лет преподавательской работы в Магадан-ском педагогическом институте, куда я сразу уехал после окончанияМГУ, а затем и после окончания аспирантуры я вернулся в Москвуи был принят на работу в Институт всеобщей истории в сектор ис-тории США и Канады. Почти 5-летний срок работы на КрайнемСевере, в том числе в должности декана историко-филологическо-го факультета пединститута, дал многое в плане расширенияпрофессионального кругозора и жизненной социализации. Доста-точно сказать, что моими коллегами-друзьями по работе в Магада-не были ныне известный историк-романист Вольдемар Балязин инынешний редактор журнала «Pro et Contra» М.П. Павлова-Силь-ванская. А еще была работа со студентами из числа представителеймалочисленных народов Севера и из Якутии, что зародило интереск живой этнографии, а точнее, к культурному многообразию.
В Институте всеобщей истории я проработал несколько лет, и в1976 г. академик Е.М. Жуков, который был директором института и
83
Политика и наука – это действительно две разнородные сферы,две разные формы человеческой деятельности, между которымивсегда должна сохраняться дистанция, но в то же время они немогут существовать друг без друга. Ученый-обществовед вне по-литики и вне воздействия сферы властных отношений – это миф,который опровергли еще первые авторы летописаний на Руси. По-литика без науки, т.е. без должной доктринальной проработки иэкспертизы, – это плохая, неэффективная политика, ведущая к не-оправданным затратам ресурсов и порождающая разрушительныеколлизии. Хотя я не сторонник старого клише «научного управле-ния обществом» (политика формируется не только наукой, но и дру-гими воздействующими факторами), но я убежден, что нет ничегопрактичнее для политики, чем хорошая теория. Несостоятельныедоктрины, паранаучные конструкции и даже амбивалентный языкпорождают амбивалентную политику. Но часто бывает не до ака-демического пуризма, ибо есть инерция массового сознания, амби-ции обученных по-старому и не желающих переучиваться, естьэмоционально и политически нагруженная риторика, от которой сра-зу уйти очень трудно, и какой-то компромисс науки и политики, атакже ученого и политика неизбежен.
В моем случае этот компромисс-коллизия проходил на уровнеодной личности. Уже висевшая на здании госкомитета табличка«Государственный комитет по национальной политике» (комитетбыл создан до моего назначения) вызывала мое внутреннее несо-гласие. Я, наверное, был первым и остаюсь в блестящем меньшин-стве, кто считает этот ставший фундаментальным (в смысле быто-вого академизма и повседневного языка) термин неадекватным, ибо«национальная политика» – это политика обеспечения нацио-нальных интересов государства и всего общества. Но максимумвозможного в 1992 г. для меня было исправить название ведомствана «Комитет по делам национальностей». Пришедшему мне на сме-ну новому министру снова захотелось иметь слово «политика» всвоем арсенале. Даже в таких простых вещах, как название ведом-ства, может заключаться большой доктринальный смысл, а значит,и содержание государственного управления.
В 90-е гг. – в период расцвета этнонационализма в стране – осу-ществить демонтаж термина-демиурга было невозможно. Толькодесять лет спустя я счел возможным открыто предложить хотя бына уровне академического языка осторожнее пользоваться термином
86
тики. Во-первых, почти все основные мои идеи и разработки на-шли отражение, пусть не сразу и не в идеальном виде, что, видимо,и,невозможно в реальной жизни. Концепция государственной на-циональной политики и федеральный закон о национально-куль-турной автономии, принятые в 1996 г. и составляющие основу со-временной российской политики в данной области, первоначальнобыли написаны мною (даже сохранились черновики), но в 1992 г.принять их было трудно. С доработками и компромиссами они всеже были приняты. У них даже появились многие авторы. И ученыйдолжен быть готов к такому косвенному и запаздывающему воз-действию своих идей и политических предложений. Для меня лич-но пребывание в правительстве было бесценной «полевой работой».Я лучше научился понимать антропологию власти, вовлеченных вовласть людей с их достоинствами и недостатками, условия и фак-торы, воздействующие на власть, существо происходящих в Рос-сии общественных процессов. Благодаря этому пониманию, я несчел возможным уход в оппозицию, продолжаю сотрудничать с вла-стью и оказывать по возможности содействие. Это моя страна и этомоя власть, включая мысли и предложения, которые политики вы-читывают из наших текстов.
– Для наших читателей, несомненно, интересно узнать, ктоВы как ученый-этнолог и каков был Ваш путь в науке. Инымисловами, могли бы Вы дать краткий автобиографическийэкскурс.
– Что повлияло на Ваш выбор и Ваши приоритеты в про-фессиональной работе, на Ваше увлечение наукой, точнее, та-кими ее областями, как этнология, этническая социология, со-циальная и культурная антропология?
Я окончил исторический факультет МГУ в 1964 г. по кафедреновой и новейшей истории стран Западной Европы и Америки, ко-торой тогда руководили И.С. Галкин и Е.Ф. Язьков. Последнему яособенно благодарен. В начале третьего курса после жестокого спо-ра на семинаре по истории КПСС (сначала я выбрал эту специализа-цию), когда я, прочитав данную мне тайком американским стажеромМартином Малия книгу Исаака Дойчера «Сталин. Политическаябиография», завел речь о репрессиях и тоталитаризме, мне было ука-зано на дверь. Е.Ф. Язьков разрешил тогда мне перейти на его кафед-ру, и я стал специализироваться в области американистики. Курсо-вые и дипломную работы писал под руководством ныне покойного
84
«национальный», не закрывая путь для его общегражданского иобщегосударственного понимания. Думаю, что мы будем двигать-ся в сторону более корректного обозначения этой сферы социаль-но-политического бытия как «этническая политика» или хотя бы«политика в отношении российских национальностей».
Существовала еще одна трудная коллизия в судьбе ученого, став-шего политиком, – это необходимость выучивания норм и законовполитического поведения и стиля государственного управления.Кратко я бы определил это как проблему одноголосия и многоголо-сия: министерство должно говорить одним голосом, а для академи-ческого сообщества это смерти подобно. Поэтому с утра и вечеромв министерстве нужно обеспечивать полное единоначалие и однупозицию (не только в рамках ведомства, но и всего правительства),а днем, побывав в институте, поддерживать и лично «расслабить-ся» на принцип академической свободы. Возможно, второе у меняполучалось лучше, ибо косвенно я ощущал упреки в недостатке«технологичности» и «твердорукости». У меня и первая ссора по-лучилась с курировавшим меня вице-премьером В. Махарадзе, когдая впервые за свои тогдашние 50 лет услышал матерные слова всобственный адрес (язык, крайне обыденный для многих рос-сийских политиков).
И все же я, наверное, смог бы терпеть тяжесть совмещения дол-жности, хотя ясно понимал, что «прорастать» в политику, а тем бо-лее связывать себя с определенной политической партией не буду.Причиной моего добровольного ухода из кабинета Ельцина – Гай-дара (кажется, это был первый случай) стала не столько неприем-лемая внешняя ситуация (стиль президента, недостаток пониманияи поддержки, ненужные амбициозные соперничества со стороныдругих «авторов новой национальной политики» и прочее), сколь-ко глубокий внутренний разлад по поводу исполнения законов иуказов, которые мне представлялись несостоятельными именно снаучной точки зрения. Приведу лишь два примера. Я не завизиро-вал указ Президента о казачестве, но он был подписан Ельциным,и мне было поручено его исполнять. До сих пор считаю, что невыдай я пропуск группе казаков в Кремль на съезд народных депу-татов, не помещал бы СМ. Шахрай свое фото в казачьей форме наобложку журнала «Столица», не создавай государство кремлевскийдепартамент и другую госбюрократию по делам казачества, этуформу общественной мобилизации можно было бы сохранять на
85
уровне краеведческого движения, а не придавать легитимностьнизовой мифопоэтике и разрушительной линии на выстраиваниесуррогата параллельной государственности. Собственно говоря,казачество так и осталось на фольклорно-краеведческом уровне, идай ему бог хотя бы в таком виде и сохраниться. Зато сколько былозатрачено средств, времени и эмоций на неэффективные для госу-дарства и власти «игры в казаков».
Собственно говоря, подобной расточительной стратегии моло-дая российская власть, держатели которой выучились на старыхучебниках, придерживалась и в отношении разнообразных формэтнической мобилизации, приняв (не без помощи ученых) за ре-альность так называемые «национальные движения», «нацио-нальные возрождения» как некие глубокие исторические законо-мерности, определяющие ход общественной эволюции. Тогда, в1992 г., мне дорого обошлись привычные для современного антро-полога фразы типа «нация – это воображаемая общность» или «на-ция – это то же племя, но только с армией». Ведь книга Б. Андерсон«Воображаемые общности. Размышления об истоках и распрост-ранении национализма» на русский язык была переведена и изданатолько в 2001 г., да и то ее еще предстоит прочитать нашему акаде-мическому и политическому истеблишменту.
Непонимание сложности феномена этничности и его полити-ческих проекций чаще всего выдавалось за особую «чувствитель-ность национального вопроса», а управление сферой статусно-сим-волического через те же символические методы и переговорныемеханизмы вообще было за пределами понимания российского по-литического клуба. Еще во введении к своей книге «Пожар в умах.Этничность, национализм и конфликты в и после Советского Со-юза» (издана в Лондоне в 1997 г. на английском языке) я написал,что «для ученого, ставшего политиком, который действует в сфереповседневного догматизма и драматичных событий, необходимоуметь проводить различия между мифопоэтической риторикой иреальными интересами». В российских правительственных ка-бинетах я был не единственным, кто пришел из академической сре-ды, но те, кто имел отношение к сфере межэтнических отношений,этого урока не смогли выучить. Переучивать или противостоятьбыло не в моих силах, и я предпочел отставку.
И все же я смотрю достаточно рационально на опыт работы вправительстве и на саму проблему взаимодействия науки и поли-
84
«национальный», не закрывая путь для его общегражданского иобщегосударственного понимания. Думаю, что мы будем двигать-ся в сторону более корректного обозначения этой сферы социаль-но-политического бытия как «этническая политика» или хотя бы«политика в отношении российских национальностей».
Существовала еще одна трудная коллизия в судьбе ученого, став-шего политиком, – это необходимость выучивания норм и законовполитического поведения и стиля государственного управления.Кратко я бы определил это как проблему одноголосия и многоголо-сия: министерство должно говорить одним голосом, а для академи-ческого сообщества это смерти подобно. Поэтому с утра и вечеромв министерстве нужно обеспечивать полное единоначалие и однупозицию (не только в рамках ведомства, но и всего правительства),а днем, побывав в институте, поддерживать и лично «расслабить-ся» на принцип академической свободы. Возможно, второе у меняполучалось лучше, ибо косвенно я ощущал упреки в недостатке«технологичности» и «твердорукости». У меня и первая ссора по-лучилась с курировавшим меня вице-премьером В. Махарадзе, когдая впервые за свои тогдашние 50 лет услышал матерные слова всобственный адрес (язык, крайне обыденный для многих рос-сийских политиков).
И все же я, наверное, смог бы терпеть тяжесть совмещения дол-жности, хотя ясно понимал, что «прорастать» в политику, а тем бо-лее связывать себя с определенной политической партией не буду.Причиной моего добровольного ухода из кабинета Ельцина – Гай-дара (кажется, это был первый случай) стала не столько неприем-лемая внешняя ситуация (стиль президента, недостаток пониманияи поддержки, ненужные амбициозные соперничества со стороныдругих «авторов новой национальной политики» и прочее), сколь-ко глубокий внутренний разлад по поводу исполнения законов иуказов, которые мне представлялись несостоятельными именно снаучной точки зрения. Приведу лишь два примера. Я не завизиро-вал указ Президента о казачестве, но он был подписан Ельциным,и мне было поручено его исполнять. До сих пор считаю, что невыдай я пропуск группе казаков в Кремль на съезд народных депу-татов, не помещал бы СМ. Шахрай свое фото в казачьей форме наобложку журнала «Столица», не создавай государство кремлевскийдепартамент и другую госбюрократию по делам казачества, этуформу общественной мобилизации можно было бы сохранять на
85
уровне краеведческого движения, а не придавать легитимностьнизовой мифопоэтике и разрушительной линии на выстраиваниесуррогата параллельной государственности. Собственно говоря,казачество так и осталось на фольклорно-краеведческом уровне, идай ему бог хотя бы в таком виде и сохраниться. Зато сколько былозатрачено средств, времени и эмоций на неэффективные для госу-дарства и власти «игры в казаков».
Собственно говоря, подобной расточительной стратегии моло-дая российская власть, держатели которой выучились на старыхучебниках, придерживалась и в отношении разнообразных формэтнической мобилизации, приняв (не без помощи ученых) за ре-альность так называемые «национальные движения», «нацио-нальные возрождения» как некие глубокие исторические законо-мерности, определяющие ход общественной эволюции. Тогда, в1992 г., мне дорого обошлись привычные для современного антро-полога фразы типа «нация – это воображаемая общность» или «на-ция – это то же племя, но только с армией». Ведь книга Б. Андерсон«Воображаемые общности. Размышления об истоках и распрост-ранении национализма» на русский язык была переведена и изданатолько в 2001 г., да и то ее еще предстоит прочитать нашему акаде-мическому и политическому истеблишменту.
Непонимание сложности феномена этничности и его полити-ческих проекций чаще всего выдавалось за особую «чувствитель-ность национального вопроса», а управление сферой статусно-сим-волического через те же символические методы и переговорныемеханизмы вообще было за пределами понимания российского по-литического клуба. Еще во введении к своей книге «Пожар в умах.Этничность, национализм и конфликты в и после Советского Со-юза» (издана в Лондоне в 1997 г. на английском языке) я написал,что «для ученого, ставшего политиком, который действует в сфереповседневного догматизма и драматичных событий, необходимоуметь проводить различия между мифопоэтической риторикой иреальными интересами». В российских правительственных ка-бинетах я был не единственным, кто пришел из академической сре-ды, но те, кто имел отношение к сфере межэтнических отношений,этого урока не смогли выучить. Переучивать или противостоятьбыло не в моих силах, и я предпочел отставку.
И все же я смотрю достаточно рационально на опыт работы вправительстве и на саму проблему взаимодействия науки и поли-
83
Политика и наука – это действительно две разнородные сферы,две разные формы человеческой деятельности, между которымивсегда должна сохраняться дистанция, но в то же время они немогут существовать друг без друга. Ученый-обществовед вне по-литики и вне воздействия сферы властных отношений – это миф,который опровергли еще первые авторы летописаний на Руси. По-литика без науки, т.е. без должной доктринальной проработки иэкспертизы, – это плохая, неэффективная политика, ведущая к не-оправданным затратам ресурсов и порождающая разрушительныеколлизии. Хотя я не сторонник старого клише «научного управле-ния обществом» (политика формируется не только наукой, но и дру-гими воздействующими факторами), но я убежден, что нет ничегопрактичнее для политики, чем хорошая теория. Несостоятельныедоктрины, паранаучные конструкции и даже амбивалентный языкпорождают амбивалентную политику. Но часто бывает не до ака-демического пуризма, ибо есть инерция массового сознания, амби-ции обученных по-старому и не желающих переучиваться, естьэмоционально и политически нагруженная риторика, от которой сра-зу уйти очень трудно, и какой-то компромисс науки и политики, атакже ученого и политика неизбежен.
В моем случае этот компромисс-коллизия проходил на уровнеодной личности. Уже висевшая на здании госкомитета табличка«Государственный комитет по национальной политике» (комитетбыл создан до моего назначения) вызывала мое внутреннее несо-гласие. Я, наверное, был первым и остаюсь в блестящем меньшин-стве, кто считает этот ставший фундаментальным (в смысле быто-вого академизма и повседневного языка) термин неадекватным, ибо«национальная политика» – это политика обеспечения нацио-нальных интересов государства и всего общества. Но максимумвозможного в 1992 г. для меня было исправить название ведомствана «Комитет по делам национальностей». Пришедшему мне на сме-ну новому министру снова захотелось иметь слово «политика» всвоем арсенале. Даже в таких простых вещах, как название ведом-ства, может заключаться большой доктринальный смысл, а значит,и содержание государственного управления.
В 90-е гг. – в период расцвета этнонационализма в стране – осу-ществить демонтаж термина-демиурга было невозможно. Толькодесять лет спустя я счел возможным открыто предложить хотя бына уровне академического языка осторожнее пользоваться термином
86
тики. Во-первых, почти все основные мои идеи и разработки на-шли отражение, пусть не сразу и не в идеальном виде, что, видимо,и,невозможно в реальной жизни. Концепция государственной на-циональной политики и федеральный закон о национально-куль-турной автономии, принятые в 1996 г. и составляющие основу со-временной российской политики в данной области, первоначальнобыли написаны мною (даже сохранились черновики), но в 1992 г.принять их было трудно. С доработками и компромиссами они всеже были приняты. У них даже появились многие авторы. И ученыйдолжен быть готов к такому косвенному и запаздывающему воз-действию своих идей и политических предложений. Для меня лич-но пребывание в правительстве было бесценной «полевой работой».Я лучше научился понимать антропологию власти, вовлеченных вовласть людей с их достоинствами и недостатками, условия и фак-торы, воздействующие на власть, существо происходящих в Рос-сии общественных процессов. Благодаря этому пониманию, я несчел возможным уход в оппозицию, продолжаю сотрудничать с вла-стью и оказывать по возможности содействие. Это моя страна и этомоя власть, включая мысли и предложения, которые политики вы-читывают из наших текстов.
– Для наших читателей, несомненно, интересно узнать, ктоВы как ученый-этнолог и каков был Ваш путь в науке. Инымисловами, могли бы Вы дать краткий автобиографическийэкскурс.
– Что повлияло на Ваш выбор и Ваши приоритеты в про-фессиональной работе, на Ваше увлечение наукой, точнее, та-кими ее областями, как этнология, этническая социология, со-циальная и культурная антропология?
Я окончил исторический факультет МГУ в 1964 г. по кафедреновой и новейшей истории стран Западной Европы и Америки, ко-торой тогда руководили И.С. Галкин и Е.Ф. Язьков. Последнему яособенно благодарен. В начале третьего курса после жестокого спо-ра на семинаре по истории КПСС (сначала я выбрал эту специализа-цию), когда я, прочитав данную мне тайком американским стажеромМартином Малия книгу Исаака Дойчера «Сталин. Политическаябиография», завел речь о репрессиях и тоталитаризме, мне было ука-зано на дверь. Е.Ф. Язьков разрешил тогда мне перейти на его кафед-ру, и я стал специализироваться в области американистики. Курсо-вые и дипломную работы писал под руководством ныне покойного
82
ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМВ. ТИШКОВЫМ
(интервью подготовил и провелВ.В. Козловский)*
– С Вашим именем связаны крупные научные разработки вобласти этнологии и участие в практической политике в каче-стве министра по национальным отношениям Российской Фе-дерации. Как Вам удалось совмещать две весьма разнородныесферы деятельности и как долго это продолжалось?
В феврале 1992 г. я был назначен указом Президента председате-лем Комитета по делам национальностей, министром РоссийскойФедерации и занимал эту должность до середины октября 1992 г.,оставаясь на посту директора Института этнологии и антрополо-гии РАН. Новая российская власть понимала необходимость учреж-дения отдельного правительственного ведомства, которое осуще-ствляло бы государственную политику и управление в сфере ме-жэтнических отношений, если говорить точнее – политику в отно-шении российских меньшинств (национальностей), или этническуюполитику. Поскольку речь шла о создании нового правительствен-ного ведомства в условиях крайне быстрой и бурной политизацииэтнических проблем и серьезного кризиса в отношениях федераль-ного центра с этнотерриториальными автономиями (республика-ми), было необходимо обеспечить не только механизм государ-ственного управления этой сферой общественной жизни, но и вы-работать обновленные подходы и идеологию этнической политикина основе современного знания, а не старой догматики. Необходи-мость экспертного обеспечения нового министерства и крат-косрочность политической жизни в условиях глубоких перемен по-будили меня сохранить за собой должность директора академичес-кого института и даже продолжать некоторые научные разработки._____________* Этнопанорама. 2001. №4. С. 68–75. (Опубликовано с разрешения редакции «Жур-нала социологии и социальной антропологии». 2001. Т. IV. №4. С. 5–36). Социо-логическое общество М.М. Ковалевского, СПб., 2001.
87
Д.Е. Меламида и Г.Н. Севостьянова – ныне здравствующего акаде-мика и моего наставника по жизни («Валерий, я Вас сделаю ис-ториком», – сказал он мне при нашей первой встрече в 1962 г.).
Я стал историком и остаюсь таковым, хотя в последние два де-сятилетия интерес к этническому фактору в истории привел меня вдругую дисциплину – этнологию или социально-культурную антро-пологию. Мои первые работы, как и обе диссертации, были написа-ны по ранней североамериканской истории, точнее, по истории Ка-нады в период английского колониального господства. В аспиран-туре моим научным руководителем был ныне покойный академикA.Л. Нарочницкий. Он был первоклассным ученым, большим эру-дитом и поборником строгого академизма («Писать надо, как было»;«Хорошая работа по истории – это когда можно доверять хотя быполовине сносок»). «Я вместе со своим учеником изучал, историюКанады», – сказал он на банкете после моей защиты кандидатскойдиссертации. Он был прав в том, что давал свободу выбора и ин-терпретации, и даже не стал настаивать на включении в мой текстссылок на В.И. Ленина.
Хотя я закончил аспирантуру при МГПИ им. B.И. Ленина, у менясохранялись связи с Институтом всеобщей истории АН СССР, гдесектором истории США руководил Г.Н. Севостьянов, привлекав-ший меня к написанию секторальных трудов и статей в «Амери-канский ежегодник».
После нескольких лет преподавательской работы в Магадан-ском педагогическом институте, куда я сразу уехал после окончанияМГУ, а затем и после окончания аспирантуры я вернулся в Москвуи был принят на работу в Институт всеобщей истории в сектор ис-тории США и Канады. Почти 5-летний срок работы на КрайнемСевере, в том числе в должности декана историко-филологическо-го факультета пединститута, дал многое в плане расширенияпрофессионального кругозора и жизненной социализации. Доста-точно сказать, что моими коллегами-друзьями по работе в Магада-не были ныне известный историк-романист Вольдемар Балязин инынешний редактор журнала «Pro et Contra» М.П. Павлова-Силь-ванская. А еще была работа со студентами из числа представителеймалочисленных народов Севера и из Якутии, что зародило интереск живой этнографии, а точнее, к культурному многообразию.
В Институте всеобщей истории я проработал несколько лет, и в1976 г. академик Е.М. Жуков, который был директором института и
81
ских графических элементов. Достаточно на клавиатуре одновре-менно нажать две клавиши.
Алфавит – не священная корова, и его реформы – обычное дело,но лучше делать это без спешки, не повторяя ошибки большеви-ков. Однако меньше всего я бы сводил данные дебаты к вопросу онеких геополитических проектах со стороны татарского национа-лизма и сочувствующих ему или использующих его внешних сил,а тем более к вопросу об угрозе национальной безопасности Рос-сии. В СССР одновременно существовало четыре алфавита, ногосударство распалось не по этой причине. Поставленные здесьвопросы пока никем не были обозначены, но от ответа на них ухо-дить не стоит.
88
академиком-секретарем Отделения истории АН СССР, пригласилменя на работу ученым секретарем Отделения истории. Почти шестьлет были отданы этой достаточно интересной административнойработе в аппарате президиума академии, хотя занятия исследова-тельской работой по истории Канады мною не прекращались, и в1979 г. я защитил в Институте всеобщей истории докторскую дис-сертацию по вышедшей монографии «Освободительное движениев колониальной Канаде» (Наука, 1978). Работа с академиком Жу-ковым, а после его смерти – с академиками Б.Б. Пиотровским иС.Л. Тихвинским, которые возглавляли отделение истории, а такжеобщение со многими выдающимися советскими историками и при-частность к организационно-координационной работе в области ис-торических наук помогали профессиональному становлению какученого-историка. Мною была написаны общая «История Канады»(Мысль, 1982) и работа науковедческого и историографическогохарактера «История и историки в США» (Наука, 1985).
В те же годы в моих интересах появляется два новых направле-ния: это сотрудничество с академиком И.Д. Ковальченко в областиприменения количественных методов в истории и история амери-канских индейцев. Первое не вылилось в какие-то собственныенаучные разработки и ограничилось содействием в рамках совмест-ной советско-американской комиссии по данной проблеме органи-зации серии международных симпозиумов и двух коллективныхмонографий советских и американских историков. Тем не менеезнакомство с проблематикой и учеными, занимающимися пробле-мами социальной и аграрной истории (в США – это получившийпозднее Нобелевскую премию Роберт Фогель, Теодор Рабб, ЧарлзТилли, Натали Зеймон-Дэвис; в СССР – это В.З. Дробижев,Л.В. Милов, Б.Н. Миронов и другие), усилило мой интерес к мето-ду исторического исследования и к общетеоретическим вопросамсоциальной эволюции.
С 1982 г. по приглашению академика Ю.В. Бромлея я перешелна работу в Институт этнографии АН СССР, где был избран заве-дующим сектором народов Америки, когда-то возглавлявшимсяученицей Ф. Боаса и замечательной исследовательницей аме-риканских индейцев Ю.П. Аверкиевой, а затем краткое время –членом-корреспондентом АН СССР И.Р. Григулевичем. Это былнелегкий переход фактически в другую дисциплину и в другоеакадемическое сообщество, имевшее собственные традиции и лич-
80
новного культурного фонда. Чтобы в этом убедиться, достаточнозаглянуть в каталоги татарстанских библиотек.
Переход на латиницу предполагает забвение кириллицы, ибовыучившие латиницу дети должны будут читать другую литерату-ру, но какую? Сами же татарские специалисты и политики осужда-ют смену алфавита в 1920-е гг., так как татарам пришлось исклю-чить из своего культурного багажа тексты, созданные на арабскойграфике. Но по сравнению с татарским кириллическим письмен-ным наследием арабоязычное не идет ни в какое сравнение. Ещенесколько лет тому назад некоторые энтузиасты латиницы приво-дили в свою пользу аргумент бурно развивающегося на латиницемирового Интернета, но сейчас русскоязычный Интернет – один изсамых быстро растущих в мире. Переход на латиницу означает от-каз живущих в Татарстане татар от большей части собственногописьменного наследия, созданного в XX в.
Наконец, последний вопрос касается воздействия смены алфа-вита в Татарстане на статус и перспективы проживающих в рес-публике казанских татар в общероссийском культурном и социаль-но-политическом пространстве. Сегодня татары – это один из наи-более модернизированных и конкурентоспособных народов стра-ны. Наряду с русскими, татары – одни из основных создателей ис-торической российской государственности. В какой мере латиницапредоставит им дополнительные преимущества в жизненном пре-успевании в рамках всей страны и не станет ли она одним из пре-пятствий в социальной мобильности, сдерживая развитие народа внынешних более конкурентных условиях? Нам представляется, чтопереход на латиницу приведет к неоправданному дистанцирова-нию от общероссийского пространства, а точнее, к росту изолиро-ванности этой части граждан от остального населения страны поэлементарной причине недостаточного знания кириллицы, а зна-чит, и русского языка. Сегодняшнее двуязычие казанских татар –это их большое преимущество, а наличие двух алфавитов можетлишить их этого преимущества.
На фоне этих вопросов нам представляются гораздо менее зна-чимыми чисто фонетические аргументы, ибо они могут решатьсядополнительной адаптацией той же самой кириллицы к фонети-ческому строю татарского языка. Подобные реформы делаются исейчас во многих странах, а современные компьютерные техноло-гии вообще снимают вопрос даже о введении в кириллицу латин-
89
ностно-профессиональные связи, которые строятся годами в ходесовместных этнографических экспедиций и совместного научноготруда. Я с удовольствием стал осваивать этнографический методисследования и теоретико-методологическую базу отечественнойэтнографии, занимаясь изучением североамериканских индейцев идругих этнических проблем США и Канады. В 80-е гг., несмотряна существовавшие ограничения в зарубежных поездках, мне уда-лось провести полевые исследования во многих регионах и общи-нах этих двух стран (Гавайские острова, Аляска, Калифорния, Бри-танская Колумбия, Квебек, Канадская Арктика, район Великих озери другие). Совместно с коллегами по институту были написаны двекниги о современном положении коренного населения СевернойАмерики, а также было положено начало регулярным симпозиу-мам по проблемам индеанистики (вышло пять сборников материа-лов симпозиумов под моей редакцией).
В институте я нашел поддержку со стороны многих выдающихсяспециалистов: ныне покойного академика В.П. Алексеева, члена-корреспондента С.А. Арутюнова, профессора С.И. Брука и, конеч-но, Ю.В. Бромлея. Исповедуя своего рода методологический инди-видуализм и предрасположенность к научным инновациям, для менявсегда оставалось одним из принципов научной деятельности вни-мание к вопросам научной преемственности и внесение должноговклада в науку представителей старшего поколения. Именно по этойпричине мною были выполнены серии разговоров-интервью с вы-дающимися представителями отечественной этнологии (Л.П. По-тапов, Т.И. Жданко, С.И. Брук, К.В. Чистов, Е.П. Бусыгин), и этусерию я намерен завершить изданием отдельной книги в ближай-шем будущем. Эти интервью – своего рода попытка саморефлек-сии в рамках собственной дисциплины, если хотите, этнографияэтнографии. Этим же интересом продиктована и моя работа во гла-ве редколлегии серии «Этнографическая бибилиотека», в рамкахкоторой вышел ряд хорошо откомментированных трудов класси-ков зарубежной и отечественной антропологии и этнологии.
В конце 80-х гг. мною был накоплен большой материал для на-писания монографии по проблемам современного статуса корен-ного населения Американского Севера, но написать этот труд неудалось. Виной тому стала сама жизнь, когда события в собственнойстране стали более важны и интересны, чем зарубежная тематика.К тому же в 1988 г. я был назначен заместителем директора Инсти-
79
вопросу не проходило. Но даже если бы такой референдум состо-ялся, то его результаты не были бы бесспорны: все постсоветскиереферендумы доказали возможность высокой степени манипули-рования мнением населения, которое еще не обладает достаточнойгражданской и политической культурой. В том же Татарстане в пос-леднее десятилетие народные волеизъявления с интервалом в не-сколько месяцев давали противоположные результаты по причинеявных политико-информационных воздействий. Тем более, что не-татарская часть населения республики в данный исторический мо-мент политически организована гораздо слабее и явно недостаточ-но представлена в органах власти, особенно в ГосударственномСовете. Так стоит ли пользоваться этим (возможно, временным)преимуществом при решении вопросов, которые затрагивают судь-бу будущих поколений?
Ясно, что не менее половины населения республики, включая итех, кто еще будет проходить обучение, на использование латини-цы в своей языковой практике переходить не будет, а продолжитпользоваться кириллицей. Таким образом, переход на латиницуможет означать не только культурный раскол среди российских та-тар, но и социально-политическое отчуждение между двумя основ-ными общинами республики, отношения между которыми до сихпор были, по российским меркам, почти образцовыми и мирными.Именно с подобных расколов по вопросам языковой политики (дажене использования языка, а именно политики!) начинались многиеоткрытые конфликты в сложных сообществах.
Третий вопрос – это вопрос, связанный с судьбой огромного позначимости татарского культурного наследия и ценностей, создан-ных в XX в., в советский период, когда действовал кириллическийалфавит. По своему объему и значимости созданное в последние80 лет (особенно это касается письменной культуры) превосходитвсе предшествовавшие эпохи в истории татарского народа. Имен-но в этот период пришла всеобщая грамотность населения и былонаписано и издано не менее 90% всей литературы (учитывая назва-ния и тиражи) разного характера, начиная от художественной и на-учной вплоть до учебников и технических инструкций. Если по-добные реформы в начальный период советской власти затрагива-ли только малую часть населения и сравнительно небольшой пообъему культурно-информационный пласт (хотя среди татар и былвысокий уровень грамотности), то сейчас речь идет о судьбе ос-
90
тута этнографии, а в 1989 г. избран директором этого института.Ситуация и должность определили необходимость заниматься оте-чественной тематикой, а именно, вопросами межэтнических отно-шений, так называемой национальной политикой, политическойантропологией, этническими конфликтами. Все началось с публи-кации в 1989 г. статьи «Народы и государство» в журнале «Комму-нист» и брошюры «Да изменится молитва моя!.. О новых подходахв теории и практике межнациональных отношений» (на основе док-лада на заседании Секции общественных наук Президиума АНСССР 1 ноября 1989 г.), а затем статей об этническом аспекте Съез-да народных депутатов и XXVIII съезда КПСС. Уже потом, после1991 г., последовали более серьезные разработки в области изуче-ния феномена этничности и национализма, а также обновленныхподходов в сфере государственной политики в отношении «нацио-нального вопроса».
– Существует ли различие и единство между этнологией,этнической социологией и социальной антропологией? В чем онивыражаются и есть ли смысл в их раздельном развитии в со-временной науке?
Пожалуй, основной вопрос, который встал передо мной в каче-стве директора института в условиях глубоких российских транс-формаций, был вопрос определения границ и статуса, а также об-новления теоретико-методологических основ дисциплины, котораядо этого самоидентифицировалась как этнография и которая досих пор остается по ваковской классификации поддисциплиной ис-торической науки. Мне было ясно, что существующий мировойконтекст и номенклатура гуманитарного знания, а также радикаль-ные подвижки в отечественном обществознании, когда рухнулицелые дисциплины и появились новые интересы и новая инфор-мация, не оставят в покое так называемую традиционную этногра-фию. К тому времени я уже достаточно хорошо ориентировался вмеждународном сообществе этнологов и антропологов, приняв уча-стие в мировых конгрессах в Квебеке-Ванкувере (1983 г.), в Загре-бе (1988 г.) и в Мехико (1993 г.), где я был избран вице-президентомМеждународного союза антропологических и этнологических науки переизбран на новый 5-летний срок на конгрессе в Уильямсбурге(1998 г.).
Казалось, можно было бы жить и в рамках старой вполне дос-тойной научной идентичности, называемой этнографией. Миро-
78
В России ситуация обстоит точно так же, и фактическая сте-пень распространения и использования русского языка гораздовыше, чем об этом свидетельствуют данные прошлых переписей,когда, например, многие родители записывали своим детям в каче-стве родного язык, на котором они не знают ни одного слова, пре-красно говоря при этом по-русски.
Измененная последовательность вопросов в вопроснике пред-стоящей переписи поможет точнее определить языковую ситуациюв стране, ибо сначала будут задавать вопрос о языке, а уже потом –о национальной принадлежности. Хотя рост этнонационализма сре-ди нерусских народов в последние годы (иногда его называют «на-циональным возрождением») может отчасти нейтрализовать этуболее точную процедуру в ходе переписи. Но в любом случае спе-циалисты знают, что россиян, для которых русский – это их основ-ной язык, гораздо больше, чем утверждает переписная статистика.Не являются исключением и татары, для большинства которых рус-ский язык – это их родной язык.
Можно ли осуществить политическими, законодательными идругими мерами их возврат к татарскому языку – это большой воп-рос. Скорее всего, нет, тем более, что большинство татар живет запределами Татарстана, и местное законодательство и образователь-но-информационная политика их фактически не достигают. По край-ней мере, подобные попытки в полностью независимом государ-стве Ирландии уйти от английского и вернуться к ирландскому языкузакончились неудачей.
Это означает, что большинство российских татар будут продол-жать пользоваться русским языком и кириллицей, не переставаясчитать себя татарами. Переход части татар на латиницу будет оз-начать огромный культурный раскол среди самих татар, которые ибез того неоднородны, и в переписи 2002 г. часть татар образуютновые группы (например, кряшены), которые до этого не были вклю-чены в официальный список народов СССР. Следующий вопрос –это в какой мере смена алфавита отвечает интересам, учитываетправа населения Республики Татарстан и насколько она будет спо-собствовать консолидации местного татарстанского сообщества.Все ссылки на «мнение» или на «волю народа» в данном случаемалосостоятельны. В Татарстане – государственном образовании,созданном от имени всего народа республики и существующем засчет всех налогоплательщиков, никакого референдума по данному
91
вое сообщество признавало нас, российских этнографов, «своими»,т.е. как этнологов и антропологов. И, казалось бы, вполне ясно, чтозарубежные антропологи, начиная с Ф. Боаса, Б. Малиновского,М. Мид и К. Леви-Стросса, – это представители той же самой на-уки, что и вышедшие из Музея и Института этнографии отечествен-ные классики В.Г. Тан-Богараз, Л.Я. Штернберг, А.Н. Максимов,Д.К. Зеленин, М.Г. Левин, Л.П. Потапов, В.О. Долгих и другие. Од-нако это было очевидно далеко не всем и далеко не без причины.Все-таки мировая социально-культурная антропология в последниедесятилетия ушла далеко вперед в изучении культурного многооб-разия и давно не ограничивалась пределами этнической пробле-матики. Российская традиция жестко держала соответствующеенаучное сообщество в рамках этнической тематики и этнографи-ческого метода. Даже изучая воздействие техногенных катастроф(ядерной аварии на Урале) на местные сообщества, исследовательпридавал своему интересу и старался всячески исполнять задачу,которую обозначал как «этнос и радиация». Можно также привес-ти пример, как трудно в рамках нашего института приживалась эт-ническая социология, т.е. изучение этничности методами социологи-ческого опроса. Хотя нужно отдать должное родоначальникам это-го направления (Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, Л.М. Дробижева),которые утвердили это направление в такой степени, что оно сталопочти отдельной дисциплиной на стыке двух наук – этнологии исоциологии. Хотя сегодняшняя дисциплинарная грань по методустановится достаточно условной, ибо современная «понимающаясоциология» все больше проявляет интерес к этнографическому ме-тоду включенного наблюдения. И все же именно этот метод остает-ся «торговой маркой» нашей дисциплины.
Однако само слово «антропология» к тому времени также обре-ло амбивалентный смысл. Помимо дисциплинарного обозначения,появились теоретико-методологические подходы в других дисцип-линах, связанные с комплексным изучением феномена человека (фи-лософская антропология), с изучением истории повседневности, ис-торико-культурного контекста больших сообществ (историческаяантропология) и т.п. Многим хотелось заиметь в своем арсеналеэто привлекательное слово «антропология», даже некоторым теле-ведущим в названии своих программ. Надо признать, что одновре-менно и сами антропологи (я имею в виду – зарубежные) непомернораздвинули собственные научные горизонты, и появилось большое
77
ненные на английском и испанском языках, поскольку несколькодесятков миллионов американцев говорят по-испански.
В России наиболее широкое распространение имеет русскийязык, на котором фактически может говорить все население стра-ны, но в то же время сохранились многие другие языки, несмотряна сокращение числа носителей этих языков и сферы их использо-вания. Сегодня русский язык является родным языком не толькодля этнических русских, но и для миллионов граждан других наци-ональностей. Таким образом, русский язык стал своего рода куль-турной собственностью (или капиталом) не только русских, но ибольшинства чувашей, бурят, осетин и многих других, включая боль-шинство тех же российских татар.
Переход на русский язык многих представителей других наро-дов представляет собою выбор (иногда добровольный, иногда вы-нужденный) в пользу языка, который дает больше возможностейдля жизненного преуспевания граждан в едином государстве, длябольшей социальной и пространственной мобильности людей,живущих в одной стране. Кроме того, русский язык относится кнемногим мировым языкам (наряду с английским, испанским,французским и арабским), на котором функционирует одна изкрупнейших мировых цивилизаций. Русский язык более способ-ствует восприятию широких мировых культурных ценностей и бо-лее широкому взаимодействию в международном масштабе. Не зрявыехавшие в Израиль российские евреи сохраняют знание русско-го языка и даже требуют его признания как одного из официальныхязыков государства, наряду с ивритом и арабским.
В этой связи, прежде чем решать языковые вопросы в новыхдемократических условиях, возможно, следует сменить старые док-тринальные установки и считать родным языком не только язык,который совпадает с национальностью одного или обоих родителей,а прежде всего язык, который является для человека основным язы-ком, включая и домашнее общение. Нельзя считать русский языкродным языком только русских. При этом следует противостоятьстрашилкам радикальных националистов, что утрата, точнее – сме-на, языка однозначно ведет к утрате этнической идентичности и кисчезновению отдельного народа. В мире множество народов, боль-шинство представителей которых (или целиком все) сменили языки говорят на «чужом» языке, но от этого не утрачивают своей иден-тичности.
92
число «новых антропологий». Физическая антропология развиласьв огромное число направлений и стала обретать более расширитель-ное обозначение как «биологическая антропология». Более четковыделились и даже конституировались на уровне отдельных науч-ных обществ и комиссий городская, медицинская, политическая,прикладная, юридическая, тендерная, аудиовизуальная антропо-логии. Сами же западные антропологи начали жаловаться, что те-перь антропологией стали называться почти все отрасли гумани-тарного знания и следует более четко определять собственные дис-циплинарные границы, чтобы не потерять дисциплину вообще.
В последние два десятилетия произошла и географическая экс-пансия антропологии: из преимущественно европейской науки онастала мировой, с точки зрения идентификации исследователей иобозначения образовательных институтов. Появились новые и силь-ные национальные антропологические (не этнологические!) шко-лы в странах Азии, Латинской Америки и Африки. Несмотря на то,что в большинстве своем это были выпускники англо-американ-ских элитных университетов, ученые – выходцы из Индии, Китая,Филиппин, Индонезии, арабских и африканских стран составилиновое и неповторимое в своих ориентациях и по своему научномувкладу поколение (Стенли Тэмбайа, Шмадар Лэви, Мариан Цинк,Парта Чатарджи, Акхил Гупта и другие).
Последний бастион – восточно-европейская этнология и этно-графия – стал рушиться в 1990-е гг., когда многие коллеги в Польше,Венгрии, бывшей ГДР, Чехословакии, Югославии стали называтьсебя социальными или культурными антропологами, меняя назва-ния институтов, факультетов и кафедр. В 1992 г., по инициативебританского антрополога Адама Купера, была создана Европей-ская ассоциация социальных антропологов (ЕАСА), частично что-бы дистанцироваться от экспансионизма американской антрополо-гии, но, частично, и чтобы вобрать в рамки западноевропейскойсоциальной антропологии освободившееся от «коммунистическихпут» восточноевропейское научное сообщество. Не случайно при-глашение получили и стали первыми участниками учредительногосъезда в Коимбре (Португалия) именно представители нашего Ин-ститута этнографии. Только случайно мне не удалось быть на этомконгрессе и войти в число «отцов-основателей» этой ныне самоймощной ассоциации европейских социальных антропологов. В пос-ледние годы на конгрессах ЕАСА отечественные академические эт-
76
ние на языки и диалекты является условным и во многом зависитот политики и от властных отношений. Среди ученых существуетяркое выражение: «Язык – это тот же диалект, но только с армией»,а «...диалект – это тот же язык, но только без армии». Другими сло-вами, за кем больше ресурсов (численность, власть и прочее) – утого больше и возможностей утвердить свою систему коммуникациив качестве главной или привилегированной и больше возможностиее защиты от внешнего вмешательства.
Кроме этого, на государственном и региональном уровнях все-гда существует языковая асимметрия. Один язык, обычно это языкболее многочисленной этнической группы, доминирует над языкамименьшинств, вплоть до того, что языки малых групп могут со време-нем оказаться в маргинальном положении или совсем исчезнуть. Такбыло на протяжении всей человеческой истории. Причем домини-рование языка большинства населения в одном государстве далеконе всегда происходит под воздействием силы. Часто это результатэкономических и социальных факторов, рационального выборалюдей, родительских стратегий в отношении собственных детей.
С момента возникновения современных государств последниевсегда стремятся к языковой унификации, к тому, чтобы населениегосударства могло говорить на одном языке. Единый знак – это од-новременно средство национальной консолидации и заметный мар-кер, отличающий население одного государства от внешнего мира.Но эта идеальная норма в реальности не существует. Языков в миреоколо 4–5 тысяч, т.е. гораздо больше, чем государств и даже этни-ческих общностей. Максимум, чего добиваются государства, этозакрепление за одним или несколькими языками официального ста-туса – статуса языков, на которых должны общаться государствен-ная бюрократия и отдаваться военные приказы.
Современные государства с демократическими нормами прав-ления признают языковое разнообразие своего населения и дажеподдерживают его (особенно малые языки), а также гарантируютязыковые права представителей меньшинств. В Италии, например,представители немецкоязычного меньшинства, проживающего насевере страны, обеспечены необходимым корпусом немецкоязыч-ных судей вплоть до Верховного суда, где обязательно один из су-дей владеет немецким языком. Я уже не говорю о таких вещах, каксфера государственных услуг или надписи в публичных местах. Ужев аэропорту Кеннеди в США вас сейчас встречают надписи, испол-
93
нологи уступают место немногим появившимся в стране ученым,которые к своим востоковедческим, историко-лингвистическим, ар-хеологическим, политологическим или социологическим самока-тегоризациям добавляют антропологическую дефиницию и в це-лом не выглядят «белыми воронами», если докладывают доброт-ные результаты научных исследований.
С учетом быстро меняющегося исторического контекста былоочевидно, что реконфигурация научной идентичности и смена не-которых приоритетов придут и в Россию. Тем более, что десяткитысяч лишенных привычных дисциплинарных ниш в рамках марк-систско-ленинского и научно-коммунистического комплекса будутвынуждены искать новые тематические сферы, статус и обозначе-ния. Еще в начале 90-х гг. я пришел к выводу, что если мы сами неосуществим доброкачественную экспансию, то рискуем остаться в«этнографическом кафтане» конца XIX в. – начала XX в., а антро-пологами в России станут другие, которые к тому же сами и опре-делят, что есть для них антропология. Отчасти, так оно и получи-лось. Выработанные отдельными активными членами общество-ведческого сообщества представления и даже «пробитый» через не-достаточно компетентное министерское руководство государствен-ный стандарт обучения по специальности «социальный антропо-лог» к антропологии имеют условное отношение.
Лишенные амбиций на рынке образовательных услуг и, отчас-ти, самонадеянные в собственном «величии» российские этногра-фы сделали всего один важный шаг в направлении собственноймодернизации, но и он был сделан не без труда. Это было иниции-рованное мною в самом начале 90-х гг. переименование Академи-ческого института этнографии в Институт этнологии и антрополо-гии, что неминуемо повлекло изменение названия дисциплины иболезненные коллизии в рамках профессионального сообществаэтнографов. Одни видели в смене названия разрушение «класси-ческой этнографии», другие вполне охотно принимали новое обо-значение «этнология», третьи были готовы сделать шаг в направле-нии обозначения себя социальным или культурным антропологом,четвертые (физические антропологи) – как были, так и оставалисьантропологами, немного опасаясь, что, помимо их самих, появля-ются еще и «другие» антропологи.
Моя позиция состояла в том, что подобные смены не должныпроисходить декретивным образом. Желающие оставаться этно-
75
ЯЗЫК И АЛФАВИТ КАК ПОЛИТИКА*
В Приволжском федеральном округе, а именно в РеспубликеТатарстан, возникла, на наш взгляд, проблема большого общегосу-дарственного значения, хотя, казалось бы, речь идет всего лишь осмене алфавита татарского языка с кириллицы на латиницу. Руковод-ство Татарстана и часть местной интеллигенции инициировали при-нятие республиканского закона, который предусматривает началоданной реформы в 2001 г. Основной аргумент состоит в том, чтолатиница более адекватно отражает фонетический строй татарско-го языка, а длительное существование кириллицы наносило ущербфункциональному развитию этого языка, принося многие неудоб-ства его носителям. По мнению республиканских законодателей,языковые вопросы должен решать народ, которого это прежде все-го и касается, а остальное общество и федеральные власти не дол-жны здесь навязывать свое мнение. Возможно, так оно и должнобыть. Ибо язык – это важнейший механизм формирования и функ-ционирования культурной отличительности, это важный элементиндивидуальной и коллективной идентичности. «Без языка нет инарода», – считают многие политики и ученые. И каким быть та-тарскому языку, включая используемый алфавит, должны решатьсами татары. До этого за них решали волевым путем другие силы, аименно: государство и московские эксперты.
Однако все не так просто, как это кажется на первый взгляд.Есть ряд вопросов, которые нельзя сводить только к чисто лингви-стическим дебатам или к эмоциональным и политизированным ар-гументам. И эти вопросы следует задать сейчас, а еще лучше, иполучить на них ответы.
Безусловно, с точки зрения правоведов, этнологов и лингвис-тов, все языки равноправны, если они адекватно выполняют своюроль в системе коммуникации культурно схожих людей. С точкизрения современной науки, даже широко распространенное деле-_____________* Этнопанорама. 2001. №1. С. 71–73.
94
графами не должны отказываться от этого и называть себя этноло-гами. Кстати, сам характер труда некоторых специалистов в нашейсфере сосредоточен именно в этнографии. Однако что есть для меняэтнография? Этнография – это то, что этнолог или антрополог де-лает в поле, включая также и сам этнографический нарратив. Эт-нография есть цеховая основа дисциплины, которую называют эт-нология (российская, частично европейская традиция), социальнаяантропология (западноевропейская традиция), культурная антропо-логия (североамериканская традиция). Однако в современном мире,в том числе и в России, остается большая категория ученых и прак-тических работников, которые занимаются именно этнографией, приэтом не останавливаясь перед «вратами теории», а опираясь на иделая теорию, но только не в столь самодовлеющем ключе. Преждевсего я имею в виду многочисленный отряд работников этнографи-ческих музеев, включая растущее число местных, краеведческихмузеев и музеев под открытым небом. Некоторых специалистов,выполняющих разработки в области этнокультурных аспектов про-изводства (художественный промысел, шоу- и мода-бизнес, дизайн-индустрия и прочее) и этнических предпочтений рынка потребле-ния. Есть и кабинетные ученые в академических структурах, кото-рых адекватнее будет определять как этнографы и которые, воз-можно, слишком поспешно отказались от столь достойной дефи-ниции. Ученый ИЭА РАН, делающий историко-этнографическоеобследование зон хозяйствования коренных малочисленных группнаселения для утилитарных целей развития или для экономическо-го и правового обеспечения программ и проектов, «делает этногра-фию» или «прикладную антропологию».
Именно в целях более широкого понимания данной сферы на-учной и образовательной деятельности название основной профес-сиональной ассоциации в стране звучит как «Ассоциация этногра-фов и антропологов России». Мне представлялось несправедливым10 лет тому назад в самом начале процесса перемен зачислять всехэтнографов страны в этнологов. Даже в академическом институтеоставались стойкие приверженцы одного старого названия. Сейчасэтнолог и этнология чувствуют себя уверенно, и моя собственнаяозабоченность в данный момент – это чтобы люди не разучилисьделать этнографию и не утратили к ней вкуса. Только что вышед-шее в свет мое собственное исследование проблемы общества ввооруженном конфликте имеет на книжном титуле подзаголовок
74
Поэтому отказ от списка ради «открытого листа», но с той жесамой методологической установкой ничего не даст, кроме сумяти-цы и новых споров, кто есть народ, этнос, нация, этнографическаягруппа и т.п. Не спасает положения и предложение ввести иерар-хию этнических общностей как по линии «в основном проживаю-щие на территории Российской Федерации» и «в основном прожи-вающие за пределами», так и по линии вертикальной иерархии (эт-носы – субэтносы): например, казаки или поморы как субэтносырусских, а булгары или мишари как субэтносы татар, дигорцы каксубэтнос осетин и т.д. В конечном списке все равно остаются наци-ональности казаков, булгар, дигорцев и многих других, которые илив списке не присутствовали или находились в некой подкатегории.
В нынешней общественно-политической ситуации идеальный,с точки зрения современной науки, вариант переписи этническихобщностей нам представляется невозможным. Дай бог преодолетьжесткое давление националистических сил и ассимиляционист-ские установки местных администраций в пользу так называемыхтитульных национальностей в республиках. Не исключено и дав-ление со стороны шовинистических групп и политиков приумно-жить «государствообразующий этнос». Отчаянную мобилизациювокруг переписи могут устроить и лидеры малых групп, не имею-щих территориальных автономий. Здесь важнее сохранить как мож-но больше свободы спокойного выбора при разумных разъяснени-ях переписчиков. А разъяснения эти должны быть следующими:Вы можете указать одну или несколько этнических (национальных)принадлежностей или никакой: например: русский и еврей, украи-нец и армянин, татарин и башкир и т.п. Вы можете указать слож-ную национальность, обозначив ее через дефис: например, морд-ва-эрзя, осетин-дигорец, русский-казак, калмык-казак, русский-по-мор, татарин-булгар и т.п. Таковы на данной стадии мои предложе-ния. Смогут ли ученые и статистики определить по итогам перепи-си тот самый «настоящий» список национальностей – это уже дру-гой вопрос, и он не имеет принципиальной важности, ибо в Россииживет один народ – россияне, как и многие народы других госу-дарств отличающийся богатством культурной сложности.
95
«этнография чеченской войны», ибо из 552 страниц около третитекста составляют «прямые голоса», т.е. свидетельства информан-тов, научный смысл и воздействующая сила которых нисколько неменьше (а возможно даже и больше!) собственно авторского тек-ста. Этой книгой я доказал самому себе, что могу заниматься эт-нографией, причем в ее крайне усложненном варианте недоступ-ности этнографического поля в его традиционном понимании.
Если говорить о смысле раздельного существования наук этно-логии, этнической социологии и социальной антропологии, то эт-нической социологии как науки не существует, этнология и соци-ально-культурная антропология – это во многом синонимы, хотяполе последней значительнее шире, но метод – один.
– Как бы Вы охарактеризовали ситуацию в теоретическихи эмпирических исследованиях в России и за рубежом? В какомнаправлении, с Вашей точки зрения, развивается современнаямировая и российская социология?
Я не делю исследования на теоретические и эмпирические. Луч-шая теория делается в виде заметок на полях полевых дневников.Без «эмпирики» трудно получить новое знание, а без нового знаниянет научного исследования, а может быть просто умное или поверх-ностное рассуждение или просвещенная журналистика. Эмпирикабез теории – это не исследование, в любой эмпирике есть система-тизация и скрытая теория, даже в тексте этикетки этнографическо-го экспоната, не говоря о концепции этнографической выставки.
Ситуация в отечественном обществознании неоднозначная. Естьряд дисциплин и направлений, которые на лидирующих мировыхпозициях. Главным образом – это домен так называемых класси-ческих штудий в сфере археологии, историографии, языкознания инекоторых других, которые с советских времен пользуются доб-ротной государственной поддержкой. В академической науке пос-леднего десятилетия утвердились новые дисциплины, но основноеобновление шло через «возвращение забытых имен» или через пе-ревод и издание зарубежных текстов. Оба эти процесса были на-гружены идеолого-политическими установками и некоторыми мо-рально-этическими соображениями (особенно если речь шла орепрессированных ученых). В итоге «навар» для подлинного раз-вития науки невелик. Ликвидация пробелов в форме издания тек-стов, которые студент был бы обязан прочитать на первом-второмкурсах, – это еще не развитие науки. Это даже может быть шаг на-
73
ния (этнонимы) и не заниматься их корректировкой через «встреч-ный» список народов, который подготовлен учеными. Этот подходисходит из той же посылки, что где-то в глубине социума и личногосознания существует подлинное «национальное, или этническое,самосознание», выражаемое в групповом самоназвании. Это само-выражение якобы не имело места в прошлом по причине отказа впризнании со стороны государства и экспертов, которые отказыва-лись «признавать этносы». По части отказа в признании – это дей-ствительно так: в советский период манипуляции с перечнем наци-ональностей были довольно частыми и во многих случаях откро-венно насильственными. Более того, даже сам по себе встречныйсписок народов – это всегда не расширение, а сужение числа этни-ческих единиц. Но было и мирное конструирование «социалисти-ческих наций и народностей», в том числе и по рекомендациямответственных ученых, по обсуждению и выбору местных элит идаже по причине благозвучия. Проблема с данным подходом состо-ит в другом.
Во-первых, в наивной вере, что этническая идентификация все-гда есть некая эксклюзивность, всегда впереди других форм иден-тификации и всегда четко осознается человеком. На самом делефеномен этничности имеет более сложную природу, в том числе ипрежде всего на личностном уровне. Этническая идентичность мо-жет носить многоуровневый характер, и трудно отказать ботлихцу,цумандинцу или ахвахцу, что он не может называться также и авар-цем, или эрзянец не может одновременно называться мордвой (та-кая ошибка уже была допущена в переписи 1994 г.).
Во-вторых, в стране проживают миллионы граждан смешанно-го этнического происхождения, разделяющие культуру, язык и са-мосознание как минимум обоих своих родителей. Почему их нуж-но ставить перед необходимостью взаимоисключающего выбора,даже если они привыкли это делать в предыдущие времена, не подо-зревая, что имеется и другой выбор за пределами госинструкций.
В-третьих, этническая самоидентификация столь подвижна идостаточно легко конструируется, что даже если одна перепись за-фиксирует «полную картину этносов», то следующая перепись дастнаверняка другой больший или меньший список, и обязательноотличный от предыдущего. К тому же право менять и определятьсвою национальную принадлежность и даже указывать или не ука-зывать ее является полной прерогативой отдельного человека.
96
зад, когда авторы, писавшие в начале или в первой половине про-шлого века, вдруг становятся основными отсылочными авторите-тами со всей их безнадежно устаревшей методологией и наивно-романтическими или обскурантистскими (часто расистскими)воззрениями. Так, без должной критической оценки были «воз-вращены» в современный арсенал науки Ильин, Бердяев, Розанов,Соловьев, Федотов, Шпет, Широкогоров и многие другие.
Переводы и новые издания старых текстов даже самых круп-ных ученых всегда требуют критического анализа с точки зрениясовременного знания, которое очень быстро развивается. Сегод-ня переиздавать очень уязвимые даже для своего времени тео-ретические конструкции Широкогорова по поводу «этноса» илиработу Шпета по так называемой этнопсихологии и не сопровож-дать их должными комментариями с позиций современной антро-пологии – это означает делать шаг назад, а не вперед. Ибо не каж-дый рядовой потребитель данных текстов, а тем более студентыспособны осуществить критический анализ и многое воспринима-ют в старых текстах как некое открытие некогда запретных тем илидаже истин.
В отечественном обществознании сложилась еще одна серьез-ная коллизия уже в рамках нынешнего поколения. Десять лет томуназад мне представлялось, что перевод и издание современныхзарубежных авторов сами по себе вызовут серьезный пересмотрсуществовавшей теоретической базы и тематических горизонтов визучении культуры и общества в их антропологической перспекти-ве. По крайней мере, отход от эссенциалистского, глубоко примор-диального видения этнического фактора в условиях блистательныхдемонстраций социального конструирования культурных различийи этнических мобилизаций (пост)советского времени представлял-ся неизбежным и скорым. Я даже не стал публиковать свою статью«Реквием по этносу» с критикой так называемой советской теорииэтноса, чтобы не раздражать своих ближайших коллег излишнимэпатажем по поводу одной из «священных коров» отечественнойэтнографии с начала 60-х гг. Казалось, что массовая эволюция дис-циплины через конкретные исследовательские опыты будет болееестественной, чем громкое свержение доминирующей научной па-радигмы.
Но я оказался не прав. Произошло обратное по ряду причин.Этнические лояльности как форма групповой солидарности и по-
4
97
литического действия во многом заняли место разрушенных основколлективных и частных стратегий (социалистическая/комму-нистическая риторика, советский патриотизм, «моральный кодекс»и т.п.). Этнонационализм, особенно после распада СССР, был вос-принят как «триумф наций» (по выражению французского истори-ка Э. Карер Данкосс), а не как триумф метафоры «триумфа наций».Сконструированное в ходе открытого насильственного конфликта«чеченство» представлялось как проявление до сих пор непознан-ного и непонятого политиками и военными этноса времен военнойдемократии, который невозможно подчинить современному зако-ну, а тем более «завоевать». Другими словами, сложные «практи-ки» стали представляться не как политический проект или мобили-зация историко-культурного материала для современных целей, акак проявление глубинных, «этногенетических» исторических за-кономерностей. Само же этническое стало представляться явлени-ем настолько археотипическим, что без обращения к нему уже немогли представить свои занятия не только антропологи, но и исто-рики, социологи, политологи, психологи и даже экономисты.
Массовое вторжение в сферу этнического неофитов от другихдисциплин обусловило заимствование имевшегося в этнологии те-оретического конструкта в его наиболее упрощенной и привлека-тельной форме. К хорошо сохранившимся в научных и вузовскихбиблиотеках работам Ю.В. Бромлея добавились миллионные тира-жи книг Л.Н. Гумилева, в которых полезная историческая публи-цистика переплелась с абсолютно несостоятельными конструкция-ми по поводу этносов и суперэтносов, «пассионарности», «комп-лиментарности» и других проявлений биосоциальности в рамках«геосферы Земли». За этим последовали наскоро написанные сло-вари, справочники, учебники по этнологии, «исторической этноло-гии», национализму, а этнология в ее наиболее примитивном виде(описание этнических групп по языковым семьям) стала читатьсяво всех (!) вузах страны неподготовленными для этого преподава-телями.
Реванш примордиализма и ортодоксальности был закрепленнетерпимым (на грани ерничества) отношением к таким направле-ниям в современной гуманитарной мысли, как конструктивистcко-инструменталистcкие подходы и постмодернистские конструкции.Можно только позавидовать энтузиазму представителей старшегопоколения, которые не только не сдали ортодоксальных позиций в
120
В 1993 г. заместитель директора Института США и Канады РАНВ.А. Кременюк предложил мне «забрать» это направление как бо-лее отвечающее профилю Института этнологии и моим собствен-ным научным интересам. Уже следующий проект «Урегулированиемежэтнических конфликтов в постсоветском пространстве», по-лучивший финансовую поддержку от Корпорации Карнеги Нью-Йорка, был начат Группой по урегулированию конфликтов в со-трудничестве с Институтом этнологии, координаторами с аме-риканской стороны были Уильям Юри и Брюс Аллин, а с россий-ской стороны – я и А.В. Беляева, руководившая Международнойлабораторией «ВЕГА» (создана академиком Е.П. Велиховым иДэвидом Гамбургом – президентом Корпорации Карнеги в рам-ках проекта коммуникаций). Идея, которую я изложил во времявстречи с Д. Гамбургом, а именно – создать неформальную Сеть изобученных в области разрешения конфликтов независимых экспер-тов, работающих в регионах межэтнической напряженности и конф-ликтов, была поддержана. Обеспечение Сети компьютерной логи-стикой и системой электронной почты должна была взять на себялаборатория «ВЕГА».
В сентябре 1994 г. в Голицыне (Подмосковье) был организованпервый семинар Сети этнологического мониторинга и раннего пре-дупреждения конфликтов (в английской аббревиатуре мною былопридумано неуклюжее по звучанию слово EAWARN как сокраще-ние от двух слов «раннее предупреждение»). Сеть долгое время быласвободным и даже незарегистрированным сообществом, составкоторого определялся инициативным образом и главным образом–российскими координаторами проекта. Среди первых участни-ков были самые разные люди преимущественно молодого возрас-та – научные работники, журналисты, лидеры общественных (такназываемых «национальных») организаций и движений. Некото-рые из них со временем стали известными политическими и госу-дарственными деятелями национального и регионального масш-таба (Борис Цилевич из Латвии, Лилия Буджурова с Украины, ЛевДзугаев из Северной Осетии) и отошли от работы в Сети. Некото-рые, особенно из числа общественных активистов, не смогли спра-виться с задачей регулярного научно-прикладного анализа этно-политических ситуаций в силу отсутствия навыка написания ана-литических текстов и также выбыли из постоянного состава, кото-рый определялся при отборе участников ежегодных семинаров. Из
5
98
области изучения «теории этноса» и «национального вопроса», нои написали новые труды, инкорпорировав в них собственное пони-мание трансформаций последнего десятилетия (см. книги В.И. Коз-лова, Ю.И. Семенова, М.Н. Руткевича, Джунусова и других). Носамыми активными оказались так называемые «социальные фило-софы», которые узурпировали социальную антропологию в каче-стве «новой учебной дисциплины», за которой скрывалась обыч-ная философская антропология в разных ее вариантах (см., на-пример, учебник для вузов: В.В. Шаронов «Основы социальнойантропологии», 1997).
Не менее настойчивыми оказались и давние специалисты по «на-циональному вопросу» из идеологического и образовательного цехамарксизма-ленинизма. Они изобретательно искали новую нишу,вплоть до предложения новой дисциплины «нациология», и в ко-нечном итоге «дожали» Высшую аттестационную комиссию, вклю-чив в раздел политологии дисциплину «национальные институты инациональные процессы». Вы будете удивляться, но речь идет не огосударственных институтах и не о гражданских общественных про-цессах, а о сфере этнической политики и ее институциональныхформах. Инициаторами выступили преподаватели Российской ака-демии государственной службы, где теперь получают ученыестепени специалисты по «национальным» (читай – этническим)проблемам главным образом из российской периферии. Софисти-ка «национальных проблем» занимает приличное пространство,достаточно просмотреть многочисленные рефераты диссертаци-онных работ, защищаемых в РАГСе. Причем в РАГСе царит мето-дологическая нетерпимость по данному вопросу, а уж ссылка намои работы – это гарантированные «черные шары». Удивительно,каким образом через приверженность несостоятельной теории го-сударственное учреждение воспроизводит язык и специалистов, от-рицающих национальные процессы и национальные институты вих общепризнанном значении, и тем самым отрицая российскуюнациональную государственность и российскую национальную об-щность.
В этой ситуации мне иногда кажется, что в науке чаще происхо-дит и имеет большую значимость не смена теоретических пара-дигм, а смена поколений. Однако новое поколение совсем не озна-чает новые взгляды. Я уже встречал молодых специалистов, ко-торые называют себя «антропологами», но выучились они по про-
119
ми инициаторами таких проектов были американцы из универси-тетской среды и из неправительственных организаций, которые ужеимели опыт исследовательской и практической деятельности в дан-ной сфере. В СССР и в России фактически не было того, что потомдостаточно быстро проросло и стало называться «конфликтологи-ей». Люди в науке были приучены изучать «неантагонистическиепротиворечия» в сфере так называемого «национального вопроса»,а люди во власти объясняли происходящие неожиданности крайнеповерхностно: «узбеки поссорились с месхетинскими турками набазаре из-за килограмма клубники», как объяснил Р.Н. Нишанов,тогдашний руководитель Узбекистана, погромы и этническую чист-ку месхетинцев в этой республике в 1990 г.
Одна из неправительственных организаций – «Группа по урегу-лированию конфликтов» (Conflict Management Group), действовав-шая при Гарвардской школе права во главе с Роджером Фишером,еще в 1980-е гг. начала совместный с Институтом США и КанадыАН СССР проект по проблемам переговоров и разрешения конф-ликтов. Начальная цель была – улучшение хода советско-амери-канских переговоров в области ядерных вооружений, а также вы-работка подходов по снижению ядерной опасности, особенно в кри-зисные моменты. Но затем появился вполне объяснимый интересвключить в повестку сотрудничества вопросы конфликтов и их раз-решения для советских политиков, впервые столкнувшихся в ходегорбачевской либерализации с ситуациями внутренних конфликтови открытым межгрупповым насилием. Карабах и Сумгаит и незна-ние, как этому противодействовать, были первыми набатамиприближающихся и вполне возможных гражданских потрясений,связанных с кризисом СССР как государства и с последствиямиего распада. В здании Верховного Совета РФ были даже организо-ваны лекции Роджера Фишера и Уильяма Юри – авторов извест-ных в США бестселлеров о принципах разрешения конфликтов итехнике переговоров. Тогда же английская неправительственнаяорганизация «Международная тревога» (International Alert), возглав-лявшаяся Кумаром Рупе-сингхе, инициировала вместе с Эмилем Па-иным из Внешнеполитической ассоциации первые семинары-тре-нинги по конфликтологической тематике. Институт этнологии и ан-тропологии РАН в моем лице и Мары Устиновой принял участие вэтих мероприятиях в качестве ведущего в стране академическогоучреждения, занимающегося этническими проблемами.
99
граммам и учебникам, которые к данной дисциплине не имеютотношения, а слова «включенное наблюдение» им оказались неиз-вестными. В итоге, в каком направлении развивается современнаяроссийская социология, я не могу сказать, ибо я не социолог. А вотв каком направлении развивается современная российская этноло-гия, могу сказать, что в неопределенном направлении или в самыхразных направлениях.
– Каковы особенности развития современных исследованийнациональных отношений, этносов? Можно ли говорить о но-вейшей тенденции превращения этнологии в социальную ант-ропологию?
Я не знаю, что такое «национальные отношения». Если гово-рить об изучении этнических проблем, в т.ч. вопросов межэтничес-ких взаимодействий (отношений), то в отечественной наукедоминирующим остается историко-этнографический подход, какимон был 20–30 лет тому назад. Если взять тематику диссертаций,защищаемых в стране по специальности «этнография, этнология,антропология», а также основной массив научных книг и наиболеепрестижных изданий, то здесь есть две стойкие тенденции. Однаиз них в том, что в диссертациях научные руководители через сво-их учеников продолжают реализовывать установку, что где-то нарубеже XIX–XX вв. существовала некая норма традиционной куль-туры, после чего началась ее безнадежная утрата. А всего-то дан-ный феномен связан с тривиальным фактом становления профес-сиональной этнографии именно на рубеже двух прошлых веков иестественно – вовлечения в исследовательский арсенал прежде всегосовременных материалов, но современных для своего времени!Значит, этнография должна не только искать утраченную норму-традицию и совершать необходимые исторические экскурсы, но ипрежде всего уметь видеть культурные практики современного об-щества. «Заниматься надо этнографией: все же исчезает!» – сказалмне один выдающийся академик-историк. Так вот – в этнографииничего не исчезает, ибо всегда появляется что-то новое и становит-ся тем, что потом назовут «традицией».
Вторая тенденция проявляется в создании историко-этногра-фических описаний по народам. По предложению покойногоЮ.Б. Симченко мы начали в 1990-е гг. новую фундаментальнуюсерию «Народы и культуры», которая на новом уровне и на новыхматериалах повторяет частично проект «Народы мира», выполнен-
118
СЕТЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГАДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ*
Мне трудно восстановить детали, в том числе хронологические,истории Сети этнологического мониторинга и раннего предупреж-дения конфликтов (СЭМ), но существо и смысл всех основных«движений» этого достаточно интересного проекта мне ведомы вполной мере. В какой-то мере Сеть – это мой личный проект и про-ект моих больших друзей и соратников, которые в разные срокивошли в это сообщество. Десятилетие – значительный срок длянеправительственной инициативы, но организация (трудно обзы-вать Сеть этим канцелярским словом) существует и будет еще силь-нее и значимее в будущем. Особенно если в нее придут новые испособные члены, а ветераны не сникнут под влиянием жизненнойрутины. То, что сам этнологический мониторинг останется востре-бованным, в этом нет сомнений. Этнический фактор будет сохра-нять свое важнейшее значение во многих сферах жизни, в том чис-ле в политике и в государственном управлении, не говоря уже осфере коллективных и личностных идентичностей. Хотя, по моемуубеждению, конфликты, особенно в открытой, насильственной фор-ме, едва ли окажутся столь позволительными во все более орга-низующемся пространстве бывшего СССР. Однако вернемся к на-чалу: почему и как возникла СЭМ и как она развивалась?
Рождение проекта
В начале 1990-х гг. многие люди в экспертном сообществе былиозабочены проблемами возникших сначала в СССР, а затем в но-вых постсоветских государствах насильственных конфликтов, имев-ших в своей основе радикальный национализм и вооруженный се-паратизм. Стали возникать и первые международные проекты вобласти урегулирования конфликтов и их предупреждения. Первы-_____________* Этнопанорама. 2003. №1–2. С. 2–8.
100
ный в 1950–60-е гг. под руководством С.П. Толстого. Большая иотрадная разница прежде всего в том, что эти описания создаютсяпредставителями научных школ, которые существуют среди само-го народа. «Украинцев» написали ученые Украины, «Белорусов» –ученые Беларуси, «Татар» написали татары и так далее. Этничес-кого национализма и теоретических плоскостей в этих трудах хва-тает, но в них содержится новейший эмпирический материал и по-лезные коррективы русско-центристской версии национальной ис-тории, имея в виду российское государство во всех его конфигура-циях. Эти труды имеют большое общественно-политическое и об-разовательное значение. Данный проект будет продолжаться, как ибудут продолжать выходить отдельные «монографии по народам»,содержащие солидные исторические экскурсы. Так что исследова-ние «этносов» продолжается, но едва ли это будет генеральнымнаучным направлением через десять лет. Сам интерес к «детально-му изучению малых сообществ» – основа социально-культурнойантропологии – сохранится, но это не обязательно будут этническиегруппы. Во-вторых, наука, на мой взгляд, должна преодолеть эпи-тимью «группизма»: антропологи, социологи, политологи должныпойти дальше самодовлеющего понятия группы, будь это этнос,класс, нация, страта, раса, меньшинство и т.п. Группы – в большин-стве своем это социальные конструкты или академические катего-рии, которые все чаще становятся не операциональными как длянаучного анализа, так и для политики управления. В-третьих, на-ука о теоретической практике в культуре и обществе (так можнопопытаться схватить суть социально-культурной антропологии) всебольше будет уходить от культурной нормы и типа к культурнойсложности и многокультурности. Но понимая многокультурностьне как суррогат «многонациональности», а как сложность, начина-ющуюся на уровне личности.
Феномен маркутизации станет не ругательной литературнойметафорой, а предметом исследования того, что уже давно являет-ся культурной нормой, а не аномалией.
117
мы или миротворчество, которое в нас дремлет и которое можноиспользовать для преодоления конфликтов. Мы заблуждаемся, когдадумаем, что так называемые приниженные меньшинства – это все-гда страдающие от господствующего большинства группы, лишен-ные возможности удовлетворения базовых культурных потребнос-тей, но если они получат самоопределение, то все проблемы будутрешены.
На самом деле меньшинства становятся инициаторами насилиякак раз через культурные аргументы, через то, что они должны со-хранить, возродить или защитить свою культуру. Но при этоминформация и компетенция о возможных путях достижения этогокрайне сужена и основана на радикальном отторжении существую-щего порядка вещей и на революционизме. По этой причине мень-шинства (точнее – лидеры и активисты) стали инициаторами наси-лия или конфликтов, которые в последнее время произошли на тер-ритории бывшего Советского Союза и в других регионах мира. Та-ким образом, мультикультурализм может снижать напряженность,но не решает саму проблему насилия и обеспечения безопасностиобщества и государства.
101
ВООРУЖЕННЫЙ СЕПАРАТИЗМЕСТЬ ОБЩАЯ УГРОЗА*
В истории двух наших академий, Российской академии наук иНациональной академии США, было много интересных проектов.В частности, был проведен ряд совместных симпозиумов, посвя-щенных проблемам этничности и государства, где непосредственноучаствовал наш институт, Институт этнологии и антропологии РАН.Я действительно согласен с профессором Р. Адамсом в том, что унас сегодня есть какой-то особый момент в истории сотрудниче-ства двух наших академий. Он вызван большими переменами, ко-торые произошли в целом мире за последние десять лет, и преждевсего в России. А также теми драматическими, трагическими со-бытиями, которые произошли в последние месяцы, особенно в Со-единенных Штатах Америки. Этот контекст, или особая динамикасамой истории, самой жизни как бы накладывает на нас особуюответственность, особый интерес, чтобы обсуждать проблему кон-фликта. Я благодарен своим коллегам с американской стороны, ко-торые предложили на нашей рабочей встрече в июне 2001 г. здесь вВашингтоне, это была идея Чарльза Тилли, прежде всего, не про-водить обычную рутинную конференцию с докладами, а попытать-ся сделать мозговой штурм, работу в малых группах, подготовитьзаранее краткое изложение того, что сделано в науке. И мне кажет-ся, что работа первых двух дней в рабочих группах уже дала намхорошие результаты.
Мне доставляет особое удовольствие сказать, что в этот раз собеих сторон в этом проекте участвуют, я считаю, выдающиесяпредставители современной науки – американской и российской.Для нас, для российских ученых, большая честь, что эту работу
_____________* Этнопанорама. 2002. №1. С. 79–80.Доклад прочитан на российско-американском межакадемическом симпозиуме«Конфликты в многоэтничных обществах» (декабрь 2001 г. – Вашингтон)
116
дальнейшее, и без того излишнее деление населения на группы, ибораз полученные преференции или статус сдерживают естественныепроцессы постоянного формирования и смены идентичностей, по-явления или исчезновения групповых коалиций на основе культу-ры. Не стоит забывать, что за последние десять-пятнадцать лет на-ука сделала важные шаги в понимании того, что такое культура икакова роль этой формы человеческой деятельности в человечес-кой эволюции. Понимание культуры как сложного феномена, поня-тие гибридности культуры, то есть представление об отсутствиижесткой культурной нормы, а также жестких культурных комплек-сов – это одна из важных общетеоретических новаций, с точки зре-ния которой нужно смотреть на российскую действительность.
Порой мы слишком одержимы восстановлением некой утрачен-ной идеальной культурной нормы, которая на самом деле никогдане существовала, или же пытаемся установить культурные разли-чия на групповом уровне, игнорируя, презирая и отвергая схожес-ти, которые, на самом деле, на порядок значительнее. Так, в рамкахв общем-то единой российской, не только гражданской, но и, ко-нечно, культурно-социальной общности появляются сконст-руированные образы гордых дикарей или бандитов-террористов,которые заслоняют целые этнические группы, как, например, че-ченцев, схожесть которых с другими народами Северного Кавказа,да и с остальным населением нашей страны гораздо больше, чемразличие. Увлечение этнографией отдельных групп и выстраива-ние общественного управления от имени «коренных наций» не ос-тавляет места реально существующей историко-культурной общно-сти дагестанцев. Более глубокое понимание смысла многокультур-ности должно быть построено не на взаимоисключающей формеидентичности, а на сосуществующих и взаимодополняющих иден-тификаций.
В этой связи часто ощущается некая абсолютизация этногруп-повой культуры. Абсолютизация этнокультуры как основы всегосущего – это серьезная теоретическая и общественно-политичес-кая проблема.
Есть проблема культуры и конфликта. Культурный аргумент –один из основных в производстве насилия. С опорой на культурныеаргументы рождается ксенофобия, нетерпимость и, в конечном ито-ге, мобилизация на открытое физическое насилие. Мы заблужда-емся, думая, что есть какие-то традиционные культурные механиз-
102
координировали и сами участвовали в симпозиуме ученые, извест-ные во всем мире, такие, как Чарльз Тилли, Роберт Адамс и другие.
И особенно мне приятно говорить, что в этот раз российскаяделегация представлена очень интересными людьми – это двенад-цать профессоров. И все они трудятся в разных университетах,академических институтах, в разных регионах. Я помню времена,когда мы приезжали сюда делегациями и представляли только Мос-кву или в лучшем случае – Ленинград. Сегодня среди нас есть ипредставители Северного Кавказа, Ростова, Поволжья, условно го-воря, а точнее – Южного Урала (не могу как уралец Оренбург от-дать Поволжью). У нас есть и представители Саратова, Санкт-Пе-тербурга. И мне кажется, хорошая была идея наших американскихколлег включить непосредственно в академический диалог практи-ческих политиков тех, кто занимается управлением сложными мно-гоэтническими сообществами, принимает решения в этой сфере.И на этот раз с российской стороны на симпозиуме присутствует груп-па трех наших политиков. Когда мы уезжали из Москвы, то мы оченьхорошо продумали этот вопрос. Все три политика представляют триуровня государственной власти в России – это уровень субъекта Фе-дерации – профессор Веналий Амелин – руководитель комитета ис-полнительной власти в Оренбургской области по делам меньшинств.Это уровень федерального округа – доктор Владимир Зорин – одиниз руководителей федерального округа в Поволжье. И федераль-ный уровень – уровень Государственной думы, высшей законода-тельной власти – доктор Светлана Смирнова, заместитель предсе-дателя комитета по делам национальностей Государственной думы.Но пока мы летели в самолете, Президент В.В. Путин подписал Указ,которым назначил Владимира Зорина федеральным министром Рос-сийской Федерации. Я хотел поблагодарить всех тех, кто непосред-ственно принимал участие в организации этого симпозиума – вто-рой фазы, включая декабрьскую конференцию 2000 г. в Москве.Потому что первая фаза у нас была пять-шесть лет тому назад, ког-да мы в Москве проводили конференцию «Этничность и власть вмногонациональном государстве». Я хотел поблагодарить, преждевсего, работников Национальной академии наук США – ГленаШвайцера, Риту Гюнтер, а также представителя президиума Рос-сийской академии наук Юрия Шияна и основного донора нашегомероприятия – это Фонд Макартуров, который, кстати говоря, де-лает огромную работу по поддержке академических исследований
115
При всех издержках, ограничителях и даже преступлениях,имевших место в сфере советской политики в отношении мень-шинств, это была политика признания и поддержки этническогоразнообразия, причем не только в сугубо культурных сферах (искус-ство, литература, наука, образование), но и в социально-экономи-ческой и политической сферах. В XX в. на территории бывшегоСоветского Союза, как никогда и, пожалуй, нигде в мире, осущест-влялось интенсивное культурное производство.
При всех деформациях, которые здесь существовали (жесткийидеологический контроль, явно излишняя поддержка престижнойпрофессиональной культуры за счет пренебрежения культурой мас-совой, спонсирование культурно-этнической мозаики в ущерб об-щегражданским ценностям и т.д.), нельзя отрицать, что это былиогромные достижения, которые во многом сохранились и сегодня.
Россия не является абсолютно уникальным регионом мира сточки зрения этнокультурного многообразия, а такое представлениеявляется просто результатом нашего незнания остального мира. Раз-личие не в том, что у нас больше или меньше народов, этническихгрупп или общин, а в том, какое этому фактору придается значение.Плохо это или хорошо – это особый вопрос. Однако понимание со-отношения культурной партикулярное с гражданским обществом, сгосударством и с задачами управления – это важная проблема, кото-рая недостаточно осмысливается доктриной мультикультурализма.
Мультикультурализм может быть полезным в ряде аспектов длясовременной России. Причем в противоположном по сравнению сКанадой или Австралией направлении. А именно: в направлении отабсолютизации культурных различий и в направлении признаниясхожести и культурной гомогенности гражданского сообщества. Какполитическая философия и как практика, он может помочь совер-шить важнейший переход от формулы многонационального народак понятию «многонародной нации», как он помог смягчить поляри-зацию канадского общества по линии двух наций в одной стране.Речь идет о том, что сама категория многокультурности усиливаетлегитимность российской гражданской нации, а многонациональ-ность делает ее невозможной даже по чисто лингвистической при-чине: нация не может быть многонациональной. Но возможны идругие варианты, о которых необходимо вести серьезный разговор.
Мультикультурализм в России в его раннем, более традицион-ном понимании (как в Канаде или в Австралии) может принести
103
и другой деятельности в Российской Федерации. Я надеюсь, чтовсе мы получим удовлетворение от этого симпозиума.
К сказанному добавлю еще несколько тезисов. Первое – этовопрос о территориях, границах и ресурсах – сфера, которая име-ет огромное значение, имеет прямое отношение к построениюмежэтнических отношений и конфликтных ситуаций. А откры-тые вооруженные конфликты почти всегда были связаны с этимипроблемами, которые произошли на территории бывшего Совет-ского Союза, причем, я бы сказал, территория, как теперь стано-вится ясным, имеет не только утилитарное значение как ресурсажизнеобеспечения, но имеет еще и символический смысл, которыйсвязан с историко-культурными ценностями, а также с историчес-ким образом той или иной страны, того или иного народа. Отсюдаи в частных конфликтах возникали такие проблемы, как исто-рическая территория. И вокруг этого как раз очень часто возникаламобилизация на открытый конфликт. Распад Советского Союза про-изошел в ситуации, где административные границы между союз-ными республиками вообще не были демилитированы, и вполнеможно было ожидать огромных коллизий и крови по поводу терри-ториальных границ. В целом этот вопрос был решен, хотя до сегод-няшнего момента границы между постсоветскими государствамиофициально не демилитированы, и если мы говорим о каких-топерспективах, всевозможных коллизиях в будущем, вопрос терри-торий должен быть рассмотрен в следующей повестке дня, и уче-ные должны обратить на это внимание. Во-первых, остаются спор-ные территории в ряде регионов, особенно в горных местностях, атакже долины рек и оазисов в Средней Азии. Имеют место доволь-но неприятные ситуации в последнее время, как, например, мини-рование пограничной полосы, как это происходило на границе сТаджикистаном и Киргизией. Это приводит к огромным пробле-мам и даже к жертвам среди гражданского населения, затрудняеткоммуникации, осложняет гуманитарные, человеческие связи междупостсоветскими государствами, мешает торговле и экономике.Я считаю (хотя с этим выводом не все согласны), что населениебудет уважать постсоветские границы между государствами толь-ко в том случае, если эти границы будут транспарентными, т.е. впринципе открытыми. Можно решить проблемы, которые сегоднявозникли, проблемы, связанные с трафиком, доставкой наркотиков,оружия, проникновением нелегальных эмигрантов или даже участ-
114
ного восприятия в отношении мультикультурализма наблюдается ина постсоветском пространстве, где существует примордиалист-ское видение этнического как группового архетипического и где«многонациональность» тиражируется в лозунгах и в печатных тек-стах, в песнях и застольных тостах.
Идее мультикультурности здесь места нет, ибо она грозит нару-шить привычный или официально предписанный порядок вещей.Если во Франции это угрожает идее единой французской нации, тов России, наоборот, это угрожает подменой институализированныхгосударственным устройством системы прав и преференций мно-гих наций некой метафорой «многих культур», да еще и на личност-ном уровне. Аварец, татарин, русский или осетин не могут бытькем-то еще, и культурная сложность (например, татаро-башкиринили башкиро-татарин, аварец-андиец) в данном случае однозначновидится как аномалия.
В России сам факт множественности культур в виде отличи-тельных по целому параметру признаков (от государственности допсихоментальности) настолько признан, а правовые нормы, государ-ственные институты и общественные усилия по утверждению груп-повой отличительности настолько масштабны, что найти новую нишудля многокультурности достаточно непросто. Многим представля-ется, что все это уже было или есть, но только называется другимисловами. Отчасти это действительно так, но только отчасти.
3. Российская перспектива
Если говорить об этнокультурном облике нашей страны, то онотличается огромным разнообразием. Многокультурность как эт-нодемографический факт была изначально присуща российскомугосударству, хотя она не всегда осознавалась и артикулировалась.В то же время Российская империя, СССР и Российская Федерацияникогда не брали на вооружение доктрину гражданского нацие-строительства. Общая идентичность жителей страны обеспечива-лась подданством царю, православием, а затем советским патрио-тизмом. В СССР «многонациональность» и «дружба народов» былиодними из визитных карточек страны, а в реальной политике со-ветского времени «национальная форма социалистической культу-ры» была той же самой политикой мультикультурализма, но тольконазывалось это по-другому.
104
ников различных вооруженных формирований. Здесь проблемуможно решить более тесным сотрудничеством специальных служб,властей, армий и другими механизмами. Но границы между пост-советскими государствами должны быть открытыми, и в этом от-ношении проблема, которая может возникнуть в связи со вступ-лением стран Балтии в Европейский союз и образованием, скажем,Калининградского анклава, таит в себе в определенной мере конф-ликтный потенциал. И эту проблему надо изучать и находить отве-ты. Должен сказать, что между постсоветскими государствами, хотяим достались разные территории и разные ресурсы, не было боль-ших войн и нет больших претензий по поводу перемещения тойили иной территории в пользу другого государства. За эти десятьлет как бы ушли на задний план горячие разговоры, например вРоссии, что Крым всегда был русским, что означало, что Крым оши-бочно был передан Украине, его нужно вернуть России. В прин-ципе сегодня нет никаких сил или конкретных действий как со сто-роны России в отношении возможной аннексии Абхазии, так и состороны Украины о возможной аннексии Приднестровья. Поэтомумой вывод сводится к тому, что необходимо признать не только самфакт образования пятнадцати государств, но и абсолютную невоз-можность исключения второго раунда дезинтеграции в рамкахбывшего Советского Союза. Стратегия должна быть, и весь опытнаших последних лет показал, что нужно улучшать управление,систему управления, а не делить государство и образовывать но-вые границы. Это абсолютно бесперспективная стратегия, она себяпродемонстрировала и на примере бывшей Югославии, и факти-чески она нереализуема на территории бывшего Советского Со-юза. Поэтому мне кажется, что руководители постсоветских го-сударств пришли к выводу, а это впервые более четко прозвучалона последнем саммите стран СНГ в Москве, что необходим еди-ный принцип, единый стандарт в отношении вооруженного сепа-ратизма. Это очень важно, потому что в течение всех этих лет по-литика в отношении сепаратистских регионов со стороны руко-водителей государств и общественности, политических сил былачасто очень противоречивая. Россия в начале 90-х гг. могла бы,пусть не на уровне официальном, не на уровне Кремля, а на уров-не, скажем, генералов, местной русской общины, поддерживатьвариант отделения Абхазии и, может быть, даже присоединенияее к России. В ответ Грузия поддерживала чеченский сепаратизм.
113
деление государств по новым границам или перемещение населе-ния для достижения «национальной однородности», а улучшениесистемы правления многоэтничными сообществами.
Одним из основополагающих принципов здесь является самфакт признания культурного разнообразия современных политичес-ких образований и невозможность совпадения этнокультурных игосударственно-административных границ. Другим принципом яв-ляется принцип участия в более широком общественно-политичес-ком процессе представителей разных культур и религий как формавнутреннего самоопределения без создания этнорасовых или кас-тово-племенных перегородок или заповедников, включая «соб-ственные этнические территории» и т.п. Отчасти по этой причинепредставляет интерес доктрина и политическая практика так назы-ваемого мультикультурализма (многокультурности), или политикаэтнического разнообразия.
2. Многокультурность как концепт
Другими словами, мультикультурализм – это не просто проце-дура эмпирического установления и признания в том или ином об-ществе или государстве культурных различий у разных групп насе-ления. Хотя последнее имеет свой смысл, как бы это не казалосьстранным для россиян. Ибо существует большое число государств,где сам факт полиэтничности не признается и даже официальноотвергается как несовместимый с доктриной нации-государстваи задачей обеспечения так называемого национального единства.Мультикультурализм есть также определенная концептуальная по-зиция в сфере политической философии и этики, которые могутвоплощаться в правовые нормы, отражаться в характере обще-ственных институтов и в повседневной жизни людей. Главное вовсем этом – это цель обеспечить поддержку культурной специфи-ки с возможностью индивидуумов и групп полноправно участво-вать во всех сферах общественной жизни, от экономики до полити-ки и культуры.
Несмотря на большое число публикаций и дебаты о мультикуль-турализме, существует проблема восприятия и готовности обсуж-дать данные вопросы. Довольно часто противники последнего про-сто отмахиваются от самого вопроса, считая его надуманным дляконкретного общества. Аналогичная реакция отторжения или труд-
105
Россия поддерживала Армению с Нагорным Карабахом или, покрайней мере, не выступала в пользу территориальной целостнос-ти Азербайджана, что, в свою очередь, позволяло Азербайджанутакже использовать разные варианты, дестабилизируя ситуацию наСеверном Кавказе, Дагестане и в Чечне. Вот сейчас можно сказать,что пришло как бы осознание – это новое явление, вооруженныйсепаратизм есть общая угроза. И те конфликты, которые произош-ли на территории бывшего Советского Союза, могут быть решены,они фактически как бы одержали военную победу, но не достиглиполитической цели. Это и Нагорный Карабах, это и Приднестро-вье, это и Абхазия, это и Чечня. И они не достигнут этой полити-ческой цели, то есть создание новых независимых жизнеспособ-ных государств, ибо сами национальные государства, Содруже-ство Независимых Государств (СНГ), международное сообщество,включая Организацию Объединенных Наций, не признают этисамопровозглашенные государства. Вот это имеет огромное прин-ципиальное значение для всей политической стратегии, геополи-тики постсоветского пространства. Сепаратистский проект себяизжил, хотя у него было очень много энтузиастов. И многие пред-ставители, в том числе академической науки, поддерживали этипроекты, исходя из того, что за ними стоят угнетенные меньшин-ства или же такие нации, которые в свое время не получили, нереализовали свое право на самоопределение в момент распада Со-ветского Союза. Вся эта риторика фактически сегодня показываетсвою несостоятельность.
Следующий вопрос связан с демографией и миграциями. Этапроблема основана на проблеме межэтнических конфликтов и вцелом этнической ситуации. За последние десять лет в пространствебывшего СССР демографическая ситуация отличалась двумя важ-нейшими тенденциями: одна из них – это сокращение естественно-го роста населения большинства постсоветских государств. Силь-нее всего эта тенденция проявилась в странах Балтии, Белоруссии,России, Украине, Армении. В других странах темпы роста населе-ния оставались прежними, в том числе и высокими, как, например,в Средней Азии. Вот что сейчас стало ясно нашим специалистам: ктак называемой шоковой терапии сокращение естественного ростанаселения не имеет такого прямого отношения. Это скорее продол-жение цикла, но цикла длительного демографического.
112
Последняя четверть двадцатого века вместе с экономическимидостижениями, ослаблением глобального противостояния, либера-лизацией многих политических режимов, усилением мировыхмиграционных потоков снизили одержимость нациестроительствоми в культурном смысле обнаружили тщетность самого этого проек-та. Вместе с гомогенностью и ассимиляцией сохранялись культур-ные различия, и они все больше стали значить для отдельных лю-дей и для малых сообществ. В состоятельных странах обществен-ные движения за гражданские права стали включать в себя борьбупротив расовой, религиозной и этнической дискриминации, за уст-ранение исторически сложившихся неравенств в развитии отдель-ных групп населения и регионов их преимущественного прожива-ния. В менее состоятельных странах групповые коалиции на осно-ве трайбализма, религии, касты и т.п. стали использоваться как ос-нова для борьбы за власть и за доступ к ограниченным ресурсам,как средство изменить характер государственных режимов или из-менить сами государства путем региональной автономизации илисецессии.
Триумф этнического национализма нашел свое выражение вфакте распада трех многоэтничных федераций именно по принци-пу «этнонаций» – Югославии, СССР и Чехословакии – и объедине-ния двух германских государств. Внезапное появление более двад-цати новых государств с невнятной доктриной этнического само-определения вызвало серию открытых этнических конфликтов ивойн, многие из которых не разрешены до сих пор. Дробление го-сударств как стратегия признания и государственного оформленияэтнического разнообразия, как и сто лет тому назад, оказалось труд-но реализуемым, ибо его логика требовала упразднения системысовременных государств. Вместо нее мечталось о создании систе-мы некой «организации объединенных этнонаций», если речь вес-ти о мире в целом.
Опасная эскалация конфликтов и насилия на этнической и ре-лигиозной основе, особенно войны в Боснии, Либерии, Сомали,Афганистане, Шри-Ланке, Грузии, Азербайджане, Таджикистане,России, принесла глобальную озабоченность по поводу этническогосамоопределения и разрушительной политизации проблемы мень-шинств. Все большее число экспертов и политиков стало прихо-дить к выводу, что не только для их собственных стран, но и длявсего остального мира более универсальным рецептом является не
106
О МЕХАНИЗМАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯНАСИЛИЯ*
Выступать в защиту тех, кто подвергается дискриминации, ктоподвергается косвенному или прямому насилию, а также осуждатьтех, кто силой конкретных лиц или групп нарушает мир и согласиев обществе или провоцируют насилие, – гражданский и про-фессиональный долг тех, кто занимается вопросами межнациональ-ных отношений. При этом считать, что общество ушло от норммирного и гармоничного проживания, – значит в какой-то мере себяразоружать. Любое общество, особенно сложное по этническомусоставу, на разных этапах своего развития нередко переживает си-туацию, когда отдельные его части, группы, региональные сообще-ства конкурируют, состязаются между собой, в результате чего воз-никают противоречия.
В то же время любое общество, особенно в эпоху современныхгосударств, научилось вырабатывать как традиционные, так и со-временные государственные механизмы предотвращения насилия.Существуют три ключевые сферы, в которых действуют этимеханизмы и на которые я хотел бы обратить внимание.
Первое – государство. Формы государственного принуждения,защиты против тех, кто инициирует насилие. В этом отношениинеобходимо срочно провести серьезный анализ, дискуссию вокругдействующих формул в нашем законодательстве, особенно в уго-ловном праве, которые достались нам от советского времени. Онитогда плохо работали, а сейчас совсем не работают. Необходимачеткая формулировка – что такое разжигание коллективной,межгрупповой розни, что такое – угроза косвенная и прямая, чтотакое – исполнение насилия. Сегодняшние формулировки нацио-нальной чести и достоинств крайне уязвимы, недоказуемы. Наука струдом определяет, что такое национальная честь, скажем, чуваша,цыгана, русского и т.д. Наши юристы никак не могут здесь по-на-_____________* Этнопанорама. 2002. №2. С. 78–80.
111
В ряде крупных образований зарождался собственный национализм,как, например, общеиндийский.
Радикальное изменение глобальной политической географиипосле Второй мировой войны изменило и обстановку вокруг воп-роса об этническом разнообразии. Появился феномен «этническихчисток», или насильственных перемещений населения по этничес-кому признаку, ради достижения культурной гомогенности поли-тически очерченных территорий или установления так называемых«справедливых границ». В так называемом «социалистическом ла-гере» этнический национализм был официально конституирован ввиде «права наций на самоопределение вплоть до отделения», нопри этом находился под жестким тоталитарным правлением, не по-зволявшим какую-либо реализацию этого отростка социалистичес-кой утопии.
Дебаты о правах национальных меньшинств сникли в условияхпослевоенного мира, занятого экономическим восстановлением иперевариванием политических итогов войны. Самоопределениеоставили только для колониальных народов, а территориальнуюцелостность государств сделали высшим принципом. Статья 6 Дек-ларации ООН о предоставлении независимости колониальным стра-нам и народам четко устанавливала, что «какая-либо попытка с це-лью частичного или полного нарушения национального единства итерриториальной целостности страны несовместима с целями ипринципами Хартии ООН». Отметим, что под «национальным един-ством» понималось гражданское единство многоэтничного насе-ления государств, т.е. «национальное единство» «многонациональ-ного народа», если попытаться применить эту формулу к России.
Огосударствление политической карты мира в период деколо-низации и обустройства новой глобальной единицы деления мира– «национального государства» – потребовало сконструировать мифо так называемой национальной консолидации или национальномединстве как обязательной характеристике современных государств.А те, кто только стали государствами, занялись так называемымнациестроительством. Проблемы межобщинных трений и этнора-совые недовольства воспринимались как трудности переходногопериода на пути национальной интеграции. Культурно отличающи-еся от доминирующей «нормы» части населения, особенно иммиг-рантские группы, в культурном отношении рассматривались как«переходные группы».
107
стоящему поработать, хотя есть уже проверенный опыт того, каканалогичные правовые нормы действуют в других странах.
Второе – подготовка и специализация судебного корпуса. Посвоему опыту участия в процессе против Касимовского, газеты«Штурмовик» против покойного Безверхого – отца российскогонеофашизма, могу утверждать, что часто судейский корпус, я ужене говорю об обычных следователях, прокурорах и т.д., отражаеттот уровень бытовой стереотипизации ксенофобии, в результате ко-торого судьи не могут противостоять изощренным адвокатским ар-гументам. Например, госпожа Новодворская – русская, и если онасказала, что русскому народу место у параши, то адвокат Резниксумел убедить в том, что она оскорбила саму себя, а за это судитьнельзя. Судья не нашел никаких опровергающих аргументов.
В этом же плане я хотел бы рассмотреть и вопрос о подготовкерядового милицейского состава. Например, милиция Москвы. Сюдаприходят ребята не только из Москвы, но и из подмосковныхпригородов, из московских деревень, выросшие порой в жесткой,не очень образованной среде. Их образование минимальное. Не-редко эти люди в силу своего культурного гранта, воспитания склон-ны к жестокости, поэтому надо их учить, как обращаться с граждана-ми, как соблюдать их права, как правильно разговаривать. В этомотношении необходимы новые курсы, пособия, инструкции. Скла-дывается такое впечатление, что они настолько сильны в антрополо-гии, что по внешнему виду определяют, кто есть кто. И получается,что самые лучшие антропологи – это милиционеры, которые стоятпри входе в метро.
Высший милицейский состав тоже требует своего рода инст-руктажа, может быть не через пособия и инструкции, а через ка-кие-нибудь поездки, ознакомительные туры в другие страны, гдескладываются аналогичные ситуации, связанные с антииммигрант-скими выступлениями, массовыми погромами и проч. В других со-циальных сферах действует масса высших школ, академий, скажем,по экономике, где готовят топ-менеджеров высшего класса. А вотмилиционеров для работы с людьми на улицах никто не готовит.
Вызывает у меня сомнение и квалификация людей, которые от-вечают за миграционную политику в администрации президента,если именно в администрации формируется установка на то, чтомиграция понимается для России как угроза национальной бе-зопасности. Для меня угроза национальной безопасности сегодня
110
ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОГОМНОГООБРАЗИЯ*
1. Мировой контекст
Этническое многообразие из демографической реальности иэтнографической музейности все больше становится полем этно-политических исследований. Прежде всего для таких направле-ний, как изучение этнической мобилизации в политических це-лях, организации государственности и управления, предотв-ращения и разрешения конфликтов. Вопрос об этническом мно-гообразии появляется в мировой политике после Первой мировойвойны, когда страны-победители сформулировали доктринусамоопределения на этнокультурной основе как механизм упразд-нения имперских государств Австро-Венгрии, Оттоманской Тур-ции, имперской Германии и царской России. Эта формула посте-пенно стала утверждаться в качестве международной нормы госу-дарствообразования, а за ней стояла философия, что политическоеобщество должно быть культурно гомогенным, т.е. государство дол-жно быть собственностью некоего этнически определяемого наро-да (венгры, сербы, албанцы, хорваты, поляки и т.п.) и, конечно, го-ворить на одном языке.
Для большинства населения мира все эти, казалось бы, глобаль-ные дебаты и усилия Клемансо, Вильсона и Ллойд-Джорджа с це-лью нарисовать «справедливые границы» для «национальных го-сударств» Центральной и Юго-Восточной Европы ровным счетомничего не значили. Подавляющая часть этнокультурного многооб-разия мира, т.е. большинство народов Азии, Африки, Океании иКарибского бассейна, находились в орбите колониальных админи-стративных образований, где этничность, раса и религия пребыва-ли в причудливых сочетаниях и взаимодействиях и использовалиськак утилитарные подспорья для более эффективного управления._____________* Этнопанорама. 2002. №3–4. С. 20–23.
108
– это уровень осознания нашими высшими чиновниками миграци-онной проблемы.
Третье – это сфера действия СМИ. Я считаю неприличным, когдалюди, представляющие элиту нашей журналистики, для того, что-бы поднять рейтинг своих программ, строят всю драматургию сво-их ток-шоу на конфликте. И пока эти передачи будут строиться по-добным образом, обязательно будут звучать провокационные, раз-жигающие рознь заявления, и получится, что все наши разгово-ры бесполезны. Степень воздействия подобным образом выстро-енных передач высока. Если я сложу все свои статьи, опубликуюих, раздам, все равно я не смогу добиться большего воздействия.Их еще надо прочитать, осмыслить, а тут – две-три реплики – и ужеинтрига.
Необходим мониторинг нашей прессы. Когда журналисты го-ворят, что зачем пенять на зеркало, если рожа крива, мы простоотражаем, это, конечно, не так. Наука о журналистике, о масс-ме-диа говорит о том, что они не только отражают, но и конструируютреальность, взывают к жизни через свои предписания, через своесознание. Поэтому нужно работать и с журналистским корпусом.Я не знаю, какова сегодня учебная программа на факультетежурналистики в МГУ или Высших журналистских курсах, но этусферу надо усилить, ввести новые методики. Язык СМИ по-пре-жнему остается грязным – расистские категории сквозят в речи по-чти каждого журналиста. Это вызывает у меня опасение.
И последнее. Что в этом отношении могли бы сделать граждан-ское общество, общественные организации, например, такие, какнаша Ассамблея? Я считаю, что беда таких больших акций в том,что, как правило, за ними ничего не следует. Пройдут антифашист-ский конгресс или гражданский форум – и все. Вот если бы попро-бовали найти активистов, волонтеров, какие-то современные спо-собы воздействия на молодежь, особенно студенческую, то можнобыло бы вести речь о широких кампаниях.
Особенную роль в этом должен играть учительский корпус. Вомногих странах, особенно средней модернизации, например, в Мек-сике, учителя – важнейшая сила воздействия на гражданское обще-ство. Это наиболее авторитетные люди в низовых общинах, осо-бенно в сельской местности. Давайте посмотрим, что может сде-лать учительство в каждом классе. Учитель знает, что если в клас-се появился подросток с бритой головой и черной куртке, – это сиг-
109
нал беды. На этой стадии нужно бить тревогу. А когда он уже начи-тался литературы, перешел черту, в его голове только определен-ные установки, от которых почти нет пути назад, тогда уже поздно.Когда учитель услышал на перемене обидные клички этническогосодержания, тогда и нужно начинать действовать, работать. Учи-тельство, прежде всего, должно быть задействовано для противо-действия экстремизму, для утверждения толерантности. Таким об-разом, Ассамблея могла бы найти таких союзников, как молодежь,студенчество, учителя.
К сожалению, должен констатировать, что и на уровне ведущихспециалистов по этнополитике нередко звучит расизм. Он проявля-ется в идее о том, что каждый должен вернуться на свою истори-ческую родину. Но ведь турки-месхетинцы в глаза не видели Мес-хетию, Джавахетию, для некоторых из них Родина – это СредняяАзия или же юг России, где они родились и выросли. Человек,который родился и вырос в Москве, вдруг узнает, что он относит-ся к диаспоре. Я приехал в Москву из уральского города 30 летназад поступать в университет. Я – не диаспора, потому что мояфамилия – на «ов», а он диаспора, так как его фамилия – на «ян».А он ни слова по-армянски не знает, и отец его был директоромЛенинской библиотеки, и сам он – академик, институт возглавля-ет, он вдруг – диаспора и живет в иноэтнической среде. В нашейстране благодаря СМИ этот процесс развивается быстро. Это вМексике или в Индии, чтобы донести то или иное высказывание,может быть нужны месяцы или годы, пока оно не достигнет об-щественного сознания, в силу того же языкового барьера, потомучто люди не могут говорить на одном языке, кроме английскогодля узкого круга управленцев. У нас единое пространство, оноочень тесное, страна высокообразованная, но это не является га-рантией, как и материальный достаток не гарантирует от экстре-мизма. Заинтересованные в нем лица найдут средства, чтобы накрасивой, лощеной бумаге издавать фашистскую литературу, как,например, в Германии, заполнить Интернет, оплачивая десяткисайтов, как, например, в Америке. Поэтому, на мой взгляд, опас-ность заключается не в проблеме материального благополучия илинеблагополучия, нищеты или бедности, а в вопросе образованности,ее степени роста.
108
– это уровень осознания нашими высшими чиновниками миграци-онной проблемы.
Третье – это сфера действия СМИ. Я считаю неприличным, когдалюди, представляющие элиту нашей журналистики, для того, что-бы поднять рейтинг своих программ, строят всю драматургию сво-их ток-шоу на конфликте. И пока эти передачи будут строиться по-добным образом, обязательно будут звучать провокационные, раз-жигающие рознь заявления, и получится, что все наши разгово-ры бесполезны. Степень воздействия подобным образом выстро-енных передач высока. Если я сложу все свои статьи, опубликуюих, раздам, все равно я не смогу добиться большего воздействия.Их еще надо прочитать, осмыслить, а тут – две-три реплики – и ужеинтрига.
Необходим мониторинг нашей прессы. Когда журналисты го-ворят, что зачем пенять на зеркало, если рожа крива, мы простоотражаем, это, конечно, не так. Наука о журналистике, о масс-ме-диа говорит о том, что они не только отражают, но и конструируютреальность, взывают к жизни через свои предписания, через своесознание. Поэтому нужно работать и с журналистским корпусом.Я не знаю, какова сегодня учебная программа на факультетежурналистики в МГУ или Высших журналистских курсах, но этусферу надо усилить, ввести новые методики. Язык СМИ по-пре-жнему остается грязным – расистские категории сквозят в речи по-чти каждого журналиста. Это вызывает у меня опасение.
И последнее. Что в этом отношении могли бы сделать граждан-ское общество, общественные организации, например, такие, какнаша Ассамблея? Я считаю, что беда таких больших акций в том,что, как правило, за ними ничего не следует. Пройдут антифашист-ский конгресс или гражданский форум – и все. Вот если бы попро-бовали найти активистов, волонтеров, какие-то современные спо-собы воздействия на молодежь, особенно студенческую, то можнобыло бы вести речь о широких кампаниях.
Особенную роль в этом должен играть учительский корпус. Вомногих странах, особенно средней модернизации, например, в Мек-сике, учителя – важнейшая сила воздействия на гражданское обще-ство. Это наиболее авторитетные люди в низовых общинах, осо-бенно в сельской местности. Давайте посмотрим, что может сде-лать учительство в каждом классе. Учитель знает, что если в клас-се появился подросток с бритой головой и черной куртке, – это сиг-
109
нал беды. На этой стадии нужно бить тревогу. А когда он уже начи-тался литературы, перешел черту, в его голове только определен-ные установки, от которых почти нет пути назад, тогда уже поздно.Когда учитель услышал на перемене обидные клички этническогосодержания, тогда и нужно начинать действовать, работать. Учи-тельство, прежде всего, должно быть задействовано для противо-действия экстремизму, для утверждения толерантности. Таким об-разом, Ассамблея могла бы найти таких союзников, как молодежь,студенчество, учителя.
К сожалению, должен констатировать, что и на уровне ведущихспециалистов по этнополитике нередко звучит расизм. Он проявля-ется в идее о том, что каждый должен вернуться на свою истори-ческую родину. Но ведь турки-месхетинцы в глаза не видели Мес-хетию, Джавахетию, для некоторых из них Родина – это СредняяАзия или же юг России, где они родились и выросли. Человек,который родился и вырос в Москве, вдруг узнает, что он относит-ся к диаспоре. Я приехал в Москву из уральского города 30 летназад поступать в университет. Я – не диаспора, потому что мояфамилия – на «ов», а он диаспора, так как его фамилия – на «ян».А он ни слова по-армянски не знает, и отец его был директоромЛенинской библиотеки, и сам он – академик, институт возглавля-ет, он вдруг – диаспора и живет в иноэтнической среде. В нашейстране благодаря СМИ этот процесс развивается быстро. Это вМексике или в Индии, чтобы донести то или иное высказывание,может быть нужны месяцы или годы, пока оно не достигнет об-щественного сознания, в силу того же языкового барьера, потомучто люди не могут говорить на одном языке, кроме английскогодля узкого круга управленцев. У нас единое пространство, оноочень тесное, страна высокообразованная, но это не является га-рантией, как и материальный достаток не гарантирует от экстре-мизма. Заинтересованные в нем лица найдут средства, чтобы накрасивой, лощеной бумаге издавать фашистскую литературу, как,например, в Германии, заполнить Интернет, оплачивая десяткисайтов, как, например, в Америке. Поэтому, на мой взгляд, опас-ность заключается не в проблеме материального благополучия илинеблагополучия, нищеты или бедности, а в вопросе образованности,ее степени роста.
107
стоящему поработать, хотя есть уже проверенный опыт того, каканалогичные правовые нормы действуют в других странах.
Второе – подготовка и специализация судебного корпуса. Посвоему опыту участия в процессе против Касимовского, газеты«Штурмовик» против покойного Безверхого – отца российскогонеофашизма, могу утверждать, что часто судейский корпус, я ужене говорю об обычных следователях, прокурорах и т.д., отражаеттот уровень бытовой стереотипизации ксенофобии, в результате ко-торого судьи не могут противостоять изощренным адвокатским ар-гументам. Например, госпожа Новодворская – русская, и если онасказала, что русскому народу место у параши, то адвокат Резниксумел убедить в том, что она оскорбила саму себя, а за это судитьнельзя. Судья не нашел никаких опровергающих аргументов.
В этом же плане я хотел бы рассмотреть и вопрос о подготовкерядового милицейского состава. Например, милиция Москвы. Сюдаприходят ребята не только из Москвы, но и из подмосковныхпригородов, из московских деревень, выросшие порой в жесткой,не очень образованной среде. Их образование минимальное. Не-редко эти люди в силу своего культурного гранта, воспитания склон-ны к жестокости, поэтому надо их учить, как обращаться с граждана-ми, как соблюдать их права, как правильно разговаривать. В этомотношении необходимы новые курсы, пособия, инструкции. Скла-дывается такое впечатление, что они настолько сильны в антрополо-гии, что по внешнему виду определяют, кто есть кто. И получается,что самые лучшие антропологи – это милиционеры, которые стоятпри входе в метро.
Высший милицейский состав тоже требует своего рода инст-руктажа, может быть не через пособия и инструкции, а через ка-кие-нибудь поездки, ознакомительные туры в другие страны, гдескладываются аналогичные ситуации, связанные с антииммигрант-скими выступлениями, массовыми погромами и проч. В других со-циальных сферах действует масса высших школ, академий, скажем,по экономике, где готовят топ-менеджеров высшего класса. А вотмилиционеров для работы с людьми на улицах никто не готовит.
Вызывает у меня сомнение и квалификация людей, которые от-вечают за миграционную политику в администрации президента,если именно в администрации формируется установка на то, чтомиграция понимается для России как угроза национальной бе-зопасности. Для меня угроза национальной безопасности сегодня
110
ПОЛИТИКА ЭТНИЧЕСКОГОМНОГООБРАЗИЯ*
1. Мировой контекст
Этническое многообразие из демографической реальности иэтнографической музейности все больше становится полем этно-политических исследований. Прежде всего для таких направле-ний, как изучение этнической мобилизации в политических це-лях, организации государственности и управления, предотв-ращения и разрешения конфликтов. Вопрос об этническом мно-гообразии появляется в мировой политике после Первой мировойвойны, когда страны-победители сформулировали доктринусамоопределения на этнокультурной основе как механизм упразд-нения имперских государств Австро-Венгрии, Оттоманской Тур-ции, имперской Германии и царской России. Эта формула посте-пенно стала утверждаться в качестве международной нормы госу-дарствообразования, а за ней стояла философия, что политическоеобщество должно быть культурно гомогенным, т.е. государство дол-жно быть собственностью некоего этнически определяемого наро-да (венгры, сербы, албанцы, хорваты, поляки и т.п.) и, конечно, го-ворить на одном языке.
Для большинства населения мира все эти, казалось бы, глобаль-ные дебаты и усилия Клемансо, Вильсона и Ллойд-Джорджа с це-лью нарисовать «справедливые границы» для «национальных го-сударств» Центральной и Юго-Восточной Европы ровным счетомничего не значили. Подавляющая часть этнокультурного многооб-разия мира, т.е. большинство народов Азии, Африки, Океании иКарибского бассейна, находились в орбите колониальных админи-стративных образований, где этничность, раса и религия пребыва-ли в причудливых сочетаниях и взаимодействиях и использовалиськак утилитарные подспорья для более эффективного управления._____________* Этнопанорама. 2002. №3–4. С. 20–23.
106
О МЕХАНИЗМАХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯНАСИЛИЯ*
Выступать в защиту тех, кто подвергается дискриминации, ктоподвергается косвенному или прямому насилию, а также осуждатьтех, кто силой конкретных лиц или групп нарушает мир и согласиев обществе или провоцируют насилие, – гражданский и про-фессиональный долг тех, кто занимается вопросами межнациональ-ных отношений. При этом считать, что общество ушло от норммирного и гармоничного проживания, – значит в какой-то мере себяразоружать. Любое общество, особенно сложное по этническомусоставу, на разных этапах своего развития нередко переживает си-туацию, когда отдельные его части, группы, региональные сообще-ства конкурируют, состязаются между собой, в результате чего воз-никают противоречия.
В то же время любое общество, особенно в эпоху современныхгосударств, научилось вырабатывать как традиционные, так и со-временные государственные механизмы предотвращения насилия.Существуют три ключевые сферы, в которых действуют этимеханизмы и на которые я хотел бы обратить внимание.
Первое – государство. Формы государственного принуждения,защиты против тех, кто инициирует насилие. В этом отношениинеобходимо срочно провести серьезный анализ, дискуссию вокругдействующих формул в нашем законодательстве, особенно в уго-ловном праве, которые достались нам от советского времени. Онитогда плохо работали, а сейчас совсем не работают. Необходимачеткая формулировка – что такое разжигание коллективной,межгрупповой розни, что такое – угроза косвенная и прямая, чтотакое – исполнение насилия. Сегодняшние формулировки нацио-нальной чести и достоинств крайне уязвимы, недоказуемы. Наука струдом определяет, что такое национальная честь, скажем, чуваша,цыгана, русского и т.д. Наши юристы никак не могут здесь по-на-_____________* Этнопанорама. 2002. №2. С. 78–80.
111
В ряде крупных образований зарождался собственный национализм,как, например, общеиндийский.
Радикальное изменение глобальной политической географиипосле Второй мировой войны изменило и обстановку вокруг воп-роса об этническом разнообразии. Появился феномен «этническихчисток», или насильственных перемещений населения по этничес-кому признаку, ради достижения культурной гомогенности поли-тически очерченных территорий или установления так называемых«справедливых границ». В так называемом «социалистическом ла-гере» этнический национализм был официально конституирован ввиде «права наций на самоопределение вплоть до отделения», нопри этом находился под жестким тоталитарным правлением, не по-зволявшим какую-либо реализацию этого отростка социалистичес-кой утопии.
Дебаты о правах национальных меньшинств сникли в условияхпослевоенного мира, занятого экономическим восстановлением иперевариванием политических итогов войны. Самоопределениеоставили только для колониальных народов, а территориальнуюцелостность государств сделали высшим принципом. Статья 6 Дек-ларации ООН о предоставлении независимости колониальным стра-нам и народам четко устанавливала, что «какая-либо попытка с це-лью частичного или полного нарушения национального единства итерриториальной целостности страны несовместима с целями ипринципами Хартии ООН». Отметим, что под «национальным един-ством» понималось гражданское единство многоэтничного насе-ления государств, т.е. «национальное единство» «многонациональ-ного народа», если попытаться применить эту формулу к России.
Огосударствление политической карты мира в период деколо-низации и обустройства новой глобальной единицы деления мира– «национального государства» – потребовало сконструировать мифо так называемой национальной консолидации или национальномединстве как обязательной характеристике современных государств.А те, кто только стали государствами, занялись так называемымнациестроительством. Проблемы межобщинных трений и этнора-совые недовольства воспринимались как трудности переходногопериода на пути национальной интеграции. Культурно отличающи-еся от доминирующей «нормы» части населения, особенно иммиг-рантские группы, в культурном отношении рассматривались как«переходные группы».
105
Россия поддерживала Армению с Нагорным Карабахом или, покрайней мере, не выступала в пользу территориальной целостнос-ти Азербайджана, что, в свою очередь, позволяло Азербайджанутакже использовать разные варианты, дестабилизируя ситуацию наСеверном Кавказе, Дагестане и в Чечне. Вот сейчас можно сказать,что пришло как бы осознание – это новое явление, вооруженныйсепаратизм есть общая угроза. И те конфликты, которые произош-ли на территории бывшего Советского Союза, могут быть решены,они фактически как бы одержали военную победу, но не достиглиполитической цели. Это и Нагорный Карабах, это и Приднестро-вье, это и Абхазия, это и Чечня. И они не достигнут этой полити-ческой цели, то есть создание новых независимых жизнеспособ-ных государств, ибо сами национальные государства, Содруже-ство Независимых Государств (СНГ), международное сообщество,включая Организацию Объединенных Наций, не признают этисамопровозглашенные государства. Вот это имеет огромное прин-ципиальное значение для всей политической стратегии, геополи-тики постсоветского пространства. Сепаратистский проект себяизжил, хотя у него было очень много энтузиастов. И многие пред-ставители, в том числе академической науки, поддерживали этипроекты, исходя из того, что за ними стоят угнетенные меньшин-ства или же такие нации, которые в свое время не получили, нереализовали свое право на самоопределение в момент распада Со-ветского Союза. Вся эта риторика фактически сегодня показываетсвою несостоятельность.
Следующий вопрос связан с демографией и миграциями. Этапроблема основана на проблеме межэтнических конфликтов и вцелом этнической ситуации. За последние десять лет в пространствебывшего СССР демографическая ситуация отличалась двумя важ-нейшими тенденциями: одна из них – это сокращение естественно-го роста населения большинства постсоветских государств. Силь-нее всего эта тенденция проявилась в странах Балтии, Белоруссии,России, Украине, Армении. В других странах темпы роста населе-ния оставались прежними, в том числе и высокими, как, например,в Средней Азии. Вот что сейчас стало ясно нашим специалистам: ктак называемой шоковой терапии сокращение естественного ростанаселения не имеет такого прямого отношения. Это скорее продол-жение цикла, но цикла длительного демографического.
112
Последняя четверть двадцатого века вместе с экономическимидостижениями, ослаблением глобального противостояния, либера-лизацией многих политических режимов, усилением мировыхмиграционных потоков снизили одержимость нациестроительствоми в культурном смысле обнаружили тщетность самого этого проек-та. Вместе с гомогенностью и ассимиляцией сохранялись культур-ные различия, и они все больше стали значить для отдельных лю-дей и для малых сообществ. В состоятельных странах обществен-ные движения за гражданские права стали включать в себя борьбупротив расовой, религиозной и этнической дискриминации, за уст-ранение исторически сложившихся неравенств в развитии отдель-ных групп населения и регионов их преимущественного прожива-ния. В менее состоятельных странах групповые коалиции на осно-ве трайбализма, религии, касты и т.п. стали использоваться как ос-нова для борьбы за власть и за доступ к ограниченным ресурсам,как средство изменить характер государственных режимов или из-менить сами государства путем региональной автономизации илисецессии.
Триумф этнического национализма нашел свое выражение вфакте распада трех многоэтничных федераций именно по принци-пу «этнонаций» – Югославии, СССР и Чехословакии – и объедине-ния двух германских государств. Внезапное появление более двад-цати новых государств с невнятной доктриной этнического само-определения вызвало серию открытых этнических конфликтов ивойн, многие из которых не разрешены до сих пор. Дробление го-сударств как стратегия признания и государственного оформленияэтнического разнообразия, как и сто лет тому назад, оказалось труд-но реализуемым, ибо его логика требовала упразднения системысовременных государств. Вместо нее мечталось о создании систе-мы некой «организации объединенных этнонаций», если речь вес-ти о мире в целом.
Опасная эскалация конфликтов и насилия на этнической и ре-лигиозной основе, особенно войны в Боснии, Либерии, Сомали,Афганистане, Шри-Ланке, Грузии, Азербайджане, Таджикистане,России, принесла глобальную озабоченность по поводу этническогосамоопределения и разрушительной политизации проблемы мень-шинств. Все большее число экспертов и политиков стало прихо-дить к выводу, что не только для их собственных стран, но и длявсего остального мира более универсальным рецептом является не
104
ников различных вооруженных формирований. Здесь проблемуможно решить более тесным сотрудничеством специальных служб,властей, армий и другими механизмами. Но границы между пост-советскими государствами должны быть открытыми, и в этом от-ношении проблема, которая может возникнуть в связи со вступ-лением стран Балтии в Европейский союз и образованием, скажем,Калининградского анклава, таит в себе в определенной мере конф-ликтный потенциал. И эту проблему надо изучать и находить отве-ты. Должен сказать, что между постсоветскими государствами, хотяим достались разные территории и разные ресурсы, не было боль-ших войн и нет больших претензий по поводу перемещения тойили иной территории в пользу другого государства. За эти десятьлет как бы ушли на задний план горячие разговоры, например вРоссии, что Крым всегда был русским, что означало, что Крым оши-бочно был передан Украине, его нужно вернуть России. В прин-ципе сегодня нет никаких сил или конкретных действий как со сто-роны России в отношении возможной аннексии Абхазии, так и состороны Украины о возможной аннексии Приднестровья. Поэтомумой вывод сводится к тому, что необходимо признать не только самфакт образования пятнадцати государств, но и абсолютную невоз-можность исключения второго раунда дезинтеграции в рамкахбывшего Советского Союза. Стратегия должна быть, и весь опытнаших последних лет показал, что нужно улучшать управление,систему управления, а не делить государство и образовывать но-вые границы. Это абсолютно бесперспективная стратегия, она себяпродемонстрировала и на примере бывшей Югославии, и факти-чески она нереализуема на территории бывшего Советского Со-юза. Поэтому мне кажется, что руководители постсоветских го-сударств пришли к выводу, а это впервые более четко прозвучалона последнем саммите стран СНГ в Москве, что необходим еди-ный принцип, единый стандарт в отношении вооруженного сепа-ратизма. Это очень важно, потому что в течение всех этих лет по-литика в отношении сепаратистских регионов со стороны руко-водителей государств и общественности, политических сил былачасто очень противоречивая. Россия в начале 90-х гг. могла бы,пусть не на уровне официальном, не на уровне Кремля, а на уров-не, скажем, генералов, местной русской общины, поддерживатьвариант отделения Абхазии и, может быть, даже присоединенияее к России. В ответ Грузия поддерживала чеченский сепаратизм.
113
деление государств по новым границам или перемещение населе-ния для достижения «национальной однородности», а улучшениесистемы правления многоэтничными сообществами.
Одним из основополагающих принципов здесь является самфакт признания культурного разнообразия современных политичес-ких образований и невозможность совпадения этнокультурных игосударственно-административных границ. Другим принципом яв-ляется принцип участия в более широком общественно-политичес-ком процессе представителей разных культур и религий как формавнутреннего самоопределения без создания этнорасовых или кас-тово-племенных перегородок или заповедников, включая «соб-ственные этнические территории» и т.п. Отчасти по этой причинепредставляет интерес доктрина и политическая практика так назы-ваемого мультикультурализма (многокультурности), или политикаэтнического разнообразия.
2. Многокультурность как концепт
Другими словами, мультикультурализм – это не просто проце-дура эмпирического установления и признания в том или ином об-ществе или государстве культурных различий у разных групп насе-ления. Хотя последнее имеет свой смысл, как бы это не казалосьстранным для россиян. Ибо существует большое число государств,где сам факт полиэтничности не признается и даже официальноотвергается как несовместимый с доктриной нации-государстваи задачей обеспечения так называемого национального единства.Мультикультурализм есть также определенная концептуальная по-зиция в сфере политической философии и этики, которые могутвоплощаться в правовые нормы, отражаться в характере обще-ственных институтов и в повседневной жизни людей. Главное вовсем этом – это цель обеспечить поддержку культурной специфи-ки с возможностью индивидуумов и групп полноправно участво-вать во всех сферах общественной жизни, от экономики до полити-ки и культуры.
Несмотря на большое число публикаций и дебаты о мультикуль-турализме, существует проблема восприятия и готовности обсуж-дать данные вопросы. Довольно часто противники последнего про-сто отмахиваются от самого вопроса, считая его надуманным дляконкретного общества. Аналогичная реакция отторжения или труд-
103
и другой деятельности в Российской Федерации. Я надеюсь, чтовсе мы получим удовлетворение от этого симпозиума.
К сказанному добавлю еще несколько тезисов. Первое – этовопрос о территориях, границах и ресурсах – сфера, которая име-ет огромное значение, имеет прямое отношение к построениюмежэтнических отношений и конфликтных ситуаций. А откры-тые вооруженные конфликты почти всегда были связаны с этимипроблемами, которые произошли на территории бывшего Совет-ского Союза, причем, я бы сказал, территория, как теперь стано-вится ясным, имеет не только утилитарное значение как ресурсажизнеобеспечения, но имеет еще и символический смысл, которыйсвязан с историко-культурными ценностями, а также с историчес-ким образом той или иной страны, того или иного народа. Отсюдаи в частных конфликтах возникали такие проблемы, как исто-рическая территория. И вокруг этого как раз очень часто возникаламобилизация на открытый конфликт. Распад Советского Союза про-изошел в ситуации, где административные границы между союз-ными республиками вообще не были демилитированы, и вполнеможно было ожидать огромных коллизий и крови по поводу терри-ториальных границ. В целом этот вопрос был решен, хотя до сегод-няшнего момента границы между постсоветскими государствамиофициально не демилитированы, и если мы говорим о каких-топерспективах, всевозможных коллизиях в будущем, вопрос терри-торий должен быть рассмотрен в следующей повестке дня, и уче-ные должны обратить на это внимание. Во-первых, остаются спор-ные территории в ряде регионов, особенно в горных местностях, атакже долины рек и оазисов в Средней Азии. Имеют место доволь-но неприятные ситуации в последнее время, как, например, мини-рование пограничной полосы, как это происходило на границе сТаджикистаном и Киргизией. Это приводит к огромным пробле-мам и даже к жертвам среди гражданского населения, затрудняеткоммуникации, осложняет гуманитарные, человеческие связи междупостсоветскими государствами, мешает торговле и экономике.Я считаю (хотя с этим выводом не все согласны), что населениебудет уважать постсоветские границы между государствами толь-ко в том случае, если эти границы будут транспарентными, т.е. впринципе открытыми. Можно решить проблемы, которые сегоднявозникли, проблемы, связанные с трафиком, доставкой наркотиков,оружия, проникновением нелегальных эмигрантов или даже участ-
114
ного восприятия в отношении мультикультурализма наблюдается ина постсоветском пространстве, где существует примордиалист-ское видение этнического как группового архетипического и где«многонациональность» тиражируется в лозунгах и в печатных тек-стах, в песнях и застольных тостах.
Идее мультикультурности здесь места нет, ибо она грозит нару-шить привычный или официально предписанный порядок вещей.Если во Франции это угрожает идее единой французской нации, тов России, наоборот, это угрожает подменой институализированныхгосударственным устройством системы прав и преференций мно-гих наций некой метафорой «многих культур», да еще и на личност-ном уровне. Аварец, татарин, русский или осетин не могут бытькем-то еще, и культурная сложность (например, татаро-башкиринили башкиро-татарин, аварец-андиец) в данном случае однозначновидится как аномалия.
В России сам факт множественности культур в виде отличи-тельных по целому параметру признаков (от государственности допсихоментальности) настолько признан, а правовые нормы, государ-ственные институты и общественные усилия по утверждению груп-повой отличительности настолько масштабны, что найти новую нишудля многокультурности достаточно непросто. Многим представля-ется, что все это уже было или есть, но только называется другимисловами. Отчасти это действительно так, но только отчасти.
3. Российская перспектива
Если говорить об этнокультурном облике нашей страны, то онотличается огромным разнообразием. Многокультурность как эт-нодемографический факт была изначально присуща российскомугосударству, хотя она не всегда осознавалась и артикулировалась.В то же время Российская империя, СССР и Российская Федерацияникогда не брали на вооружение доктрину гражданского нацие-строительства. Общая идентичность жителей страны обеспечива-лась подданством царю, православием, а затем советским патрио-тизмом. В СССР «многонациональность» и «дружба народов» былиодними из визитных карточек страны, а в реальной политике со-ветского времени «национальная форма социалистической культу-ры» была той же самой политикой мультикультурализма, но тольконазывалось это по-другому.
102
координировали и сами участвовали в симпозиуме ученые, извест-ные во всем мире, такие, как Чарльз Тилли, Роберт Адамс и другие.
И особенно мне приятно говорить, что в этот раз российскаяделегация представлена очень интересными людьми – это двенад-цать профессоров. И все они трудятся в разных университетах,академических институтах, в разных регионах. Я помню времена,когда мы приезжали сюда делегациями и представляли только Мос-кву или в лучшем случае – Ленинград. Сегодня среди нас есть ипредставители Северного Кавказа, Ростова, Поволжья, условно го-воря, а точнее – Южного Урала (не могу как уралец Оренбург от-дать Поволжью). У нас есть и представители Саратова, Санкт-Пе-тербурга. И мне кажется, хорошая была идея наших американскихколлег включить непосредственно в академический диалог практи-ческих политиков тех, кто занимается управлением сложными мно-гоэтническими сообществами, принимает решения в этой сфере.И на этот раз с российской стороны на симпозиуме присутствует груп-па трех наших политиков. Когда мы уезжали из Москвы, то мы оченьхорошо продумали этот вопрос. Все три политика представляют триуровня государственной власти в России – это уровень субъекта Фе-дерации – профессор Веналий Амелин – руководитель комитета ис-полнительной власти в Оренбургской области по делам меньшинств.Это уровень федерального округа – доктор Владимир Зорин – одиниз руководителей федерального округа в Поволжье. И федераль-ный уровень – уровень Государственной думы, высшей законода-тельной власти – доктор Светлана Смирнова, заместитель предсе-дателя комитета по делам национальностей Государственной думы.Но пока мы летели в самолете, Президент В.В. Путин подписал Указ,которым назначил Владимира Зорина федеральным министром Рос-сийской Федерации. Я хотел поблагодарить всех тех, кто непосред-ственно принимал участие в организации этого симпозиума – вто-рой фазы, включая декабрьскую конференцию 2000 г. в Москве.Потому что первая фаза у нас была пять-шесть лет тому назад, ког-да мы в Москве проводили конференцию «Этничность и власть вмногонациональном государстве». Я хотел поблагодарить, преждевсего, работников Национальной академии наук США – ГленаШвайцера, Риту Гюнтер, а также представителя президиума Рос-сийской академии наук Юрия Шияна и основного донора нашегомероприятия – это Фонд Макартуров, который, кстати говоря, де-лает огромную работу по поддержке академических исследований
115
При всех издержках, ограничителях и даже преступлениях,имевших место в сфере советской политики в отношении мень-шинств, это была политика признания и поддержки этническогоразнообразия, причем не только в сугубо культурных сферах (искус-ство, литература, наука, образование), но и в социально-экономи-ческой и политической сферах. В XX в. на территории бывшегоСоветского Союза, как никогда и, пожалуй, нигде в мире, осущест-влялось интенсивное культурное производство.
При всех деформациях, которые здесь существовали (жесткийидеологический контроль, явно излишняя поддержка престижнойпрофессиональной культуры за счет пренебрежения культурой мас-совой, спонсирование культурно-этнической мозаики в ущерб об-щегражданским ценностям и т.д.), нельзя отрицать, что это былиогромные достижения, которые во многом сохранились и сегодня.
Россия не является абсолютно уникальным регионом мира сточки зрения этнокультурного многообразия, а такое представлениеявляется просто результатом нашего незнания остального мира. Раз-личие не в том, что у нас больше или меньше народов, этническихгрупп или общин, а в том, какое этому фактору придается значение.Плохо это или хорошо – это особый вопрос. Однако понимание со-отношения культурной партикулярное с гражданским обществом, сгосударством и с задачами управления – это важная проблема, кото-рая недостаточно осмысливается доктриной мультикультурализма.
Мультикультурализм может быть полезным в ряде аспектов длясовременной России. Причем в противоположном по сравнению сКанадой или Австралией направлении. А именно: в направлении отабсолютизации культурных различий и в направлении признаниясхожести и культурной гомогенности гражданского сообщества. Какполитическая философия и как практика, он может помочь совер-шить важнейший переход от формулы многонационального народак понятию «многонародной нации», как он помог смягчить поляри-зацию канадского общества по линии двух наций в одной стране.Речь идет о том, что сама категория многокультурности усиливаетлегитимность российской гражданской нации, а многонациональ-ность делает ее невозможной даже по чисто лингвистической при-чине: нация не может быть многонациональной. Но возможны идругие варианты, о которых необходимо вести серьезный разговор.
Мультикультурализм в России в его раннем, более традицион-ном понимании (как в Канаде или в Австралии) может принести
101
ВООРУЖЕННЫЙ СЕПАРАТИЗМЕСТЬ ОБЩАЯ УГРОЗА*
В истории двух наших академий, Российской академии наук иНациональной академии США, было много интересных проектов.В частности, был проведен ряд совместных симпозиумов, посвя-щенных проблемам этничности и государства, где непосредственноучаствовал наш институт, Институт этнологии и антропологии РАН.Я действительно согласен с профессором Р. Адамсом в том, что унас сегодня есть какой-то особый момент в истории сотрудниче-ства двух наших академий. Он вызван большими переменами, ко-торые произошли в целом мире за последние десять лет, и преждевсего в России. А также теми драматическими, трагическими со-бытиями, которые произошли в последние месяцы, особенно в Со-единенных Штатах Америки. Этот контекст, или особая динамикасамой истории, самой жизни как бы накладывает на нас особуюответственность, особый интерес, чтобы обсуждать проблему кон-фликта. Я благодарен своим коллегам с американской стороны, ко-торые предложили на нашей рабочей встрече в июне 2001 г. здесь вВашингтоне, это была идея Чарльза Тилли, прежде всего, не про-водить обычную рутинную конференцию с докладами, а попытать-ся сделать мозговой штурм, работу в малых группах, подготовитьзаранее краткое изложение того, что сделано в науке. И мне кажет-ся, что работа первых двух дней в рабочих группах уже дала намхорошие результаты.
Мне доставляет особое удовольствие сказать, что в этот раз собеих сторон в этом проекте участвуют, я считаю, выдающиесяпредставители современной науки – американской и российской.Для нас, для российских ученых, большая честь, что эту работу
_____________* Этнопанорама. 2002. №1. С. 79–80.Доклад прочитан на российско-американском межакадемическом симпозиуме«Конфликты в многоэтничных обществах» (декабрь 2001 г. – Вашингтон)
116
дальнейшее, и без того излишнее деление населения на группы, ибораз полученные преференции или статус сдерживают естественныепроцессы постоянного формирования и смены идентичностей, по-явления или исчезновения групповых коалиций на основе культу-ры. Не стоит забывать, что за последние десять-пятнадцать лет на-ука сделала важные шаги в понимании того, что такое культура икакова роль этой формы человеческой деятельности в человечес-кой эволюции. Понимание культуры как сложного феномена, поня-тие гибридности культуры, то есть представление об отсутствиижесткой культурной нормы, а также жестких культурных комплек-сов – это одна из важных общетеоретических новаций, с точки зре-ния которой нужно смотреть на российскую действительность.
Порой мы слишком одержимы восстановлением некой утрачен-ной идеальной культурной нормы, которая на самом деле никогдане существовала, или же пытаемся установить культурные разли-чия на групповом уровне, игнорируя, презирая и отвергая схожес-ти, которые, на самом деле, на порядок значительнее. Так, в рамкахв общем-то единой российской, не только гражданской, но и, ко-нечно, культурно-социальной общности появляются сконст-руированные образы гордых дикарей или бандитов-террористов,которые заслоняют целые этнические группы, как, например, че-ченцев, схожесть которых с другими народами Северного Кавказа,да и с остальным населением нашей страны гораздо больше, чемразличие. Увлечение этнографией отдельных групп и выстраива-ние общественного управления от имени «коренных наций» не ос-тавляет места реально существующей историко-культурной общно-сти дагестанцев. Более глубокое понимание смысла многокультур-ности должно быть построено не на взаимоисключающей формеидентичности, а на сосуществующих и взаимодополняющих иден-тификаций.
В этой связи часто ощущается некая абсолютизация этногруп-повой культуры. Абсолютизация этнокультуры как основы всегосущего – это серьезная теоретическая и общественно-политичес-кая проблема.
Есть проблема культуры и конфликта. Культурный аргумент –один из основных в производстве насилия. С опорой на культурныеаргументы рождается ксенофобия, нетерпимость и, в конечном ито-ге, мобилизация на открытое физическое насилие. Мы заблужда-емся, думая, что есть какие-то традиционные культурные механиз-
100
ный в 1950–60-е гг. под руководством С.П. Толстого. Большая иотрадная разница прежде всего в том, что эти описания создаютсяпредставителями научных школ, которые существуют среди само-го народа. «Украинцев» написали ученые Украины, «Белорусов» –ученые Беларуси, «Татар» написали татары и так далее. Этничес-кого национализма и теоретических плоскостей в этих трудах хва-тает, но в них содержится новейший эмпирический материал и по-лезные коррективы русско-центристской версии национальной ис-тории, имея в виду российское государство во всех его конфигура-циях. Эти труды имеют большое общественно-политическое и об-разовательное значение. Данный проект будет продолжаться, как ибудут продолжать выходить отдельные «монографии по народам»,содержащие солидные исторические экскурсы. Так что исследова-ние «этносов» продолжается, но едва ли это будет генеральнымнаучным направлением через десять лет. Сам интерес к «детально-му изучению малых сообществ» – основа социально-культурнойантропологии – сохранится, но это не обязательно будут этническиегруппы. Во-вторых, наука, на мой взгляд, должна преодолеть эпи-тимью «группизма»: антропологи, социологи, политологи должныпойти дальше самодовлеющего понятия группы, будь это этнос,класс, нация, страта, раса, меньшинство и т.п. Группы – в большин-стве своем это социальные конструкты или академические катего-рии, которые все чаще становятся не операциональными как длянаучного анализа, так и для политики управления. В-третьих, на-ука о теоретической практике в культуре и обществе (так можнопопытаться схватить суть социально-культурной антропологии) всебольше будет уходить от культурной нормы и типа к культурнойсложности и многокультурности. Но понимая многокультурностьне как суррогат «многонациональности», а как сложность, начина-ющуюся на уровне личности.
Феномен маркутизации станет не ругательной литературнойметафорой, а предметом исследования того, что уже давно являет-ся культурной нормой, а не аномалией.
117
мы или миротворчество, которое в нас дремлет и которое можноиспользовать для преодоления конфликтов. Мы заблуждаемся, когдадумаем, что так называемые приниженные меньшинства – это все-гда страдающие от господствующего большинства группы, лишен-ные возможности удовлетворения базовых культурных потребнос-тей, но если они получат самоопределение, то все проблемы будутрешены.
На самом деле меньшинства становятся инициаторами насилиякак раз через культурные аргументы, через то, что они должны со-хранить, возродить или защитить свою культуру. Но при этоминформация и компетенция о возможных путях достижения этогокрайне сужена и основана на радикальном отторжении существую-щего порядка вещей и на революционизме. По этой причине мень-шинства (точнее – лидеры и активисты) стали инициаторами наси-лия или конфликтов, которые в последнее время произошли на тер-ритории бывшего Советского Союза и в других регионах мира. Та-ким образом, мультикультурализм может снижать напряженность,но не решает саму проблему насилия и обеспечения безопасностиобщества и государства.
99
граммам и учебникам, которые к данной дисциплине не имеютотношения, а слова «включенное наблюдение» им оказались неиз-вестными. В итоге, в каком направлении развивается современнаяроссийская социология, я не могу сказать, ибо я не социолог. А вотв каком направлении развивается современная российская этноло-гия, могу сказать, что в неопределенном направлении или в самыхразных направлениях.
– Каковы особенности развития современных исследованийнациональных отношений, этносов? Можно ли говорить о но-вейшей тенденции превращения этнологии в социальную ант-ропологию?
Я не знаю, что такое «национальные отношения». Если гово-рить об изучении этнических проблем, в т.ч. вопросов межэтничес-ких взаимодействий (отношений), то в отечественной наукедоминирующим остается историко-этнографический подход, какимон был 20–30 лет тому назад. Если взять тематику диссертаций,защищаемых в стране по специальности «этнография, этнология,антропология», а также основной массив научных книг и наиболеепрестижных изданий, то здесь есть две стойкие тенденции. Однаиз них в том, что в диссертациях научные руководители через сво-их учеников продолжают реализовывать установку, что где-то нарубеже XIX–XX вв. существовала некая норма традиционной куль-туры, после чего началась ее безнадежная утрата. А всего-то дан-ный феномен связан с тривиальным фактом становления профес-сиональной этнографии именно на рубеже двух прошлых веков иестественно – вовлечения в исследовательский арсенал прежде всегосовременных материалов, но современных для своего времени!Значит, этнография должна не только искать утраченную норму-традицию и совершать необходимые исторические экскурсы, но ипрежде всего уметь видеть культурные практики современного об-щества. «Заниматься надо этнографией: все же исчезает!» – сказалмне один выдающийся академик-историк. Так вот – в этнографииничего не исчезает, ибо всегда появляется что-то новое и становит-ся тем, что потом назовут «традицией».
Вторая тенденция проявляется в создании историко-этногра-фических описаний по народам. По предложению покойногоЮ.Б. Симченко мы начали в 1990-е гг. новую фундаментальнуюсерию «Народы и культуры», которая на новом уровне и на новыхматериалах повторяет частично проект «Народы мира», выполнен-
118
СЕТЬ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГАДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ*
Мне трудно восстановить детали, в том числе хронологические,истории Сети этнологического мониторинга и раннего предупреж-дения конфликтов (СЭМ), но существо и смысл всех основных«движений» этого достаточно интересного проекта мне ведомы вполной мере. В какой-то мере Сеть – это мой личный проект и про-ект моих больших друзей и соратников, которые в разные срокивошли в это сообщество. Десятилетие – значительный срок длянеправительственной инициативы, но организация (трудно обзы-вать Сеть этим канцелярским словом) существует и будет еще силь-нее и значимее в будущем. Особенно если в нее придут новые испособные члены, а ветераны не сникнут под влиянием жизненнойрутины. То, что сам этнологический мониторинг останется востре-бованным, в этом нет сомнений. Этнический фактор будет сохра-нять свое важнейшее значение во многих сферах жизни, в том чис-ле в политике и в государственном управлении, не говоря уже осфере коллективных и личностных идентичностей. Хотя, по моемуубеждению, конфликты, особенно в открытой, насильственной фор-ме, едва ли окажутся столь позволительными во все более орга-низующемся пространстве бывшего СССР. Однако вернемся к на-чалу: почему и как возникла СЭМ и как она развивалась?
Рождение проекта
В начале 1990-х гг. многие люди в экспертном сообществе былиозабочены проблемами возникших сначала в СССР, а затем в но-вых постсоветских государствах насильственных конфликтов, имев-ших в своей основе радикальный национализм и вооруженный се-паратизм. Стали возникать и первые международные проекты вобласти урегулирования конфликтов и их предупреждения. Первы-_____________* Этнопанорама. 2003. №1–2. С. 2–8.
98
области изучения «теории этноса» и «национального вопроса», нои написали новые труды, инкорпорировав в них собственное пони-мание трансформаций последнего десятилетия (см. книги В.И. Коз-лова, Ю.И. Семенова, М.Н. Руткевича, Джунусова и других). Носамыми активными оказались так называемые «социальные фило-софы», которые узурпировали социальную антропологию в каче-стве «новой учебной дисциплины», за которой скрывалась обыч-ная философская антропология в разных ее вариантах (см., на-пример, учебник для вузов: В.В. Шаронов «Основы социальнойантропологии», 1997).
Не менее настойчивыми оказались и давние специалисты по «на-циональному вопросу» из идеологического и образовательного цехамарксизма-ленинизма. Они изобретательно искали новую нишу,вплоть до предложения новой дисциплины «нациология», и в ко-нечном итоге «дожали» Высшую аттестационную комиссию, вклю-чив в раздел политологии дисциплину «национальные институты инациональные процессы». Вы будете удивляться, но речь идет не огосударственных институтах и не о гражданских общественных про-цессах, а о сфере этнической политики и ее институциональныхформах. Инициаторами выступили преподаватели Российской ака-демии государственной службы, где теперь получают ученыестепени специалисты по «национальным» (читай – этническим)проблемам главным образом из российской периферии. Софисти-ка «национальных проблем» занимает приличное пространство,достаточно просмотреть многочисленные рефераты диссертаци-онных работ, защищаемых в РАГСе. Причем в РАГСе царит мето-дологическая нетерпимость по данному вопросу, а уж ссылка намои работы – это гарантированные «черные шары». Удивительно,каким образом через приверженность несостоятельной теории го-сударственное учреждение воспроизводит язык и специалистов, от-рицающих национальные процессы и национальные институты вих общепризнанном значении, и тем самым отрицая российскуюнациональную государственность и российскую национальную об-щность.
В этой ситуации мне иногда кажется, что в науке чаще происхо-дит и имеет большую значимость не смена теоретических пара-дигм, а смена поколений. Однако новое поколение совсем не озна-чает новые взгляды. Я уже встречал молодых специалистов, ко-торые называют себя «антропологами», но выучились они по про-
119
ми инициаторами таких проектов были американцы из универси-тетской среды и из неправительственных организаций, которые ужеимели опыт исследовательской и практической деятельности в дан-ной сфере. В СССР и в России фактически не было того, что потомдостаточно быстро проросло и стало называться «конфликтологи-ей». Люди в науке были приучены изучать «неантагонистическиепротиворечия» в сфере так называемого «национального вопроса»,а люди во власти объясняли происходящие неожиданности крайнеповерхностно: «узбеки поссорились с месхетинскими турками набазаре из-за килограмма клубники», как объяснил Р.Н. Нишанов,тогдашний руководитель Узбекистана, погромы и этническую чист-ку месхетинцев в этой республике в 1990 г.
Одна из неправительственных организаций – «Группа по урегу-лированию конфликтов» (Conflict Management Group), действовав-шая при Гарвардской школе права во главе с Роджером Фишером,еще в 1980-е гг. начала совместный с Институтом США и КанадыАН СССР проект по проблемам переговоров и разрешения конф-ликтов. Начальная цель была – улучшение хода советско-амери-канских переговоров в области ядерных вооружений, а также вы-работка подходов по снижению ядерной опасности, особенно в кри-зисные моменты. Но затем появился вполне объяснимый интересвключить в повестку сотрудничества вопросы конфликтов и их раз-решения для советских политиков, впервые столкнувшихся в ходегорбачевской либерализации с ситуациями внутренних конфликтови открытым межгрупповым насилием. Карабах и Сумгаит и незна-ние, как этому противодействовать, были первыми набатамиприближающихся и вполне возможных гражданских потрясений,связанных с кризисом СССР как государства и с последствиямиего распада. В здании Верховного Совета РФ были даже организо-ваны лекции Роджера Фишера и Уильяма Юри – авторов извест-ных в США бестселлеров о принципах разрешения конфликтов итехнике переговоров. Тогда же английская неправительственнаяорганизация «Международная тревога» (International Alert), возглав-лявшаяся Кумаром Рупе-сингхе, инициировала вместе с Эмилем Па-иным из Внешнеполитической ассоциации первые семинары-тре-нинги по конфликтологической тематике. Институт этнологии и ан-тропологии РАН в моем лице и Мары Устиновой принял участие вэтих мероприятиях в качестве ведущего в стране академическогоучреждения, занимающегося этническими проблемами.
97
литического действия во многом заняли место разрушенных основколлективных и частных стратегий (социалистическая/комму-нистическая риторика, советский патриотизм, «моральный кодекс»и т.п.). Этнонационализм, особенно после распада СССР, был вос-принят как «триумф наций» (по выражению французского истори-ка Э. Карер Данкосс), а не как триумф метафоры «триумфа наций».Сконструированное в ходе открытого насильственного конфликта«чеченство» представлялось как проявление до сих пор непознан-ного и непонятого политиками и военными этноса времен военнойдемократии, который невозможно подчинить современному зако-ну, а тем более «завоевать». Другими словами, сложные «практи-ки» стали представляться не как политический проект или мобили-зация историко-культурного материала для современных целей, акак проявление глубинных, «этногенетических» исторических за-кономерностей. Само же этническое стало представляться явлени-ем настолько археотипическим, что без обращения к нему уже немогли представить свои занятия не только антропологи, но и исто-рики, социологи, политологи, психологи и даже экономисты.
Массовое вторжение в сферу этнического неофитов от другихдисциплин обусловило заимствование имевшегося в этнологии те-оретического конструкта в его наиболее упрощенной и привлека-тельной форме. К хорошо сохранившимся в научных и вузовскихбиблиотеках работам Ю.В. Бромлея добавились миллионные тира-жи книг Л.Н. Гумилева, в которых полезная историческая публи-цистика переплелась с абсолютно несостоятельными конструкция-ми по поводу этносов и суперэтносов, «пассионарности», «комп-лиментарности» и других проявлений биосоциальности в рамках«геосферы Земли». За этим последовали наскоро написанные сло-вари, справочники, учебники по этнологии, «исторической этноло-гии», национализму, а этнология в ее наиболее примитивном виде(описание этнических групп по языковым семьям) стала читатьсяво всех (!) вузах страны неподготовленными для этого преподава-телями.
Реванш примордиализма и ортодоксальности был закрепленнетерпимым (на грани ерничества) отношением к таким направле-ниям в современной гуманитарной мысли, как конструктивистcко-инструменталистcкие подходы и постмодернистские конструкции.Можно только позавидовать энтузиазму представителей старшегопоколения, которые не только не сдали ортодоксальных позиций в
120
В 1993 г. заместитель директора Института США и Канады РАНВ.А. Кременюк предложил мне «забрать» это направление как бо-лее отвечающее профилю Института этнологии и моим собствен-ным научным интересам. Уже следующий проект «Урегулированиемежэтнических конфликтов в постсоветском пространстве», по-лучивший финансовую поддержку от Корпорации Карнеги Нью-Йорка, был начат Группой по урегулированию конфликтов в со-трудничестве с Институтом этнологии, координаторами с аме-риканской стороны были Уильям Юри и Брюс Аллин, а с россий-ской стороны – я и А.В. Беляева, руководившая Международнойлабораторией «ВЕГА» (создана академиком Е.П. Велиховым иДэвидом Гамбургом – президентом Корпорации Карнеги в рам-ках проекта коммуникаций). Идея, которую я изложил во времявстречи с Д. Гамбургом, а именно – создать неформальную Сеть изобученных в области разрешения конфликтов независимых экспер-тов, работающих в регионах межэтнической напряженности и конф-ликтов, была поддержана. Обеспечение Сети компьютерной логи-стикой и системой электронной почты должна была взять на себялаборатория «ВЕГА».
В сентябре 1994 г. в Голицыне (Подмосковье) был организованпервый семинар Сети этнологического мониторинга и раннего пре-дупреждения конфликтов (в английской аббревиатуре мною былопридумано неуклюжее по звучанию слово EAWARN как сокраще-ние от двух слов «раннее предупреждение»). Сеть долгое время быласвободным и даже незарегистрированным сообществом, составкоторого определялся инициативным образом и главным образом–российскими координаторами проекта. Среди первых участни-ков были самые разные люди преимущественно молодого возрас-та – научные работники, журналисты, лидеры общественных (такназываемых «национальных») организаций и движений. Некото-рые из них со временем стали известными политическими и госу-дарственными деятелями национального и регионального масш-таба (Борис Цилевич из Латвии, Лилия Буджурова с Украины, ЛевДзугаев из Северной Осетии) и отошли от работы в Сети. Некото-рые, особенно из числа общественных активистов, не смогли спра-виться с задачей регулярного научно-прикладного анализа этно-политических ситуаций в силу отсутствия навыка написания ана-литических текстов и также выбыли из постоянного состава, кото-рый определялся при отборе участников ежегодных семинаров. Из
5
121
начального состава сегодня в Сети осталось только несколько че-ловек (Александр Дзадзиев из Северной Осетии, Энвер Кисриев изДагестана, Евгений Клементьев из Карелии, Александр Танас изМолдовы).
Эволюция целей и приоритетов
Начальные цели проекта были сформулированы как следующие:– Аналитические и прикладные исследования в области этнич-
ности, национализма и этнических конфликтов;– Создание в постсоветских государствах сети специалистов,
прошедших подготовку и способных возглавлять учебные програм-мы, участвовать в работе по примирению интересов на местном уров-не и создавать центры по урегулированию этнических конфликтов;
– Разработка программ по обеспечению конструктивной ролисредств массовой информации в этнических конфликтах в бывшемСоветском Союзе и другие.
Не все и не в равной степени эти цели были достигнуты, и самиэти приоритеты со временем подвергались изменению, но остава-лись неизменными несколько базовых направлений и принциповработы Сети, которые сохраняются и по сегодняшний день.
Сначала о целях и направлениях, которые формально изложе-ны в Уставе организации, которая была зарегистрирована в Мин-юсте России только в 1999 г. как «Региональная общественная орга-низация». Однако для меня изначально СЭМ представляет нечтобольшее, чем просто перечень задач. Во-первых, это понятие этно-логического мониторинга, которое родилось как-то само по себе,но суть которого заключается в том, чтобы научиться и осуществ-лять постоянный и регулярный анализ процессов в области меж-этнических отношений и ситуации в регионах и странах с этничес-ки сложным составом населения. Это не просто этнологическое илиполитологическое исследование, а научно-прикладной анализ, ко-торый может быть использован общественными силами, органамивласти и управления для обеспечения наиболее эффективного прав-ления (governance), предотвращения или разрешения конфликтов.Мониторинг понимается мною достаточно широко как получениеадекватного знания о достаточно широком круге проблем и явле-ний, которые определяют общественную динамику, могут и долж-ны использоваться как управленцами, так и другими, действующи-
140
Преодоление ментальности группизма на основе культурных ка-тегорий представляет собой, возможно, самую трудную задачу длясовременной науки и политики, а для российской практики это во-обще трудно воображаемая перспектива. В отечественном обще-ствознании до сих господствует теоретико-методологический под-ход, основанный на видении культурного многообразия как почтиисключительно многообразия групп с их пережитыми «историчес-кими несправедливостями», фундаментальными потребностями,интересами, правами и т.п. В западной социологии и политологииэтот подход также разделяется некоторыми авторами, включая иавторов вышеупомянутого ооновского доклада. Здесь сказываетсявлияние политической практики регулирования межгрупповых от-ношений и поддержки меньшинств, а также амбициозных проек-тов типа проекта Центра международного развития и управленияконфликтами при Мэрилендском университете, который получилназвание «Меньшинства в состоянии риска»6. На этом далеко несамом современном подходе основаны документы (в частности,Декларация о правах национальных меньшинств) и деятельностьтакой организации, как ОБСЕ, особенно в регионе бывшего СССР.
Из обзора современных политических практик и по результа-там научных исследований вытекает общее представление, что наи-более перспективным для современного мира, в том числе и дляРоссии, является подход, который видит культурное многообразиекак многообразие форм человеческой идентификации, включая су-ществование культурной сложности на уровне индивида и на уров-не коллектива. Другими словами, существуют и должны быть при-знаны наукой и государственной процедурой социокультурная об-щность – российский народ или россияне, чья этническая идентич-ность может определяться в том числе и сложными словами: рус-ский еврей, украинец-русский, татаро-башкирин и т.п. По мнениюнекоторых специалистов, люди такого рода относятся к категорииэтнических маргиналов. На самом деле, это скорее норма для рос-сийского сообщества (не менее трети населения – это потомки сме-шанных браков), а также и для подавляющего большинства другихгражданских сообществ.
Безусловным является и то, что два типа групповой идентично-сти (по культуре и по гражданско-политическому сообществу) так-же сосуществуют и не являются взаимоисключающими, т.е. рус-ский и россиянин, татарин и россиянин, чеченец и россиянин и т.п.
6
122
ми в том или ином сообществе акторами (экспертами, обществен-ными лидерами, средствами массовой информации, представите-лями сферы образования, бизнеса и другими). Знать и пониматькультурно сложное общество и природу этнических явлений также важно, как знать и понимать, как действует экономика или ка-кова природа социальных явлений.
Изначально нам было чуждо утилитарное понимание этноло-гического мониторинга только как «прогнозиста» или как активно-го миротворца, хотя эти функции никогда не исключались. Некото-рые анализы и действия участников СЭМ по-настоящему способ-ствовали предотвращению конфликтов, но ирония в том, что пре-дотвращенный на ранней стадии конфликт трудно зачислить в ак-тив прикладного аналитика: кажется, что так оно и должно былобыть. Что же касается активного вмешательства в разрешение кон-фликта, то это слишком специфическая сфера, требующая особыхресурсов и полномочий, а также специальной подготовки. Именнопо этим причинам мониторинг может представляться занятием,отвлеченным от задач, которые могут повседневно решать полити-ки, но он абсолютно необходим как база информации и как основаквалифицированного принятия решений.
Форма мониторинга возможна в двух основных вариантах:а) количественный анализ по набору показателей (факторов или пе-ременных) с компьютерной обработкой для выявления тенденцийи их динамики, взаимосвязей и роли различных факторов; б) каче-ственный нарратив, предполагающий сбор, отбор и анализ матери-ала экспертом. По своей сути это деление условно, ибо добротныйколичественный анализ содержит качественные моменты, а нар-ратив может быть поверхностным описанием или фактографическойсводкой и быть низкого качества. На ежегодном семинаре на Кипрев 1994 г. мною была предложена модель этнологического монито-ринга, состоящая из 46 факторов по семи категориям (среда и ре-сурсы, демография и миграции, власть и политика, экономика и со-циальная сфера, культура и образование, контакты и стереотипы,внешние условия). Она была предложена как ориентир привыполнении регулярного анализа и как схема, по которой должныбыли быть подготовлены модельные описания регионов. ПозднееВ.В. Степанов ввел также ежегодный опрос экспертов по факторами категориям для замера динамики ситуаций в разных регионах Рос-сии и роли каждой категории факторов. Сеть никогда не работала в
139
альтернатив»4. Кстати, худший вид нетерпимости, который мне при-ходилось наблюдать, это было прямое или косвенное принуждениеиндивида жить таким же образом, что и другие члены общества.В сравнительно малых и актуализированных этнических сообще-ствах такая ситуация чаще всего оборачивалась личными драмамии поколенческими конфликтами.
2. Как лучше понимать культурное многообразие
Под словами «культурное многообразие» я имею в виду не уз-кое значение слова «культура» как художественное творчество илинародно-бытовая традиция, а как создаваемые индивидом и челове-ческими коллективами и осознаваемые ими различия в социальнойжизни. Эти различия отражаются в материальной и духовной куль-туре – от систем жизнеобеспечения (хозяйство, пища, одежда, жи-лище) и коммуникации (язык) до социальной организации, пове-денческих норм и религиозных представлений. Суммарно эти куль-турные различия группируются по формам идентификации (со-отнесения) людей с той или иной «большой категорией» челове-ческой (культурной) отличительности. Эти категории не родилисьсами по себе, как полагают так называемые примордиалисты (илиэссенциалисты) – ученые и практики, верящие в существование та-ких архетипических человеческих коллективов, как этнос или раса,которые наука призвана познавать и проблемами которых политикидолжны заниматься.
Современное знание все больше приходит к выводу, что самипо себе культурные различия и основанные на них групповые коа-лиции людей есть исторически подвижные понятия, их содержа-ние и смысл постоянно меняются и имеют большое географичес-кое/региональное многообразие. Но самое важное – их существова-ние само по себе есть результат целенаправленных усилий со сторо-ны активистов социального пространства: элит, управленцев и уче-ных, результат так называемого социального конструирования. То,что называется, воспринимается и изучается как группа (на-род, нация, меньшинство, раса, диаспора и т.п.)», на самом делепредставляет собой не реально существующее коллективноетело со своим «самосознанием», «характером», «волей», «судь-бой», а человеческие отношения (социальные, политические,эмоциональные) по поводу этих воображаемых коалиций5.
123
жестком режиме отслеживания факторов, но со временем эти ори-ентиры стали все более значимыми для авторов анализа.
Модель была заимствована частью или целиком другими ана-литическими группами и структурами, включая государственнуюслужбу мониторинга, налаженную при министре В.Ю. Зорине. На-чатая по его инициативе более регулярная работа Сети в При-волжском федеральном округе (двухнедельные бюллетени) с охва-том фактически всех 15 субъектов Федерации была с интересомпринята в администрации Президента РФ и рекомендована для ис-пользования в других федеральных округах. Программа МОСТ(Управление общественными процессами), которая является основ-ной обществоведческой программой ЮНЕСКО, также высоко оце-нила проект «Конфликт и согласие в многоэтничных государствах»,который был выполнен Сетью в 1995–2001 гт. и результатом кото-рого стало издание 19 небольших книг, представляющих собой пол-ное описание региона или страны по всему набору факторов моде-ли мониторинга. Мною с В.В. Степановым был подготовлен итого-вый отчет, представленный на заседании Межправительственногосовета программы МОСТ в феврале 2003 г. в Париже. Итоговаякнига по проекту пока не опубликована.
Каково сегодня мое отношение к мониторингу и к тому, как егоосуществляет СЭМ? Конечно, это существенный организующий ин-струмент более адекватного восприятия, происходящего в сферемежэтнических отношений и в многоэтничных сообществах в це-лом. Может ли мониторинг служить неким семафором и кардио-графом, причем всегда безошибочным (извечная мечта политикови управленцев), этого ожидать не стоит, ибо жизнь богаче всякихсхем, а динамика этнической ситуации может складываться под воз-действием даже самых случайных, непредвиденных и иррациональ-ных факторов. Приведу только один пример. Сравнительный ана-лиз экспертных оценок, сделанный В.В. Степановым, показал, чтов 2000–2002 гг. одним из самых стабильных регионов России былДагестан, а обусловлено это было, прежде всего, воздействием во-оруженного вторжения боевиков из Чечни и небывалой консолида-цией общества по отпору этой внешней для республики угрозы.Все другие факторы никакой позитивной динамики не имели.И все же, повторяю, мониторинг полезен и необходим, ибо без негоесть некая смутность картины, особенно в масштабе страны и круп-ного региона. Несмотря на то, что государственные органы власти,
138
мире», и в ответах на фундаментальные вопросы эта важная публи-кация оказывается нашим союзником2. Приведем только некото-рые из его ключевых положений обзорной части доклада.
Культурная свобода является важнейшей составляющей чело-веческого развития, потому что для полноценной жизни индивидуабсолютно необходимо определить свою идентичность (с. 1).
Чувство самобытности и принадлежности к группе, разделяю-щей общие ценности, имеет огромное значение для индивида. Од-нако каждый человек может отождествлять себя со многими раз-личными группами (с. 3).
Теории культурного детерминизма заслуживают критическойоценки, поскольку их применение ведет к опасным политическимпоследствиям и может стать источником как внутренней, так и меж-государственной напряженности (с. 5).
Чтобы стать полноценными членами обществ, построенных намногообразии, и воспринять всемирные ценности терпимости иуважения к всеобщим правам человека, индивиды должны выйтииз жестких рамок той или иной идентичности (с. 12).
И, наконец, Нобелевский лауреат в области экономики АмартияСен в качестве главного консультанта первой главы Доклада пишетследующее: «Вместо того, чтобы восхвалять бездумную привер-женность традициям или пугать мир мнимой неотвратимостью стол-кновения цивилизаций, концепция человеческого развития требуетуделить внимание роли свободы в культурных (и иных) сферах ипутям защиты и расширения культурных свобод. При этом важней-шим вопросом становится даже не роль традиционной культуры, авсевозрастающее значение культурных альтернатив и свобод»3.
Я отношусь скептически к высказываниям нобелевских лауре-атов не по профилю их занятий, но в данном случае А. Сен прав:призывы к культурному многообразию на том основании, что оноисторически задано тому или иному обществу, что оно унаследова-но различными группами людей, а ее представители еще в до-школьном возрасте «открывают» в себе самобытность, на самом деледалеки от признания культурной свободы. Опять же авторы докладаправы, когда пишут: «Рождение в конкретной культурной среде неявляется реализацией свободы, – скорее, наоборот. Актом куль-турной свободы оно становится только тогда, когда индивид осоз-нанно решает продолжать вести образ жизни, свойственный дан-ной культуре, и принимает такое решение при наличии других
124
особенно специальные службы, могут и осуществляют свой соб-ственный анализ и докладывают ситуацию соответствующим ин-станциям, мониторинг в рамках СЭМ имеет независимый харак-тер, и важно иметь его результаты для принятия эффективных ре-шений в сфере государственного управления.
Сейчас федеральные власти наладили систему этноконфессио-нального мониторинга, используя данные СЭМ как один из источ-ников. Полугодовые доклады президенту В.В. Путину носят зак-рытый характер, и я не читал ни одного из них, но в целом такаясистема кажется мне оптимальной.
Обучение для общества и для Сети
Первые годы СЭМ уделяла особое внимание осуществлениютренинга в области конфликтологии, подготовке специалистов поразрешению конфликтов и осуществлению миротворческой деятель-ности. Совместно с Международной тревогой были проведены двасеминара для участников Сети и для приглашенных активистов идаже государственных служащих. Совместно с Бергховским цент-ром по конструктивному разрешению конфликтов (Германия) былипроведены два семинара по подготовке миротворцев. Под редакци-ей М.Я. Устиновой было осуществлено русское издание докумен-тов о международных усилиях по предотвращению напряженнос-ти и улучшению межэтнических отношений в странах Балтии. На-конец, было подготовлено специальное пособие для журналистов,работающих в зоне этнических конфликтов или пишущих на этни-ческую тематику. СЭМ издала русский перевод книги-пособия пообучению методам анализа и разрешения конфликтов, который былподготовлен Международной тревогой. Важным для выработкиоценки и рекомендаций по проблеме этнического конфликта быломое участие в работе международной команды ведущих экспертовдля выработки програмного документа, который получил название«Меморандум Кона» по названию гавайского острова Кона, где вноябре 1993 г. прошла эта рабочая встреча, организованная Проек-том по этническим отношениям (PER.). Этот проект, аналогичныйнашему проекту, был запущен в 1991 г. под руководством амери-канцев Алана Кассофа и Ливии Плакс для стран Восточной Евро-пы и при поддержке той же Корпорации Карнеги Нью-Йорка. Текст«Меморандум Кона» был опубликован в «Независимой газете»
137
но как «национальное самоопределение» (русское, осетинское, та-тарское и прочие), как право и обязанность быть в группе (вспом-ним переписной лозунг в Татарстане: «Запишись татарином!»), какправо на «свои» территорию, государственность, язык, как правона мирное и свободное общение с «другими» или же на силовуюзащиту от «других». Понятие культурной свободы в России не вклю-чает право на культурную сложность и на принадлежность к слож-ной культуре (например, российской или дагестанской), право наодновременную принадлежность к нескольким культурам, в томчисле и к сложным (российской и дагестанской одновременно, по-мимо аварской или даргинской), право на выход или на пребыва-ние вне культуры. Культурная свобода российскими учеными и по-литиками рассматривается как право обязательно быть в опреде-ленной группе по кровному или моральному обязательству или же,в лучшем случае, по свободному выбору человека. На самом делекультурная свобода не в меньшей мере определяется правом выхо-да из группы или правом пребывать вне группы.
Почему в нашей стране не является нормативно достаточнойдля того или иного человека сложная по своему содержанию, ноцельная российская культура преимущественно на основе русско-го языка, который совсем не является исключительной собственно-стью только этнических русских? Как можно поворотом каких-томентальных винтиков убедить отечественных экспертов и управлен-цев, что российская культура цельна и многообразна как по своимкорням (от византийско-славянских традиций до тюркско-кавказ-ского культурного арсенала), так и по содержательному набору (об-щие версия истории, жизненные ценности и установки, общераз-деляемые высокая культура и масскультурный арсенал, общие куль-турные герои и символы)? Ответить внятно на эти вопросы по-строенный на этнонационализме и на схоластике этноса российс-кий общественно-политический дискурс фактически неспособен.Но искать эти ответы необходимо, как и необходима политика при-знания сложнокультурной общности россиян. Именно сложная (гиб-ридная) культурная целостность, «негомогенное целое» (выраже-ние М.М. Бахтина), а не абстракция «межнациональных отноше-ний» и даже не «многокультурность» заслуживают настоящеговнимания научных экспертов и общественных управленцев.
Недавно изданный Доклад ООН о человеческом развитии за2004 г. посвящен именно теме «Культурная свобода в современном
125
(13.09.94), а затем вышел отдельной брошюрой в Оренбурге поинициативе эксперта Сети Веналия Амелина. К сожалению, этот бо-гатый по содержанию документ не вошел в повседневное обраще-ние российских политиков и экспертов, но само название документав русском переводе как «Управление этническим конфликтом»послужило поводом для некоторых активистов вести речь о нали-чии якобы некой теории и политики «управляемого конфликта».
В последние годы задача внешнего обучения отошла на второйплан, но сохранился приоритет повышения компетенции самих уча-стников СЭМ в области современного знания об этничности иконфликтах. Этот обучающий компонент реализуется в двух фор-мах: через приглашение специалистов на ежегодные семинары ичерез прямое ознакомление с конфликтными ситуациями в другихрегионах мира. Уже на первом семинаре в Голицыне директорМеждународного института мира в Осло Дэн Смит читал лекцию ивел семинар по теме современных этнических конфликтов. На се-минаре 1995 г. в Лондондерри (Северная Ирландия) английские спе-циалисты из организации INCORE (Международная сеть по сотруд-ничеству и этническим исследованиям) дали глубокий анализ кон-фликта в Ольстере. И так на всех семинарах местные ведущие экс-перты делились своим видением и опытом прикладного научногоанализа и активного миротворчества. Однако ничто не могло заме-нить прямого знакомства членов СЭМ с другими странами и реги-онами, где имеются схожие ситуации, совершаются схожие траге-дии и предпринимаются схожие усилия по разрешению конфлик-тов. Разделенный «зеленой линией» Кипр, когда на турецкую частьострова патруль не пустил участника семинара с армянским пас-портом. Превращенные в агитплакаты в пользу Ирландской рево-люционной армии стены домов в Ольстере. Прогремевший в аэро-порту Коломбо взрыв незадолго до нашего приезда в Шри Ланку иубийство тамильскими террористами вскоре после нашего отъездаумеренного по своим взглядам тамильского деятеля Нилана Тури-чильвана, организовавшего наш прием в Шри Ланке. Замазанныепо всему острову дорожные указатели и другие надписи на фран-цузском языке на Корсике. Все эти наблюдения и впечатления иг-рали не менее важную роль для участников СЭМ, чем печатныетруды и прослушанные лекции специалистов. Едва ли есть еще та-кой коллектив экспертов, который получил за годы своей деятель-ности столь обширные знания о конфликтах в мире.
136
является, на наш взгляд, заблуждением. При внешне обновленчес-кой увлеченности многокультурностью части российского научно-образовательного сообщества многое опять сводится к тривиаль-ному «многонациональное» и к «теории этноса»: «в нашей респуб-лике (крае, области, городе) проживает более ста наций», «в нашейшколе учатся и взаимодействуют десятки этносов», «у нас дети раз-ных культур познают друг друга», «представители некореннойнациональности должны интегрироваться» – эти и подобные сен-тенции постоянно присутствуют в языке ученых и педагогов. Ог-раниченный научный багаж и уже сложившаяся ментальностьне позволяют отечественным экспертам и практикам предста-вить себе россиян как людей одной культуры и как сообществопо общей идентичности, а не как заключенное в общие грани-цы собрание носителей одинаковых паспортов.
Культурное многообразие состоит не только в том, чтобы тща-тельным разглядыванием и «народоведческим» натаскиванием со-здавать из доступного социального материала и этнографическихнаработок номенклатуру разных культур и составлять по школь-ным классам, вузам, поселкам, республикам и всей стране спи-сочный реестр четко себя осознающих носителей трудно опреде-ляемой «национальной самобытности». Культурное многообразиесостоит не только в том, что носителям «больших» и «малых» куль-тур воздается равное должное и предоставляется «культурная сво-бода», чтобы с помощью государства, его бюджета и законов, учи-телей, этнологов, психологов все разнокультурные граждане могливести между собой «межкультурный диалог». Сердцевиной поня-тия «культурное многообразие» является признание многооб-разных форм самих культурных общностей (не только русскойили аварской, но и российской и дагестанской), признание и спон-сирование не только различий, но и схожести, одинаковости, кото-рые чаще всего преобладают над различиями, по крайней мере, врамках одной национальной (не этнической!) культуры, каковойявляется российская культура. Сердцевиной культурного много-образия является признание культурной сложности на уровнеотдельного человека, а не только группы.
К сожалению, отечественный научный, политический и управ-ленческий арсеналы понимания и воздействия не предполагают, чтотакое возможно и что такое есть норма, а не аномалия. Именно по-этому «культурная свобода» в России мыслится почти исключитель-
126
Что делает Сеть единым и эффективнымколлективом?
В начальные годы, когда формировалась СЭМ, определялисьее состав и содержание деятельности, трудно было сказать, как долгои сколь вознаграждающим будет этот проект. Однако с самого на-чала появился некий трудно определяемый компонент проекта –это человеческий климат внутри самого сообщества, которое былопредставлено людьми самых разных национальностей (сейчас вСЭМ работают эксперты 30 национальностей). Какие-то факторыболее существенного порядка, чем материальный интерес, объеди-няют и держат этот коллектив вместе. Мне даже трудно назвать,какой из них главный: профессиональный интерес к этнической иконфликтологической тематике (за эти годы более 10 человек за-щитили кандидатские и докторские диссертации в этой области,большинство опубликовали научные труды); чувство гражданскойсопричастности к насущной проблеме преодоления насилия и стра-даний со стороны жертв конфликтов (некоторые участники СЭМживут в зонах открытых конфликтов, а некоторые, как, например,Муса Юсупов, понесли большие личные утраты); возможность об-щаться друг с другом и с большим внешним миром (для многихучастников ежегодный семинар – это единственная поездка за ру-беж в новую страну) или что-то еще.
А может быть, все бывшие советские граждане, а ныне – росси-яне, и несколько граждан других новых государств интересны другдругу возможностью общения без разделяющих государственныхи этнических границ? Ведь за десять лет существования СЭМ небыло ни одного случая, чтобы кто-то ощутил какое-то неудобствопо поводу своей национальной принадлежности, не говоря уже оболее серьезных проблемах общения. Для меня лично СЭМ – этосвоего рода микрокосмос сложных этнических сообществ, поисти-не гармоничный и взаимообогащающий. Никогда не забуду сценку,которую подсмотрел в ресторане кипрской гостиницы, когда послевечернего ужина большая группа участников дружно и великолеп-но танцевала греческий танец сиртаки под изумленные взгляды чо-порных западных (главным образом – отдыхающих на Кипре анг-личан). Разглядывая среди танцующих калмычку Эльзу Гучинову,тувинку Зою Анайбан, узбечку Мавлюду Хакимову, латышку МаруУстинову, балкарку Светлану Аккиеву, лезгина Энвера Кисриева,
135
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*
1. Общее и особенное в восприятии культуры
Что есть «культурное многообразие» (cultural diversity), стольчасто упоминаемое в мировой науке и в политике? Существуют лиязыковые или просто смысловые аналоги этого понятия в русскомязыке? Наконец, как схожие или разные смыслы порождают и раз-ные политические практики, включая правовые нормы и системугосударственного управления. Ибо главное заключается не в са-мом факте наличия культурно-сложного населения, совмест-ного проживания и взаимодействия людей с культурно-отли-чительными характеристиками, а в том, какой смысл то илииное общество придает культурным (этническим, языковым,религиозным, расовым) различиям, как и в каких целях этиразличия используются. И с этой точки зрения, Россия действи-тельно имеет разительное отличие от преобладающего на Западе ив остальном мире опыта. Сходный с Россией опыт имеют толькостраны бывшего СССР и, отчасти, восточноевропейские страны.По выражению американского историка Т. Мартина, СССР пред-ставлял собою «империю аффирмативных акций» – государство, вкотором был осуществлен уникальный эксперимент масштабногоспонсирования этничности, начиная от научных разработок иэтнического картографирования, системы переписного и докумен-тального учета и вплоть до системы государственного устройстваи официальной идеологии «дружбы народов»1.
Полагать, что российская «многонациональность» есть неист-ребимый результат длительной эволюции, что принадлежность кэтносу дает человеку «его культуру» и что на фундаменте этого эк-сперимента можно утверждать многокультурность и толерантность,_____________* Этнопанорама. 2004. №3–4. С. 2–9 (Статья опубликована в журнале «Этнографи-ческое обозрение». №1. 2005. Печатается с разрешения редакции).
127
осетина Александра Дзадзиева, русского Сергея Попова и других,столь внешне разных, но веселых и дружных молодых людей, одининостранец спросил другого: «Неужели это все русские? Откудаони все взялись?».
Аспирантка моего давнего друга, крупного американского пси-холога Майкла Кола исследовала работу Сети на раннем этапе ееразвития и по этому материалу защитила диссертацию в областисоциальной психологии и массовых коммуникаций. Кирстен Футопределила Сеть как «уникальное эпистемологическое сообще-ство», т.е. сообщество, объединенное познанием3. Скоро выйдет еекнига о Сети этнологического мониторинга. Почитаем и поразмыс-лим. Хотя мне кажется, что самое важное в жизни этого сообще-ства произошло уже после выполненного исследования.
Ресурсы и материальный интерес
Главный ресурс СЭМ – это ее участники. У руководства орга-низацией (с 1998 г. исполнительным директором вместо М.Я. Ус-тиновой стала Е.И. Филиппова) никогда не было четко определен-ной процедуры отбора людей в Сеть или их исключения. Сначалаискали и приглашали тех, кто был чем-то известен, особенно черезсвои связи с Институтом этнологии, по личным контактам или порекомендации других коллег. Затем появились инициативные люди,желающие работать в Сети. Почти всегда была одна рекомендация:начинать писать через электронную почту, ждать публикаций вбюллетене и приглашения на ежегодный семинар. Все, чьи матери-алы будут опубликованы хотя бы в половине из шести выпусковбюллетеней, поедут на семинар. Не всем удавалось справиться состоль простым условием, но для большинства это становилось всеболее знакомым и все более интересным.
Не следует думать, что писать о положении в своем регионе такпросто для местного эксперта. Даже самый простой анализ про-изошедшего в течение двух месяцев, не говоря уже о более серьез-ном исследовании, требует не только интеллектуальных усилий, нои определенной гражданской позиции именно независимого экс-перта. В Сети было достаточно неудовлетворительных материалов:или пропаганда местного национализма, или верноподданническиетексты в адрес местного руководства. Многие, если не большинство,испытывали разного рода давления и даже угрозы по поводу часто
134
тех регионах, где пока нет представителей Сети? Все эти вопросыбудут обсуждаться сообща на юбилейном ежегодном семинаре воктябре 2003 г. Старая дружба и новые идеи позволят сохранитьэто уникальное сообщество.
Примечания:1 Разрешение конфликтов: пособие по обучению методам анализа и разрешенияконфликтов / ред. русского издания М. Устинова и А. Матвеева. М., 1997.
2 Смит, Д. Причины возникновения и тенденции распространения вооруженныхконфликтов//Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государ-ствах: ежегодный доклад, 2000. С. 20–34.
3 Foot Kirs ten. Writing Conflicts: An Activity Analysis of the Development of the Network for Ethnological Monitoring and Early Warning. University of California, SanDiego, 1999 (Doctor Philosophy).
4 На пути к переписи / под ред. Валерия Тишкова. М.: Авиаиздат, 2003.5 Местное самоуправление в многоэтничных сообществах стран СНГ / под ред.Валерия Тишкова и Елены Филипповой. М.: Авиаиздат, 2001.
6 Степанов, В.В. Этничность, конфликт и согласие: итоговый отчет по программеМОСТ / В.В. Степанов и В.А. Тишков. М., 2003.
128
некомплиментарной информации о положении в той или иной рес-публике или стране. Особенно это касалось освещения конфликт-ных ситуаций или националистических безобразий в сфере поли-тики. Не все и не всегда смогли быть объективными и твердыми всвоих позициях, ибо можно было получить взбучку от местногопрезидента или поплатиться работой. Чаще всего использовался за-пугивающий аргумент-обвинение в «продажной работе за иност-ранные гранты». Все это было и, возможно, не все из этого мнеизвестно. Но большинство справилось с этой ситуацией, имея мо-ральную поддержку от Сети в целом. Главное – выполненные завсе время работы СЭМ тысячи(!) страниц анализа не содержалиглупостей, провокаций, грубых ошибок и неэтических оценок. Ма-териал бюллетеней, ежегодных докладов и других публикаций ра-зошелся по страницам многих книг и диссертаций, был использованполитиками и общественными деятелями, учеными и аналитикамиРоссии и других стран. Это, наверное, главное, что научились де-лать и сделали эксперты СЭМ.
В организации много разных людей: блестяще талантливых,упорных и вдумчивых, наивно-романтичных, думающих и пишу-щих без особых претензий, потрясающе работоспособных, лени-вых и даже небрежных. Повторяю, никакого особого отбора на спо-собности или на политико-идеологические ориентации никто в Сетине проходил. Я знаю интеллектуально более интересные сообще-ства и группы, но такой, как СЭМ, нет: это сообщество достаточнопростых и неамбициозных людей, которым сама их организация иобщая работа добавляют многое в жизни, а все они вместе делаюторганизацию. Отсутствие снобизма и завышенных оценок, простойи демократичный стиль общения делают СЭМ легким местом дляинтеграции новичков. Случаи трудного вживания или отторжениямне неизвестны, хотя из Сети выбыло достаточно много людей, нопо другим причинам. Поэтому я надеюсь, что в самое ближайшеевремя мы сможем расширить географию нашей Сети и добавитьновых членов, особенно из многоэтничных регионов Поволжья иСеверного Кавказа, где хотелось бы создать автономно работаю-щие региональные отделения СЭМ в рамках начатого крупного про-екта ТАСИС «Внедрение толерантности и улучшение межэтничес-ких отношений в России».
Было бы неправильным обойти вопрос о материальных ресур-сах СЭМ и материальном интересе ее участников. Именно здесь
133
сугубо проблемного характера. В России и в других странах СНГесть такой опыт, и о нем следует знать.
СЭМ может осуществлять целенаправленные акции мониторин-га по важнейшим проблемам и акциям, как, например, это имеломесто с переписью населения в России в октябре 2002 г. Этотмасштабный проект в сотрудничестве с зарубежными коллегамиеще не завершен, но его итогом уже стала вышедшая в свет книгадокладов по 20 российским регионам, в которых освещается дина-мика этнодемографических и миграционных процессов в периодмежду двумя переписями и дебаты накануне переписи4. Подготов-лен второй том «Этнография переписи», в котором публикуютсяотчеты о ходе самой переписи в регионах Российской Федерации,где работали наблюдатели Сети и зарубежные партнеры. Еще ра-нее СЭМ выполнила обзорное исследование по проблеме местногосамоуправления в многоэтничных сообществах, которое было пе-реведено на английский язык и получило высокую оценку между-народных специалистов5.
Самое сложное – это как усовершенствовать сам анализ и сде-лать его действительно точным, глубоким и прогностическим. СЭМможет и должна получать новое знание-информацию эксклюзив-ного характера, которое не повторяет СМИ или обычное на-блюдение, которое «и так всем известно». Можно ли соединитьнарратив с количественным анализом, который ныне легко делатьс помощью современной компьютерной техники? Как соединитьразрозненные по регионам анализы в более общую картину и в нейвыявить какие-то значимые тенденции? Причем делать это не одинраз в год в ежегодном докладе, а на более регулярной основе.В мире существует много достаточно изощренных методик, и СЭМпредстоит существенно обновить свой металогический арсенал.
С точки зрения эффективности и восприятия анализа теми, ктопринимает решения, важно научиться точному и краткому языку,ибо политику часто нет времени читать толстые книги или «вы-уживать» из заумных текстов значимые для современной практикиидеи и рекомендации. Практика кратких докладов-резюме до сихпор не использовалась в Сети, если не считать итоговый доклад попроекту юнесковской программы МОСТ, который содержит обоб-щенный анализ этнополитической динамики за 2000–2002 гг.6.
Наконец, как сохранить интерес действующих участников СЭМи привлечь новых способных аналитиков к ее работе, особенно в
129
произошли интересные изменения. Сеть никогда не имела щедрыхфинансовых ресурсов. На первых порах у меня были сложные дис-куссии с американскими коллегами по вопросу распределения гран-та Карнеги. Нужно отдать должное Брюсу Аллину и Артуру Мар-тиросяну (он заменил Аллина в качестве координатора проекта состороны Группы по урегулированию конфликтов): они были ско-рее моими младшими партнерами, а не зарубежными менторами,старались выделить максимальные ресурсы для российской сторо-ны часто в ущерб собственным материальным интересам. В на-чальный период работы СЭМ материальная поддержка имела су-щественное значение для малооплачиваемых научных работниковРоссии и других стран бывшего СССР. Этот интерес остается и се-годня, но о том, что он не стал главным, говорит тот факт, что почтидва года после окончания гранта Карнеги СЭМ работала в авто-номном режиме без оплаты участников, особенно из других странбывшего СССР. Последние три года положение несколько улучшилгрант Фонда Маккартуров, притом, что основная поддержка про-екта и его руководство всегда осуществлялись со стороны Россий-ской академии наук прежде всего в моем лице и в лице сотрудниковмосковского офиса, которые состояли исключительно из научныхсотрудников Института этнологии и антропологии РАН, которыйбыл получен уже без американских партнеров и именно на обеспе-чение основной деятельности Сети. Все разговоры о политическойзаданности зарубежных грантов к деятельности СЭМ не имеют от-ношения: за все время вся идеология Сети и все направления еедеятельности, а также использование результатов определялись рос-сийской стороной, т.е. руководством Сети, прежде всего, в моемлице. Для меня в этом вопросе всегда была и остается более важ-ной дилемма справедливого распределения получаемых ресурсовсреди участников СЭМ. Но в последнее время через СЭМ многиеустановили собственные полезные контакты и нашли дополнитель-ные ресурсы. Проект ТАСИС даст возможность в течение года обес-печить всех участников современной компьютерной техникой. Чтождет СЭМ после окончания гранта Маккартуров в плане финан-сового обеспечения ее деятельности, сейчас сказать трудно. Воз-можно, давно следовало подумать о более целенаправленных уси-лиях в плане фандрейзерства или о создании более постоянной ма-териальной основы организации. Но, видимо, этот вопрос будетрешать новое руководство, которое придет мне на смену. Не ис-
132
друг друга и идет обогащающий обмен информацией, методами истилем анализа.
Ныне СЭМ не может претендовать на роль единственной орга-низации или сообщества, осуществляющего этнологический мони-торинг. Во-первых, все эти годы состояние межэтнических отно-шений регулярно исследовали этносоциологи, накопившие богатуюбазу опросов и усовершенствовав их методику в пользу более тон-ких, рефлексивных подходов и объяснений. Во-вторых, мониторингведут некоторые государственные информационно-экспертныеслужбы. Необходимо искать новые подходы и новые формы дея-тельности, чтобы сохранять приоритетные позиции.
Есть ли у Сети будущее?
Вопрос не простой, ибо иногда мне кажется, что среди участ-ников наступает некоторая усталость и появляется элемент шаб-лонности анализа, чего хотелось бы избежать. Но самое главное –это необходимость перехода в сторону более активной позициипо вопросам, которые требуют срочной реакции и даже обще-ственного вмешательства. Видимо, пришло время вернуться кпервоначально заявленной цели Сети осуществлять превентив-ные и миротворческие акции, если эксперты ощущают тревож-ные тенденции или конкретные проявления нетерпимых и дажеопасных ситуаций. Так, например, явно отмечаемая экспертамитенденция роста ксенофобии и антимиграционных настроений вроссийском обществе, а также конкретная политика в этой сферев ряде регионов могла бы стать поводом для формулирования состороны Сети в целом какой-то более четкой позиции в формепубличных заявлений или конкретных рекомендаций, чего до сихпор не делалось.
СЭМ может дать возможность выразить те или иные озабочен-ности и позиции общественных организаций, занимающихся иливовлеченных конкретно в проблемы межэтнических отношений илив религиозную проблематику. «Живые голоса» с мест, документаль-ные свидетельства передают местную специфику порою не хужеэкспертных наблюдений. Но вместе с этим было бы полезно вклю-чать в тематику анализа информацию о мировом опыте, как нега-тивном, так и позитивном. Вообще информация о так называемых«лучших практиках» не менее важна и интересна, чем информация
130
ключаю, что найдутся и отечественные доноры, и даже государ-ственные средства, если их распорядители не будут претендоватьна изменение главного принципа работы СЭМ – ее независимостив плане производства общественно значимой информации.
Внешняя среда и восприятие СЭМ
В плане восприятия СЭМ окружающим обществом, прежде все-го российскими властями, имели место самые драматические кол-лизии. Некоторые из них уже были упомянуты, когда речь шла оработе местных экспертов. Но это была не главная коллизия. Мы сБрюсом Аллином совершили политическую ошибку при публика-ции первых номеров бюллетеня Сети, поместив на обложке не толь-ко карту с обозначением мест мониторинга, но и нарисовав линии,соединяющие эти места с Москвой, а затем с Бостоном, Лондономи другими зарубежными столицами. Почему и зачем – не знаю, новыглядело это привлекательно, особенно для зарубежных доноров.Зато все это выглядело устрашающе для российских спецслужб:тогдашняя новинка – электронная почта – вдруг стала каналом сво-бодного сбора и передачи информации по таким достаточно чув-ствительным проблемам жизни государства, как этнические проб-лемы и конфликты. К чести ФСБ, никаких прямых воздействий наруководство СЭМ никогда не было.
Вопросы потока информации и ее использования действитель-но были существенными в деятельности проекта. Первоначальноне было ясно, кому и зачем? Главный и сохраняющийся принципбыл – информация Сети является открытой и доступной для всех,для кого она представляет интерес в научном и общественно-поли-тическом плане. Но этого было недостаточно. Моя позиция заклю-чалась в том, что приоритетными получателями должны бытьфедеральные и региональные органы государственной власти иэкспертное сообщество России, которые отчаянно нуждались в по-вышении компетенции по вопросам управления многоэтничнымиобществами в новых общественных условиях. В последнем я имелвозможность убедиться, работая в должности министра и предсе-дателя Комитета по делам национальностей в правительстве ЕгораГайдара в 1992 г. У американских партнеров была заинтересован-ность выстроить прямые связи с регионами без приоритетной ролиМосквы и сделать информацию доступной для американского на-
131
учного сообщества. Представители Грузии и Эстонии были готовыработать напрямую с Гарвардом, но не с Москвой, что, в конечномитоге, привело к выходу этих участников из СЭМ.
Попытка наших американских партнеров наладить выпуск бюл-летеня на английском языке оказалась достаточно сложной по при-чине трудностей адаптации материалов для западной аудитории ивысокой стоимости переводов. С организацией сайта в Интернетеи с окончанием гранта Карнеги, который шел через американскогопартнера, вопрос об англоязычном издании отпал. Москва отстоя-ла свое приоритетное место быть центром деятельности СЭМ, по-лучателем и распространителем информации, и это право уже дав-но никем не оспаривается. Были сняты с обложки и пугающие со-единительные линии, но отрицательное отношение российскихспецслужб к деятельности СЭМ сохранялось. Может быть, эта теньсохраняется до сих пор среди части наиболее ретивых «охранни-ков» российской государственности и противников «западных гран-тов». В утешение остается одна нечаянно брошенная Брюсом Ал-лином фраза о том, что ему хотелось бы работать в Государствен-ном департаменте США, но туда его не возьмут, потому что «слиш-ком много общался с советскими». Оказывается, открытость и ох-ранительность трудно уживаются друг с другом не только в Рос-сии, но и в США.
Но были и позитивные, вознаграждающие моменты в отноше-нии работы СЭМ со стороны внешнего окружения. За годы работыСЭМ почти полторы сотни адресатов, включая высших должност-ных лиц России, депутатов Госдумы и Совета Федерации, пред-ставительства российских республик и посольства стран СНГ, ве-дущие исследовательские институты и центры, библиотеки полу-чали регулярно бюллетени Сети, ежегодные доклады и специаль-ные публикации. Наши запросы в конце года о желании иметь этуинформацию и дальше почти всегда получали только положитель-ный ответ. Как сказал мне один из депутатов Госдумы, «у меня вкабинете образовалась целая полка ваших материалов, и она у менясамая востребованная». Наш мониторинг по Приволжскому феде-ральному округу нашел поддержку в Администрации ПрезидентаРФ, и было рекомендовано использовать этот опыт в других окру-гах. Материалы СЭМ в Интернете активно используются тысяча-ми ученых-специалистов прежде всего в России и в других стра-нах. Важно, что сами участники Сети активно читают материалы
130
ключаю, что найдутся и отечественные доноры, и даже государ-ственные средства, если их распорядители не будут претендоватьна изменение главного принципа работы СЭМ – ее независимостив плане производства общественно значимой информации.
Внешняя среда и восприятие СЭМ
В плане восприятия СЭМ окружающим обществом, прежде все-го российскими властями, имели место самые драматические кол-лизии. Некоторые из них уже были упомянуты, когда речь шла оработе местных экспертов. Но это была не главная коллизия. Мы сБрюсом Аллином совершили политическую ошибку при публика-ции первых номеров бюллетеня Сети, поместив на обложке не толь-ко карту с обозначением мест мониторинга, но и нарисовав линии,соединяющие эти места с Москвой, а затем с Бостоном, Лондономи другими зарубежными столицами. Почему и зачем – не знаю, новыглядело это привлекательно, особенно для зарубежных доноров.Зато все это выглядело устрашающе для российских спецслужб:тогдашняя новинка – электронная почта – вдруг стала каналом сво-бодного сбора и передачи информации по таким достаточно чув-ствительным проблемам жизни государства, как этнические проб-лемы и конфликты. К чести ФСБ, никаких прямых воздействий наруководство СЭМ никогда не было.
Вопросы потока информации и ее использования действитель-но были существенными в деятельности проекта. Первоначальноне было ясно, кому и зачем? Главный и сохраняющийся принципбыл – информация Сети является открытой и доступной для всех,для кого она представляет интерес в научном и общественно-поли-тическом плане. Но этого было недостаточно. Моя позиция заклю-чалась в том, что приоритетными получателями должны бытьфедеральные и региональные органы государственной власти иэкспертное сообщество России, которые отчаянно нуждались в по-вышении компетенции по вопросам управления многоэтничнымиобществами в новых общественных условиях. В последнем я имелвозможность убедиться, работая в должности министра и предсе-дателя Комитета по делам национальностей в правительстве ЕгораГайдара в 1992 г. У американских партнеров была заинтересован-ность выстроить прямые связи с регионами без приоритетной ролиМосквы и сделать информацию доступной для американского на-
131
учного сообщества. Представители Грузии и Эстонии были готовыработать напрямую с Гарвардом, но не с Москвой, что, в конечномитоге, привело к выходу этих участников из СЭМ.
Попытка наших американских партнеров наладить выпуск бюл-летеня на английском языке оказалась достаточно сложной по при-чине трудностей адаптации материалов для западной аудитории ивысокой стоимости переводов. С организацией сайта в Интернетеи с окончанием гранта Карнеги, который шел через американскогопартнера, вопрос об англоязычном издании отпал. Москва отстоя-ла свое приоритетное место быть центром деятельности СЭМ, по-лучателем и распространителем информации, и это право уже дав-но никем не оспаривается. Были сняты с обложки и пугающие со-единительные линии, но отрицательное отношение российскихспецслужб к деятельности СЭМ сохранялось. Может быть, эта теньсохраняется до сих пор среди части наиболее ретивых «охранни-ков» российской государственности и противников «западных гран-тов». В утешение остается одна нечаянно брошенная Брюсом Ал-лином фраза о том, что ему хотелось бы работать в Государствен-ном департаменте США, но туда его не возьмут, потому что «слиш-ком много общался с советскими». Оказывается, открытость и ох-ранительность трудно уживаются друг с другом не только в Рос-сии, но и в США.
Но были и позитивные, вознаграждающие моменты в отноше-нии работы СЭМ со стороны внешнего окружения. За годы работыСЭМ почти полторы сотни адресатов, включая высших должност-ных лиц России, депутатов Госдумы и Совета Федерации, пред-ставительства российских республик и посольства стран СНГ, ве-дущие исследовательские институты и центры, библиотеки полу-чали регулярно бюллетени Сети, ежегодные доклады и специаль-ные публикации. Наши запросы в конце года о желании иметь этуинформацию и дальше почти всегда получали только положитель-ный ответ. Как сказал мне один из депутатов Госдумы, «у меня вкабинете образовалась целая полка ваших материалов, и она у менясамая востребованная». Наш мониторинг по Приволжскому феде-ральному округу нашел поддержку в Администрации ПрезидентаРФ, и было рекомендовано использовать этот опыт в других окру-гах. Материалы СЭМ в Интернете активно используются тысяча-ми ученых-специалистов прежде всего в России и в других стра-нах. Важно, что сами участники Сети активно читают материалы
129
произошли интересные изменения. Сеть никогда не имела щедрыхфинансовых ресурсов. На первых порах у меня были сложные дис-куссии с американскими коллегами по вопросу распределения гран-та Карнеги. Нужно отдать должное Брюсу Аллину и Артуру Мар-тиросяну (он заменил Аллина в качестве координатора проекта состороны Группы по урегулированию конфликтов): они были ско-рее моими младшими партнерами, а не зарубежными менторами,старались выделить максимальные ресурсы для российской сторо-ны часто в ущерб собственным материальным интересам. В на-чальный период работы СЭМ материальная поддержка имела су-щественное значение для малооплачиваемых научных работниковРоссии и других стран бывшего СССР. Этот интерес остается и се-годня, но о том, что он не стал главным, говорит тот факт, что почтидва года после окончания гранта Карнеги СЭМ работала в авто-номном режиме без оплаты участников, особенно из других странбывшего СССР. Последние три года положение несколько улучшилгрант Фонда Маккартуров, притом, что основная поддержка про-екта и его руководство всегда осуществлялись со стороны Россий-ской академии наук прежде всего в моем лице и в лице сотрудниковмосковского офиса, которые состояли исключительно из научныхсотрудников Института этнологии и антропологии РАН, которыйбыл получен уже без американских партнеров и именно на обеспе-чение основной деятельности Сети. Все разговоры о политическойзаданности зарубежных грантов к деятельности СЭМ не имеют от-ношения: за все время вся идеология Сети и все направления еедеятельности, а также использование результатов определялись рос-сийской стороной, т.е. руководством Сети, прежде всего, в моемлице. Для меня в этом вопросе всегда была и остается более важ-ной дилемма справедливого распределения получаемых ресурсовсреди участников СЭМ. Но в последнее время через СЭМ многиеустановили собственные полезные контакты и нашли дополнитель-ные ресурсы. Проект ТАСИС даст возможность в течение года обес-печить всех участников современной компьютерной техникой. Чтождет СЭМ после окончания гранта Маккартуров в плане финан-сового обеспечения ее деятельности, сейчас сказать трудно. Воз-можно, давно следовало подумать о более целенаправленных уси-лиях в плане фандрейзерства или о создании более постоянной ма-териальной основы организации. Но, видимо, этот вопрос будетрешать новое руководство, которое придет мне на смену. Не ис-
132
друг друга и идет обогащающий обмен информацией, методами истилем анализа.
Ныне СЭМ не может претендовать на роль единственной орга-низации или сообщества, осуществляющего этнологический мони-торинг. Во-первых, все эти годы состояние межэтнических отно-шений регулярно исследовали этносоциологи, накопившие богатуюбазу опросов и усовершенствовав их методику в пользу более тон-ких, рефлексивных подходов и объяснений. Во-вторых, мониторингведут некоторые государственные информационно-экспертныеслужбы. Необходимо искать новые подходы и новые формы дея-тельности, чтобы сохранять приоритетные позиции.
Есть ли у Сети будущее?
Вопрос не простой, ибо иногда мне кажется, что среди участ-ников наступает некоторая усталость и появляется элемент шаб-лонности анализа, чего хотелось бы избежать. Но самое главное –это необходимость перехода в сторону более активной позициипо вопросам, которые требуют срочной реакции и даже обще-ственного вмешательства. Видимо, пришло время вернуться кпервоначально заявленной цели Сети осуществлять превентив-ные и миротворческие акции, если эксперты ощущают тревож-ные тенденции или конкретные проявления нетерпимых и дажеопасных ситуаций. Так, например, явно отмечаемая экспертамитенденция роста ксенофобии и антимиграционных настроений вроссийском обществе, а также конкретная политика в этой сферев ряде регионов могла бы стать поводом для формулирования состороны Сети в целом какой-то более четкой позиции в формепубличных заявлений или конкретных рекомендаций, чего до сихпор не делалось.
СЭМ может дать возможность выразить те или иные озабочен-ности и позиции общественных организаций, занимающихся иливовлеченных конкретно в проблемы межэтнических отношений илив религиозную проблематику. «Живые голоса» с мест, документаль-ные свидетельства передают местную специфику порою не хужеэкспертных наблюдений. Но вместе с этим было бы полезно вклю-чать в тематику анализа информацию о мировом опыте, как нега-тивном, так и позитивном. Вообще информация о так называемых«лучших практиках» не менее важна и интересна, чем информация
128
некомплиментарной информации о положении в той или иной рес-публике или стране. Особенно это касалось освещения конфликт-ных ситуаций или националистических безобразий в сфере поли-тики. Не все и не всегда смогли быть объективными и твердыми всвоих позициях, ибо можно было получить взбучку от местногопрезидента или поплатиться работой. Чаще всего использовался за-пугивающий аргумент-обвинение в «продажной работе за иност-ранные гранты». Все это было и, возможно, не все из этого мнеизвестно. Но большинство справилось с этой ситуацией, имея мо-ральную поддержку от Сети в целом. Главное – выполненные завсе время работы СЭМ тысячи(!) страниц анализа не содержалиглупостей, провокаций, грубых ошибок и неэтических оценок. Ма-териал бюллетеней, ежегодных докладов и других публикаций ра-зошелся по страницам многих книг и диссертаций, был использованполитиками и общественными деятелями, учеными и аналитикамиРоссии и других стран. Это, наверное, главное, что научились де-лать и сделали эксперты СЭМ.
В организации много разных людей: блестяще талантливых,упорных и вдумчивых, наивно-романтичных, думающих и пишу-щих без особых претензий, потрясающе работоспособных, лени-вых и даже небрежных. Повторяю, никакого особого отбора на спо-собности или на политико-идеологические ориентации никто в Сетине проходил. Я знаю интеллектуально более интересные сообще-ства и группы, но такой, как СЭМ, нет: это сообщество достаточнопростых и неамбициозных людей, которым сама их организация иобщая работа добавляют многое в жизни, а все они вместе делаюторганизацию. Отсутствие снобизма и завышенных оценок, простойи демократичный стиль общения делают СЭМ легким местом дляинтеграции новичков. Случаи трудного вживания или отторжениямне неизвестны, хотя из Сети выбыло достаточно много людей, нопо другим причинам. Поэтому я надеюсь, что в самое ближайшеевремя мы сможем расширить географию нашей Сети и добавитьновых членов, особенно из многоэтничных регионов Поволжья иСеверного Кавказа, где хотелось бы создать автономно работаю-щие региональные отделения СЭМ в рамках начатого крупного про-екта ТАСИС «Внедрение толерантности и улучшение межэтничес-ких отношений в России».
Было бы неправильным обойти вопрос о материальных ресур-сах СЭМ и материальном интересе ее участников. Именно здесь
133
сугубо проблемного характера. В России и в других странах СНГесть такой опыт, и о нем следует знать.
СЭМ может осуществлять целенаправленные акции мониторин-га по важнейшим проблемам и акциям, как, например, это имеломесто с переписью населения в России в октябре 2002 г. Этотмасштабный проект в сотрудничестве с зарубежными коллегамиеще не завершен, но его итогом уже стала вышедшая в свет книгадокладов по 20 российским регионам, в которых освещается дина-мика этнодемографических и миграционных процессов в периодмежду двумя переписями и дебаты накануне переписи4. Подготов-лен второй том «Этнография переписи», в котором публикуютсяотчеты о ходе самой переписи в регионах Российской Федерации,где работали наблюдатели Сети и зарубежные партнеры. Еще ра-нее СЭМ выполнила обзорное исследование по проблеме местногосамоуправления в многоэтничных сообществах, которое было пе-реведено на английский язык и получило высокую оценку между-народных специалистов5.
Самое сложное – это как усовершенствовать сам анализ и сде-лать его действительно точным, глубоким и прогностическим. СЭМможет и должна получать новое знание-информацию эксклюзив-ного характера, которое не повторяет СМИ или обычное на-блюдение, которое «и так всем известно». Можно ли соединитьнарратив с количественным анализом, который ныне легко делатьс помощью современной компьютерной техники? Как соединитьразрозненные по регионам анализы в более общую картину и в нейвыявить какие-то значимые тенденции? Причем делать это не одинраз в год в ежегодном докладе, а на более регулярной основе.В мире существует много достаточно изощренных методик, и СЭМпредстоит существенно обновить свой металогический арсенал.
С точки зрения эффективности и восприятия анализа теми, ктопринимает решения, важно научиться точному и краткому языку,ибо политику часто нет времени читать толстые книги или «вы-уживать» из заумных текстов значимые для современной практикиидеи и рекомендации. Практика кратких докладов-резюме до сихпор не использовалась в Сети, если не считать итоговый доклад попроекту юнесковской программы МОСТ, который содержит обоб-щенный анализ этнополитической динамики за 2000–2002 гг.6.
Наконец, как сохранить интерес действующих участников СЭМи привлечь новых способных аналитиков к ее работе, особенно в
127
осетина Александра Дзадзиева, русского Сергея Попова и других,столь внешне разных, но веселых и дружных молодых людей, одининостранец спросил другого: «Неужели это все русские? Откудаони все взялись?».
Аспирантка моего давнего друга, крупного американского пси-холога Майкла Кола исследовала работу Сети на раннем этапе ееразвития и по этому материалу защитила диссертацию в областисоциальной психологии и массовых коммуникаций. Кирстен Футопределила Сеть как «уникальное эпистемологическое сообще-ство», т.е. сообщество, объединенное познанием3. Скоро выйдет еекнига о Сети этнологического мониторинга. Почитаем и поразмыс-лим. Хотя мне кажется, что самое важное в жизни этого сообще-ства произошло уже после выполненного исследования.
Ресурсы и материальный интерес
Главный ресурс СЭМ – это ее участники. У руководства орга-низацией (с 1998 г. исполнительным директором вместо М.Я. Ус-тиновой стала Е.И. Филиппова) никогда не было четко определен-ной процедуры отбора людей в Сеть или их исключения. Сначалаискали и приглашали тех, кто был чем-то известен, особенно черезсвои связи с Институтом этнологии, по личным контактам или порекомендации других коллег. Затем появились инициативные люди,желающие работать в Сети. Почти всегда была одна рекомендация:начинать писать через электронную почту, ждать публикаций вбюллетене и приглашения на ежегодный семинар. Все, чьи матери-алы будут опубликованы хотя бы в половине из шести выпусковбюллетеней, поедут на семинар. Не всем удавалось справиться состоль простым условием, но для большинства это становилось всеболее знакомым и все более интересным.
Не следует думать, что писать о положении в своем регионе такпросто для местного эксперта. Даже самый простой анализ про-изошедшего в течение двух месяцев, не говоря уже о более серьез-ном исследовании, требует не только интеллектуальных усилий, нои определенной гражданской позиции именно независимого экс-перта. В Сети было достаточно неудовлетворительных материалов:или пропаганда местного национализма, или верноподданническиетексты в адрес местного руководства. Многие, если не большинство,испытывали разного рода давления и даже угрозы по поводу часто
134
тех регионах, где пока нет представителей Сети? Все эти вопросыбудут обсуждаться сообща на юбилейном ежегодном семинаре воктябре 2003 г. Старая дружба и новые идеи позволят сохранитьэто уникальное сообщество.
Примечания:1 Разрешение конфликтов: пособие по обучению методам анализа и разрешенияконфликтов / ред. русского издания М. Устинова и А. Матвеева. М., 1997.
2 Смит, Д. Причины возникновения и тенденции распространения вооруженныхконфликтов//Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государ-ствах: ежегодный доклад, 2000. С. 20–34.
3 Foot Kirs ten. Writing Conflicts: An Activity Analysis of the Development of the Network for Ethnological Monitoring and Early Warning. University of California, SanDiego, 1999 (Doctor Philosophy).
4 На пути к переписи / под ред. Валерия Тишкова. М.: Авиаиздат, 2003.5 Местное самоуправление в многоэтничных сообществах стран СНГ / под ред.Валерия Тишкова и Елены Филипповой. М.: Авиаиздат, 2001.
6 Степанов, В.В. Этничность, конфликт и согласие: итоговый отчет по программеМОСТ / В.В. Степанов и В.А. Тишков. М., 2003.
126
Что делает Сеть единым и эффективнымколлективом?
В начальные годы, когда формировалась СЭМ, определялисьее состав и содержание деятельности, трудно было сказать, как долгои сколь вознаграждающим будет этот проект. Однако с самого на-чала появился некий трудно определяемый компонент проекта –это человеческий климат внутри самого сообщества, которое былопредставлено людьми самых разных национальностей (сейчас вСЭМ работают эксперты 30 национальностей). Какие-то факторыболее существенного порядка, чем материальный интерес, объеди-няют и держат этот коллектив вместе. Мне даже трудно назвать,какой из них главный: профессиональный интерес к этнической иконфликтологической тематике (за эти годы более 10 человек за-щитили кандидатские и докторские диссертации в этой области,большинство опубликовали научные труды); чувство гражданскойсопричастности к насущной проблеме преодоления насилия и стра-даний со стороны жертв конфликтов (некоторые участники СЭМживут в зонах открытых конфликтов, а некоторые, как, например,Муса Юсупов, понесли большие личные утраты); возможность об-щаться друг с другом и с большим внешним миром (для многихучастников ежегодный семинар – это единственная поездка за ру-беж в новую страну) или что-то еще.
А может быть, все бывшие советские граждане, а ныне – росси-яне, и несколько граждан других новых государств интересны другдругу возможностью общения без разделяющих государственныхи этнических границ? Ведь за десять лет существования СЭМ небыло ни одного случая, чтобы кто-то ощутил какое-то неудобствопо поводу своей национальной принадлежности, не говоря уже оболее серьезных проблемах общения. Для меня лично СЭМ – этосвоего рода микрокосмос сложных этнических сообществ, поисти-не гармоничный и взаимообогащающий. Никогда не забуду сценку,которую подсмотрел в ресторане кипрской гостиницы, когда послевечернего ужина большая группа участников дружно и великолеп-но танцевала греческий танец сиртаки под изумленные взгляды чо-порных западных (главным образом – отдыхающих на Кипре анг-личан). Разглядывая среди танцующих калмычку Эльзу Гучинову,тувинку Зою Анайбан, узбечку Мавлюду Хакимову, латышку МаруУстинову, балкарку Светлану Аккиеву, лезгина Энвера Кисриева,
135
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕВ СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*
1. Общее и особенное в восприятии культуры
Что есть «культурное многообразие» (cultural diversity), стольчасто упоминаемое в мировой науке и в политике? Существуют лиязыковые или просто смысловые аналоги этого понятия в русскомязыке? Наконец, как схожие или разные смыслы порождают и раз-ные политические практики, включая правовые нормы и системугосударственного управления. Ибо главное заключается не в са-мом факте наличия культурно-сложного населения, совмест-ного проживания и взаимодействия людей с культурно-отли-чительными характеристиками, а в том, какой смысл то илииное общество придает культурным (этническим, языковым,религиозным, расовым) различиям, как и в каких целях этиразличия используются. И с этой точки зрения, Россия действи-тельно имеет разительное отличие от преобладающего на Западе ив остальном мире опыта. Сходный с Россией опыт имеют толькостраны бывшего СССР и, отчасти, восточноевропейские страны.По выражению американского историка Т. Мартина, СССР пред-ставлял собою «империю аффирмативных акций» – государство, вкотором был осуществлен уникальный эксперимент масштабногоспонсирования этничности, начиная от научных разработок иэтнического картографирования, системы переписного и докумен-тального учета и вплоть до системы государственного устройстваи официальной идеологии «дружбы народов»1.
Полагать, что российская «многонациональность» есть неист-ребимый результат длительной эволюции, что принадлежность кэтносу дает человеку «его культуру» и что на фундаменте этого эк-сперимента можно утверждать многокультурность и толерантность,_____________* Этнопанорама. 2004. №3–4. С. 2–9 (Статья опубликована в журнале «Этнографи-ческое обозрение». №1. 2005. Печатается с разрешения редакции).
125
(13.09.94), а затем вышел отдельной брошюрой в Оренбурге поинициативе эксперта Сети Веналия Амелина. К сожалению, этот бо-гатый по содержанию документ не вошел в повседневное обраще-ние российских политиков и экспертов, но само название документав русском переводе как «Управление этническим конфликтом»послужило поводом для некоторых активистов вести речь о нали-чии якобы некой теории и политики «управляемого конфликта».
В последние годы задача внешнего обучения отошла на второйплан, но сохранился приоритет повышения компетенции самих уча-стников СЭМ в области современного знания об этничности иконфликтах. Этот обучающий компонент реализуется в двух фор-мах: через приглашение специалистов на ежегодные семинары ичерез прямое ознакомление с конфликтными ситуациями в другихрегионах мира. Уже на первом семинаре в Голицыне директорМеждународного института мира в Осло Дэн Смит читал лекцию ивел семинар по теме современных этнических конфликтов. На се-минаре 1995 г. в Лондондерри (Северная Ирландия) английские спе-циалисты из организации INCORE (Международная сеть по сотруд-ничеству и этническим исследованиям) дали глубокий анализ кон-фликта в Ольстере. И так на всех семинарах местные ведущие экс-перты делились своим видением и опытом прикладного научногоанализа и активного миротворчества. Однако ничто не могло заме-нить прямого знакомства членов СЭМ с другими странами и реги-онами, где имеются схожие ситуации, совершаются схожие траге-дии и предпринимаются схожие усилия по разрешению конфлик-тов. Разделенный «зеленой линией» Кипр, когда на турецкую частьострова патруль не пустил участника семинара с армянским пас-портом. Превращенные в агитплакаты в пользу Ирландской рево-люционной армии стены домов в Ольстере. Прогремевший в аэро-порту Коломбо взрыв незадолго до нашего приезда в Шри Ланку иубийство тамильскими террористами вскоре после нашего отъездаумеренного по своим взглядам тамильского деятеля Нилана Тури-чильвана, организовавшего наш прием в Шри Ланке. Замазанныепо всему острову дорожные указатели и другие надписи на фран-цузском языке на Корсике. Все эти наблюдения и впечатления иг-рали не менее важную роль для участников СЭМ, чем печатныетруды и прослушанные лекции специалистов. Едва ли есть еще та-кой коллектив экспертов, который получил за годы своей деятель-ности столь обширные знания о конфликтах в мире.
136
является, на наш взгляд, заблуждением. При внешне обновленчес-кой увлеченности многокультурностью части российского научно-образовательного сообщества многое опять сводится к тривиаль-ному «многонациональное» и к «теории этноса»: «в нашей респуб-лике (крае, области, городе) проживает более ста наций», «в нашейшколе учатся и взаимодействуют десятки этносов», «у нас дети раз-ных культур познают друг друга», «представители некореннойнациональности должны интегрироваться» – эти и подобные сен-тенции постоянно присутствуют в языке ученых и педагогов. Ог-раниченный научный багаж и уже сложившаяся ментальностьне позволяют отечественным экспертам и практикам предста-вить себе россиян как людей одной культуры и как сообществопо общей идентичности, а не как заключенное в общие грани-цы собрание носителей одинаковых паспортов.
Культурное многообразие состоит не только в том, чтобы тща-тельным разглядыванием и «народоведческим» натаскиванием со-здавать из доступного социального материала и этнографическихнаработок номенклатуру разных культур и составлять по школь-ным классам, вузам, поселкам, республикам и всей стране спи-сочный реестр четко себя осознающих носителей трудно опреде-ляемой «национальной самобытности». Культурное многообразиесостоит не только в том, что носителям «больших» и «малых» куль-тур воздается равное должное и предоставляется «культурная сво-бода», чтобы с помощью государства, его бюджета и законов, учи-телей, этнологов, психологов все разнокультурные граждане могливести между собой «межкультурный диалог». Сердцевиной поня-тия «культурное многообразие» является признание многооб-разных форм самих культурных общностей (не только русскойили аварской, но и российской и дагестанской), признание и спон-сирование не только различий, но и схожести, одинаковости, кото-рые чаще всего преобладают над различиями, по крайней мере, врамках одной национальной (не этнической!) культуры, каковойявляется российская культура. Сердцевиной культурного много-образия является признание культурной сложности на уровнеотдельного человека, а не только группы.
К сожалению, отечественный научный, политический и управ-ленческий арсеналы понимания и воздействия не предполагают, чтотакое возможно и что такое есть норма, а не аномалия. Именно по-этому «культурная свобода» в России мыслится почти исключитель-
124
особенно специальные службы, могут и осуществляют свой соб-ственный анализ и докладывают ситуацию соответствующим ин-станциям, мониторинг в рамках СЭМ имеет независимый харак-тер, и важно иметь его результаты для принятия эффективных ре-шений в сфере государственного управления.
Сейчас федеральные власти наладили систему этноконфессио-нального мониторинга, используя данные СЭМ как один из источ-ников. Полугодовые доклады президенту В.В. Путину носят зак-рытый характер, и я не читал ни одного из них, но в целом такаясистема кажется мне оптимальной.
Обучение для общества и для Сети
Первые годы СЭМ уделяла особое внимание осуществлениютренинга в области конфликтологии, подготовке специалистов поразрешению конфликтов и осуществлению миротворческой деятель-ности. Совместно с Международной тревогой были проведены двасеминара для участников Сети и для приглашенных активистов идаже государственных служащих. Совместно с Бергховским цент-ром по конструктивному разрешению конфликтов (Германия) былипроведены два семинара по подготовке миротворцев. Под редакци-ей М.Я. Устиновой было осуществлено русское издание докумен-тов о международных усилиях по предотвращению напряженнос-ти и улучшению межэтнических отношений в странах Балтии. На-конец, было подготовлено специальное пособие для журналистов,работающих в зоне этнических конфликтов или пишущих на этни-ческую тематику. СЭМ издала русский перевод книги-пособия пообучению методам анализа и разрешения конфликтов, который былподготовлен Международной тревогой. Важным для выработкиоценки и рекомендаций по проблеме этнического конфликта быломое участие в работе международной команды ведущих экспертовдля выработки програмного документа, который получил название«Меморандум Кона» по названию гавайского острова Кона, где вноябре 1993 г. прошла эта рабочая встреча, организованная Проек-том по этническим отношениям (PER.). Этот проект, аналогичныйнашему проекту, был запущен в 1991 г. под руководством амери-канцев Алана Кассофа и Ливии Плакс для стран Восточной Евро-пы и при поддержке той же Корпорации Карнеги Нью-Йорка. Текст«Меморандум Кона» был опубликован в «Независимой газете»
137
но как «национальное самоопределение» (русское, осетинское, та-тарское и прочие), как право и обязанность быть в группе (вспом-ним переписной лозунг в Татарстане: «Запишись татарином!»), какправо на «свои» территорию, государственность, язык, как правона мирное и свободное общение с «другими» или же на силовуюзащиту от «других». Понятие культурной свободы в России не вклю-чает право на культурную сложность и на принадлежность к слож-ной культуре (например, российской или дагестанской), право наодновременную принадлежность к нескольким культурам, в томчисле и к сложным (российской и дагестанской одновременно, по-мимо аварской или даргинской), право на выход или на пребыва-ние вне культуры. Культурная свобода российскими учеными и по-литиками рассматривается как право обязательно быть в опреде-ленной группе по кровному или моральному обязательству или же,в лучшем случае, по свободному выбору человека. На самом делекультурная свобода не в меньшей мере определяется правом выхо-да из группы или правом пребывать вне группы.
Почему в нашей стране не является нормативно достаточнойдля того или иного человека сложная по своему содержанию, ноцельная российская культура преимущественно на основе русско-го языка, который совсем не является исключительной собственно-стью только этнических русских? Как можно поворотом каких-томентальных винтиков убедить отечественных экспертов и управлен-цев, что российская культура цельна и многообразна как по своимкорням (от византийско-славянских традиций до тюркско-кавказ-ского культурного арсенала), так и по содержательному набору (об-щие версия истории, жизненные ценности и установки, общераз-деляемые высокая культура и масскультурный арсенал, общие куль-турные герои и символы)? Ответить внятно на эти вопросы по-строенный на этнонационализме и на схоластике этноса российс-кий общественно-политический дискурс фактически неспособен.Но искать эти ответы необходимо, как и необходима политика при-знания сложнокультурной общности россиян. Именно сложная (гиб-ридная) культурная целостность, «негомогенное целое» (выраже-ние М.М. Бахтина), а не абстракция «межнациональных отноше-ний» и даже не «многокультурность» заслуживают настоящеговнимания научных экспертов и общественных управленцев.
Недавно изданный Доклад ООН о человеческом развитии за2004 г. посвящен именно теме «Культурная свобода в современном
123
жестком режиме отслеживания факторов, но со временем эти ори-ентиры стали все более значимыми для авторов анализа.
Модель была заимствована частью или целиком другими ана-литическими группами и структурами, включая государственнуюслужбу мониторинга, налаженную при министре В.Ю. Зорине. На-чатая по его инициативе более регулярная работа Сети в При-волжском федеральном округе (двухнедельные бюллетени) с охва-том фактически всех 15 субъектов Федерации была с интересомпринята в администрации Президента РФ и рекомендована для ис-пользования в других федеральных округах. Программа МОСТ(Управление общественными процессами), которая является основ-ной обществоведческой программой ЮНЕСКО, также высоко оце-нила проект «Конфликт и согласие в многоэтничных государствах»,который был выполнен Сетью в 1995–2001 гт. и результатом кото-рого стало издание 19 небольших книг, представляющих собой пол-ное описание региона или страны по всему набору факторов моде-ли мониторинга. Мною с В.В. Степановым был подготовлен итого-вый отчет, представленный на заседании Межправительственногосовета программы МОСТ в феврале 2003 г. в Париже. Итоговаякнига по проекту пока не опубликована.
Каково сегодня мое отношение к мониторингу и к тому, как егоосуществляет СЭМ? Конечно, это существенный организующий ин-струмент более адекватного восприятия, происходящего в сферемежэтнических отношений и в многоэтничных сообществах в це-лом. Может ли мониторинг служить неким семафором и кардио-графом, причем всегда безошибочным (извечная мечта политикови управленцев), этого ожидать не стоит, ибо жизнь богаче всякихсхем, а динамика этнической ситуации может складываться под воз-действием даже самых случайных, непредвиденных и иррациональ-ных факторов. Приведу только один пример. Сравнительный ана-лиз экспертных оценок, сделанный В.В. Степановым, показал, чтов 2000–2002 гг. одним из самых стабильных регионов России былДагестан, а обусловлено это было, прежде всего, воздействием во-оруженного вторжения боевиков из Чечни и небывалой консолида-цией общества по отпору этой внешней для республики угрозы.Все другие факторы никакой позитивной динамики не имели.И все же, повторяю, мониторинг полезен и необходим, ибо без негоесть некая смутность картины, особенно в масштабе страны и круп-ного региона. Несмотря на то, что государственные органы власти,
138
мире», и в ответах на фундаментальные вопросы эта важная публи-кация оказывается нашим союзником2. Приведем только некото-рые из его ключевых положений обзорной части доклада.
Культурная свобода является важнейшей составляющей чело-веческого развития, потому что для полноценной жизни индивидуабсолютно необходимо определить свою идентичность (с. 1).
Чувство самобытности и принадлежности к группе, разделяю-щей общие ценности, имеет огромное значение для индивида. Од-нако каждый человек может отождествлять себя со многими раз-личными группами (с. 3).
Теории культурного детерминизма заслуживают критическойоценки, поскольку их применение ведет к опасным политическимпоследствиям и может стать источником как внутренней, так и меж-государственной напряженности (с. 5).
Чтобы стать полноценными членами обществ, построенных намногообразии, и воспринять всемирные ценности терпимости иуважения к всеобщим правам человека, индивиды должны выйтииз жестких рамок той или иной идентичности (с. 12).
И, наконец, Нобелевский лауреат в области экономики АмартияСен в качестве главного консультанта первой главы Доклада пишетследующее: «Вместо того, чтобы восхвалять бездумную привер-женность традициям или пугать мир мнимой неотвратимостью стол-кновения цивилизаций, концепция человеческого развития требуетуделить внимание роли свободы в культурных (и иных) сферах ипутям защиты и расширения культурных свобод. При этом важней-шим вопросом становится даже не роль традиционной культуры, авсевозрастающее значение культурных альтернатив и свобод»3.
Я отношусь скептически к высказываниям нобелевских лауре-атов не по профилю их занятий, но в данном случае А. Сен прав:призывы к культурному многообразию на том основании, что оноисторически задано тому или иному обществу, что оно унаследова-но различными группами людей, а ее представители еще в до-школьном возрасте «открывают» в себе самобытность, на самом деледалеки от признания культурной свободы. Опять же авторы докладаправы, когда пишут: «Рождение в конкретной культурной среде неявляется реализацией свободы, – скорее, наоборот. Актом куль-турной свободы оно становится только тогда, когда индивид осоз-нанно решает продолжать вести образ жизни, свойственный дан-ной культуре, и принимает такое решение при наличии других
122
ми в том или ином сообществе акторами (экспертами, обществен-ными лидерами, средствами массовой информации, представите-лями сферы образования, бизнеса и другими). Знать и пониматькультурно сложное общество и природу этнических явлений также важно, как знать и понимать, как действует экономика или ка-кова природа социальных явлений.
Изначально нам было чуждо утилитарное понимание этноло-гического мониторинга только как «прогнозиста» или как активно-го миротворца, хотя эти функции никогда не исключались. Некото-рые анализы и действия участников СЭМ по-настоящему способ-ствовали предотвращению конфликтов, но ирония в том, что пре-дотвращенный на ранней стадии конфликт трудно зачислить в ак-тив прикладного аналитика: кажется, что так оно и должно былобыть. Что же касается активного вмешательства в разрешение кон-фликта, то это слишком специфическая сфера, требующая особыхресурсов и полномочий, а также специальной подготовки. Именнопо этим причинам мониторинг может представляться занятием,отвлеченным от задач, которые могут повседневно решать полити-ки, но он абсолютно необходим как база информации и как основаквалифицированного принятия решений.
Форма мониторинга возможна в двух основных вариантах:а) количественный анализ по набору показателей (факторов или пе-ременных) с компьютерной обработкой для выявления тенденцийи их динамики, взаимосвязей и роли различных факторов; б) каче-ственный нарратив, предполагающий сбор, отбор и анализ матери-ала экспертом. По своей сути это деление условно, ибо добротныйколичественный анализ содержит качественные моменты, а нар-ратив может быть поверхностным описанием или фактографическойсводкой и быть низкого качества. На ежегодном семинаре на Кипрев 1994 г. мною была предложена модель этнологического монито-ринга, состоящая из 46 факторов по семи категориям (среда и ре-сурсы, демография и миграции, власть и политика, экономика и со-циальная сфера, культура и образование, контакты и стереотипы,внешние условия). Она была предложена как ориентир привыполнении регулярного анализа и как схема, по которой должныбыли быть подготовлены модельные описания регионов. ПозднееВ.В. Степанов ввел также ежегодный опрос экспертов по факторами категориям для замера динамики ситуаций в разных регионах Рос-сии и роли каждой категории факторов. Сеть никогда не работала в
139
альтернатив»4. Кстати, худший вид нетерпимости, который мне при-ходилось наблюдать, это было прямое или косвенное принуждениеиндивида жить таким же образом, что и другие члены общества.В сравнительно малых и актуализированных этнических сообще-ствах такая ситуация чаще всего оборачивалась личными драмамии поколенческими конфликтами.
2. Как лучше понимать культурное многообразие
Под словами «культурное многообразие» я имею в виду не уз-кое значение слова «культура» как художественное творчество илинародно-бытовая традиция, а как создаваемые индивидом и челове-ческими коллективами и осознаваемые ими различия в социальнойжизни. Эти различия отражаются в материальной и духовной куль-туре – от систем жизнеобеспечения (хозяйство, пища, одежда, жи-лище) и коммуникации (язык) до социальной организации, пове-денческих норм и религиозных представлений. Суммарно эти куль-турные различия группируются по формам идентификации (со-отнесения) людей с той или иной «большой категорией» челове-ческой (культурной) отличительности. Эти категории не родилисьсами по себе, как полагают так называемые примордиалисты (илиэссенциалисты) – ученые и практики, верящие в существование та-ких архетипических человеческих коллективов, как этнос или раса,которые наука призвана познавать и проблемами которых политикидолжны заниматься.
Современное знание все больше приходит к выводу, что самипо себе культурные различия и основанные на них групповые коа-лиции людей есть исторически подвижные понятия, их содержа-ние и смысл постоянно меняются и имеют большое географичес-кое/региональное многообразие. Но самое важное – их существова-ние само по себе есть результат целенаправленных усилий со сторо-ны активистов социального пространства: элит, управленцев и уче-ных, результат так называемого социального конструирования. То,что называется, воспринимается и изучается как группа (на-род, нация, меньшинство, раса, диаспора и т.п.)», на самом делепредставляет собой не реально существующее коллективноетело со своим «самосознанием», «характером», «волей», «судь-бой», а человеческие отношения (социальные, политические,эмоциональные) по поводу этих воображаемых коалиций5.
121
начального состава сегодня в Сети осталось только несколько че-ловек (Александр Дзадзиев из Северной Осетии, Энвер Кисриев изДагестана, Евгений Клементьев из Карелии, Александр Танас изМолдовы).
Эволюция целей и приоритетов
Начальные цели проекта были сформулированы как следующие:– Аналитические и прикладные исследования в области этнич-
ности, национализма и этнических конфликтов;– Создание в постсоветских государствах сети специалистов,
прошедших подготовку и способных возглавлять учебные програм-мы, участвовать в работе по примирению интересов на местном уров-не и создавать центры по урегулированию этнических конфликтов;
– Разработка программ по обеспечению конструктивной ролисредств массовой информации в этнических конфликтах в бывшемСоветском Союзе и другие.
Не все и не в равной степени эти цели были достигнуты, и самиэти приоритеты со временем подвергались изменению, но остава-лись неизменными несколько базовых направлений и принциповработы Сети, которые сохраняются и по сегодняшний день.
Сначала о целях и направлениях, которые формально изложе-ны в Уставе организации, которая была зарегистрирована в Мин-юсте России только в 1999 г. как «Региональная общественная орга-низация». Однако для меня изначально СЭМ представляет нечтобольшее, чем просто перечень задач. Во-первых, это понятие этно-логического мониторинга, которое родилось как-то само по себе,но суть которого заключается в том, чтобы научиться и осуществ-лять постоянный и регулярный анализ процессов в области меж-этнических отношений и ситуации в регионах и странах с этничес-ки сложным составом населения. Это не просто этнологическое илиполитологическое исследование, а научно-прикладной анализ, ко-торый может быть использован общественными силами, органамивласти и управления для обеспечения наиболее эффективного прав-ления (governance), предотвращения или разрешения конфликтов.Мониторинг понимается мною достаточно широко как получениеадекватного знания о достаточно широком круге проблем и явле-ний, которые определяют общественную динамику, могут и долж-ны использоваться как управленцами, так и другими, действующи-
140
Преодоление ментальности группизма на основе культурных ка-тегорий представляет собой, возможно, самую трудную задачу длясовременной науки и политики, а для российской практики это во-обще трудно воображаемая перспектива. В отечественном обще-ствознании до сих господствует теоретико-методологический под-ход, основанный на видении культурного многообразия как почтиисключительно многообразия групп с их пережитыми «историчес-кими несправедливостями», фундаментальными потребностями,интересами, правами и т.п. В западной социологии и политологииэтот подход также разделяется некоторыми авторами, включая иавторов вышеупомянутого ооновского доклада. Здесь сказываетсявлияние политической практики регулирования межгрупповых от-ношений и поддержки меньшинств, а также амбициозных проек-тов типа проекта Центра международного развития и управленияконфликтами при Мэрилендском университете, который получилназвание «Меньшинства в состоянии риска»6. На этом далеко несамом современном подходе основаны документы (в частности,Декларация о правах национальных меньшинств) и деятельностьтакой организации, как ОБСЕ, особенно в регионе бывшего СССР.
Из обзора современных политических практик и по результа-там научных исследований вытекает общее представление, что наи-более перспективным для современного мира, в том числе и дляРоссии, является подход, который видит культурное многообразиекак многообразие форм человеческой идентификации, включая су-ществование культурной сложности на уровне индивида и на уров-не коллектива. Другими словами, существуют и должны быть при-знаны наукой и государственной процедурой социокультурная об-щность – российский народ или россияне, чья этническая идентич-ность может определяться в том числе и сложными словами: рус-ский еврей, украинец-русский, татаро-башкирин и т.п. По мнениюнекоторых специалистов, люди такого рода относятся к категорииэтнических маргиналов. На самом деле, это скорее норма для рос-сийского сообщества (не менее трети населения – это потомки сме-шанных браков), а также и для подавляющего большинства другихгражданских сообществ.
Безусловным является и то, что два типа групповой идентично-сти (по культуре и по гражданско-политическому сообществу) так-же сосуществуют и не являются взаимоисключающими, т.е. рус-ский и россиянин, татарин и россиянин, чеченец и россиянин и т.п.
6
141
– это абсолютная норма, как бы не старались этнонационалистыподвергнуть сомнению российскую идентичность, выраженную всамом слове россиянин, как некий уродливый эвфемизм. Кстати,успешное существование и целенаправленное формирование мно-жественных и взаимодополняющих идентичностей в рамках еди-ного государственного сообщества вполне убедительно раскры-вается на примере таких стран, как Испания, Бельгия, Индия имногих других. Именно такая стратегия формирования нации при-знается как наиболее оптимальная и перспективная. Для Россий-ской Федерации она является единственно возможной.
Важно понять, что культурное многообразие и политика много-культурности – это не просто другие слова для замены привычныхотечественных понятий-концептов «многонациональность» и «на-циональная политика» или их более современных языковых вари-антов – «многоэтничность» и «этническая политика». К категориикультурных различий, которые существуют среди человеческихколлективов и которые необходимо учитывать в управлении, отно-сятся и другие, с этничностью жестко не связанные. Основанныена них сообщества также требуют признания и регулирования ихотношений с другими сообществами, как и обеспечение их членамдолжного статуса в обществе и государстве. Такое более широкоепонимание культурного многообразия во многом поможет россий-ским ученым и политикам выйти из тупика научных, правовых иполитических споров по поводу того, является та или иная группа«отдельным народом», «коренным народом» или нет, имеет ли онаправо на отдельную фиксацию в переписи или нет, можно ли ейсоздавать свою национально-культурную автономию или нет, мож-но ли принимать законы и другие правовые акты по поводу группо-вых сообществ, не отвечающих привычным критериям «народа»или «этноса».
Если мы разделяем более широкий и свободный взгляд на то,что есть культурное многообразие, тогда такие формы культурнойидентификации среди россиян, как кряшены (православные тата-ры), поморы (приверженцы историко-региональной традиции), ка-заки (сословно-историческая идентификация), кубачинцы (культур-но отличительное местное сообщество в Дагестане) и многие дру-гие самообозначения среди россиян не будут предметом ожесто-ченных дебатов и причиной обострения отношений между людьмис разной культурной идентификацией, между властью и населением,
160
этот позитив. В середине 90-х гг. все наше внимание было прикова-но к конфликтам в сфере этнокультурного развития, противоречи-ям возрождения религиозной жизни страны. А сегодня – совершеннодругие тенденции. Мы видим высокую степень консолидации рос-сийского общества, позитивные устремления граждан, возрос-шую активность общественных объединений, способствующих эт-ноконфессиональному диалогу.
Это новое позитивное развитие проявляет себя в самых разныхформах. Возьмите краеведческое движение. Многочисленные орга-низации, включая молодежные и детские, участвуют в поисковыхэкспедициях, ведут местные летописи, собирают предметы исчеза-ющего быта, фольклор, открывают сельские музеи. Отдельные эн-тузиасты, и их становится год от года все больше и больше, изуча-ют историю своей «малой Родины». И если раньше все подобныеинициативы исходили от властей или, как минимум, санкциониро-вались ими, то сегодня это делается по велению души тех, комуинтересна история своего края. Еще в 1998 г. на государственномуровне было поддержано туристско-краеведческое движение «Оте-чество», целями которого стали совершенствование организации исодержания обучения и воспитания подрастающего поколения сред-ствами туризма и краеведения; воспитание у школьников патрио-тизма, бережного отношения к природному и культурному насле-дию родного края; приобщение учащихся к краеведческой и поис-ково-исследовательской деятельности; сохранение историческойпамяти; совершенствование нравственного и физического воспи-тания обучающихся. Движение проводит всероссийские кон-ференции, награждает лучших юных исследователей родного края.
Посмотрите на гражданское участие в возрождении храмов. Ещевчера столь широкая поддержка этой бескорыстной работы каза-лась немыслимой, а сегодня – куда ни приедешь – везде люди тру-дятся по воскресеньям как каменщики и подсобные рабочие нареконструкции руин советского времени. Например, еще в 1990 г.по инициативе ректора Московской медицинской академии им.И.М. Сеченова академика Пальцева Московской Патриархии былипереданы здания церквей, находящихся в клиническом городке:Святого Димитрия Прилуцкого и Святого Михаила Архангела. Ака-демия деятельно помогала в восстановлении этих церквей. С нача-ла 1992 г. там уже идут богослужения. В 1997 г. началось возрожде-ние Центрального храма Русской православной церкви в Челябин-
7
142
между центром и регионами. Культурное многообразие России –это не просто номенклатура проживающих на территории стра-ны народов, а многообразные, в том числе множественные имногоуровневые формы идентичности в рамках российскогонарода.
В связи с наличием в России различных форм псевдонаучногои улично-бытового расизма принципиальным является представ-ление о расовых различиях как об одной из форм социокультурно-го (а не биологического) многообразия. В современном общепри-нятом представлении раса – это социально-культурная категория иакадемическая конструкция, т.е. раса как чисто биологическая ре-альность не существует. Зато основанные на биологизаторском пред-ставлении о расе расиалистcкое мышление и расизм как практикаесть самые жесткие реальности. Для России это положение пред-ставляется актуальным, ибо пропаганда замшелых расовых теорийимеет массовое распространение в российском обществе. У расист-ских взглядов имеются сторонники в научной среде и в полити-ческом истеблишменте, не говоря уже о рядовых милиционерах,судьях, преподавателях школ и вузов. Доказывать несостоятельностьрасизма сугубо рациональными аргументами или научными факта-ми необходимо, но этого явно недостаточно. В случаях с расист-скими взглядами и действиями арсенал воздействия должен вклю-чать эмоционально-этические, правовые и другие методы, помиморациональных аргументов научного характера.
В последнее время понятие «культуры» в смысле как синонимслова «народы», а также положения об однородности, целостностии нераздельности этнических культур были во многом пересмотре-ны. Культурные различия больше не воспринимаются как нечтопостоянное и «шокирующе» непохожее (о мифическом «культур-ном шоке» в общении между собой россиян отечественные специ-алисты до сих пор рассуждают с упоением). Отношения по типу«свой – чужой» все больше рассматриваются как вопрос соотноше-ния сил и связанной с этим соотношением риторики, а не сущностичеловеческого сознания и поведения. При этом культура все боль-ше воспринимается как отражение процессов изменений, внутрен-них противоречий и конфликтов. По этому поводу авторы оонов-ского Доклада пишут: «По мере того, как антропологи теряли верув концепцию единого, стабильного и ограниченного «целого», этаконцепция находила признание у широкого круга людей, участву-
159
жилья, владение автомобилями, объемы меняемых иностранныхвалют, состояние здоровья, число студентов вузов и некоторые дру-гие, которые лучше говорят о том, как реально живут люди.
В контексте противодействия экстремизму, терроризму и обес-печения безопасности следует противостоять ошибочному мнению,что именно бедность порождает терроризм. Страна басков в Испа-нии и Северная Ирландия в Великобритании не являются беднымирегионами этих стран, но терроризм там есть. Гораздо более значи-мыми являются факторы идеологические, т.е. фундаменталистскаяпропаганда и индоктринация, особенно незрелых молодых людей,а также тривиальный меркантильный расчет, т.е. проплачиваниеэкстремизма внешними или внутренними манипуляторами. Мыдолжны научиться различать политизированные манипуляции на-селением за внешне порою привлекательными аргументами типа«исправления исторических несправедливостей» или «утвержденияистинных ценностей».
В России исторически сложилось доброе взаимопонимание исотрудничество между основными религиями и этническими груп-пами. Но в последние годы ситуация в регионах России вызываетбеспокойство. Связано это не только с возросшей бытовой ксено-фобией, но и действиями местных властей и общественных лиде-ров. Чего стоит, например, высылка цыганского табора по приказугородской администрации из Архангельска или откровенно нацио-налистические и провокационные призывы «Союза национально-го возрождения» (Республика Коми) к обеспечению особых прав«коренного» населения и ограничению прав «мигрантов». Случаинасилия на почве ксенофобии в крупных и малых городах сталиуже привычными. Общественная палата на своем пленарном засе-дании в апреле 2006 г. выработала рекомендации по про-тиводействию экстремизму, и участники совещания имеют этотдокумент.
Поддержка позитивных практик
В современной России на фоне глубоких социальных и полити-ческих перемен идет быстрое изменение воззрений отдельных граж-дан, их групп и институтов, смена идей, целей и ценностей. Этотпроцесс противоречивый, вызывает много споров и недовольства,но в целом он позитивный, и мы должны увидеть и поддержать
143
ющих в создании культур и формировании самобытности во всеммире. Аргументы из области антропологии все чаще используютсятеми, кто пытается классифицировать социальные группы по«полочкам» обобщенных культурных типов. Подобную практикуантропологи в наши дни считают весьма сомнительной. Сегодняполитики, экономисты и в целом общественность хотят, чтобы тер-мин «культура» имел то ограниченное, конкретно-материальное,сущностное и вневременное определение, которое в последнее вре-мя отвергается антропологами»7. По-видимому, внедрение толе-рантности должно начинаться с привнесения новых подходовв обществоведческую экспертизу, а уже затем – в остальное об-щество.
3. Как лучше управлять культурныммногообразием
Если мы принимаем более современный подход в проблеме куль-турного многообразия и желаем проводить эффективную (мирнуюи к общей пользе) политику многокультурности, тогда необходимряд существенных корректив в науке и в общественном управле-нии. Казалось бы, простейший путь сохранения многообразия куль-тур – это их консервация (выражаясь более элегантно – «сохране-ние, поддержка и развитие») в том виде, как это многообразие сло-жилось на данный момент в нашей стране и в мире в целом. Нотогда, как справедливо задают вопрос авторы Доклада, «не сведет-ся ли после этого борьба за культурное многообразие к поддержкекультурного консерватизма, когда людей будут призывать оставатьсяверными своим культурным корням и не пытаться перенимать дру-гие образы жизни? Это немедленно приведет к переходу на пози-ции, противоречащие свободе, и к ограничению права выбора об-раза жизни, в котором, возможно, были бы заинтересованы мно-гие. Таким образом, мы окажемся в сфере иной исключительности,а именно – исключительности из участия, в отличие от исключен-ное по образу жизни, так как люди, принадлежащие к культурамменьшинств, будут исключены из участия в преобладающем направ-лении культуры»8.
В России, где постсоветская государственная стратегия строи-лась на идеологеме «национального» (читай – этнического) возрож-дения и развития, уже были приняты законы и программы, а также
158
своей идентичности, т.е. ощущения своей культурной самобыт-ности. Политизированные защитники меньшинств и некоторые уче-ные могут по этому поводу выказывать озабоченность, но им никтоне дал права решать за родителей, в какие школы отдавать и какомуязыку обучать своих детей. В целом же в культуре россиян совме-щаются и переплетаются как бы три культурных потока и три типаценностей: общероссийские, этнонациональные и общемировые.Все они в наше время тесно переплетены, и, например, современ-ная массовая культура вбирает в себя этнические компоненты, амалые культуры используют самые современные формы и русскийязык. Заботы о сохранении культурного наследия и этнических тра-диций не должны быть препятствием на пути модернизации и недолжны превращать жизнь людей в культурные изоляторы ради по-рою мифологизированной традиции, которой на самом деле никог-да не существовало. В то же самое время любовь к стране и рос-сийская идентичность будут только сильнее и богаче, если будутстроиться не только на уважении Москвы, государственных симво-лов, русской речи, но и родного края и собственной культурной от-личительности.
О причинах конфликтов и насилияи стратегиях противодействия
С подачи некоторых аналитиков и политиков в стране утверж-дается взгляд, что корни многих конфликтов заключаются в циви-лизационных несовместимостях разных народов страны и в низ-ком уровне жизни населения, особенно в таком, якобы, депрессив-ном регионе, как Северный Кавказ. По поводу цивилизационныхразличий – это чистый и зловредный вымысел, ибо различия меж-ду россиянами на основе этничности и религии на порядок меньшетого общего, что их объединяет. Не меньшим вымыслом являетсяпривязка насилия и экстремизма к обнищанию и социальной бе-зысходности. На самом же деле образ обедневшего Кавказа или дру-гих мест чаще всего служит не причиной, а оправдательным аргу-ментом нестабильности, криминала, сепаратизма и терроризма, а так-же средством выторговывать деньги из федерального бюджета. Су-дить, бедно или небедно живет население, только по средним зара-ботным платам или по «бюджетной обеспеченности» невозможно.Необходимо учесть и такие показатели, как размеры и качество
144
осуществляются многочисленные региональные и общественныепроекты именно с целью сохранения частных «культурных корней»,будь это татарские, якутские, осетинские, или же более ветвистыеи крайне условные корни, как, например, финно-угорские или тюрк-ские. Эта политика не оставляет места тем чувашам или татарам,которые не говорят на чувашском или на татарском языках и кото-рых больше интересует российскость, а не финно-угорскость илитюркость? Как быть тем «финно-уграм», которые заинтересованыв том, чтобы их дети обучались не в Венгрии или Эстонии, а в мос-ковском вузе и могли сдать вступительный экзамен по русскомуязыку, а затем преуспеть по жизни именно в большом российскомпространстве? Отечественная «национальная политика» на обще-российском (действительно – национальном) уровне до сих пор наэтот жизненно важный вопрос для части, если не для большинства,населения ответа не дала. В то же самое время этнонационализм,отправляемый властями и общественностью некоторых россий-ских республик и областей, а также и на федеральном уровне, пре-успевает в реализации разделительных и вредных для многих лю-дей проектов. Приведем примеры такой политики в области рели-гии, образования и языковой политики и попробуем высказать не-которые рекомендации.
Признание религииКак мы уже отмечали, религия является одним из проявлений
культурного многообразия, и без эффективной религиозной поли-тики со стороны государства невозможно обеспечить культурнуюсвободу. Казалось бы, самый простой путь – это объявить об отде-лении церкви от государства и соблюдать сугубо светский харак-тер власти, предоставив религиозным институтам и общинам воз-можности саморазвития и взаимодействия. Однако этого недоста-точно. Религиозные доктрины могут иметь крайние формы прояв-ления и стать источником экстремизма и насилия, чего не можетдопустить государство и общество в целом. Религиозные инсти-туты склонны к соперничеству в борьбе за паству и могут претен-довать на исключительный статус за счет исключения или притес-нения других религиозных направлений и их последователей, анекоторые мировые религии и секты осуществляют прозелитизмв глобальном масштабе в ущерб так называемым традиционнымрелигиям на той или иной территории или среди того или иногонаселения.
157
российской действительности. Они воспитаны на том, что «наро-ды» и «нации» – это по сути отдельные, не похожие друг на другаэтносы, а проживающие в одном государстве, работающие в одномколлективе, живущие в одном городе, и даже члены одной семьи, сразными этническими корнями – не могут быть одним народом илинацией. В результате господства этих устаревших представленийобраз страны оказывается ущербным: территория есть, экономикаесть, столица есть, бюрократия есть, а народа или нации нет. Неследует отвергать право россиян относить себя к разным народами нациям в этническом их понимании, но нужно знать, что все этоформы коллективной идентичности среди единого и историческидавно существующего российского народа, который, по словамвыдающегося русского философа И.А. Ильина, представляет со-бой «многонародную нацию».
Русский язык и российская культура (от Пушкина и Гоголя доШолохова и Айтматова) сыграли выдающуюся цивилизаторскуюмиссию на евразийском континенте, не ограничиваясь только терри-торией исторического российского государства. Русский язык были остается языком культурного взаимодействия и взаимообогаще-ния представителей разных этнических культур в рамках обще-национальной культуры.
Российская нация всегда включала в себя людей разной этни-ческой и религиозной принадлежности. Так, например, россий-ские (прежде всего казанские) татары играли важную роль вдореволюционной колонизации и советской культурной модерни-зации региона и населения Средней Азии. Российские украинцысоставляли значительную часть первопоселенцев Восточной Си-бири и Дальнего Востока. Выходцы из Прибалтики, Закавказья,Украины составляли ядро советского руководства, особенно в пе-риод т.н. национально-государственного строительства и индуст-риализации. Никто и никогда не будет переделывать осетин, татар,русских, якутов в россиян. Они и есть россияне, российская нация,оставаясь по своей этнической принадлежности теми, кем они себясчитают.
Длительное пребывание в составе Российского государства и вполе доминирующей русскоязычной культуры не могло не привес-ти к определенной ассимиляции части населения. Значительнаячасть татар и башкир, адыгов и вайнахов, мордвы и марийцев, хан-тов и манси, карел и саамов перешли на русский язык, не утратив
145
Государство, уважая равноправие религий и их последователей,тем не менее, должно учитывать сложившуюся в стране и в ее ре-гионах религиозную ситуацию, при необходимости ограничиваяагрессивный прозелитизм и религиозный экстремизм. Наконец,религиозная политика как часть политики многокультурности со-действует устранению последствий религиозных гонений, конфлик-тов и дискриминации, которые имели место в прошлом во многихстранах, а в странах бывшего СССР тем более. Без государствен-ной поддержки и при невысоком уровне жизни населениявосстановление некогда разрушенной религиозной жизни трудноосуществить, и это является одним из приоритетов государствен-ного управления в данной области. Наконец, власти и обществен-ность оказывают необходимое содействие в просвещении верую-щих и неверующих по части религиозных воззрений населения и ворганизации межконфессионального диалога и обеспечения толе-рантности. «Государства – какими бы ни были их исторические связис религией – несут ответственность за защиту прав и обеспечениесвобод всех своих граждан и за отсутствие дискриминации(в интересах кого-то или против кого-то) на религиозной почве»9.
В России за последнее десятилетие произошли радикальные из-менения в развитии религиозной ситуации и в отношении обще-ства к религии. Возродили активную религиозную жизнь предста-вители православия (открылись тысячи новых храмов и сотни но-вых монастырей, зарегистрировано более 10 тысяч религиозныхорганизаций), ислама (построено 6 тысяч мечетей, свыше 3 тысячорганизаций), иудаизма (новые синагоги, связи с Израилем, учеб-ные заведения), буддизма и других религий. Религиозная жизнь идеятельность, а также политика регулируются законами, которыеносят в целом демократический характер. Однако в области обес-печения религиозных прав и свобод, а также предотвращения ре-лигиозного экстремизма есть свои проблемы.
В период деятельности радикальных этнонационалистическихдвижений в 1990 г. в регионах Северного Кавказа и Поволжья ро-дилась идеология политического ислама, в том числе в крайнихформах религиозного джихада (борьба с неверными), которая былаиспользована для осуществления проектов вооруженной сецессииили замены государственной власти властью муфтията. Силовые иправовые меры со стороны государства позволили ликвидироватьугрозу разрушения государства и установления религиозных фун-
156
Некоторое сокращение численности имеет место среди марий-цев, удмуртов, чувашей, мордвы, хакасов, коми и других. Некото-рые категории, наоборот, численно выросли: аварцы, азербайд-жанцы, армяне, башкиры, буряты и др. Однако это не вызвало ра-дикальных изменений в этническом составе населения страны.Политизированная риторика о вымирании, например, финно-угор-ских или коренных малочисленных народов Сибири является бес-почвенной. Ни одна этническая группа не исчезла с карты нашейстраны в XX в., в то время как в других регионах мира исчезлидесятки малых культур. Мы должны противостоять аргументам впользу обязательного роста численности той или иной группы на-селения (естественно, за счет, видимо, уменьшения численностидругих) и объяснять, что человек имеет право не только на нацио-нальность, но и право менять национальность или принадлежатьсразу нескольким национальностям. Такой более сложный подходпозволит избежать ненужных конфликтов по поводу того, являют-ся казаки и поморы частью русского народа или они отдельныйнарод. Точно также со многими другими группами (коми-зыряне икоми-пермяки, кряшены и сибирские татары, цезы и андийцы и т.д.).
Российский народ как европейская нацияи его евразийская миссия
Россия, ее народ, несмотря на демографические проблемы, ос-тается крупнейшей европейской нацией. Инерция прошлого, кон-серватизм экспертного сообщества и этнический национализм час-ти элиты мешали все эти годы более энергичному утверждениюпредставления о России как о состоявшемся государстве-нации и ороссийском народе как о гражданской нации. Старые научные под-ходы и политические установки исходят из того, что теперь, якобы,поставлена задача из русских, татар, чувашей и прочих «делать рос-сиян». Это – ущербный подход. Российский народ-нация – не ре-зультат искусственной унификации, а де-факто объединенное эт-ническое разнообразие. Население новой России имеет высокуюстепень социально-политического и историко-культурного единства.Подавляющее большинство населения ставит свою гражданскуюидентичность («россиянин») на самое высокое место.
Этнонационалистам разного толка, да и значительной частинаучного сообщества, до сих пор претит такое понимание живой
146
даменталистских режимов в таких регионах, как Чечня и Дагестан,хотя террористическая деятельность под исламистскими лозунга-ми и при поддержке структур международного терроризма продол-жается, что представляет собой сложную и серьезную проблему.Какими методами и аргументами можно предотвратить рекрутиро-вание молодых людей в число вооруженных боевиков или террори-стов-смертников?
Вместе с исламским экстремизмом в российском обществе воз-никла проблема антиисламских фобий и распространения дискри-минационных практик в отношении верующих мусульман. В Рес-публике Дагестан был принят сверхжесткий закон против вахха-бизма, который таррикатистский ислам способен использовать про-тив сторонников других направлений в этой религии.
Одной из причин напряженности в религиозной сфере стало рас-пространение различных культов и сект, а также мифологизиро-ванной религиозной эклектики. Так, власти и националистическинастроенные активисты ряда республик (Якутия, Южная Осетия,Марий Эл, Мордовия, Алтай) вместе с новыми религиозными про-зелитами уже много лет пытаются осуществить некий возврат крелигиозным корням (это называется «возрождение национальнойрелигии») местного нерусского населения. Речь идет об языческихкультах и древних религиозных практиках, которые два-три векатому назад были замещены православием. Хотя крещение абориге-нов далеко не всегда было добровольным, как это происходило по-всеместно в мире в эпоху утверждения больших религий, уже мно-го поколений верующих осетин, якутов, марийцев и мордвы испо-ведуют православие, как истово исповедуют католицизм индейцыСеверной, Центральной и Латинской Америки или протестантизмаборигены Гавайских островов. Попытка объявить православиенавязанной, чужой, «не национальной» религией, а языческиекульты – «национальной религией» представляет собой обра-зец культурного фундаментализма, разрушающего как местныеустои, так и интеграционные возможности представителей рос-сийских меньшинств (последний термин крайне условен по отно-шению к нерусским российским национальностям).
Если культурные различия этнического характера носят подвиж-ный, сложный и не взаимоисключающий характер, то в сфере ре-лигии границы различий имеют более жесткий характер, а такиерелигии, как ислам, объявляют преступлением против религии пе-
155
и не устраивать кампании типа «Запишись татарином!» и не позво-лять другие формы этнического самоопределения, как это было впрошлой переписи в Татарстане.
Вопросы о языке и национальности должны быть усовершен-ствованы, а также должен быть включен вопрос о религиозной при-надлежности верующей части населения, которая, по некоторымданным, уже составляет большинство россиян. Самое главное, чтомы недостаточно учитывали в переписи и не всегда учитываем вобщественной практике и в управлении наличие в России значи-тельной части россиян, которые имеют сложное этническое проис-хождение, будучи потомками смешанных браков, число которых встране всегда было велико и может изменяться в будущем. Околочетверти населения страны живет в семьях со сложным этничес-ким составом, а это – весомая причина, по которой человек считаетсебя принадлежащим не к одной, а к двум или даже трем нацио-нальностям. Так, более 70% украинцев в России живут в смешан-ных семьях, в основном – в русско-украинских. То же характернодля российских немцев и для других дисперсно расселенных групп,а также для малочисленных народов. Часто человек осознает себяне только немцем, а русским немцем, или русским и немцем одно-временно, или ситуативно – в одних случаях русским, а в других –немцем. По этой причине, несмотря на жесткие установки, от пе-реписи к переписи миллионы людей совершают «переходы» из од-ной группы в другую. Этот выбор следует признать и уважать, а нетрактовать его как аномалию или как «предательство нации».
Несостоятельными оказались разговоры об «этноциде», якобыимевшем место в 1990-х гг. Перепись показала безосновательностьстрахов о катастрофическом сокращении численности русских.Накануне переписи были прогнозы, согласно которым численностьрусских, якобы, упала на 15 и более млн. чел. по сравнению с пос-ледней советской переписью в 1989 г. Сокращение действительноимело место, но на 3,3%, а доля в составе населения страны – на1,7%. Причина – демографическое постарение населения, большаячасть которого – городские жители. Прежде всего это связано с низ-кой рождаемостью и высокой смертностью. Миграция последнихлет отчасти компенсировала падение численности русского насе-ления. Дополнительным источником пополнения русского населе-ния является ассимиляция других групп населения, в том числе миг-рантов, в пользу русского языка и идентичности.
147
реход человека в другую веру. Религиозная идентичность средиверующих формируется достаточно рано через воздействие семьиили проповедников и трудно поддается компромиссу. Доклад о че-ловеческом развитии 2004 г. формулирует три аспекта обеспечениярелигиозной свободы в качестве приоритетов государственной по-литики в этой области. Это – предоставление не только свободыверы, но и права на «многоголосие» в интерпретации догматов верыв рамках одной религии. Это – непредоставление религиознымиерархам каких-либо политических и социальных привилегий. Этопредоставление всем религиям простора для дискуссий по вопро-сам веры с правом приверженцев одной религии критиковать с по-зиций социальной ответственности практику и верования другихрелигий. Это предоставлять индивидам свободу не только крити-ковать религию, к которой они принадлежат, но и отвергать ее радидругой либо оставаться вне религиозной жизни вообще10. Для Рос-сии эти рекомендации представляются применимыми, хотя их да-леко недостаточно для обеспечения межрелигиозной толерантнос-ти и кооперативных отношений между религиозными организаци-ями и группами и государством.
Политика многоязычияЯзык есть одна из важнейших форм человеческой коммуника-
ции, и в то же самое время язык во многих случаях остается отли-чительной чертой этнической общности и одной из основ ее куль-турного арсенала. Как отмечается в Докладе, «если в этнических ирелигиозных вопросах для государства возможно и даже желатель-но оставаться «нейтральным», подобная позиция в отношении язы-ка является непрактичной. Понятие гражданства требует общегоязыка для укрепления взаимопонимания и эффективной коммуни-кации. Ни одно государство не может позволить себе обеспечиватьуслуги и выпускать официальные документы на каждом из языков,используемых на его территории»11.
В многоязычных обществах, каковым является Российская Фе-дерация, языковая политика обычно направлена на признание пра-ва использовать те языки, на которых разговаривает население втой или иной местности или принадлежащее к той или иной языко-вой группе, даже если она проживает дисперсно. В законах, в томчисле и в российских, как бы закрепляется следующая оптималь-ная формула: «Пусть каждый имеет возможность пользоваться сво-им родным языком в некоторых сферах – например, в школах и
154
зрения болевых проблем современного российского общества и сточки зрения стратегий и механизмов, которые Общественная па-лата, власть и общество в целом могли бы предложить для обеспе-чения стабильности и согласия в стране и для эффективного управ-ления этнокультурным многообразием.
Этнокультурный облик России
За последние десятилетия в России произошли существенныеэтнодемографические перемены, и в этом заметную роль сыгралипроцессы естественного движения населения, миграции и так назы-ваемое национальное возрождение, т.е. рост самосознания пред-ставителей малых и больших народов. Это подтвердила переписьнаселения 2002 г., по итогам которой хотелось сделать вводное обо-зрение ситуации в стране. В какой степени перепись дала адекват-ную картину этнического состава населения (к сожалению, вопросо религии не задавался)? Не учтено было примерно 5–7% населе-ния, среди которого – жители крупных мегаполисов, мигранты изстран бывшего СССР, Китая и Вьетнама, обитатели труднодоступ-ных для переписчиков загородных особняков. Зато часть населениябыла учтена с избытком. Приписки имели место в ряде республик(в пользу титульного населения), в крупных городах, которые стре-мились сохранить (или обрести) статус городов с миллионным на-селением, а также в малых городах – административных центрах.
Некоторые этнические группы населения в переписи получи-лись с явным искажением. Причины разные, не только техничес-кие, но и политические. Например, перепись 2002 г. зарегистриро-вала в несколько раз меньше, нежели на самом деле, число мало-численных андоцезских народов Дагестана, которые под большимдавлением записываются в число аварцев и даргинцев. Была зани-жена численность турок-месхетинцев: известно, что только в Крас-нодарском крае их больше, чем получилось в целом по России.В Башкортостане административные и политические манипуляциипозволили переписать несколько десятков тысяч татар в башкир.Поэтому итоги переписи следует учитывать в работе, но делатьпоправки, и не следует отметать некоторые претензии, которыемогут быть у представителей тех или иных национальностей. К томуже, уже началась подготовка к новой переписи, которая пройдет в2010 г. Следует более спокойно и ответственно подойти к переписи
148
университетах, но при совместной деятельности, особенно вобщественной жизни, давайте использовать один общий язык»12.Это всего лишь минимум в определении политики языкового плю-рализма, который, однако, соблюдается далеко не во всех странах.Так, например, в Турции только в 2002 г. парламент принял закон,позволяющий частным организациям преподавать курдский языкопределенной части курдского меньшинства. Во многих развитыхстранах с крупными разноязычными общинами закон устанавлива-ет официальное дву- или трехъязычие и выделяет средства на вы-полнение такого закона. Кроме этого, не только позволяются, но иподдерживаются языки многочисленных меньшинств, если они это-го желают.
Опыт языковой политики в СССР был достаточно уникальнымс точки зрения сохранения и развития языкового многообразия:около 70 языков получили разработанную письменность, издаваласьлитература и велось преподавание на десятках языках народовСССР. Но в то же самое время советская модернизация и централи-заторская политика авторитарного государства обеспечивались вомногом через русскоязычные управление и идеологию, а сами пред-ставители нерусских национальностей в целях жизненного преус-певания переходили на русский язык как язык государства, обще-национальной культуры и подавляющего большинства населения.В принципе эта ситуация сохранилась и в постсоветской России, гдерусский язык объявлен законом как государственный язык, но офи-циальное двуязычие и многоязычие установлено в ряде республик.
Как и в ряде других государств, в России существует сложнаядилемма: как использовать языковую политику для обеспеченияэффективного государственного управления и в интересах большин-ства, но соблюсти языковые права малых групп населения, не зак-рывая им возможности языкового выбора. Здесь сталкивается пред-ставление о некой идеальной норме (каждый народ имеет право насвой язык) и представление о языковых правах индивидом. По боль-шому счету не существует «права на язык», но есть права, имею-щие отношение к языку. Догмам языковой политики и устремлени-ям этнических элит часто противоречит языковая стратегия про-стых людей, особенно родителей, желающих предоставить большевозможностей для своих детей в рамках большого общества. И здесьдействует простое правило: если меньшинство может навязать свойязык большинству только силой, то многие представители мень-
153
ЭТНИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕМНОГООБРАЗИЕ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА*
Как и многие крупные государства мира, население России имеетсложный этнический (национальный) и религиозный состав. Со-вместное проживание носителей многих культур и языков в рамкаходной страны и в составе одного российского народа было посто-янной характеристикой нашего государства на протяжении всей егоистории. Многообразие населения было источником постоянногои взаимообогащающего взаимодействия и условием развития стра-ны. Трудно себе представить, чем было бы Российское государство,если бы оно развивалось столетиями, включая и новое время, толь-ко на территориальной, демографической и культурной основе од-ного или нескольких восточно-славянских племен. Славянская куль-тура, русский язык и религиозная христианско-византийская тра-диция в форме русского православия веками составляли основу исвоего рода референтную (доминирующую) культуру россиян и ос-таются таковыми по сегодняшний день. Однако российский народневозможно представить без представителей других национально-стей – носителей других культурно-исторических традиций, какневозможно представить религиозную жизнь страны без последо-вателей других мировых религий – ислама, иудаизма, буддизма.
Несмотря на то, что этноконфессиональные различия часто вы-ступают факторами конфликтности и причинами нетерпимости инасилия, мы бы хотели исходить из той посылки, что не только впрошлом, но и сегодня этническое и религиозное многообразие итак называемая многонациональность российского народа состав-ляют его богатство, его силу, и более того, – они есть условие ста-бильности и развития страны. Это утверждение вынесено нами вназвание доклада, и мы попытаемся рассмотреть ситуацию с точки_____________* Этнопанорама. 2007. №1–2. С. 2–10.
(Доклад прочитан в Общественной палате Российской Федерации. 30 января 2007 г.)
149
шинств делают добровольный выбор в пользу доминирующего язы-ка. Тем самым, родным языком является не язык, который совпада-ет с языком национальности, а основной язык, которым человеквладеет и которым пользуется. Таким языком для многих пред-ставителей нерусских национальностей в нашей стране являетсярусский язык.
Однако языковой репертуар современного человека не ограни-чивается одним языком, и все больше нормой языковой ситуациистановится двуязычие и многоязычие, которые к тому же имеютфункциональный характер: в одних сферах и ситуациях большеиспользуется один язык, в других – другой язык. В России двуязы-чие широко распространено, и оно поддерживается государством,особенно региональными властями. Однако здесь возникают серь-езные коллизии, которые могут приводить к напряженности и к кон-фликтам на языковой почве. Один из таких недавних конфликтоввозник в Татарстане на почве проекта перевода обучающегося та-тарского населения республики с кириллицы на латинскую графи-ку. Аргументы местного этнонационализма и находящихся под еговлиянием властей республики сводятся все к тому же принципу вос-становления прошлого или возврата к некогда существовавшейнорме. Используется также аргумент свободы выбора и права наколлективное самоопределение в отношении групповых культур-ных институтов. Но трудно себе представить более разрушитель-ный проект для судеб тех молодых людей из числа этнических та-тар, кто решится или будет вынужден получить образование и обу-читься письму на основе латиницы, т.е. не на основе графики, кото-рой пользуется основное население страны, включая большинствороссийских татар. Едва ли можно представить себе более разитель-ный случай столь масштабного и продуманного со стороны пери-ферийного национализма «исключения из участия в преобладаю-щем направлении культуры».
Почему такая политика осуществляется и почему она считает-ся позволительной – это другой вопрос. Ответ содержат в себе нетолько ссылки на стремление сохранять свою самобытность, что-бы поддерживать особый статус республики-государства в рамкахРоссийской Федерации, и не только, чтобы дистанцироваться отдоминирующей культуры и ее политического центра, и не только,чтобы лучше интегрироваться в мировое латинографическое ин-формационное пространство. Ответ содержится также и в скры-
152
ве общероссийского культурного комплекса, который ближе всегои больше всего совпадает с основным культурным потоком («пре-обладающим культурным направлением») страны. Они действи-тельно могут находить поддержку большинства и их труднее отли-чить от позитивных гражданско-патриотических воззрений и дей-ствий. Но на самом деле концепт «русской национальной школы»или «русского национального компонента» не менее, а даже болееразрушителен для сохранения культурного многообразия, реализа-ции культурной свободы и проведения политики толерантности.Этот концепт, во-первых, исключает культуры меньшинства из об-раза страны и ее населения; во-вторых, он закрывает путь обще-российскому национальному проекту, который носит инклюзивныйхарактер. Национальной школой в России может быть только рос-сийская школа, а не русская или татарская. Такой подход открываетновое и обширное поле для политиков и законодателей, которые ужеуспели многое натворить в рамках старого подхода. Может быть, неследует исправлять сразу все, но что-то делать нужно в плане мо-дернизации национального образования в многоэтничной стране.
Примечания:1 Т. Martin. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union,
1923–1939. Ithaca and London: Cornell University Press, 2001.2 Доклад о человеческом развитии 2004. Культурная свобода в современном мире.М., 2004.
3 Доклад о человеческом развитии 2004. C. 17.4 Там же. С. 21.5 См. подробнее: Тишков, В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003.
6 Доклад о человеческом развитии 2004. С. 38. О проекте см.: Т.R. Gurr. Minoritiesat Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, DC: United StatesInstitute of Press, 1993; Idem. People Versus States. Washington, DC: United StatesInstitute for Peace Press, 2000. А также обновляемая база данных «Меньшинств подугрозой» на сайте данного проекта в Интернете: www.cidcm.umd.edu/inscr/mar
7 Доклад о человеческом развитии. С. 107.8 Там же. С. 21.9 Там же. С. 67.
10 Там же. С. 67.11 Там же. С. 71.12 Там же.13 Там же. С. 21.
150
тых устремлениях политического сепаратизма, т.е. в укрепленииего базы институтами радикальной культурной отличительности.Ответ кроется и в новых геополитических соперничествах, когдатак называемый «тюркский мир», возглавляемый латинографичес-кой Турцией, а точнее – политический пантюркизм, приступил красширению сферы своего воздействия в постсоветском простран-стве, которое после распада СССР представлялось как некая terranullis (ничейная земля). Меньше всего данный проект в интересахтого, на кого сослался президент М. Шаймиев при объяснении ре-формы графики в Татарстане: «Простой сельский татарин спросилменя, почему он не может писать на том письме, на котором всегдаписали татары и сам он хочет писать»?
Хотя Государственная Дума по поводу данной ситуации приня-ла закон, позволяющий смену графики в стране или в ее регионетолько по решению федеральных органов власти, вопрос для по-литики остается: как совместить свободу частного культурноговыбора и культурное многообразие без ущерба для многих других,кто политически молчалив и не способен оценить возможный ущербсегодняшних политических решений для следующего поколения?Система образования – это то, что касается всех. Тогда может бытьнеобходим референдум, но среди кого – всего населения РеспубликиТатарстан, если это делается в интересах населения республики,или всех российских татар, если это делается от имени и в интере-сах татарского народа? Понятно, что не среди татар Татарстана,которые не обладают правом говорить от имени как республикан-ского сообщества, так и российских татар.
Поликультурное образованиеИдеология частных корней мешает и может наносить вред
представителям национальных меньшинств, и эта идеологиядолжна быть скорректирована.
Необходимы программы и проекты, а возможно, и законы,которые бы решали или хотя бы способствовали реализациисвободного выбора и социального преуспевания представите-лей разных культурных традиций в общероссийском простран-стве в рамках доминирующей русскоязычной российской куль-туры. «Причины скептического отношения к автоматическому пре-доставлению приоритета культурным традициям, доставшимся понаследству, могут быть рассмотрены с учетом того, кто выбирает ичто он/она выбирает»13. Родительские стратегии и устремления
151
самих молодых людей чаще всего радикально расходятся с призы-вами этнических активистов и с установками властей республи-канского и даже федерального уровня. Кажущаяся леность в изуче-нии «родного языка» и переход на русский язык в семейной обста-новке, поступление в московский вуз, брак с иноэтничным парт-нером – все это представляется этническим предпринимателям как«предательство» по отношению к родной культуре, и должно пре-секаться или находить противодействие через политику. Но отвеча-ет ли это устремлениям самих людей и тому выбору, который онирешили сделать? Конечно, нет. А это означает необходимость в эт-нокультурной политике выстраивать более широкие приоритеты ипредоставлять более широкие возможности.
Если речь идет о сфере образования, то здесь эти более широ-кие возможности не должны сводиться только к дополнению госу-дарственного образовательного стандарта и системы образователь-ных учреждений, так называемым этнокультурным или региональ-ным компонентам. В России в последние годы было сделано мно-го, в том числе и позитивного, в области утверждения концепции иреального развития поликультурного образования. Изданы научныетруды и педагогические пособия, проводятся конференции, реаль-но действуют сотни школ. Однако инерция советского концепта «на-циональной школы» как особой школы для представителей отдель-ного народа фактически осталась жива за фасадом «поликультур-ного» или «с этнокультурным компонентом» образования. Вся этасистема исходит из наличия в отдельной школе или отдельном клас-се монокультуры и культурной чистоты (армянская, грузинская,татарская, еврейская школы или армянские, грузинские, татарские,еврейские классы). И хотя сторонники и участники этой системызаявляют, что такие школы и классы открыты для всех, но на самомделе это только формальное заявление, ибо в ментальном отноше-нии это закрытые культурные корпорации: в них обучают моно-культуре или нескольким монокультурам, а не культурной сложно-сти и культурной открытости.
Как реакцию, как самомаргинализацию (маргинальность намивидится именно в уходе в монокультуру, а не в выходе из нее) энту-зиастов «национальной школы», ответную логику действий демон-стрируют русские этнонационалисты, учреждая «русские нацио-нальные школы». Последние концепт и политика исходят от пред-ставителей референтной (основной) этнической культуры в соста-
150
тых устремлениях политического сепаратизма, т.е. в укрепленииего базы институтами радикальной культурной отличительности.Ответ кроется и в новых геополитических соперничествах, когдатак называемый «тюркский мир», возглавляемый латинографичес-кой Турцией, а точнее – политический пантюркизм, приступил красширению сферы своего воздействия в постсоветском простран-стве, которое после распада СССР представлялось как некая terranullis (ничейная земля). Меньше всего данный проект в интересахтого, на кого сослался президент М. Шаймиев при объяснении ре-формы графики в Татарстане: «Простой сельский татарин спросилменя, почему он не может писать на том письме, на котором всегдаписали татары и сам он хочет писать»?
Хотя Государственная Дума по поводу данной ситуации приня-ла закон, позволяющий смену графики в стране или в ее регионетолько по решению федеральных органов власти, вопрос для по-литики остается: как совместить свободу частного культурноговыбора и культурное многообразие без ущерба для многих других,кто политически молчалив и не способен оценить возможный ущербсегодняшних политических решений для следующего поколения?Система образования – это то, что касается всех. Тогда может бытьнеобходим референдум, но среди кого – всего населения РеспубликиТатарстан, если это делается в интересах населения республики,или всех российских татар, если это делается от имени и в интере-сах татарского народа? Понятно, что не среди татар Татарстана,которые не обладают правом говорить от имени как республикан-ского сообщества, так и российских татар.
Поликультурное образованиеИдеология частных корней мешает и может наносить вред
представителям национальных меньшинств, и эта идеологиядолжна быть скорректирована.
Необходимы программы и проекты, а возможно, и законы,которые бы решали или хотя бы способствовали реализациисвободного выбора и социального преуспевания представите-лей разных культурных традиций в общероссийском простран-стве в рамках доминирующей русскоязычной российской куль-туры. «Причины скептического отношения к автоматическому пре-доставлению приоритета культурным традициям, доставшимся понаследству, могут быть рассмотрены с учетом того, кто выбирает ичто он/она выбирает»13. Родительские стратегии и устремления
151
самих молодых людей чаще всего радикально расходятся с призы-вами этнических активистов и с установками властей республи-канского и даже федерального уровня. Кажущаяся леность в изуче-нии «родного языка» и переход на русский язык в семейной обста-новке, поступление в московский вуз, брак с иноэтничным парт-нером – все это представляется этническим предпринимателям как«предательство» по отношению к родной культуре, и должно пре-секаться или находить противодействие через политику. Но отвеча-ет ли это устремлениям самих людей и тому выбору, который онирешили сделать? Конечно, нет. А это означает необходимость в эт-нокультурной политике выстраивать более широкие приоритеты ипредоставлять более широкие возможности.
Если речь идет о сфере образования, то здесь эти более широ-кие возможности не должны сводиться только к дополнению госу-дарственного образовательного стандарта и системы образователь-ных учреждений, так называемым этнокультурным или региональ-ным компонентам. В России в последние годы было сделано мно-го, в том числе и позитивного, в области утверждения концепции иреального развития поликультурного образования. Изданы научныетруды и педагогические пособия, проводятся конференции, реаль-но действуют сотни школ. Однако инерция советского концепта «на-циональной школы» как особой школы для представителей отдель-ного народа фактически осталась жива за фасадом «поликультур-ного» или «с этнокультурным компонентом» образования. Вся этасистема исходит из наличия в отдельной школе или отдельном клас-се монокультуры и культурной чистоты (армянская, грузинская,татарская, еврейская школы или армянские, грузинские, татарские,еврейские классы). И хотя сторонники и участники этой системызаявляют, что такие школы и классы открыты для всех, но на самомделе это только формальное заявление, ибо в ментальном отноше-нии это закрытые культурные корпорации: в них обучают моно-культуре или нескольким монокультурам, а не культурной сложно-сти и культурной открытости.
Как реакцию, как самомаргинализацию (маргинальность намивидится именно в уходе в монокультуру, а не в выходе из нее) энту-зиастов «национальной школы», ответную логику действий демон-стрируют русские этнонационалисты, учреждая «русские нацио-нальные школы». Последние концепт и политика исходят от пред-ставителей референтной (основной) этнической культуры в соста-
149
шинств делают добровольный выбор в пользу доминирующего язы-ка. Тем самым, родным языком является не язык, который совпада-ет с языком национальности, а основной язык, которым человеквладеет и которым пользуется. Таким языком для многих пред-ставителей нерусских национальностей в нашей стране являетсярусский язык.
Однако языковой репертуар современного человека не ограни-чивается одним языком, и все больше нормой языковой ситуациистановится двуязычие и многоязычие, которые к тому же имеютфункциональный характер: в одних сферах и ситуациях большеиспользуется один язык, в других – другой язык. В России двуязы-чие широко распространено, и оно поддерживается государством,особенно региональными властями. Однако здесь возникают серь-езные коллизии, которые могут приводить к напряженности и к кон-фликтам на языковой почве. Один из таких недавних конфликтоввозник в Татарстане на почве проекта перевода обучающегося та-тарского населения республики с кириллицы на латинскую графи-ку. Аргументы местного этнонационализма и находящихся под еговлиянием властей республики сводятся все к тому же принципу вос-становления прошлого или возврата к некогда существовавшейнорме. Используется также аргумент свободы выбора и права наколлективное самоопределение в отношении групповых культур-ных институтов. Но трудно себе представить более разрушитель-ный проект для судеб тех молодых людей из числа этнических та-тар, кто решится или будет вынужден получить образование и обу-читься письму на основе латиницы, т.е. не на основе графики, кото-рой пользуется основное население страны, включая большинствороссийских татар. Едва ли можно представить себе более разитель-ный случай столь масштабного и продуманного со стороны пери-ферийного национализма «исключения из участия в преобладаю-щем направлении культуры».
Почему такая политика осуществляется и почему она считает-ся позволительной – это другой вопрос. Ответ содержат в себе нетолько ссылки на стремление сохранять свою самобытность, что-бы поддерживать особый статус республики-государства в рамкахРоссийской Федерации, и не только, чтобы дистанцироваться отдоминирующей культуры и ее политического центра, и не только,чтобы лучше интегрироваться в мировое латинографическое ин-формационное пространство. Ответ содержится также и в скры-
152
ве общероссийского культурного комплекса, который ближе всегои больше всего совпадает с основным культурным потоком («пре-обладающим культурным направлением») страны. Они действи-тельно могут находить поддержку большинства и их труднее отли-чить от позитивных гражданско-патриотических воззрений и дей-ствий. Но на самом деле концепт «русской национальной школы»или «русского национального компонента» не менее, а даже болееразрушителен для сохранения культурного многообразия, реализа-ции культурной свободы и проведения политики толерантности.Этот концепт, во-первых, исключает культуры меньшинства из об-раза страны и ее населения; во-вторых, он закрывает путь обще-российскому национальному проекту, который носит инклюзивныйхарактер. Национальной школой в России может быть только рос-сийская школа, а не русская или татарская. Такой подход открываетновое и обширное поле для политиков и законодателей, которые ужеуспели многое натворить в рамках старого подхода. Может быть, неследует исправлять сразу все, но что-то делать нужно в плане мо-дернизации национального образования в многоэтничной стране.
Примечания:1 Т. Martin. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union,
1923–1939. Ithaca and London: Cornell University Press, 2001.2 Доклад о человеческом развитии 2004. Культурная свобода в современном мире.М., 2004.
3 Доклад о человеческом развитии 2004. C. 17.4 Там же. С. 21.5 См. подробнее: Тишков, В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003.
6 Доклад о человеческом развитии 2004. С. 38. О проекте см.: Т.R. Gurr. Minoritiesat Risk. A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, DC: United StatesInstitute of Press, 1993; Idem. People Versus States. Washington, DC: United StatesInstitute for Peace Press, 2000. А также обновляемая база данных «Меньшинств подугрозой» на сайте данного проекта в Интернете: www.cidcm.umd.edu/inscr/mar
7 Доклад о человеческом развитии. С. 107.8 Там же. С. 21.9 Там же. С. 67.
10 Там же. С. 67.11 Там же. С. 71.12 Там же.13 Там же. С. 21.
148
университетах, но при совместной деятельности, особенно вобщественной жизни, давайте использовать один общий язык»12.Это всего лишь минимум в определении политики языкового плю-рализма, который, однако, соблюдается далеко не во всех странах.Так, например, в Турции только в 2002 г. парламент принял закон,позволяющий частным организациям преподавать курдский языкопределенной части курдского меньшинства. Во многих развитыхстранах с крупными разноязычными общинами закон устанавлива-ет официальное дву- или трехъязычие и выделяет средства на вы-полнение такого закона. Кроме этого, не только позволяются, но иподдерживаются языки многочисленных меньшинств, если они это-го желают.
Опыт языковой политики в СССР был достаточно уникальнымс точки зрения сохранения и развития языкового многообразия:около 70 языков получили разработанную письменность, издаваласьлитература и велось преподавание на десятках языках народовСССР. Но в то же самое время советская модернизация и централи-заторская политика авторитарного государства обеспечивались вомногом через русскоязычные управление и идеологию, а сами пред-ставители нерусских национальностей в целях жизненного преус-певания переходили на русский язык как язык государства, обще-национальной культуры и подавляющего большинства населения.В принципе эта ситуация сохранилась и в постсоветской России, гдерусский язык объявлен законом как государственный язык, но офи-циальное двуязычие и многоязычие установлено в ряде республик.
Как и в ряде других государств, в России существует сложнаядилемма: как использовать языковую политику для обеспеченияэффективного государственного управления и в интересах большин-ства, но соблюсти языковые права малых групп населения, не зак-рывая им возможности языкового выбора. Здесь сталкивается пред-ставление о некой идеальной норме (каждый народ имеет право насвой язык) и представление о языковых правах индивидом. По боль-шому счету не существует «права на язык», но есть права, имею-щие отношение к языку. Догмам языковой политики и устремлени-ям этнических элит часто противоречит языковая стратегия про-стых людей, особенно родителей, желающих предоставить большевозможностей для своих детей в рамках большого общества. И здесьдействует простое правило: если меньшинство может навязать свойязык большинству только силой, то многие представители мень-
153
ЭТНИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕМНОГООБРАЗИЕ – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА*
Как и многие крупные государства мира, население России имеетсложный этнический (национальный) и религиозный состав. Со-вместное проживание носителей многих культур и языков в рамкаходной страны и в составе одного российского народа было посто-янной характеристикой нашего государства на протяжении всей егоистории. Многообразие населения было источником постоянногои взаимообогащающего взаимодействия и условием развития стра-ны. Трудно себе представить, чем было бы Российское государство,если бы оно развивалось столетиями, включая и новое время, толь-ко на территориальной, демографической и культурной основе од-ного или нескольких восточно-славянских племен. Славянская куль-тура, русский язык и религиозная христианско-византийская тра-диция в форме русского православия веками составляли основу исвоего рода референтную (доминирующую) культуру россиян и ос-таются таковыми по сегодняшний день. Однако российский народневозможно представить без представителей других национально-стей – носителей других культурно-исторических традиций, какневозможно представить религиозную жизнь страны без последо-вателей других мировых религий – ислама, иудаизма, буддизма.
Несмотря на то, что этноконфессиональные различия часто вы-ступают факторами конфликтности и причинами нетерпимости инасилия, мы бы хотели исходить из той посылки, что не только впрошлом, но и сегодня этническое и религиозное многообразие итак называемая многонациональность российского народа состав-ляют его богатство, его силу, и более того, – они есть условие ста-бильности и развития страны. Это утверждение вынесено нами вназвание доклада, и мы попытаемся рассмотреть ситуацию с точки_____________* Этнопанорама. 2007. №1–2. С. 2–10.
(Доклад прочитан в Общественной палате Российской Федерации. 30 января 2007 г.)
147
реход человека в другую веру. Религиозная идентичность средиверующих формируется достаточно рано через воздействие семьиили проповедников и трудно поддается компромиссу. Доклад о че-ловеческом развитии 2004 г. формулирует три аспекта обеспечениярелигиозной свободы в качестве приоритетов государственной по-литики в этой области. Это – предоставление не только свободыверы, но и права на «многоголосие» в интерпретации догматов верыв рамках одной религии. Это – непредоставление религиознымиерархам каких-либо политических и социальных привилегий. Этопредоставление всем религиям простора для дискуссий по вопро-сам веры с правом приверженцев одной религии критиковать с по-зиций социальной ответственности практику и верования другихрелигий. Это предоставлять индивидам свободу не только крити-ковать религию, к которой они принадлежат, но и отвергать ее радидругой либо оставаться вне религиозной жизни вообще10. Для Рос-сии эти рекомендации представляются применимыми, хотя их да-леко недостаточно для обеспечения межрелигиозной толерантнос-ти и кооперативных отношений между религиозными организаци-ями и группами и государством.
Политика многоязычияЯзык есть одна из важнейших форм человеческой коммуника-
ции, и в то же самое время язык во многих случаях остается отли-чительной чертой этнической общности и одной из основ ее куль-турного арсенала. Как отмечается в Докладе, «если в этнических ирелигиозных вопросах для государства возможно и даже желатель-но оставаться «нейтральным», подобная позиция в отношении язы-ка является непрактичной. Понятие гражданства требует общегоязыка для укрепления взаимопонимания и эффективной коммуни-кации. Ни одно государство не может позволить себе обеспечиватьуслуги и выпускать официальные документы на каждом из языков,используемых на его территории»11.
В многоязычных обществах, каковым является Российская Фе-дерация, языковая политика обычно направлена на признание пра-ва использовать те языки, на которых разговаривает население втой или иной местности или принадлежащее к той или иной языко-вой группе, даже если она проживает дисперсно. В законах, в томчисле и в российских, как бы закрепляется следующая оптималь-ная формула: «Пусть каждый имеет возможность пользоваться сво-им родным языком в некоторых сферах – например, в школах и
154
зрения болевых проблем современного российского общества и сточки зрения стратегий и механизмов, которые Общественная па-лата, власть и общество в целом могли бы предложить для обеспе-чения стабильности и согласия в стране и для эффективного управ-ления этнокультурным многообразием.
Этнокультурный облик России
За последние десятилетия в России произошли существенныеэтнодемографические перемены, и в этом заметную роль сыгралипроцессы естественного движения населения, миграции и так назы-ваемое национальное возрождение, т.е. рост самосознания пред-ставителей малых и больших народов. Это подтвердила переписьнаселения 2002 г., по итогам которой хотелось сделать вводное обо-зрение ситуации в стране. В какой степени перепись дала адекват-ную картину этнического состава населения (к сожалению, вопросо религии не задавался)? Не учтено было примерно 5–7% населе-ния, среди которого – жители крупных мегаполисов, мигранты изстран бывшего СССР, Китая и Вьетнама, обитатели труднодоступ-ных для переписчиков загородных особняков. Зато часть населениябыла учтена с избытком. Приписки имели место в ряде республик(в пользу титульного населения), в крупных городах, которые стре-мились сохранить (или обрести) статус городов с миллионным на-селением, а также в малых городах – административных центрах.
Некоторые этнические группы населения в переписи получи-лись с явным искажением. Причины разные, не только техничес-кие, но и политические. Например, перепись 2002 г. зарегистриро-вала в несколько раз меньше, нежели на самом деле, число мало-численных андоцезских народов Дагестана, которые под большимдавлением записываются в число аварцев и даргинцев. Была зани-жена численность турок-месхетинцев: известно, что только в Крас-нодарском крае их больше, чем получилось в целом по России.В Башкортостане административные и политические манипуляциипозволили переписать несколько десятков тысяч татар в башкир.Поэтому итоги переписи следует учитывать в работе, но делатьпоправки, и не следует отметать некоторые претензии, которыемогут быть у представителей тех или иных национальностей. К томуже, уже началась подготовка к новой переписи, которая пройдет в2010 г. Следует более спокойно и ответственно подойти к переписи
146
даменталистских режимов в таких регионах, как Чечня и Дагестан,хотя террористическая деятельность под исламистскими лозунга-ми и при поддержке структур международного терроризма продол-жается, что представляет собой сложную и серьезную проблему.Какими методами и аргументами можно предотвратить рекрутиро-вание молодых людей в число вооруженных боевиков или террори-стов-смертников?
Вместе с исламским экстремизмом в российском обществе воз-никла проблема антиисламских фобий и распространения дискри-минационных практик в отношении верующих мусульман. В Рес-публике Дагестан был принят сверхжесткий закон против вахха-бизма, который таррикатистский ислам способен использовать про-тив сторонников других направлений в этой религии.
Одной из причин напряженности в религиозной сфере стало рас-пространение различных культов и сект, а также мифологизиро-ванной религиозной эклектики. Так, власти и националистическинастроенные активисты ряда республик (Якутия, Южная Осетия,Марий Эл, Мордовия, Алтай) вместе с новыми религиозными про-зелитами уже много лет пытаются осуществить некий возврат крелигиозным корням (это называется «возрождение национальнойрелигии») местного нерусского населения. Речь идет об языческихкультах и древних религиозных практиках, которые два-три векатому назад были замещены православием. Хотя крещение абориге-нов далеко не всегда было добровольным, как это происходило по-всеместно в мире в эпоху утверждения больших религий, уже мно-го поколений верующих осетин, якутов, марийцев и мордвы испо-ведуют православие, как истово исповедуют католицизм индейцыСеверной, Центральной и Латинской Америки или протестантизмаборигены Гавайских островов. Попытка объявить православиенавязанной, чужой, «не национальной» религией, а языческиекульты – «национальной религией» представляет собой обра-зец культурного фундаментализма, разрушающего как местныеустои, так и интеграционные возможности представителей рос-сийских меньшинств (последний термин крайне условен по отно-шению к нерусским российским национальностям).
Если культурные различия этнического характера носят подвиж-ный, сложный и не взаимоисключающий характер, то в сфере ре-лигии границы различий имеют более жесткий характер, а такиерелигии, как ислам, объявляют преступлением против религии пе-
155
и не устраивать кампании типа «Запишись татарином!» и не позво-лять другие формы этнического самоопределения, как это было впрошлой переписи в Татарстане.
Вопросы о языке и национальности должны быть усовершен-ствованы, а также должен быть включен вопрос о религиозной при-надлежности верующей части населения, которая, по некоторымданным, уже составляет большинство россиян. Самое главное, чтомы недостаточно учитывали в переписи и не всегда учитываем вобщественной практике и в управлении наличие в России значи-тельной части россиян, которые имеют сложное этническое проис-хождение, будучи потомками смешанных браков, число которых встране всегда было велико и может изменяться в будущем. Околочетверти населения страны живет в семьях со сложным этничес-ким составом, а это – весомая причина, по которой человек считаетсебя принадлежащим не к одной, а к двум или даже трем нацио-нальностям. Так, более 70% украинцев в России живут в смешан-ных семьях, в основном – в русско-украинских. То же характернодля российских немцев и для других дисперсно расселенных групп,а также для малочисленных народов. Часто человек осознает себяне только немцем, а русским немцем, или русским и немцем одно-временно, или ситуативно – в одних случаях русским, а в других –немцем. По этой причине, несмотря на жесткие установки, от пе-реписи к переписи миллионы людей совершают «переходы» из од-ной группы в другую. Этот выбор следует признать и уважать, а нетрактовать его как аномалию или как «предательство нации».
Несостоятельными оказались разговоры об «этноциде», якобыимевшем место в 1990-х гг. Перепись показала безосновательностьстрахов о катастрофическом сокращении численности русских.Накануне переписи были прогнозы, согласно которым численностьрусских, якобы, упала на 15 и более млн. чел. по сравнению с пос-ледней советской переписью в 1989 г. Сокращение действительноимело место, но на 3,3%, а доля в составе населения страны – на1,7%. Причина – демографическое постарение населения, большаячасть которого – городские жители. Прежде всего это связано с низ-кой рождаемостью и высокой смертностью. Миграция последнихлет отчасти компенсировала падение численности русского насе-ления. Дополнительным источником пополнения русского населе-ния является ассимиляция других групп населения, в том числе миг-рантов, в пользу русского языка и идентичности.
145
Государство, уважая равноправие религий и их последователей,тем не менее, должно учитывать сложившуюся в стране и в ее ре-гионах религиозную ситуацию, при необходимости ограничиваяагрессивный прозелитизм и религиозный экстремизм. Наконец,религиозная политика как часть политики многокультурности со-действует устранению последствий религиозных гонений, конфлик-тов и дискриминации, которые имели место в прошлом во многихстранах, а в странах бывшего СССР тем более. Без государствен-ной поддержки и при невысоком уровне жизни населениявосстановление некогда разрушенной религиозной жизни трудноосуществить, и это является одним из приоритетов государствен-ного управления в данной области. Наконец, власти и обществен-ность оказывают необходимое содействие в просвещении верую-щих и неверующих по части религиозных воззрений населения и ворганизации межконфессионального диалога и обеспечения толе-рантности. «Государства – какими бы ни были их исторические связис религией – несут ответственность за защиту прав и обеспечениесвобод всех своих граждан и за отсутствие дискриминации(в интересах кого-то или против кого-то) на религиозной почве»9.
В России за последнее десятилетие произошли радикальные из-менения в развитии религиозной ситуации и в отношении обще-ства к религии. Возродили активную религиозную жизнь предста-вители православия (открылись тысячи новых храмов и сотни но-вых монастырей, зарегистрировано более 10 тысяч религиозныхорганизаций), ислама (построено 6 тысяч мечетей, свыше 3 тысячорганизаций), иудаизма (новые синагоги, связи с Израилем, учеб-ные заведения), буддизма и других религий. Религиозная жизнь идеятельность, а также политика регулируются законами, которыеносят в целом демократический характер. Однако в области обес-печения религиозных прав и свобод, а также предотвращения ре-лигиозного экстремизма есть свои проблемы.
В период деятельности радикальных этнонационалистическихдвижений в 1990 г. в регионах Северного Кавказа и Поволжья ро-дилась идеология политического ислама, в том числе в крайнихформах религиозного джихада (борьба с неверными), которая былаиспользована для осуществления проектов вооруженной сецессииили замены государственной власти властью муфтията. Силовые иправовые меры со стороны государства позволили ликвидироватьугрозу разрушения государства и установления религиозных фун-
156
Некоторое сокращение численности имеет место среди марий-цев, удмуртов, чувашей, мордвы, хакасов, коми и других. Некото-рые категории, наоборот, численно выросли: аварцы, азербайд-жанцы, армяне, башкиры, буряты и др. Однако это не вызвало ра-дикальных изменений в этническом составе населения страны.Политизированная риторика о вымирании, например, финно-угор-ских или коренных малочисленных народов Сибири является бес-почвенной. Ни одна этническая группа не исчезла с карты нашейстраны в XX в., в то время как в других регионах мира исчезлидесятки малых культур. Мы должны противостоять аргументам впользу обязательного роста численности той или иной группы на-селения (естественно, за счет, видимо, уменьшения численностидругих) и объяснять, что человек имеет право не только на нацио-нальность, но и право менять национальность или принадлежатьсразу нескольким национальностям. Такой более сложный подходпозволит избежать ненужных конфликтов по поводу того, являют-ся казаки и поморы частью русского народа или они отдельныйнарод. Точно также со многими другими группами (коми-зыряне икоми-пермяки, кряшены и сибирские татары, цезы и андийцы и т.д.).
Российский народ как европейская нацияи его евразийская миссия
Россия, ее народ, несмотря на демографические проблемы, ос-тается крупнейшей европейской нацией. Инерция прошлого, кон-серватизм экспертного сообщества и этнический национализм час-ти элиты мешали все эти годы более энергичному утверждениюпредставления о России как о состоявшемся государстве-нации и ороссийском народе как о гражданской нации. Старые научные под-ходы и политические установки исходят из того, что теперь, якобы,поставлена задача из русских, татар, чувашей и прочих «делать рос-сиян». Это – ущербный подход. Российский народ-нация – не ре-зультат искусственной унификации, а де-факто объединенное эт-ническое разнообразие. Население новой России имеет высокуюстепень социально-политического и историко-культурного единства.Подавляющее большинство населения ставит свою гражданскуюидентичность («россиянин») на самое высокое место.
Этнонационалистам разного толка, да и значительной частинаучного сообщества, до сих пор претит такое понимание живой
144
осуществляются многочисленные региональные и общественныепроекты именно с целью сохранения частных «культурных корней»,будь это татарские, якутские, осетинские, или же более ветвистыеи крайне условные корни, как, например, финно-угорские или тюрк-ские. Эта политика не оставляет места тем чувашам или татарам,которые не говорят на чувашском или на татарском языках и кото-рых больше интересует российскость, а не финно-угорскость илитюркость? Как быть тем «финно-уграм», которые заинтересованыв том, чтобы их дети обучались не в Венгрии или Эстонии, а в мос-ковском вузе и могли сдать вступительный экзамен по русскомуязыку, а затем преуспеть по жизни именно в большом российскомпространстве? Отечественная «национальная политика» на обще-российском (действительно – национальном) уровне до сих пор наэтот жизненно важный вопрос для части, если не для большинства,населения ответа не дала. В то же самое время этнонационализм,отправляемый властями и общественностью некоторых россий-ских республик и областей, а также и на федеральном уровне, пре-успевает в реализации разделительных и вредных для многих лю-дей проектов. Приведем примеры такой политики в области рели-гии, образования и языковой политики и попробуем высказать не-которые рекомендации.
Признание религииКак мы уже отмечали, религия является одним из проявлений
культурного многообразия, и без эффективной религиозной поли-тики со стороны государства невозможно обеспечить культурнуюсвободу. Казалось бы, самый простой путь – это объявить об отде-лении церкви от государства и соблюдать сугубо светский харак-тер власти, предоставив религиозным институтам и общинам воз-можности саморазвития и взаимодействия. Однако этого недоста-точно. Религиозные доктрины могут иметь крайние формы прояв-ления и стать источником экстремизма и насилия, чего не можетдопустить государство и общество в целом. Религиозные инсти-туты склонны к соперничеству в борьбе за паству и могут претен-довать на исключительный статус за счет исключения или притес-нения других религиозных направлений и их последователей, анекоторые мировые религии и секты осуществляют прозелитизмв глобальном масштабе в ущерб так называемым традиционнымрелигиям на той или иной территории или среди того или иногонаселения.
157
российской действительности. Они воспитаны на том, что «наро-ды» и «нации» – это по сути отдельные, не похожие друг на другаэтносы, а проживающие в одном государстве, работающие в одномколлективе, живущие в одном городе, и даже члены одной семьи, сразными этническими корнями – не могут быть одним народом илинацией. В результате господства этих устаревших представленийобраз страны оказывается ущербным: территория есть, экономикаесть, столица есть, бюрократия есть, а народа или нации нет. Неследует отвергать право россиян относить себя к разным народами нациям в этническом их понимании, но нужно знать, что все этоформы коллективной идентичности среди единого и историческидавно существующего российского народа, который, по словамвыдающегося русского философа И.А. Ильина, представляет со-бой «многонародную нацию».
Русский язык и российская культура (от Пушкина и Гоголя доШолохова и Айтматова) сыграли выдающуюся цивилизаторскуюмиссию на евразийском континенте, не ограничиваясь только терри-торией исторического российского государства. Русский язык были остается языком культурного взаимодействия и взаимообогаще-ния представителей разных этнических культур в рамках обще-национальной культуры.
Российская нация всегда включала в себя людей разной этни-ческой и религиозной принадлежности. Так, например, россий-ские (прежде всего казанские) татары играли важную роль вдореволюционной колонизации и советской культурной модерни-зации региона и населения Средней Азии. Российские украинцысоставляли значительную часть первопоселенцев Восточной Си-бири и Дальнего Востока. Выходцы из Прибалтики, Закавказья,Украины составляли ядро советского руководства, особенно в пе-риод т.н. национально-государственного строительства и индуст-риализации. Никто и никогда не будет переделывать осетин, татар,русских, якутов в россиян. Они и есть россияне, российская нация,оставаясь по своей этнической принадлежности теми, кем они себясчитают.
Длительное пребывание в составе Российского государства и вполе доминирующей русскоязычной культуры не могло не привес-ти к определенной ассимиляции части населения. Значительнаячасть татар и башкир, адыгов и вайнахов, мордвы и марийцев, хан-тов и манси, карел и саамов перешли на русский язык, не утратив
143
ющих в создании культур и формировании самобытности во всеммире. Аргументы из области антропологии все чаще используютсятеми, кто пытается классифицировать социальные группы по«полочкам» обобщенных культурных типов. Подобную практикуантропологи в наши дни считают весьма сомнительной. Сегодняполитики, экономисты и в целом общественность хотят, чтобы тер-мин «культура» имел то ограниченное, конкретно-материальное,сущностное и вневременное определение, которое в последнее вре-мя отвергается антропологами»7. По-видимому, внедрение толе-рантности должно начинаться с привнесения новых подходовв обществоведческую экспертизу, а уже затем – в остальное об-щество.
3. Как лучше управлять культурныммногообразием
Если мы принимаем более современный подход в проблеме куль-турного многообразия и желаем проводить эффективную (мирнуюи к общей пользе) политику многокультурности, тогда необходимряд существенных корректив в науке и в общественном управле-нии. Казалось бы, простейший путь сохранения многообразия куль-тур – это их консервация (выражаясь более элегантно – «сохране-ние, поддержка и развитие») в том виде, как это многообразие сло-жилось на данный момент в нашей стране и в мире в целом. Нотогда, как справедливо задают вопрос авторы Доклада, «не сведет-ся ли после этого борьба за культурное многообразие к поддержкекультурного консерватизма, когда людей будут призывать оставатьсяверными своим культурным корням и не пытаться перенимать дру-гие образы жизни? Это немедленно приведет к переходу на пози-ции, противоречащие свободе, и к ограничению права выбора об-раза жизни, в котором, возможно, были бы заинтересованы мно-гие. Таким образом, мы окажемся в сфере иной исключительности,а именно – исключительности из участия, в отличие от исключен-ное по образу жизни, так как люди, принадлежащие к культурамменьшинств, будут исключены из участия в преобладающем направ-лении культуры»8.
В России, где постсоветская государственная стратегия строи-лась на идеологеме «национального» (читай – этнического) возрож-дения и развития, уже были приняты законы и программы, а также
158
своей идентичности, т.е. ощущения своей культурной самобыт-ности. Политизированные защитники меньшинств и некоторые уче-ные могут по этому поводу выказывать озабоченность, но им никтоне дал права решать за родителей, в какие школы отдавать и какомуязыку обучать своих детей. В целом же в культуре россиян совме-щаются и переплетаются как бы три культурных потока и три типаценностей: общероссийские, этнонациональные и общемировые.Все они в наше время тесно переплетены, и, например, современ-ная массовая культура вбирает в себя этнические компоненты, амалые культуры используют самые современные формы и русскийязык. Заботы о сохранении культурного наследия и этнических тра-диций не должны быть препятствием на пути модернизации и недолжны превращать жизнь людей в культурные изоляторы ради по-рою мифологизированной традиции, которой на самом деле никог-да не существовало. В то же самое время любовь к стране и рос-сийская идентичность будут только сильнее и богаче, если будутстроиться не только на уважении Москвы, государственных симво-лов, русской речи, но и родного края и собственной культурной от-личительности.
О причинах конфликтов и насилияи стратегиях противодействия
С подачи некоторых аналитиков и политиков в стране утверж-дается взгляд, что корни многих конфликтов заключаются в циви-лизационных несовместимостях разных народов страны и в низ-ком уровне жизни населения, особенно в таком, якобы, депрессив-ном регионе, как Северный Кавказ. По поводу цивилизационныхразличий – это чистый и зловредный вымысел, ибо различия меж-ду россиянами на основе этничности и религии на порядок меньшетого общего, что их объединяет. Не меньшим вымыслом являетсяпривязка насилия и экстремизма к обнищанию и социальной бе-зысходности. На самом же деле образ обедневшего Кавказа или дру-гих мест чаще всего служит не причиной, а оправдательным аргу-ментом нестабильности, криминала, сепаратизма и терроризма, а так-же средством выторговывать деньги из федерального бюджета. Су-дить, бедно или небедно живет население, только по средним зара-ботным платам или по «бюджетной обеспеченности» невозможно.Необходимо учесть и такие показатели, как размеры и качество
142
между центром и регионами. Культурное многообразие России –это не просто номенклатура проживающих на территории стра-ны народов, а многообразные, в том числе множественные имногоуровневые формы идентичности в рамках российскогонарода.
В связи с наличием в России различных форм псевдонаучногои улично-бытового расизма принципиальным является представ-ление о расовых различиях как об одной из форм социокультурно-го (а не биологического) многообразия. В современном общепри-нятом представлении раса – это социально-культурная категория иакадемическая конструкция, т.е. раса как чисто биологическая ре-альность не существует. Зато основанные на биологизаторском пред-ставлении о расе расиалистcкое мышление и расизм как практикаесть самые жесткие реальности. Для России это положение пред-ставляется актуальным, ибо пропаганда замшелых расовых теорийимеет массовое распространение в российском обществе. У расист-ских взглядов имеются сторонники в научной среде и в полити-ческом истеблишменте, не говоря уже о рядовых милиционерах,судьях, преподавателях школ и вузов. Доказывать несостоятельностьрасизма сугубо рациональными аргументами или научными факта-ми необходимо, но этого явно недостаточно. В случаях с расист-скими взглядами и действиями арсенал воздействия должен вклю-чать эмоционально-этические, правовые и другие методы, помиморациональных аргументов научного характера.
В последнее время понятие «культуры» в смысле как синонимслова «народы», а также положения об однородности, целостностии нераздельности этнических культур были во многом пересмотре-ны. Культурные различия больше не воспринимаются как нечтопостоянное и «шокирующе» непохожее (о мифическом «культур-ном шоке» в общении между собой россиян отечественные специ-алисты до сих пор рассуждают с упоением). Отношения по типу«свой – чужой» все больше рассматриваются как вопрос соотноше-ния сил и связанной с этим соотношением риторики, а не сущностичеловеческого сознания и поведения. При этом культура все боль-ше воспринимается как отражение процессов изменений, внутрен-них противоречий и конфликтов. По этому поводу авторы оонов-ского Доклада пишут: «По мере того, как антропологи теряли верув концепцию единого, стабильного и ограниченного «целого», этаконцепция находила признание у широкого круга людей, участву-
159
жилья, владение автомобилями, объемы меняемых иностранныхвалют, состояние здоровья, число студентов вузов и некоторые дру-гие, которые лучше говорят о том, как реально живут люди.
В контексте противодействия экстремизму, терроризму и обес-печения безопасности следует противостоять ошибочному мнению,что именно бедность порождает терроризм. Страна басков в Испа-нии и Северная Ирландия в Великобритании не являются беднымирегионами этих стран, но терроризм там есть. Гораздо более значи-мыми являются факторы идеологические, т.е. фундаменталистскаяпропаганда и индоктринация, особенно незрелых молодых людей,а также тривиальный меркантильный расчет, т.е. проплачиваниеэкстремизма внешними или внутренними манипуляторами. Мыдолжны научиться различать политизированные манипуляции на-селением за внешне порою привлекательными аргументами типа«исправления исторических несправедливостей» или «утвержденияистинных ценностей».
В России исторически сложилось доброе взаимопонимание исотрудничество между основными религиями и этническими груп-пами. Но в последние годы ситуация в регионах России вызываетбеспокойство. Связано это не только с возросшей бытовой ксено-фобией, но и действиями местных властей и общественных лиде-ров. Чего стоит, например, высылка цыганского табора по приказугородской администрации из Архангельска или откровенно нацио-налистические и провокационные призывы «Союза национально-го возрождения» (Республика Коми) к обеспечению особых прав«коренного» населения и ограничению прав «мигрантов». Случаинасилия на почве ксенофобии в крупных и малых городах сталиуже привычными. Общественная палата на своем пленарном засе-дании в апреле 2006 г. выработала рекомендации по про-тиводействию экстремизму, и участники совещания имеют этотдокумент.
Поддержка позитивных практик
В современной России на фоне глубоких социальных и полити-ческих перемен идет быстрое изменение воззрений отдельных граж-дан, их групп и институтов, смена идей, целей и ценностей. Этотпроцесс противоречивый, вызывает много споров и недовольства,но в целом он позитивный, и мы должны увидеть и поддержать
141
– это абсолютная норма, как бы не старались этнонационалистыподвергнуть сомнению российскую идентичность, выраженную всамом слове россиянин, как некий уродливый эвфемизм. Кстати,успешное существование и целенаправленное формирование мно-жественных и взаимодополняющих идентичностей в рамках еди-ного государственного сообщества вполне убедительно раскры-вается на примере таких стран, как Испания, Бельгия, Индия имногих других. Именно такая стратегия формирования нации при-знается как наиболее оптимальная и перспективная. Для Россий-ской Федерации она является единственно возможной.
Важно понять, что культурное многообразие и политика много-культурности – это не просто другие слова для замены привычныхотечественных понятий-концептов «многонациональность» и «на-циональная политика» или их более современных языковых вари-антов – «многоэтничность» и «этническая политика». К категориикультурных различий, которые существуют среди человеческихколлективов и которые необходимо учитывать в управлении, отно-сятся и другие, с этничностью жестко не связанные. Основанныена них сообщества также требуют признания и регулирования ихотношений с другими сообществами, как и обеспечение их членамдолжного статуса в обществе и государстве. Такое более широкоепонимание культурного многообразия во многом поможет россий-ским ученым и политикам выйти из тупика научных, правовых иполитических споров по поводу того, является та или иная группа«отдельным народом», «коренным народом» или нет, имеет ли онаправо на отдельную фиксацию в переписи или нет, можно ли ейсоздавать свою национально-культурную автономию или нет, мож-но ли принимать законы и другие правовые акты по поводу группо-вых сообществ, не отвечающих привычным критериям «народа»или «этноса».
Если мы разделяем более широкий и свободный взгляд на то,что есть культурное многообразие, тогда такие формы культурнойидентификации среди россиян, как кряшены (православные тата-ры), поморы (приверженцы историко-региональной традиции), ка-заки (сословно-историческая идентификация), кубачинцы (культур-но отличительное местное сообщество в Дагестане) и многие дру-гие самообозначения среди россиян не будут предметом ожесто-ченных дебатов и причиной обострения отношений между людьмис разной культурной идентификацией, между властью и населением,
160
этот позитив. В середине 90-х гг. все наше внимание было прикова-но к конфликтам в сфере этнокультурного развития, противоречи-ям возрождения религиозной жизни страны. А сегодня – совершеннодругие тенденции. Мы видим высокую степень консолидации рос-сийского общества, позитивные устремления граждан, возрос-шую активность общественных объединений, способствующих эт-ноконфессиональному диалогу.
Это новое позитивное развитие проявляет себя в самых разныхформах. Возьмите краеведческое движение. Многочисленные орга-низации, включая молодежные и детские, участвуют в поисковыхэкспедициях, ведут местные летописи, собирают предметы исчеза-ющего быта, фольклор, открывают сельские музеи. Отдельные эн-тузиасты, и их становится год от года все больше и больше, изуча-ют историю своей «малой Родины». И если раньше все подобныеинициативы исходили от властей или, как минимум, санкциониро-вались ими, то сегодня это делается по велению души тех, комуинтересна история своего края. Еще в 1998 г. на государственномуровне было поддержано туристско-краеведческое движение «Оте-чество», целями которого стали совершенствование организации исодержания обучения и воспитания подрастающего поколения сред-ствами туризма и краеведения; воспитание у школьников патрио-тизма, бережного отношения к природному и культурному насле-дию родного края; приобщение учащихся к краеведческой и поис-ково-исследовательской деятельности; сохранение историческойпамяти; совершенствование нравственного и физического воспи-тания обучающихся. Движение проводит всероссийские кон-ференции, награждает лучших юных исследователей родного края.
Посмотрите на гражданское участие в возрождении храмов. Ещевчера столь широкая поддержка этой бескорыстной работы каза-лась немыслимой, а сегодня – куда ни приедешь – везде люди тру-дятся по воскресеньям как каменщики и подсобные рабочие нареконструкции руин советского времени. Например, еще в 1990 г.по инициативе ректора Московской медицинской академии им.И.М. Сеченова академика Пальцева Московской Патриархии былипереданы здания церквей, находящихся в клиническом городке:Святого Димитрия Прилуцкого и Святого Михаила Архангела. Ака-демия деятельно помогала в восстановлении этих церквей. С нача-ла 1992 г. там уже идут богослужения. В 1997 г. началось возрожде-ние Центрального храма Русской православной церкви в Челябин-
7
161
ске – храма Христа Спасителя. Оно превратилось во всенароднуюстройку. Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Алек-сия II здесь находится икона святителя Николая, привезенная мо-рем из итальянского города Бари и особо почитаемая российскимипаломниками. Это – дар властей Италии. Таких вернувшихся к жиз-ни и верующим храмов во всей стране тысячи, движение в защитупамятников культуры и духовности значительно укрепилось в пос-ледние годы. По инициативе владыки Феофана сегодня на Север-ном Кавказе строится около 80 православных храмов, что имеетогромное значение для сохранения русского населения в регионе идля стабильности и духовного развития. Возрожденные церкви имонастыри создают новый облик наших городов и сел, сплачиваютлюдей, придавая новую энергию и новый смысл отношениям со-седства, становясь основой самоорганизации и самоуправления.
Возьмите такое явление в жизни России, как паломничество.Для православного или мусульманина побывать в святых местахнашей страны или за рубежом стало духовной потребностью. Напри-мер, Фонд поддержки духовного просвещения и культуры «Служе-ние», созданный в Воронеже, ежемесячно организует поездки посвятым местам: в пещерные монастыри с. Костомарово и Дивно-горска, в Дивеево, Оптину пустынь, в Серпухов, Санаксарский муж-ской монастырь, в мужской и женский монастыри г. Задонска, кисточнику св. Тихона, монастырь Серафима Саровского, в Троице-Сергиеву лавру и другие места.
Основную деятельность в этом направлении ведут Русская пра-вославная церковь, Духовное управление мусульман Европейскойчасти России. Так, Паломнический центр Барнаульской епархиивидит своей главной задачей практическое содействие возрождениюна Алтае древней традиции. Он помогает верующим совершать па-ломничество по святым местам России и за рубежом. Интерес к свя-тыням разных религий никак официально не стимулируется. Он –часть мировоззрения сограждан, примета нашего времени, котораязаслуживает одобрения и признания. Примеры возрождения хра-мов и паломничества – одни из тысяч подобных примеров.
Современную ситуацию в этнокультурном развитии России ха-рактеризуют организации в поддержку языка и традиций, школынародной кулинарии, кружки самодеятельности, объединения лю-бителей старины. Трудно даже перечислить все направления дея-тельности, какие есть у этнокультурных объединений, нет и точ-
184
лись из разнородных племенных групп, что они есть результат миг-рационных перемещений и популяционных контактов, включаяфизическое и культурное смешение. Уже по этой первопричине«влияние географической среды на человека не может считатьсяопределяющим фактором развития общества и основой измененийформ этнической общности» (Кушнер П.И. Этнические террито-рии… С. 21). В конечном итоге, как суммировал эту «теорию этни-ческих границ» автор монографии о Кушнере молодой исследова-тель Сергей Алымов, этнические границы (по крайней мере, в Ев-ропе) являются переходными зонами, заселенными представителя-ми нескольких национальностей и смешанных переходных групп.Поэтому само слово граница можно применять к этим зонам доста-точно условно. Размытая и прерывистая этническая граница имеетмало общего с четкими линиями естественных и политических гра-ниц. Ее конфигурация неустойчива, постоянно меняется и зависитот характера взаимодействия граничащих народов, процессов ко-лонизации, ассимиляции, политики государств и т.д. (Алымов С.С.Указ. соч. С. 152). Поскольку этнические границы чаще всего пред-ставляют собой районы со сложным этническим составом, основ-ной задачей является определить, как считает Кушнер, «действи-тельный национальный состав населения данной местности и егогеографическое размещение». Эта процедура достигается не толь-ко «субъективным» методом прямого вопроса об этнической при-надлежности индивида, но и «объективным» методом через кос-венное установление национальности по ряду признаков. Этотметод называется «реалистическим», так как национальность вы-является «по реально существующим этническим особенностям»(Кушнер П.И. Этнические территории... С. 42).
С. Алымов считает, что в теории этнической территории и эт-нической границы не было никакой заданности, и все эти разработ-ки никак не были связаны с советской внешней политикой и после-военными территориальными приобретениями. На самом же делеаргументы советских этнографов того времени были связаны с воп-росами послевоенного устройства в Европе и, в частности, с пере-дачей территории Калининградской области Советскому Союзу, аруководимый Кушнером Отдел картографии был секретным под-разделением института, куда не могли заходить даже сотрудникиинститута. Что же касается идеологической подоплеки, то аргумен-ты давнего заселения этих земель славяно-балтскими племенами
8
162
ной статистики, позволяющей полно представить эту работу в циф-рах. Очевидно, что в мероприятиях этих организаций принимаютучастие миллионы россиян. И в эту работу все больше и большевовлекаются дети и молодежь. Летние лагеря для изучения языкасвоего народа или проведение фольклорной экспедиции уже сталираспространенными явлениями. Причем деньги находятся у спон-соров, предприятий, подобные начинания все больше и больше под-держивает местный бюджет.
О деятельности этнокультурных организаций
Значение деятельности этнокультурных объединений, нацио-нально-культурных автономий в Российской Федерации, где про-живают представители многих народов, чрезвычайно велико. Приучастии этнокультурных сообществ в некоторых субъектах Феде-рации подготовлены соглашения о гражданском мире и согласиимежду органами государственной власти и общественными объе-динениями, разработаны региональные целевые программы под-держки значимых мероприятий. Организации, призванные удовлет-ворять интересы людей разной культуры, есть во всех регионахРоссии. Например, в Татарстане действует 35 национально-куль-турных автономий. А в Нижегородской области выделяются орга-низации представителей стран СНГ: азербайджанцев, армян, бело-русов, грузин, украинцев. Ряд обществ стремится поддерживать наНижегородской земле культуру российских народов – ингушей,марийцев, мордвы, татар. В Нижнем Новгороде действуют четырееврейские организации. Своими целями самодеятельные сообще-ства, созданные по признаку этнической принадлежности, видятсохранение традиций, культуры своего народа в условиях окруже-ния иных языков и культур. Большинство этих организаций, тем неменее, не работают изолированно, они кооперируются для реше-ния сходных задач с другими общественно-культурными объеди-нениями, с людьми других национальностей.
Этнокультурные организации играют в массе своей позитивнуюроль для местных сообществ, выполняют важные просветитель-ские задачи, воспитывают молодежь. Но у них немало и проблем.Одна заключается в том, что объединенная в национально-культур-ную автономию группа людей часто пытается присвоить себе функ-ции представлять интересы и чаяния всего народа. Между тем в
183
Основы современной территориальности
В чем проблема с самим понятием «этническая территория»?Если рассуждать с точки зрения зарождения и раннего формирова-ния той или иной культурной традиции, то даже в пределах однойяичной скорлупы могут сформироваться два жизнеспособных цып-ленка, тогда почему для формирования этноса нужна никем дру-гим не занятая или не используемая территория? Где и в какие вре-мена в таком случае находилась «целостная территория», когдаформировался русский или татарский этнос? Во всяком случае,Киев и Новгород такими местами никогда не были, как ими небыли Казань или древний Булгар. Подобный вопрос можно за-дать не только по русским и татарам, но и по всем другим наро-дам, не говоря уже о тех, кто сформировал свою отличительностьи самосознание уже в поздние времена европейской колонизациидругих регионов мира.
Конечно, география, прежде всего ландшафтные и климатичес-кие условия, играла важную роль при первичных заселениях иосвоении территорий Земли носителями разных культурных тра-диций. Более того, сами эти культуры складывались или видоиз-менялись под воздействием естественной среды. Но нам почтинеизвестны современные народы, которые бы не мигрировали в про-странстве или которые не размещались бы на уже обжитых землях.Собственно говоря, категория «подлинных» автохтонов сегодняпредставляет собой крайне малочисленную часть населения Зем-ли, и это население известно как «индигенные» (аборигенные) на-роды, обладающие некоторыми специфическими правами, нацио-нальными и международными защитными механизмами. В Россииэта категория населения определена законом как «коренные мало-численные народы». Их численность составляет около четверти мил-лиона, но она растет, как и растет число претендентов попасть вэтот утверждаемый правительством список. В российском законо-дательстве присутствует формула «территория традиционного при-родопользования», но она означает категорию публичного, а не иму-щественного права, хотя аборигенные общины хотели бы заменитьслово «территория» на слово «земля» и объявить о своем исконномправе на владение.
Таким образом, исторический, археологический и лингвисти-ческий материалы свидетельствуют о том, что все народы сложи-
163
подобных организациях крайне трудно предусмотреть демократи-ческие процедуры выборов, в результате, организации, националь-но-культурные автономии говорят и пишут о том, что не разделяюттысячи и десятки тысяч представителей народа. Это зачастую слу-жит основой конфликтных ситуаций, чреватых серьезными послед-ствиями в полиэтнических регионах.
В последнее время наблюдается увеличение числа религиозныхорганизаций: если в 1996 г. их насчитывалось около 13 тыс., то в2006 г. – уже более 22,5 тыс. Крупнейшая из конфессий – Русскаяправославная церковь – значительно расширила свое влияние: нынезарегистрировано более 12 тыс. ее приходов, монастырей, епархий.Растет число организаций и приверженцев других традиционныхдля России конфессий. Религиозные организации ведут большуюсоциальную работу. При православных храмах открыты и постоян-но действуют благотворительные столовые – только в одной Моск-ве таких столовых более двух десятков. Монастыри содержат своитрапезные, открытые для нуждающихся и малоимущих. Важнуюсоциальную функцию выполняют богадельни и детские приюты.В последние годы Русская православная церковь и организациидругих традиционных конфессий находят новые формы деятель-ности: организуются встречи верующих по интересам, анонимнооказывается помощь людям, страдающим алкоголизмом, больнымСПИДом, наркоманией, добровольцы работают в государственныхи муниципальных больницах. Оказывается помощь мигрантам, пе-реселенцам и беженцам. Члены религиозных общин работают втюрьмах и колониях, собирают вещи для нуждающихся.
О чем все это говорит? Мне кажется, что только теперь начина-ет наконец-то формироваться новая система отношений, котораядавно и прочно утвердилась в европейских странах. Этническая ирелигиозная жизнь – это в самой малой степени «территория от-ветственности» государства. Этническая и религиозная жизнь – этовыбор и труд самого гражданина, созданных им в содружестве сдругими гражданами организаций и союзов. Этническая и религи-озная жизнь – право человека оставаться самим собой, быть не по-хожим на других. Это никак не снижает требований подчинятьсяобщим законам, сосуществовать вместе, крепить гражданскую со-лидарность ради процветания государства. Вот почему примеры са-моорганизации, инициативы, общественной активности чрезвычай-но важны.
182
внутригосударственными образованиями, а также между предста-вителями разных этнических общин. Этот вопрос был чрезвычай-но актуален как после Второй мировой войны, так и после распадаСССР и Югославии. Точнее, он становится актуальным всегда, когдаполитики начинают делить между собой территории, ибо они естьпрежде всего территориальные образования в отличие от другихсообществ (этнических, конфессиональных, деловых, информаци-онных и т.п.). В марте 1945 г. в Институте этнографии АН СССРсостоялась закрытая от публики защита кандидатской диссертацииП.И. Кушнера по проблеме «Западная часть литовской этнографи-ческой территории». На ней диссертант сформулировал проблемутакими словами: «Каким путем следует устанавливать этническийсостав населения спорных территорий и что важнее при определе-нии этнического характера территории – заселенность ее в настоя-щее время определенным народом или т.н. исторические права дру-гого народа на эту территорию» (цит. по Алымов С. П.И. Кушнер иразвитие советской этнографии в 1920–1959-е гг. М., 2006. С. 144).
Кушнер подверг критике «мажоритарный» метод, который от-талкивается от существующего этнического большинства и пред-лагает при решении территориальных споров учитывать фактор«туземного» населения, которое имеет на определенную террито-рию «исторические права» на том основании, что данный народсформировался на ней и связан с нею «длительным, многовековымпребыванием». Вот какой ответ был дан советской этнографией тоговремени на этот до сих пор злободневный вопрос мировой науки иполитики: «Длительное, многовековое пребывание народа в опре-деленной местности отражается на его экономике, обычаях, пси-хическом складе, т.е. сказывается на его материальной и духовнойкультуре. Но, с другой стороны, и территория меняет свой внешнийоблик, подвергаясь культурному воздействию населения. Воздви-гаемые населением постройки, дорожные сооружения, наконец,методы обработки земли, культурные насаждения и пр. придаютвсей местности определенный этнический колорит… Можно былобы дать такое определение этнографической территории: это – об-ласть, на которой данный народ развился, на которой он обитает(или обитал до недавнего времени) и с которой он длительно и не-прерывно связан своей творческой культурной деятельностью»(Кушнер П.И. К методологии определения этнографических тер-риторий // СЭ. 1946. № 1. С. 14).
164
О законах и ответственности государства
В то же время у государства остается своя «зона ответственно-сти» в строительстве этнокультурных отношений. Речь идет, преж-де всего, о совершенствовании российского законодательства,которого, по нашему мнению, сегодня пока нет. Есть отдельныезаконы – о национально-культурной автономии, о коренных мало-численных народах. Нет общего основания для этнокультурногоразвития страны: не определены статусы, «правовые коридоры» дляязыка этнических групп и общностей, преподавания его в школе,нет ясности в вопросе государственной и местной поддержки ме-роприятий, проводимых организациями этнокультурного направ-ления. Нет представлений о принципах и методах информацион-ной политики в интересах российских народов. Наконец, государ-ство самоустранилось, не имея законодательной базы, от такой ра-боты, как воспитание общества в духе солидарности и укреплениягражданского мира. Конечно, для написания законов нужны высоко-профессиональные люди, способные современные процессы оце-нить с точки зрения права и дать юридическую формулу разреше-ния противоречий, регулирования отношений. Сегодня много защи-щается диссертаций по проблемам этнологии, этнополитологии.Однако среди авторов мало концептуалистов, способных создатьзаконодательство, которое было бы принято обществом.
Акты, которые сегодня действуют, остаются противоречивыми,не вносящими определенности в деятельность организаций этно-культурного характера. Достаточно обратиться к Федеральномузакону от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии».Он в первой же статье «Понятие национально-культурная автоно-мия» провозглашает, что «национально-культурная автономия яв-ляется видом общественного объединения. Организационно-пра-вовой формой национально-культурной автономии является обще-ственная организация». Национально-культурная автономия – этообщественная организация. Тогда непонятно, зачем нужен был спе-циальный акт, не проще ли было внести поправки в законы об об-щественных объединениях и некоммерческих организациях?
Ситуацию еще более запутало Постановление Конституцион-ного суда Российской Федерации от 3 марта 2004 г. № 5-П «По делуо проверке конституционности части третьей статьи 5 Федераль-ного закона «О национально-культурной автономии» в связи с жа-
181
Географы не противились такой жесткой связке географии икультуры. Тем более что этнография как наука долгое время разви-валась в рамках той же самой географии. Однако сомнения по по-воду принятия каких-либо естественных рубежей за подлиннуюграницу любой национальности проявились довольно рано. Еще в1866 г. этностатистик Р. Бэк писал следующее: «Если бы кто-либозахотел подразделять народы в зависимости от того, населяют лиони горы или долины, континентальные или приморские местнос-ти, и их нравы и обычаи определил бы как континентальные илиприморские, горные или долинные, или подразделил бы их сооб-разно климату, то ему не удалось бы сделать это, ибо крайне труднонайти народ, который занимал бы пространство в пределах такихточно очерченных естественных границ» (цит. по Кушнеру, с. 21).Спустя 20 лет С.А. Арутюнов и Н.Н. Чебоксаров, а затем –Ю.В. Бромлей, повторили этот тезис. «Таким образом, выступивкак непременное условие формирования этноса, целостность тер-ритории не является строго обязательным фактором сохраненияобщих характерных черт всех частей этноса», – писал Ю.В. Бром-лей (Современные этнические процессы в СССР, 1977. С. 11).
С позиций современного знания мы можем задать вопрос: а былали непременным условием формирования этноса так называемая«целостность территории» и что это означает? Если внимательнопрочитать это высказывание, то оно означает наличие не простоодного-единственного местоположения для так называемого этно-генеза, но и наличие этого местоположения только для конкретно-го этногенеза и ничьего более. Теоретики этноса и этногенеза недопускают нескольких местоположений для оформления единойгрупповой идентификации или оформления нескольких этничес-ких (культурно различных) идентификаций в одном местоположе-нии. И в этом для меня есть вопрос, который требует обсуждения,ибо «территория этногенеза» на сегодняшний день остается самыммощным аргументом в пользу объявления той или иной террито-рии как этнической. Этот аргумент в ряде случаев обладает дажебольшим воздействием, чем сегодняшняя демографическая ситуа-ция, которую можно объявить как искусственно созданную или жеона является действительно таковой в силу прямого или косвенно-го принуждения.
Этническая территория (или граница) чаще всего становитсяаргументом в территориальных спорах между государствами или
165
лобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахера». Им было установле-но, что на уровне Федерации, того или иного субъекта Федерации,местного поселения может быть только одна автономия того илииного этноса. И это решение буквально «вытолкнуло» из сферыдействия закона множество организаций. Получилось, что феде-ральный акт распространяется на 621 национально-культурнуюавтономию (по статистике 2006 г.), тогда как этнокультурных объе-динений десятки тысяч, в них объединены миллионы людей. В со-ответствии с законом национально-культурные автономии «могутполучать» государственную поддержку. О других организациях, чьядеятельность также важна для людей, – ни слова. Разумеется, напрактике органы государственной власти и местного самоуправле-ния стремятся поддержать те и другие организации. Выходит, чтоникакого особого статуса у национально-культурных автономий нет.
Вопрос финансирования организаций – еще один острый воп-рос. Не случайно Государственная Дума по предложению Обще-ственной палаты приняла к рассмотрению законопроект «О поряд-ке формирования и использования целевого капитала некоммерчес-ких организаций». Однако это – лишь один из путей решения про-блемы. Как показывает практика, общественные объединения, иэтнокультурные в их числе, медленно учатся современным мето-дам получения средств для ведения своей работы. Гранты, проекты– это многими отвергается как «низкий» способ получения средств.Контакты с некоторыми организациями убеждают: люди привыклитребовать и по-прежнему требуют полного финансирования своейдеятельности со стороны государства. Более того, некоторые из нихв 90-х гг. стали задолжниками перед бюджетом, не отчитались запотраченные деньги, несмотря на это, не оставляют усилий «вы-бить» новые средства.
Умение вести проектную работу – это особый вид деятельнос-ти. Например, для российской науки на первых порах ее перестрой-ки также было внове писать заявки на гранты, получать стипендии.Только со временем наши ученые освоили это «искусство» и нача-ли достойно жить. Общественные организации в Москве и круп-ных городах также овладели навыками подобной работы. Но врегионах, где собственно и есть особая нужда в получении средствдля изучения языка или поддержания традиций, пока редко кто по-лучает гранты. Никто общественников не учит, как подавать заяв-ки, никто не ориентирует их на грантодателей, в том числе и госу-
180
2009 г. начата 3-летняя программа фундаментальных научных ис-следований по проблемам пространственного развития, координа-тором которой является академик А.Г. Гранберг. В программе естьпроект по историко-культурным образам российских регионов, осо-бенно применительно к многоэтничным регионам (Северный Кав-каз и Поволжье). Этот доклад я рассматриваю как одно из первыхприближений к теме с точки зрения социально-культурной антро-пологии и этнологии.
Пространство, понимаемое как территория, было и остаетсяключевым компонентом в этнологии. Территориализация этнич-ности (определение ареалов расселения этнических общностей,наделение их политико-административным статусом через «своюнациональную государственность», индоктринация по поводуэтнотерриториальной идентичности) была одним из наиболееувлекательных занятий отечественной этнологии на протяжениидлительного времени. Поэтому еще одна работа также послужи-ла толчком для моих сегодняшних размышлений, хотя она от-стоит от нас более чем на полвека. Это книга Павла ИвановичаКушнера (Кнышева) «Этнические территории и этническиеграницы» (1951). Попробуем выстроить диалог между казалосьбы далеко разошедшимися взглядами советских этнографов глу-хого сталинского времени и современных культургеографов и ан-тропологов.
Природные границы-рубежи и теорияестественных границ
В науке долгое время существовала теория, которая исходилаиз «естественности» наций, прирожденности национальных осо-бенностей народов, зависимости их психического склада от усло-вий мест обитания. У Э. Реклю и Демолена, а позднее – у Ф. Ратце-ля было много последователей, доживших до сегодняшнего дня.Их установкой было доказать теснейшую связь этнических рубе-жей с рельефом и природными условиями местности. Не избежалиэтого искушения некоторые корифеи отечественной историогра-фии, как, например, В.М. Соловьев и В.О. Ключевский, не говоряуже о давних и нынешних философах и психологах, а тем более – огеополитиках, одержимых глобальными конструкциями и онтоло-гическим взглядом на историю и культуру.
166
дарственные органы, обязанные на конкурсной основе распреде-лять бюджетные деньги. А это нужно знать: в законопроекте«О государственной политике в сфере межэтнических отношений»,в экспертизе которого принимала участие Общественная палата Рос-сийской Федерации, предусмотрено создание правовых основ фор-мирования и реализации региональных программ в пользу этогорода организаций.
Обучать необходимо и государственных служащих. Как пока-зывает практика, представления о современных этнических про-цессах, способах разрешения межэтнических конфликтов необхо-димо формировать, прежде всего, у работников правоохранительныхорганов. Конечно, в органах внутренних дел много компетентныхлюдей. События в Кондопоге потому привлекли к себе такое вни-мание, что сегодня все регионы страны – полиэтничные. Везде естьсвои проблемы в организации рыночной торговли, распределениирабочих мест, в получении доходов разными слоями населения, номир и согласие в большинстве регионов воспринимаются властямии обществом как норма, но не как рутинная данность, и ради еесохранения делать нужно очень много. Противостояние «местных»и «пришлых» в маленьком карельском городке – это не проявлениеобщей ситуации или же предвестник скорого будущего страны, аскорее абсолютная аномалия, в которой были повинны, в первуюочередь, местные власти, а также «местный» и «пришлый» крими-нал. Чтобы исключить повторение подобных событий, нужна уче-ба тех, кто призван обеспечивать спокойствие в обществе, безопас-ность граждан. Однако программ повышения квалификации госу-дарственных служащих для проведения местной политики в поли-этничных регионах практически нет. Были пилотные семинары поформированию толерантности, например в Самарской области, ноэти отдельные позитивные начинания не сменились системой под-готовки кадров. Тут нужна практическая направленность курсов,помощь в организации диалога разных групп – представителей граж-данского общества и власти.
Другая категория представителей власти, которая особенно пол-но должна «владеть темой», – это муниципальные служащие. ИзФедерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» полностью «выпала» этнокультурная проблема, хотявопросы культуры, досуга, безопасности – в ведении органов мест-
179
ТРИ КАРТЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ,АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
И ЭТНИЧЕСКАЯ*
«Граница – это и есть единый критерийдля всех идентичностей современного мира,пребывающего в состоянии постоянногостановления»(Алешандро Мело. Трансокеанский экспресс //Художественный журнал. 1997. № 16. С. 12)
Поскольку заглавная тема нашего конгресса – культура граници границы в культуре, то мой первоначальный замысел состоял втом, чтобы рассмотреть взаимодействие трех реальных феноменовнашей жизни: природно-географической среды, государственно-политических образований и этнической мозаики через призму этихпонятий и через понимание пространства как такового. В связи сэтим выскажу тривиальную мысль, что нет культуры вне простран-ства, а пространство есть всегда культурно осмысливаемая субстан-ция. Причем сразу же скажу, что другие многозначные смыслы словапространство (правовое, информационное и т.д.) нас здесь не инте-ресуют. Мы ведем речь о географическом пространстве. Его ос-мысление зависит от опыта, задачи и ракурса, с которого постига-ется сама категория пространства.
Постулат о первичности пространства и в то же самое времяобусловленности пространства культурой очень любят современ-ные культургеографы. Нужно отдать должное их исследователь-ским достижениям последнего времени. Назову только фундамен-тальную книгу Дмитрия Николаевича Замятина «Культура и про-странство» (2006), которая, помимо авторских выводов по пробле-ме моделирования географических образов, содержит обширнуюбиблиографию новейшей литературы в данной области. Им же опуб-ликована хрестоматия по этой проблематике. В Президиуме РАН в_____________* Этнопанорама. 2009. №1–4. С. 2–7.
167
ного самоуправления. Сейчас Министерство регионального разви-тия Российской Федерации работает над поправками к этому зако-ну. Но этого вряд ли будет достаточно. Повышение компетентнос-ти муниципальных служащих – это актуальная задача. К сожале-нию, пока нет нового закона о муниципальной службе, в которомдолжно быть предусмотрено регулярное повышение квалификацииэтой категории чиновников.
Назрела необходимость специальных совещаний и тренинговпо вопросам правоприменительной практики в плане профилакти-ки экстремизма. Необходимо создать группы общественногомониторинга и реагирования, которые могли бы оперативно пода-вать судебные иски и возбуждать дела по разжиганию этнорелиги-озной нетерпимости. Необходимо отказать в публичности лидерамэкстремизма и их духовным вождям. Необходимо повысить обще-ственную планку восприятия националистической идеологии ириторики в языке СМИ и в научном сообществе. Руководителямдумских комитетов должно быть ясно, что неприлично приглашатьв стены российского парламента патологических националистов.Руководителям телевизионных шоу также надо отказаться от соблаз-нительной скандальности тех российских парламентариев, которыеразжигают среди россиян межгрупповую ненависть. Редакторамгазет и журналов не мешает научиться различать неприемлемыйдля общества расизм и национализм и не забывать о том, как печат-ное слово может воздействовать на рядового читателя.
Информационная работа
Еще одно «слабое звено» – информационная работа. Меньшевсего, как показывает деятельность наших масс-медиа, к реалиямРоссии готов отечественный журналист. Иногда кажется, что ни-какого представления о последствиях своих материалов и сюжетовна этнокультурные и религиозные темы у авторов нет. Я знаю, ка-кие бывают редакционные «разносы» корректорам, пропустившимопечатки. Но глупости на темы совместного жительства наших на-родов проходят практически без последствий для тех, кто их выпу-стил в свет.
Для многих этнокультурных обществ информационная деятель-ность – ядро всей активности. Вокруг газеты или журнала сплачи-ваются люди, заинтересованные в новостях о жизни народа, в изу-
178
Сейчас формула «многонационального народа» может сохра-няться в Конституции при условии признания в качестве приорите-тов государственной политики не только развитие этнонаций, но иутверждение категории «российского народа» как гражданской на-ции с его общими национальными ценностями, интересами, эконо-микой, культурой, образованием, лидерами, проектами и т.д. Иначеполучается абсурд: национальные проекты есть, а самой нации нет!Чтобы было ясно, что российский проект не противоречит русско-му, татарскому или другим этнонациональным проектам, нужнообъяснять, что российская идентичность является надэтнической,и она не отменяет идентичность и целостность этнонаций. Такимобразом, Россия – это нация наций.
Кстати, такой формулой пользуются многие государства, схо-жие по своему типу с Россией. В России проект гражданской рос-сийской нации и идентичности поддерживает значительная частьэкспертного и политического сообщества. Что касается населениястраны, то все последние социологические замеры показывают, чтороссийская, гражданская идентичность стоит на первом месте посравнению с другими формами идентичности, включая и этнона-циональную.
168
чении языка, в установлении внутриэтнических контактов. Мно-жество изданий выходит в Москве и регионах на языках россий-ских народов, в печатном слове на родном языке чувствуют потреб-ность и мигранты из-за рубежа. Государственные органы поддер-живают эту прессу, но и тут системы нет: не ясны принципы, покоторым распределяются деньги, нет законодательных установокна сей счет.
Сегодня этнокультурное разнообразие отлично себя чувствуетв Интернете. Создано множество сайтов на языках народов нашейстраны, они обновляются, содержат интересную информацию. Под-держание сайта – наиболее дешевый способ распространения све-дений и объединения людей. Не случайно, что наши соотечествен-ники за рубежом открывают русскоязычные ресурсы для общениядруг с другом и с родиной. В одной только Германии десятки такихресурсов, начиная с сайтов русскоязычных тиражных газет и кон-чая сайтами общин бывших советских граждан крупных городов,например Берлина или Штутгарта. Однако Интернет не может бытьбез норм и правил. Сегодня очевидно решающее воздействие Интер-нета как источника межгрупповой ненависти и вражды. Компью-терные сети – это не только ресурс информации в учебе или бизне-се, не только способ развлечения, но и масштабное распространениеультранационалистических и расистских взглядов и призывов. Гла-шатаи ксенофобии в России без страха перед ответственностьюиспользуют Сеть в преступных целях. Чего стоит хотя бы вос-хваление на сайтах думских депутатов убийц из так называемой«банды патриотов», которая действовала в Санкт-Петербурге. Дей-ствующие федеральные законы и принятые в апреле 2006 г. Общест-венной палатой рекомендации по противодействию экстремизму некасаются в должной мере этой проблемы. А принятые поправки кзакону о противодействии экстремизму также почти не затронулиИнтернет.
Сегодня в десятках стран с разными политическими системамиприняты законы, устанавливающие контроль (цензуру) за Интерне-том, и уже сотни интернет-преступников осуждены судами. Недавнобыла принята Европейская конвенция по борьбе с киберпреступнос-тью, которая предоставляет государственным службам безопаснос-ти возможность поиска и перехвата информации в Интернете. Чтонеобходимо сделать в России с целью противодействия ксенофобиии экстремизму? Первое – это самоконтроль профессионалов Сети,
177
ного государства наша страна всегда имела сложный этнический ирелигиозный состав населения, и всегда русский народ был самыммногочисленным и составлял большинство населения, а его язык,культура и религия определяли историко-культурный облик насе-ления страны и составляли основу общероссийской культуры иидентичности. В Российской империи русский и российский былипочти синонимами, ибо русскими считались все восточные славя-не и православные жители страны. В стране имелись представле-ния о большой русской нации, о единой России, о российском на-роде и россиянах, а сама страна в начале ХХ в., несмотря на импер-скую форму правления, представляла собой в значительной меренационализующееся государство, как и другие страны Европы иАмерики.
В СССР понятие нации и национального было спущено на уро-вень этнических общностей. Этнический принцип внутреннего го-сударствоустройства был назван «национальной государственнос-тью». Нерусские народы получили свои «национальные государ-ства» в виде республик. Для этого некоторые «социалистическиенации» были сконструированы из регионально-племенного разно-образия. Скрепляющей основой государства были репрессивныйаппарат, единая идеология марксизма-ленинизма с ее эклектичнойтеорией национального вопроса, а также советский патриотизм иформула дружбы народов. СССР мощно спонсировал этнонацио-нальное многообразие, а вместо гражданского нациестроительстваиспользовалась формула единого советского народа как нового типаисторической общности. Фактически советский народ был продол-жением исторического российского народа, и такая общность про-должала существовать, а СССР был многоэтничным национальнымгосударством, как и другие крупные государства. Таковым он при-знавался международным правом и сообществом. Отличия СССРот остального мира в этом аспекте в большей степени носили док-тринальный и терминологический, а не сущностный характер. Фор-мула «многонациональности» и непризнания российского народакак историко-культурной и гражданско-политической целостнос-ти, т.е. как государства-нации, перекочевала в текст КонституцииРоссийской Федерации. Предложение определить страну как «мно-гонародную нацию» (формула И.А. Ильина) тогда не было принятопо разным причинам, в том числе под давлением этнонационалис-тов и доктринеров из числа теоретиков «национального вопроса».
169
производителей и распространителей электронной продукции. Се-годня даже респектабельные провайдеры и фирмы, создающие и под-держивающие сайты, никак не озабочены содержанием помещаемыхматериалов, ибо не считают это своим делом. Но если «бумажный»издатель и даже печатник несут ответственность за продукцию пе-ред своими коллегами-профессионалами и могут быть наказаны зарасизм, неонацизм и призывы к насилию, то в Интернете такой сис-темы нет, а сами коллеги никаких правил не выработали. Второе –это общественный контроль через институты гражданского обще-ства. Третье – это правовое регулирование, т.е. государственноевмешательство в регулирование деятельности Интернета. Здесь ужеимеется огромный опыт и выработаны разные подходы. Почти всеправительства жестко ограничивают и наказывают за распрост-ранение в Интернете материалов, возбуждающих расовую нена-висть. По этой части Россия пребывает среди отстающих.
В целом, информации о культурных проектах, событиях в жиз-ни разных народов очень мало. Такое впечатление, что на феде-ральную новостную ленту есть шанс попасть только у Кондопоги.Лишь изредка мелькнет на экране татарский Сабантуй или еврей-ская Ханука. Опытные ньюсмейкеры, которые пока не занимаютсяосвещением этнокультурных тем, мгновенно «раскрутили» бы дажесамое малозначимое позитивное событие, создали бы тысячи ин-формационных поводов обращения к сюжетам о традициях и куль-туре. Редко интерес к этой теме проявляют политики, обществен-ные деятели «первого ряда». А ведь одно только появление узнава-емого, уважаемого человека на том или ином локальном, но важ-ном для местного сообщества мероприятии уже выводило бы егона уровень всей страны. Кстати, Президент Российской ФедерацииВ.В. Путин – один из немногих таких политиков, который прини-мает участие в праздниках, в культурных мероприятиях разныхроссийских народов. Это – благотворный «метод умножения авто-ритета» для самочувствия и маленьких поселений, и всей страны.
Все эти меры нужны потому, что Россия вступает в фазу дина-мичных изменений ее этнокультурной жизни. Мы будем принима-ющей мигрантов страной, и к нам приедут люди разных языков,традиций, образа мысли и действия. Мы должны быть готовы ме-няться и сохранять спокойствие и мир, добиться упрочения соли-дарности граждан. Этническое многообразие России и ее националь-ное единство могут стать основой этой солидарности. Новый нео-
176
цы) составляют гражданские нации (в данном примере – британ-скую, бельгийскую, канадскую), не утрачивая своей отличительно-сти и в ряде случаев особого статуса. Например, шотландец ГордонБраун является одним из лидеров британской нации, Николя Сар-кози (венгерский еврей по этнической принадлежности) – лидеромфранцузской нации.
Однако сторонники этнокультурного или этнорегионального по-нимания нации зачастую отрицают право и политику государствапо обеспечению гражданского сообщества как нации, особенно еслиона сопровождается дискриминацией, подавлением и отрицаниемэтнонаций. Это происходит как в форме внутриполитических кон-фликтов и общественных движений, так и в форме открытого во-оруженного сепаратизма. Последний зачастую поддерживаетсявнешними силами со стороны геополитических соперников и не-которых этнических диаспор. Этнонационализм в его изоляцио-нистской или сепаратистской формах является одним из главныхвызовов для государств со сложным составом населения. Государ-ства с разной долей успеха справляются с этим вызовом через сле-дующие стратегии:
а) через государственно-правовые нормы, идеологию, культу-ру, образование, информацию и другие институты утверждается об-щегосударственная (национальная) идентичность, гражданская со-лидарность и общие ценности;
б) через разные внутренние формы самоопределения, включаягосударственное устройство, и этнонациональную политику при-знается и поддерживается этническое и региональное своеобразие,культура, язык и идентичность всех этнических общностей (наро-дов или наций);
в) идеологическими, правовыми и силовыми методами нейтра-лизуются или подавляются проявления крайних форм этническогонационализма, особенно в их сепаратистских вооруженных фор-мах или в форме разжигания межнациональной вражды и ненавис-ти и основанных на них насилии.
Как в этом мировом контексте видится ситуация в России?Современная Российская Федерация есть продолжение истори-
ческого российского государства – Российской империи и СССР,несмотря на то, что значительная часть территории страны и насе-ления были утрачены после распада СССР и образования новыхгосударств на его территории. После образования централизован-
170
расизм в России по сути этнический. Люди называют «черными»выходцев с Кавказа, которые на самом деле являются светлокожимиевропейцами. Схожие фобии встречаются в других странах – и дажев богатых. Тем не менее, ксенофобия – это не природное качествороссиян. Люди будут гораздо лучше относиться ко вновь прибыв-шим, если они будут получать информацию о том, какую пользуприносят мигранты стране, городу, им лично. У нас все-таки несложилась в последние годы пространственная сегрегация – с при-городами или городскими кварталами, населенными преиму-щественно иммигрантами, и нам, конечно, нужно принять какие-то меры, чтобы и в будущем у нас не складывались своеобразныеэтнические гетто.
Фактор миграции в вопросах стабильностии развития
Нашим российским выводом должно стать противодействие ан-тимиграционизму. Общество им пропитано, начиная с известныхполитиков и кончая массовыми настроениями. Это большая мораль-но-этическая проблема российского общества. Недоплачивают миг-рантам, используя их дешевый труд, фактически миллионы росси-ян. Это и те, кто использует нянек для своих детей, кто ремонтиру-ет квартиры, строит дачи. Работодатели, которые сооружают домаи дороги. Толковать проблему миграции только как коррупцию состороны милиции и органов власти недостаточно. Это своего родаморальная коррупция всего российского общества в отношениимигрантов, которые еще 15 лет тому назад были такими же гражда-нами одной страны.
Россия в последние годы проводит политику свертывания миг-рации из стран бывшего СССР. И тем самым подрывает собствен-ную национальную безопасность. Страна объективно заинтересо-вана в притоке квалифицированных легальных трудовых ресурсов.Россия может упустить исторический шанс забрать часть населе-ния бывших союзных республик после распада, руководствуясьутопичными представлениями, что этнические соплеменники дол-жны вернуться на свою «историческую родину», а другие – ос-таться в «своих государствах». Цивилизаторская роль России вотношении всех своих бывших сограждан сделала их во многихотношениях россиянами, независимо от этнической принадлежно-
175
селения (кастильцы в Испании, англичане в Великобритании, хань-цы в Китае, русские в России и т.д.). Не менее часто, наоборот,общность формируется после создания государства, и тогда онаобретает историческую и территориально-политическую идентич-ность, а культурно-языковая схожесть формируется позднее илиникогда. Так были созданы современные государства Европы, Аме-рики и Африки. Австрийская, голландская, бельгийская, итальян-ская, германская, бразильская, аргентинская, американская нациивозникли уже после создания соответствующих государств.
Каждое зрелое государство с центральной властью предприни-мает усилия по формированию национального сообщества на граж-данской основе, стараясь преодолеть часто препятствующие этомурелигиозные, расовые, этнические, племенные, языковые, местно-региональные различия. Государство для собственной безопаснос-ти и целостности утверждает через разные механизмы (от симво-лики и права до идеологии, образования, культуры и спорта) пред-ставление о едином народе-нации, т.е. формирует силами элитынациональную идентичность как чувство принадлежности илояльности своей стране. В выраженной форме это называютпатриотизмом или любовью к Родине. Это можно назвать такжегражданско-политическим или государственным национализмом.Процесс гражданского нациестроительства не означает отрицаниеэтнического и регионально-местного своеобразия.
В современном мире существует огромный опыт, в том числе иотечественный, признания и сохранения такого своеобразия. Наи-более распространенной и эффективной является формула «един-ства в многообразии». Она признает и утверждает регионально-специфическое начало и поддерживает этнонации через разныеформы внутреннего самоопределения (территориальные или наци-онально-культурные автономии). Но она также обеспечивает наци-ональное единство через общие культурные, исторические, поли-тические, эмоциональные и другие ценности и представления обединой гражданской нации. Таковыми являются китайская, британ-ская, индийская, канадская, индонезийская и все другие крупныенации (может быть, за исключением почти этнически гомогеннойяпонской) мира. Крупные государства мира фактически существу-ют как нации наций: этнонации (англичане, шотландцы, ирландцы,уэльсцы в Великобритании, фламандцы и валлоны в Бельгии и т.п.)и этнорегиональные сообщества (например, каталонцы или квебек-
171
сти (русской, татарской, узбекской или грузинской). Миллионы ук-раинцев, белорусов, молдаван, узбеков и других наших бывшихсоотечественников – это хороший человеческий материал для миг-рации в Россию. Такого исторического шанса у России пополнитьсвое население за счет других стран бывшего СССР уже скоро мо-жет не быть, ибо новое поколение потенциальных мигрантов, видяунижения своих родителей в России, активно ищет и находит дру-гие страны для миграции.
Как можно исправить многолетнее заблуждение по поводу «не-законной миграции» и вытекающую из этого заблуждения полити-ку? Необходимо изучить, посчитать и привести объективные аргу-менты о пользе миграции, а не только о том, сколько преступленийсовершают мигранты, какие они привозят болезни и сколько пере-водят денег из России. Необходимо открыто сказать, что именномигранты во многом создавали и продолжают создавать матери-альное благополучие страны, строя и ремонтируя квартиры, доро-ги и офисные здания, завозя ширпотреб, овощи и фрукты, нянча иобучая детей, и даже студентов. Необходимо сказать о тех, кто со-ставляет себе состояния, недоплачивая мигрантам, держа их в ужас-ных условиях, третируя и толкая на преступления. Преступностьсреди работодателей и среди тех, кто «регулирует» миграцию, напорядок выше, чем среди самих мигрантов. Необходимо зазыватьрекламными и информационными брошюрами, специальными суб-сидиями, стипендиями, грантами и льготами, как это делала Рос-сия в XVIII в., Канада в XIX в., США в XX в. Пришел черед Россиибороться за мигрантов.
Последние нововведения в российской миграционной полити-ке должны дать позитивные результаты, исправить ошибку, кото-рая была допущена законом о пребывании иностранцев на терри-тории Российской Федерации и законом о гражданстве. Но вводи-мые ограничения количества работников розничных рынков, неимеющих российского гражданства, – утопия. Я не знаю государств,которые принимают миграцию, и крупных городов, где есть опто-вая и розничная торговля на рынках, в которых нет иностранцев.Мигранты, по некоторым оценкам, дают примерно 8–10% ВВП стра-ны, а некоторые отрасли существуют вообще благодаря мигрантам(например, строительство). Польза от мигрантов во много раз боль-ше, чем их денежные переводы и риски миграции, часто вызван-ные неумелой политикой и непреодолимой бюрократией.
174
РОССИЯ – ЭТО НАЦИЯ НАЦИЙ*
Все входящие в ООН государства считают себя государствами-нациями (национальными государствами), определяя проживающийв нем народ как нацию и обеспечивая в разной степени и в разнойформе его национальные интересы. В то же время на территориипримерно 200 государств проживают люди, принадлежащие к 4–5тысячам разных этнических общностей, которые могут по-разно-му называться: народы, этнические группы, национальности, на-ции, меньшинства, этносы. Эти общности имеют отличительныечерты, прежде всего в культуре и языке, а самое главное – они об-ладают идентичностью, т.е. осознанием своей отличительности, чтовыражается в самоназвании. В ряде случаев групповая отличитель-ность может строиться на территориальной или на религиозной при-надлежности.
Большинство этнических общностей исторически сформирова-лись на территории своего основного проживания, но многие на-роды и группы имеют мигрантское происхождение. Есть страны,которые целиком сложились на основе миграции и колонизации.В целом весь мир делится на территориальные сообщества – госу-дарства, но они имеют сложный этнический и религиозный составнаселения. В крупных государствах мира проживает от 50 до 200разных этнических общностей-народов. В России их около ста, аесли считать проживающих в стране временно или постоянно пред-ставителей зарубежных государств (японцы, кубинцы, американ-цы, англичане и т.д.), а также некоторые отличительные подгруппывнутри народа, то эта цифра составит 158.
Обычно представители наиболее многочисленного народа и егокультура служат основой государства, давая ему название, состав-ляя демографическую, хозяйственную и политическую основу на-_____________* Этнопанорама. 2008. №1–2 (Доклад прочитан на межрегиональной научно-прак-тической конференции «Российская нация: этнокультурное многообразие в граж-данском единстве» в г. Оренбурге, 29 февраля 2008 г.).
172
Сегодня государственная миграционная доктрина предполага-ет стимулирование переселения в Россию соотечественников. Про-грамма исходит из того, что есть более 20 млн. соотечественников,хотя непонятно, кого к ним относят, и что за счет переселения имен-но этих соотечественников частично можно решить демографи-ческую проблему, то есть приостановить сокращение населения.Действительно, миграция – важнейший источник пополнения на-селения. И только сокращая смертность, повышая рождаемость иобеспечивая миграцию в Россию, можно приостановить сокраще-ние населения. Тем более что миграция, в отличие от рождаемости,дает отдачу уже сейчас, а не через двадцать лет, когда новорожден-ные подрастут, получат образование, профессию, вступят в само-стоятельную деятельность. И все-таки содействовать нужно пе-реселению всех, кто желает приехать в Россию из стран бывшегоСССР. И украинцы или молдаване ничем не хуже русских. Крометого, ставить на переселение, прежде всего, русских, а не молда-ван или украинцев, которые все равно станут русскими в Россиичерез полпоколения, – значит сужать русский мир, превращать Во-сточную Украину и Крым, по своим настроениям, в Львовскуюобласть. Русские осваивали эти территории столетиями, а радитого, чтобы поправить один процент населения, с 80% до 81%русских, мы сокращаем границы русского мира, которые суще-ствуют в рамках бывшего исторического Российского государства.Нужно хорошо подумать, правильна ли стратегически, с точки зре-ния национальной безопасности России, ставка на то, чтобы пе-реселять русских из Восточного и Северного Казахстана, из Вос-точной Украины или из Крыма.
Этнический принцип миграционной политики может вылитьсяв нереализуемую утопию. Русские в значительной мере уже интег-рировались в соседних государствах, являются гражданами этихгосударств, сохраняют привязанность к России, являются важней-шим связующим мостом с Россией, не позволяют этим государствампревращаться во враждебные. По нашему убеждению, нет ничегоплохого в том, что там есть значительная часть русского населения.Она довольна своим положением, мы должны защищать и отстаи-вать, помогать сохранять язык, культуру. Но может быть, нам вы-годнее переселить украинцев и молдаван, и они станут русскимичерез поколение. Самая верная стратегия – это открытость и интег-рационная установка со стороны основного населения в отноше-
173
нии вновь прибывших на временное или постоянное проживание вРоссию. Страна крепка и теми, кто в ней живет, и теми, кто в неепереселяется.
В России религии и народы сохраняли и приумножали тради-ции добрососедских отношений. Представители разных вероиспо-веданий и этнических общностей проводят регулярные встречи,ведут постоянный диалог и в рамках Комиссии Общественной па-латы по вопросам толерантности свободы совести. Это являетсязначимым фактором межрелигиозного мира, взаимопонимания, спо-собствует достижению согласия и стабильности в российском об-ществе.
172
Сегодня государственная миграционная доктрина предполага-ет стимулирование переселения в Россию соотечественников. Про-грамма исходит из того, что есть более 20 млн. соотечественников,хотя непонятно, кого к ним относят, и что за счет переселения имен-но этих соотечественников частично можно решить демографи-ческую проблему, то есть приостановить сокращение населения.Действительно, миграция – важнейший источник пополнения на-селения. И только сокращая смертность, повышая рождаемость иобеспечивая миграцию в Россию, можно приостановить сокраще-ние населения. Тем более что миграция, в отличие от рождаемости,дает отдачу уже сейчас, а не через двадцать лет, когда новорожден-ные подрастут, получат образование, профессию, вступят в само-стоятельную деятельность. И все-таки содействовать нужно пе-реселению всех, кто желает приехать в Россию из стран бывшегоСССР. И украинцы или молдаване ничем не хуже русских. Крометого, ставить на переселение, прежде всего, русских, а не молда-ван или украинцев, которые все равно станут русскими в Россиичерез полпоколения, – значит сужать русский мир, превращать Во-сточную Украину и Крым, по своим настроениям, в Львовскуюобласть. Русские осваивали эти территории столетиями, а радитого, чтобы поправить один процент населения, с 80% до 81%русских, мы сокращаем границы русского мира, которые суще-ствуют в рамках бывшего исторического Российского государства.Нужно хорошо подумать, правильна ли стратегически, с точки зре-ния национальной безопасности России, ставка на то, чтобы пе-реселять русских из Восточного и Северного Казахстана, из Вос-точной Украины или из Крыма.
Этнический принцип миграционной политики может вылитьсяв нереализуемую утопию. Русские в значительной мере уже интег-рировались в соседних государствах, являются гражданами этихгосударств, сохраняют привязанность к России, являются важней-шим связующим мостом с Россией, не позволяют этим государствампревращаться во враждебные. По нашему убеждению, нет ничегоплохого в том, что там есть значительная часть русского населения.Она довольна своим положением, мы должны защищать и отстаи-вать, помогать сохранять язык, культуру. Но может быть, нам вы-годнее переселить украинцев и молдаван, и они станут русскимичерез поколение. Самая верная стратегия – это открытость и интег-рационная установка со стороны основного населения в отноше-
173
нии вновь прибывших на временное или постоянное проживание вРоссию. Страна крепка и теми, кто в ней живет, и теми, кто в неепереселяется.
В России религии и народы сохраняли и приумножали тради-ции добрососедских отношений. Представители разных вероиспо-веданий и этнических общностей проводят регулярные встречи,ведут постоянный диалог и в рамках Комиссии Общественной па-латы по вопросам толерантности свободы совести. Это являетсязначимым фактором межрелигиозного мира, взаимопонимания, спо-собствует достижению согласия и стабильности в российском об-ществе.
171
сти (русской, татарской, узбекской или грузинской). Миллионы ук-раинцев, белорусов, молдаван, узбеков и других наших бывшихсоотечественников – это хороший человеческий материал для миг-рации в Россию. Такого исторического шанса у России пополнитьсвое население за счет других стран бывшего СССР уже скоро мо-жет не быть, ибо новое поколение потенциальных мигрантов, видяунижения своих родителей в России, активно ищет и находит дру-гие страны для миграции.
Как можно исправить многолетнее заблуждение по поводу «не-законной миграции» и вытекающую из этого заблуждения полити-ку? Необходимо изучить, посчитать и привести объективные аргу-менты о пользе миграции, а не только о том, сколько преступленийсовершают мигранты, какие они привозят болезни и сколько пере-водят денег из России. Необходимо открыто сказать, что именномигранты во многом создавали и продолжают создавать матери-альное благополучие страны, строя и ремонтируя квартиры, доро-ги и офисные здания, завозя ширпотреб, овощи и фрукты, нянча иобучая детей, и даже студентов. Необходимо сказать о тех, кто со-ставляет себе состояния, недоплачивая мигрантам, держа их в ужас-ных условиях, третируя и толкая на преступления. Преступностьсреди работодателей и среди тех, кто «регулирует» миграцию, напорядок выше, чем среди самих мигрантов. Необходимо зазыватьрекламными и информационными брошюрами, специальными суб-сидиями, стипендиями, грантами и льготами, как это делала Рос-сия в XVIII в., Канада в XIX в., США в XX в. Пришел черед Россиибороться за мигрантов.
Последние нововведения в российской миграционной полити-ке должны дать позитивные результаты, исправить ошибку, кото-рая была допущена законом о пребывании иностранцев на терри-тории Российской Федерации и законом о гражданстве. Но вводи-мые ограничения количества работников розничных рынков, неимеющих российского гражданства, – утопия. Я не знаю государств,которые принимают миграцию, и крупных городов, где есть опто-вая и розничная торговля на рынках, в которых нет иностранцев.Мигранты, по некоторым оценкам, дают примерно 8–10% ВВП стра-ны, а некоторые отрасли существуют вообще благодаря мигрантам(например, строительство). Польза от мигрантов во много раз боль-ше, чем их денежные переводы и риски миграции, часто вызван-ные неумелой политикой и непреодолимой бюрократией.
174
РОССИЯ – ЭТО НАЦИЯ НАЦИЙ*
Все входящие в ООН государства считают себя государствами-нациями (национальными государствами), определяя проживающийв нем народ как нацию и обеспечивая в разной степени и в разнойформе его национальные интересы. В то же время на территориипримерно 200 государств проживают люди, принадлежащие к 4–5тысячам разных этнических общностей, которые могут по-разно-му называться: народы, этнические группы, национальности, на-ции, меньшинства, этносы. Эти общности имеют отличительныечерты, прежде всего в культуре и языке, а самое главное – они об-ладают идентичностью, т.е. осознанием своей отличительности, чтовыражается в самоназвании. В ряде случаев групповая отличитель-ность может строиться на территориальной или на религиозной при-надлежности.
Большинство этнических общностей исторически сформирова-лись на территории своего основного проживания, но многие на-роды и группы имеют мигрантское происхождение. Есть страны,которые целиком сложились на основе миграции и колонизации.В целом весь мир делится на территориальные сообщества – госу-дарства, но они имеют сложный этнический и религиозный составнаселения. В крупных государствах мира проживает от 50 до 200разных этнических общностей-народов. В России их около ста, аесли считать проживающих в стране временно или постоянно пред-ставителей зарубежных государств (японцы, кубинцы, американ-цы, англичане и т.д.), а также некоторые отличительные подгруппывнутри народа, то эта цифра составит 158.
Обычно представители наиболее многочисленного народа и егокультура служат основой государства, давая ему название, состав-ляя демографическую, хозяйственную и политическую основу на-_____________* Этнопанорама. 2008. №1–2 (Доклад прочитан на межрегиональной научно-прак-тической конференции «Российская нация: этнокультурное многообразие в граж-данском единстве» в г. Оренбурге, 29 февраля 2008 г.).
170
расизм в России по сути этнический. Люди называют «черными»выходцев с Кавказа, которые на самом деле являются светлокожимиевропейцами. Схожие фобии встречаются в других странах – и дажев богатых. Тем не менее, ксенофобия – это не природное качествороссиян. Люди будут гораздо лучше относиться ко вновь прибыв-шим, если они будут получать информацию о том, какую пользуприносят мигранты стране, городу, им лично. У нас все-таки несложилась в последние годы пространственная сегрегация – с при-городами или городскими кварталами, населенными преиму-щественно иммигрантами, и нам, конечно, нужно принять какие-то меры, чтобы и в будущем у нас не складывались своеобразныеэтнические гетто.
Фактор миграции в вопросах стабильностии развития
Нашим российским выводом должно стать противодействие ан-тимиграционизму. Общество им пропитано, начиная с известныхполитиков и кончая массовыми настроениями. Это большая мораль-но-этическая проблема российского общества. Недоплачивают миг-рантам, используя их дешевый труд, фактически миллионы росси-ян. Это и те, кто использует нянек для своих детей, кто ремонтиру-ет квартиры, строит дачи. Работодатели, которые сооружают домаи дороги. Толковать проблему миграции только как коррупцию состороны милиции и органов власти недостаточно. Это своего родаморальная коррупция всего российского общества в отношениимигрантов, которые еще 15 лет тому назад были такими же гражда-нами одной страны.
Россия в последние годы проводит политику свертывания миг-рации из стран бывшего СССР. И тем самым подрывает собствен-ную национальную безопасность. Страна объективно заинтересо-вана в притоке квалифицированных легальных трудовых ресурсов.Россия может упустить исторический шанс забрать часть населе-ния бывших союзных республик после распада, руководствуясьутопичными представлениями, что этнические соплеменники дол-жны вернуться на свою «историческую родину», а другие – ос-таться в «своих государствах». Цивилизаторская роль России вотношении всех своих бывших сограждан сделала их во многихотношениях россиянами, независимо от этнической принадлежно-
175
селения (кастильцы в Испании, англичане в Великобритании, хань-цы в Китае, русские в России и т.д.). Не менее часто, наоборот,общность формируется после создания государства, и тогда онаобретает историческую и территориально-политическую идентич-ность, а культурно-языковая схожесть формируется позднее илиникогда. Так были созданы современные государства Европы, Аме-рики и Африки. Австрийская, голландская, бельгийская, итальян-ская, германская, бразильская, аргентинская, американская нациивозникли уже после создания соответствующих государств.
Каждое зрелое государство с центральной властью предприни-мает усилия по формированию национального сообщества на граж-данской основе, стараясь преодолеть часто препятствующие этомурелигиозные, расовые, этнические, племенные, языковые, местно-региональные различия. Государство для собственной безопаснос-ти и целостности утверждает через разные механизмы (от симво-лики и права до идеологии, образования, культуры и спорта) пред-ставление о едином народе-нации, т.е. формирует силами элитынациональную идентичность как чувство принадлежности илояльности своей стране. В выраженной форме это называютпатриотизмом или любовью к Родине. Это можно назвать такжегражданско-политическим или государственным национализмом.Процесс гражданского нациестроительства не означает отрицаниеэтнического и регионально-местного своеобразия.
В современном мире существует огромный опыт, в том числе иотечественный, признания и сохранения такого своеобразия. Наи-более распространенной и эффективной является формула «един-ства в многообразии». Она признает и утверждает регионально-специфическое начало и поддерживает этнонации через разныеформы внутреннего самоопределения (территориальные или наци-онально-культурные автономии). Но она также обеспечивает наци-ональное единство через общие культурные, исторические, поли-тические, эмоциональные и другие ценности и представления обединой гражданской нации. Таковыми являются китайская, британ-ская, индийская, канадская, индонезийская и все другие крупныенации (может быть, за исключением почти этнически гомогеннойяпонской) мира. Крупные государства мира фактически существу-ют как нации наций: этнонации (англичане, шотландцы, ирландцы,уэльсцы в Великобритании, фламандцы и валлоны в Бельгии и т.п.)и этнорегиональные сообщества (например, каталонцы или квебек-
169
производителей и распространителей электронной продукции. Се-годня даже респектабельные провайдеры и фирмы, создающие и под-держивающие сайты, никак не озабочены содержанием помещаемыхматериалов, ибо не считают это своим делом. Но если «бумажный»издатель и даже печатник несут ответственность за продукцию пе-ред своими коллегами-профессионалами и могут быть наказаны зарасизм, неонацизм и призывы к насилию, то в Интернете такой сис-темы нет, а сами коллеги никаких правил не выработали. Второе –это общественный контроль через институты гражданского обще-ства. Третье – это правовое регулирование, т.е. государственноевмешательство в регулирование деятельности Интернета. Здесь ужеимеется огромный опыт и выработаны разные подходы. Почти всеправительства жестко ограничивают и наказывают за распрост-ранение в Интернете материалов, возбуждающих расовую нена-висть. По этой части Россия пребывает среди отстающих.
В целом, информации о культурных проектах, событиях в жиз-ни разных народов очень мало. Такое впечатление, что на феде-ральную новостную ленту есть шанс попасть только у Кондопоги.Лишь изредка мелькнет на экране татарский Сабантуй или еврей-ская Ханука. Опытные ньюсмейкеры, которые пока не занимаютсяосвещением этнокультурных тем, мгновенно «раскрутили» бы дажесамое малозначимое позитивное событие, создали бы тысячи ин-формационных поводов обращения к сюжетам о традициях и куль-туре. Редко интерес к этой теме проявляют политики, обществен-ные деятели «первого ряда». А ведь одно только появление узнава-емого, уважаемого человека на том или ином локальном, но важ-ном для местного сообщества мероприятии уже выводило бы егона уровень всей страны. Кстати, Президент Российской ФедерацииВ.В. Путин – один из немногих таких политиков, который прини-мает участие в праздниках, в культурных мероприятиях разныхроссийских народов. Это – благотворный «метод умножения авто-ритета» для самочувствия и маленьких поселений, и всей страны.
Все эти меры нужны потому, что Россия вступает в фазу дина-мичных изменений ее этнокультурной жизни. Мы будем принима-ющей мигрантов страной, и к нам приедут люди разных языков,традиций, образа мысли и действия. Мы должны быть готовы ме-няться и сохранять спокойствие и мир, добиться упрочения соли-дарности граждан. Этническое многообразие России и ее националь-ное единство могут стать основой этой солидарности. Новый нео-
176
цы) составляют гражданские нации (в данном примере – британ-скую, бельгийскую, канадскую), не утрачивая своей отличительно-сти и в ряде случаев особого статуса. Например, шотландец ГордонБраун является одним из лидеров британской нации, Николя Сар-кози (венгерский еврей по этнической принадлежности) – лидеромфранцузской нации.
Однако сторонники этнокультурного или этнорегионального по-нимания нации зачастую отрицают право и политику государствапо обеспечению гражданского сообщества как нации, особенно еслиона сопровождается дискриминацией, подавлением и отрицаниемэтнонаций. Это происходит как в форме внутриполитических кон-фликтов и общественных движений, так и в форме открытого во-оруженного сепаратизма. Последний зачастую поддерживаетсявнешними силами со стороны геополитических соперников и не-которых этнических диаспор. Этнонационализм в его изоляцио-нистской или сепаратистской формах является одним из главныхвызовов для государств со сложным составом населения. Государ-ства с разной долей успеха справляются с этим вызовом через сле-дующие стратегии:
а) через государственно-правовые нормы, идеологию, культу-ру, образование, информацию и другие институты утверждается об-щегосударственная (национальная) идентичность, гражданская со-лидарность и общие ценности;
б) через разные внутренние формы самоопределения, включаягосударственное устройство, и этнонациональную политику при-знается и поддерживается этническое и региональное своеобразие,культура, язык и идентичность всех этнических общностей (наро-дов или наций);
в) идеологическими, правовыми и силовыми методами нейтра-лизуются или подавляются проявления крайних форм этническогонационализма, особенно в их сепаратистских вооруженных фор-мах или в форме разжигания межнациональной вражды и ненавис-ти и основанных на них насилии.
Как в этом мировом контексте видится ситуация в России?Современная Российская Федерация есть продолжение истори-
ческого российского государства – Российской империи и СССР,несмотря на то, что значительная часть территории страны и насе-ления были утрачены после распада СССР и образования новыхгосударств на его территории. После образования централизован-
168
чении языка, в установлении внутриэтнических контактов. Мно-жество изданий выходит в Москве и регионах на языках россий-ских народов, в печатном слове на родном языке чувствуют потреб-ность и мигранты из-за рубежа. Государственные органы поддер-живают эту прессу, но и тут системы нет: не ясны принципы, покоторым распределяются деньги, нет законодательных установокна сей счет.
Сегодня этнокультурное разнообразие отлично себя чувствуетв Интернете. Создано множество сайтов на языках народов нашейстраны, они обновляются, содержат интересную информацию. Под-держание сайта – наиболее дешевый способ распространения све-дений и объединения людей. Не случайно, что наши соотечествен-ники за рубежом открывают русскоязычные ресурсы для общениядруг с другом и с родиной. В одной только Германии десятки такихресурсов, начиная с сайтов русскоязычных тиражных газет и кон-чая сайтами общин бывших советских граждан крупных городов,например Берлина или Штутгарта. Однако Интернет не может бытьбез норм и правил. Сегодня очевидно решающее воздействие Интер-нета как источника межгрупповой ненависти и вражды. Компью-терные сети – это не только ресурс информации в учебе или бизне-се, не только способ развлечения, но и масштабное распространениеультранационалистических и расистских взглядов и призывов. Гла-шатаи ксенофобии в России без страха перед ответственностьюиспользуют Сеть в преступных целях. Чего стоит хотя бы вос-хваление на сайтах думских депутатов убийц из так называемой«банды патриотов», которая действовала в Санкт-Петербурге. Дей-ствующие федеральные законы и принятые в апреле 2006 г. Общест-венной палатой рекомендации по противодействию экстремизму некасаются в должной мере этой проблемы. А принятые поправки кзакону о противодействии экстремизму также почти не затронулиИнтернет.
Сегодня в десятках стран с разными политическими системамиприняты законы, устанавливающие контроль (цензуру) за Интерне-том, и уже сотни интернет-преступников осуждены судами. Недавнобыла принята Европейская конвенция по борьбе с киберпреступнос-тью, которая предоставляет государственным службам безопаснос-ти возможность поиска и перехвата информации в Интернете. Чтонеобходимо сделать в России с целью противодействия ксенофобиии экстремизму? Первое – это самоконтроль профессионалов Сети,
177
ного государства наша страна всегда имела сложный этнический ирелигиозный состав населения, и всегда русский народ был самыммногочисленным и составлял большинство населения, а его язык,культура и религия определяли историко-культурный облик насе-ления страны и составляли основу общероссийской культуры иидентичности. В Российской империи русский и российский былипочти синонимами, ибо русскими считались все восточные славя-не и православные жители страны. В стране имелись представле-ния о большой русской нации, о единой России, о российском на-роде и россиянах, а сама страна в начале ХХ в., несмотря на импер-скую форму правления, представляла собой в значительной меренационализующееся государство, как и другие страны Европы иАмерики.
В СССР понятие нации и национального было спущено на уро-вень этнических общностей. Этнический принцип внутреннего го-сударствоустройства был назван «национальной государственнос-тью». Нерусские народы получили свои «национальные государ-ства» в виде республик. Для этого некоторые «социалистическиенации» были сконструированы из регионально-племенного разно-образия. Скрепляющей основой государства были репрессивныйаппарат, единая идеология марксизма-ленинизма с ее эклектичнойтеорией национального вопроса, а также советский патриотизм иформула дружбы народов. СССР мощно спонсировал этнонацио-нальное многообразие, а вместо гражданского нациестроительстваиспользовалась формула единого советского народа как нового типаисторической общности. Фактически советский народ был продол-жением исторического российского народа, и такая общность про-должала существовать, а СССР был многоэтничным национальнымгосударством, как и другие крупные государства. Таковым он при-знавался международным правом и сообществом. Отличия СССРот остального мира в этом аспекте в большей степени носили док-тринальный и терминологический, а не сущностный характер. Фор-мула «многонациональности» и непризнания российского народакак историко-культурной и гражданско-политической целостнос-ти, т.е. как государства-нации, перекочевала в текст КонституцииРоссийской Федерации. Предложение определить страну как «мно-гонародную нацию» (формула И.А. Ильина) тогда не было принятопо разным причинам, в том числе под давлением этнонационалис-тов и доктринеров из числа теоретиков «национального вопроса».
167
ного самоуправления. Сейчас Министерство регионального разви-тия Российской Федерации работает над поправками к этому зако-ну. Но этого вряд ли будет достаточно. Повышение компетентнос-ти муниципальных служащих – это актуальная задача. К сожале-нию, пока нет нового закона о муниципальной службе, в которомдолжно быть предусмотрено регулярное повышение квалификацииэтой категории чиновников.
Назрела необходимость специальных совещаний и тренинговпо вопросам правоприменительной практики в плане профилакти-ки экстремизма. Необходимо создать группы общественногомониторинга и реагирования, которые могли бы оперативно пода-вать судебные иски и возбуждать дела по разжиганию этнорелиги-озной нетерпимости. Необходимо отказать в публичности лидерамэкстремизма и их духовным вождям. Необходимо повысить обще-ственную планку восприятия националистической идеологии ириторики в языке СМИ и в научном сообществе. Руководителямдумских комитетов должно быть ясно, что неприлично приглашатьв стены российского парламента патологических националистов.Руководителям телевизионных шоу также надо отказаться от соблаз-нительной скандальности тех российских парламентариев, которыеразжигают среди россиян межгрупповую ненависть. Редакторамгазет и журналов не мешает научиться различать неприемлемыйдля общества расизм и национализм и не забывать о том, как печат-ное слово может воздействовать на рядового читателя.
Информационная работа
Еще одно «слабое звено» – информационная работа. Меньшевсего, как показывает деятельность наших масс-медиа, к реалиямРоссии готов отечественный журналист. Иногда кажется, что ни-какого представления о последствиях своих материалов и сюжетовна этнокультурные и религиозные темы у авторов нет. Я знаю, ка-кие бывают редакционные «разносы» корректорам, пропустившимопечатки. Но глупости на темы совместного жительства наших на-родов проходят практически без последствий для тех, кто их выпу-стил в свет.
Для многих этнокультурных обществ информационная деятель-ность – ядро всей активности. Вокруг газеты или журнала сплачи-ваются люди, заинтересованные в новостях о жизни народа, в изу-
178
Сейчас формула «многонационального народа» может сохра-няться в Конституции при условии признания в качестве приорите-тов государственной политики не только развитие этнонаций, но иутверждение категории «российского народа» как гражданской на-ции с его общими национальными ценностями, интересами, эконо-микой, культурой, образованием, лидерами, проектами и т.д. Иначеполучается абсурд: национальные проекты есть, а самой нации нет!Чтобы было ясно, что российский проект не противоречит русско-му, татарскому или другим этнонациональным проектам, нужнообъяснять, что российская идентичность является надэтнической,и она не отменяет идентичность и целостность этнонаций. Такимобразом, Россия – это нация наций.
Кстати, такой формулой пользуются многие государства, схо-жие по своему типу с Россией. В России проект гражданской рос-сийской нации и идентичности поддерживает значительная частьэкспертного и политического сообщества. Что касается населениястраны, то все последние социологические замеры показывают, чтороссийская, гражданская идентичность стоит на первом месте посравнению с другими формами идентичности, включая и этнона-циональную.
166
дарственные органы, обязанные на конкурсной основе распреде-лять бюджетные деньги. А это нужно знать: в законопроекте«О государственной политике в сфере межэтнических отношений»,в экспертизе которого принимала участие Общественная палата Рос-сийской Федерации, предусмотрено создание правовых основ фор-мирования и реализации региональных программ в пользу этогорода организаций.
Обучать необходимо и государственных служащих. Как пока-зывает практика, представления о современных этнических про-цессах, способах разрешения межэтнических конфликтов необхо-димо формировать, прежде всего, у работников правоохранительныхорганов. Конечно, в органах внутренних дел много компетентныхлюдей. События в Кондопоге потому привлекли к себе такое вни-мание, что сегодня все регионы страны – полиэтничные. Везде естьсвои проблемы в организации рыночной торговли, распределениирабочих мест, в получении доходов разными слоями населения, номир и согласие в большинстве регионов воспринимаются властямии обществом как норма, но не как рутинная данность, и ради еесохранения делать нужно очень много. Противостояние «местных»и «пришлых» в маленьком карельском городке – это не проявлениеобщей ситуации или же предвестник скорого будущего страны, аскорее абсолютная аномалия, в которой были повинны, в первуюочередь, местные власти, а также «местный» и «пришлый» крими-нал. Чтобы исключить повторение подобных событий, нужна уче-ба тех, кто призван обеспечивать спокойствие в обществе, безопас-ность граждан. Однако программ повышения квалификации госу-дарственных служащих для проведения местной политики в поли-этничных регионах практически нет. Были пилотные семинары поформированию толерантности, например в Самарской области, ноэти отдельные позитивные начинания не сменились системой под-готовки кадров. Тут нужна практическая направленность курсов,помощь в организации диалога разных групп – представителей граж-данского общества и власти.
Другая категория представителей власти, которая особенно пол-но должна «владеть темой», – это муниципальные служащие. ИзФедерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» полностью «выпала» этнокультурная проблема, хотявопросы культуры, досуга, безопасности – в ведении органов мест-
179
ТРИ КАРТЫ: ФИЗИЧЕСКАЯ,АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
И ЭТНИЧЕСКАЯ*
«Граница – это и есть единый критерийдля всех идентичностей современного мира,пребывающего в состоянии постоянногостановления»(Алешандро Мело. Трансокеанский экспресс //Художественный журнал. 1997. № 16. С. 12)
Поскольку заглавная тема нашего конгресса – культура граници границы в культуре, то мой первоначальный замысел состоял втом, чтобы рассмотреть взаимодействие трех реальных феноменовнашей жизни: природно-географической среды, государственно-политических образований и этнической мозаики через призму этихпонятий и через понимание пространства как такового. В связи сэтим выскажу тривиальную мысль, что нет культуры вне простран-ства, а пространство есть всегда культурно осмысливаемая субстан-ция. Причем сразу же скажу, что другие многозначные смыслы словапространство (правовое, информационное и т.д.) нас здесь не инте-ресуют. Мы ведем речь о географическом пространстве. Его ос-мысление зависит от опыта, задачи и ракурса, с которого постига-ется сама категория пространства.
Постулат о первичности пространства и в то же самое времяобусловленности пространства культурой очень любят современ-ные культургеографы. Нужно отдать должное их исследователь-ским достижениям последнего времени. Назову только фундамен-тальную книгу Дмитрия Николаевича Замятина «Культура и про-странство» (2006), которая, помимо авторских выводов по пробле-ме моделирования географических образов, содержит обширнуюбиблиографию новейшей литературы в данной области. Им же опуб-ликована хрестоматия по этой проблематике. В Президиуме РАН в_____________* Этнопанорама. 2009. №1–4. С. 2–7.
165
лобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахера». Им было установле-но, что на уровне Федерации, того или иного субъекта Федерации,местного поселения может быть только одна автономия того илииного этноса. И это решение буквально «вытолкнуло» из сферыдействия закона множество организаций. Получилось, что феде-ральный акт распространяется на 621 национально-культурнуюавтономию (по статистике 2006 г.), тогда как этнокультурных объе-динений десятки тысяч, в них объединены миллионы людей. В со-ответствии с законом национально-культурные автономии «могутполучать» государственную поддержку. О других организациях, чьядеятельность также важна для людей, – ни слова. Разумеется, напрактике органы государственной власти и местного самоуправле-ния стремятся поддержать те и другие организации. Выходит, чтоникакого особого статуса у национально-культурных автономий нет.
Вопрос финансирования организаций – еще один острый воп-рос. Не случайно Государственная Дума по предложению Обще-ственной палаты приняла к рассмотрению законопроект «О поряд-ке формирования и использования целевого капитала некоммерчес-ких организаций». Однако это – лишь один из путей решения про-блемы. Как показывает практика, общественные объединения, иэтнокультурные в их числе, медленно учатся современным мето-дам получения средств для ведения своей работы. Гранты, проекты– это многими отвергается как «низкий» способ получения средств.Контакты с некоторыми организациями убеждают: люди привыклитребовать и по-прежнему требуют полного финансирования своейдеятельности со стороны государства. Более того, некоторые из нихв 90-х гг. стали задолжниками перед бюджетом, не отчитались запотраченные деньги, несмотря на это, не оставляют усилий «вы-бить» новые средства.
Умение вести проектную работу – это особый вид деятельнос-ти. Например, для российской науки на первых порах ее перестрой-ки также было внове писать заявки на гранты, получать стипендии.Только со временем наши ученые освоили это «искусство» и нача-ли достойно жить. Общественные организации в Москве и круп-ных городах также овладели навыками подобной работы. Но врегионах, где собственно и есть особая нужда в получении средствдля изучения языка или поддержания традиций, пока редко кто по-лучает гранты. Никто общественников не учит, как подавать заяв-ки, никто не ориентирует их на грантодателей, в том числе и госу-
180
2009 г. начата 3-летняя программа фундаментальных научных ис-следований по проблемам пространственного развития, координа-тором которой является академик А.Г. Гранберг. В программе естьпроект по историко-культурным образам российских регионов, осо-бенно применительно к многоэтничным регионам (Северный Кав-каз и Поволжье). Этот доклад я рассматриваю как одно из первыхприближений к теме с точки зрения социально-культурной антро-пологии и этнологии.
Пространство, понимаемое как территория, было и остаетсяключевым компонентом в этнологии. Территориализация этнич-ности (определение ареалов расселения этнических общностей,наделение их политико-административным статусом через «своюнациональную государственность», индоктринация по поводуэтнотерриториальной идентичности) была одним из наиболееувлекательных занятий отечественной этнологии на протяжениидлительного времени. Поэтому еще одна работа также послужи-ла толчком для моих сегодняшних размышлений, хотя она от-стоит от нас более чем на полвека. Это книга Павла ИвановичаКушнера (Кнышева) «Этнические территории и этническиеграницы» (1951). Попробуем выстроить диалог между казалосьбы далеко разошедшимися взглядами советских этнографов глу-хого сталинского времени и современных культургеографов и ан-тропологов.
Природные границы-рубежи и теорияестественных границ
В науке долгое время существовала теория, которая исходилаиз «естественности» наций, прирожденности национальных осо-бенностей народов, зависимости их психического склада от усло-вий мест обитания. У Э. Реклю и Демолена, а позднее – у Ф. Ратце-ля было много последователей, доживших до сегодняшнего дня.Их установкой было доказать теснейшую связь этнических рубе-жей с рельефом и природными условиями местности. Не избежалиэтого искушения некоторые корифеи отечественной историогра-фии, как, например, В.М. Соловьев и В.О. Ключевский, не говоряуже о давних и нынешних философах и психологах, а тем более – огеополитиках, одержимых глобальными конструкциями и онтоло-гическим взглядом на историю и культуру.
164
О законах и ответственности государства
В то же время у государства остается своя «зона ответственно-сти» в строительстве этнокультурных отношений. Речь идет, преж-де всего, о совершенствовании российского законодательства,которого, по нашему мнению, сегодня пока нет. Есть отдельныезаконы – о национально-культурной автономии, о коренных мало-численных народах. Нет общего основания для этнокультурногоразвития страны: не определены статусы, «правовые коридоры» дляязыка этнических групп и общностей, преподавания его в школе,нет ясности в вопросе государственной и местной поддержки ме-роприятий, проводимых организациями этнокультурного направ-ления. Нет представлений о принципах и методах информацион-ной политики в интересах российских народов. Наконец, государ-ство самоустранилось, не имея законодательной базы, от такой ра-боты, как воспитание общества в духе солидарности и укреплениягражданского мира. Конечно, для написания законов нужны высоко-профессиональные люди, способные современные процессы оце-нить с точки зрения права и дать юридическую формулу разреше-ния противоречий, регулирования отношений. Сегодня много защи-щается диссертаций по проблемам этнологии, этнополитологии.Однако среди авторов мало концептуалистов, способных создатьзаконодательство, которое было бы принято обществом.
Акты, которые сегодня действуют, остаются противоречивыми,не вносящими определенности в деятельность организаций этно-культурного характера. Достаточно обратиться к Федеральномузакону от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии».Он в первой же статье «Понятие национально-культурная автоно-мия» провозглашает, что «национально-культурная автономия яв-ляется видом общественного объединения. Организационно-пра-вовой формой национально-культурной автономии является обще-ственная организация». Национально-культурная автономия – этообщественная организация. Тогда непонятно, зачем нужен был спе-циальный акт, не проще ли было внести поправки в законы об об-щественных объединениях и некоммерческих организациях?
Ситуацию еще более запутало Постановление Конституцион-ного суда Российской Федерации от 3 марта 2004 г. № 5-П «По делуо проверке конституционности части третьей статьи 5 Федераль-ного закона «О национально-культурной автономии» в связи с жа-
181
Географы не противились такой жесткой связке географии икультуры. Тем более что этнография как наука долгое время разви-валась в рамках той же самой географии. Однако сомнения по по-воду принятия каких-либо естественных рубежей за подлиннуюграницу любой национальности проявились довольно рано. Еще в1866 г. этностатистик Р. Бэк писал следующее: «Если бы кто-либозахотел подразделять народы в зависимости от того, населяют лиони горы или долины, континентальные или приморские местнос-ти, и их нравы и обычаи определил бы как континентальные илиприморские, горные или долинные, или подразделил бы их сооб-разно климату, то ему не удалось бы сделать это, ибо крайне труднонайти народ, который занимал бы пространство в пределах такихточно очерченных естественных границ» (цит. по Кушнеру, с. 21).Спустя 20 лет С.А. Арутюнов и Н.Н. Чебоксаров, а затем –Ю.В. Бромлей, повторили этот тезис. «Таким образом, выступивкак непременное условие формирования этноса, целостность тер-ритории не является строго обязательным фактором сохраненияобщих характерных черт всех частей этноса», – писал Ю.В. Бром-лей (Современные этнические процессы в СССР, 1977. С. 11).
С позиций современного знания мы можем задать вопрос: а былали непременным условием формирования этноса так называемая«целостность территории» и что это означает? Если внимательнопрочитать это высказывание, то оно означает наличие не простоодного-единственного местоположения для так называемого этно-генеза, но и наличие этого местоположения только для конкретно-го этногенеза и ничьего более. Теоретики этноса и этногенеза недопускают нескольких местоположений для оформления единойгрупповой идентификации или оформления нескольких этничес-ких (культурно различных) идентификаций в одном местоположе-нии. И в этом для меня есть вопрос, который требует обсуждения,ибо «территория этногенеза» на сегодняшний день остается самыммощным аргументом в пользу объявления той или иной террито-рии как этнической. Этот аргумент в ряде случаев обладает дажебольшим воздействием, чем сегодняшняя демографическая ситуа-ция, которую можно объявить как искусственно созданную или жеона является действительно таковой в силу прямого или косвенно-го принуждения.
Этническая территория (или граница) чаще всего становитсяаргументом в территориальных спорах между государствами или
163
подобных организациях крайне трудно предусмотреть демократи-ческие процедуры выборов, в результате, организации, националь-но-культурные автономии говорят и пишут о том, что не разделяюттысячи и десятки тысяч представителей народа. Это зачастую слу-жит основой конфликтных ситуаций, чреватых серьезными послед-ствиями в полиэтнических регионах.
В последнее время наблюдается увеличение числа религиозныхорганизаций: если в 1996 г. их насчитывалось около 13 тыс., то в2006 г. – уже более 22,5 тыс. Крупнейшая из конфессий – Русскаяправославная церковь – значительно расширила свое влияние: нынезарегистрировано более 12 тыс. ее приходов, монастырей, епархий.Растет число организаций и приверженцев других традиционныхдля России конфессий. Религиозные организации ведут большуюсоциальную работу. При православных храмах открыты и постоян-но действуют благотворительные столовые – только в одной Моск-ве таких столовых более двух десятков. Монастыри содержат своитрапезные, открытые для нуждающихся и малоимущих. Важнуюсоциальную функцию выполняют богадельни и детские приюты.В последние годы Русская православная церковь и организациидругих традиционных конфессий находят новые формы деятель-ности: организуются встречи верующих по интересам, анонимнооказывается помощь людям, страдающим алкоголизмом, больнымСПИДом, наркоманией, добровольцы работают в государственныхи муниципальных больницах. Оказывается помощь мигрантам, пе-реселенцам и беженцам. Члены религиозных общин работают втюрьмах и колониях, собирают вещи для нуждающихся.
О чем все это говорит? Мне кажется, что только теперь начина-ет наконец-то формироваться новая система отношений, котораядавно и прочно утвердилась в европейских странах. Этническая ирелигиозная жизнь – это в самой малой степени «территория от-ветственности» государства. Этническая и религиозная жизнь – этовыбор и труд самого гражданина, созданных им в содружестве сдругими гражданами организаций и союзов. Этническая и религи-озная жизнь – право человека оставаться самим собой, быть не по-хожим на других. Это никак не снижает требований подчинятьсяобщим законам, сосуществовать вместе, крепить гражданскую со-лидарность ради процветания государства. Вот почему примеры са-моорганизации, инициативы, общественной активности чрезвычай-но важны.
182
внутригосударственными образованиями, а также между предста-вителями разных этнических общин. Этот вопрос был чрезвычай-но актуален как после Второй мировой войны, так и после распадаСССР и Югославии. Точнее, он становится актуальным всегда, когдаполитики начинают делить между собой территории, ибо они естьпрежде всего территориальные образования в отличие от другихсообществ (этнических, конфессиональных, деловых, информаци-онных и т.п.). В марте 1945 г. в Институте этнографии АН СССРсостоялась закрытая от публики защита кандидатской диссертацииП.И. Кушнера по проблеме «Западная часть литовской этнографи-ческой территории». На ней диссертант сформулировал проблемутакими словами: «Каким путем следует устанавливать этническийсостав населения спорных территорий и что важнее при определе-нии этнического характера территории – заселенность ее в настоя-щее время определенным народом или т.н. исторические права дру-гого народа на эту территорию» (цит. по Алымов С. П.И. Кушнер иразвитие советской этнографии в 1920–1959-е гг. М., 2006. С. 144).
Кушнер подверг критике «мажоритарный» метод, который от-талкивается от существующего этнического большинства и пред-лагает при решении территориальных споров учитывать фактор«туземного» населения, которое имеет на определенную террито-рию «исторические права» на том основании, что данный народсформировался на ней и связан с нею «длительным, многовековымпребыванием». Вот какой ответ был дан советской этнографией тоговремени на этот до сих пор злободневный вопрос мировой науки иполитики: «Длительное, многовековое пребывание народа в опре-деленной местности отражается на его экономике, обычаях, пси-хическом складе, т.е. сказывается на его материальной и духовнойкультуре. Но, с другой стороны, и территория меняет свой внешнийоблик, подвергаясь культурному воздействию населения. Воздви-гаемые населением постройки, дорожные сооружения, наконец,методы обработки земли, культурные насаждения и пр. придаютвсей местности определенный этнический колорит… Можно былобы дать такое определение этнографической территории: это – об-ласть, на которой данный народ развился, на которой он обитает(или обитал до недавнего времени) и с которой он длительно и не-прерывно связан своей творческой культурной деятельностью»(Кушнер П.И. К методологии определения этнографических тер-риторий // СЭ. 1946. № 1. С. 14).
162
ной статистики, позволяющей полно представить эту работу в циф-рах. Очевидно, что в мероприятиях этих организаций принимаютучастие миллионы россиян. И в эту работу все больше и большевовлекаются дети и молодежь. Летние лагеря для изучения языкасвоего народа или проведение фольклорной экспедиции уже сталираспространенными явлениями. Причем деньги находятся у спон-соров, предприятий, подобные начинания все больше и больше под-держивает местный бюджет.
О деятельности этнокультурных организаций
Значение деятельности этнокультурных объединений, нацио-нально-культурных автономий в Российской Федерации, где про-живают представители многих народов, чрезвычайно велико. Приучастии этнокультурных сообществ в некоторых субъектах Феде-рации подготовлены соглашения о гражданском мире и согласиимежду органами государственной власти и общественными объе-динениями, разработаны региональные целевые программы под-держки значимых мероприятий. Организации, призванные удовлет-ворять интересы людей разной культуры, есть во всех регионахРоссии. Например, в Татарстане действует 35 национально-куль-турных автономий. А в Нижегородской области выделяются орга-низации представителей стран СНГ: азербайджанцев, армян, бело-русов, грузин, украинцев. Ряд обществ стремится поддерживать наНижегородской земле культуру российских народов – ингушей,марийцев, мордвы, татар. В Нижнем Новгороде действуют четырееврейские организации. Своими целями самодеятельные сообще-ства, созданные по признаку этнической принадлежности, видятсохранение традиций, культуры своего народа в условиях окруже-ния иных языков и культур. Большинство этих организаций, тем неменее, не работают изолированно, они кооперируются для реше-ния сходных задач с другими общественно-культурными объеди-нениями, с людьми других национальностей.
Этнокультурные организации играют в массе своей позитивнуюроль для местных сообществ, выполняют важные просветитель-ские задачи, воспитывают молодежь. Но у них немало и проблем.Одна заключается в том, что объединенная в национально-культур-ную автономию группа людей часто пытается присвоить себе функ-ции представлять интересы и чаяния всего народа. Между тем в
183
Основы современной территориальности
В чем проблема с самим понятием «этническая территория»?Если рассуждать с точки зрения зарождения и раннего формирова-ния той или иной культурной традиции, то даже в пределах однойяичной скорлупы могут сформироваться два жизнеспособных цып-ленка, тогда почему для формирования этноса нужна никем дру-гим не занятая или не используемая территория? Где и в какие вре-мена в таком случае находилась «целостная территория», когдаформировался русский или татарский этнос? Во всяком случае,Киев и Новгород такими местами никогда не были, как ими небыли Казань или древний Булгар. Подобный вопрос можно за-дать не только по русским и татарам, но и по всем другим наро-дам, не говоря уже о тех, кто сформировал свою отличительностьи самосознание уже в поздние времена европейской колонизациидругих регионов мира.
Конечно, география, прежде всего ландшафтные и климатичес-кие условия, играла важную роль при первичных заселениях иосвоении территорий Земли носителями разных культурных тра-диций. Более того, сами эти культуры складывались или видоиз-менялись под воздействием естественной среды. Но нам почтинеизвестны современные народы, которые бы не мигрировали в про-странстве или которые не размещались бы на уже обжитых землях.Собственно говоря, категория «подлинных» автохтонов сегодняпредставляет собой крайне малочисленную часть населения Зем-ли, и это население известно как «индигенные» (аборигенные) на-роды, обладающие некоторыми специфическими правами, нацио-нальными и международными защитными механизмами. В Россииэта категория населения определена законом как «коренные мало-численные народы». Их численность составляет около четверти мил-лиона, но она растет, как и растет число претендентов попасть вэтот утверждаемый правительством список. В российском законо-дательстве присутствует формула «территория традиционного при-родопользования», но она означает категорию публичного, а не иму-щественного права, хотя аборигенные общины хотели бы заменитьслово «территория» на слово «земля» и объявить о своем исконномправе на владение.
Таким образом, исторический, археологический и лингвисти-ческий материалы свидетельствуют о том, что все народы сложи-
161
ске – храма Христа Спасителя. Оно превратилось во всенароднуюстройку. Сегодня по благословению Святейшего Патриарха Алек-сия II здесь находится икона святителя Николая, привезенная мо-рем из итальянского города Бари и особо почитаемая российскимипаломниками. Это – дар властей Италии. Таких вернувшихся к жиз-ни и верующим храмов во всей стране тысячи, движение в защитупамятников культуры и духовности значительно укрепилось в пос-ледние годы. По инициативе владыки Феофана сегодня на Север-ном Кавказе строится около 80 православных храмов, что имеетогромное значение для сохранения русского населения в регионе идля стабильности и духовного развития. Возрожденные церкви имонастыри создают новый облик наших городов и сел, сплачиваютлюдей, придавая новую энергию и новый смысл отношениям со-седства, становясь основой самоорганизации и самоуправления.
Возьмите такое явление в жизни России, как паломничество.Для православного или мусульманина побывать в святых местахнашей страны или за рубежом стало духовной потребностью. Напри-мер, Фонд поддержки духовного просвещения и культуры «Служе-ние», созданный в Воронеже, ежемесячно организует поездки посвятым местам: в пещерные монастыри с. Костомарово и Дивно-горска, в Дивеево, Оптину пустынь, в Серпухов, Санаксарский муж-ской монастырь, в мужской и женский монастыри г. Задонска, кисточнику св. Тихона, монастырь Серафима Саровского, в Троице-Сергиеву лавру и другие места.
Основную деятельность в этом направлении ведут Русская пра-вославная церковь, Духовное управление мусульман Европейскойчасти России. Так, Паломнический центр Барнаульской епархиивидит своей главной задачей практическое содействие возрождениюна Алтае древней традиции. Он помогает верующим совершать па-ломничество по святым местам России и за рубежом. Интерес к свя-тыням разных религий никак официально не стимулируется. Он –часть мировоззрения сограждан, примета нашего времени, котораязаслуживает одобрения и признания. Примеры возрождения хра-мов и паломничества – одни из тысяч подобных примеров.
Современную ситуацию в этнокультурном развитии России ха-рактеризуют организации в поддержку языка и традиций, школынародной кулинарии, кружки самодеятельности, объединения лю-бителей старины. Трудно даже перечислить все направления дея-тельности, какие есть у этнокультурных объединений, нет и точ-
184
лись из разнородных племенных групп, что они есть результат миг-рационных перемещений и популяционных контактов, включаяфизическое и культурное смешение. Уже по этой первопричине«влияние географической среды на человека не может считатьсяопределяющим фактором развития общества и основой измененийформ этнической общности» (Кушнер П.И. Этнические террито-рии… С. 21). В конечном итоге, как суммировал эту «теорию этни-ческих границ» автор монографии о Кушнере молодой исследова-тель Сергей Алымов, этнические границы (по крайней мере, в Ев-ропе) являются переходными зонами, заселенными представителя-ми нескольких национальностей и смешанных переходных групп.Поэтому само слово граница можно применять к этим зонам доста-точно условно. Размытая и прерывистая этническая граница имеетмало общего с четкими линиями естественных и политических гра-ниц. Ее конфигурация неустойчива, постоянно меняется и зависитот характера взаимодействия граничащих народов, процессов ко-лонизации, ассимиляции, политики государств и т.д. (Алымов С.С.Указ. соч. С. 152). Поскольку этнические границы чаще всего пред-ставляют собой районы со сложным этническим составом, основ-ной задачей является определить, как считает Кушнер, «действи-тельный национальный состав населения данной местности и егогеографическое размещение». Эта процедура достигается не толь-ко «субъективным» методом прямого вопроса об этнической при-надлежности индивида, но и «объективным» методом через кос-венное установление национальности по ряду признаков. Этотметод называется «реалистическим», так как национальность вы-является «по реально существующим этническим особенностям»(Кушнер П.И. Этнические территории... С. 42).
С. Алымов считает, что в теории этнической территории и эт-нической границы не было никакой заданности, и все эти разработ-ки никак не были связаны с советской внешней политикой и после-военными территориальными приобретениями. На самом же делеаргументы советских этнографов того времени были связаны с воп-росами послевоенного устройства в Европе и, в частности, с пере-дачей территории Калининградской области Советскому Союзу, аруководимый Кушнером Отдел картографии был секретным под-разделением института, куда не могли заходить даже сотрудникиинститута. Что же касается идеологической подоплеки, то аргумен-ты давнего заселения этих земель славяно-балтскими племенами
8
185
активно использовались советскими государственными деятелямии пропагандой. Точно так же сегодня эти же аргументы использу-ются казахскими, украинскими, прибалтийскими националистамидля обоснования территориальных границ бывших советских со-юзных республик или даже для территориальных претензий. Ана-логичные мотивы можно встретить и в риторике крайних национа-листов в самой России.
Опыт мировой политики и современный взгляд на этничностьне позволяют выстроить некую рациональность в соотнесении пос-ледней с государственными и даже внутренними административ-ными границами. Теория Кушнера и территориальные постулаты вобласти этничности заводят политику в тупик и содержат большойконфликтогенный потенциал. Но тогда как соотносятся естествен-ные рубежи и государственные границы с этническими ареалами вистории и в современности?
Связь между тремя картами существует, но скорее как конф-ликтная проблема, а не как гармония. Что касается природной сре-ды, то она оказывает влияние на формирование культуры и на раз-витие общества, хотя и не является определяющей. Достаточнопривести пример, что столь значимые природные рубежи, как, на-пример, реки и горы, почти нигде не служат тем, что называетсяэтнической границей. Реки Волга и Урал хорошо это демонстриру-ют. Уральские горы и Кавказский горный массив также являютсязонами богатой этнической мозаики. Даже на кавказском высоко-горье от первичных ущельных культурных комплексов, которыемогли оформиться давно и без явных внешних взаимодействий,сегодня мало что осталось. Скорее остались ментальнообразныеконструкции, как, например, нынешнее деление чеченцев на гор-ных и равнинных.
Что же касается морской береговой линии и берегов большихостровов, то их, как правило, также населяют представители раз-ных этнических сообществ. Берега Каспийского моря, поделенныемежду пятью государствами, могут быть тому убедительным при-мером. А тем более Средиземноморье, где само море с его острова-ми представляет собой не разъединяющую, а стягивающую куль-туры конструкцию. Тем не менее, мы находим примеры, когда эт-ническая граница проходит по естественным рубежам. Реки Амур,Дунай в его нижнем течении, Одер и Западная Нейсе разделяютдовольно определенно такие народы, как китайцы и русские, бол-
208
рируется период пребывания Финляндии в составе Российскойимперии. Ясно, что единой версии прошлого для 15 государств ужене будет, но это не означает, что политикам нужно вычеркиватьобщую историю, а историкам – отказываться от ее совместной раз-работки или от сотрудничества друг с другом.
Что самое худшее – это конструирование национальных вер-сий прошлого на основе создания враждебного образа других на-родов и государств или на основе коллективной травмы, ответствен-ность за которую возлагается исключительно на внешние силы.Советская эпоха оставила много таких травм, но не меньше идостижений. Все это есть наша общая история и наша общаяответственность. Правопреемственность России по отношению квнешним долгам, посольской собственности или международнымсоглашениям не означает, что, например, мои пострадавшие отсталинизма уральские родственники и я, как их потомок, несемответственность за жестокие ошибки или преступления советскойверхушки, состоящей в том числе из выходцев из Грузии и Украи-ны. Проблема исторической ответственности требует новогообсуждения. Как, кстати, и проблема «исправления историческихнесправедливостей», которая часто решается путем совершенияновых несправедливостей.
Пределы домена историков и возможностивласти
Колингвуд считал, что никакой результат в истории не являетсяокончательным, что свидетельство меняется «с каждым изменени-ем исторического метода», что «принципы, которыми это свиде-тельство интерпретируется, также меняются» и что, следователь-но, «каждое новое поколение должно переписывать историю егособственным способом». Меняются не только метод и принципыинтерпретации, но и социальная среда, интересы и устремлениялюдей, социальных групп, политиков, интеллектуалов. Тем самымкаждое поколение желает видеть или находить в истории то, чтонаиболее значимо для него на сегодняшний день. Эта потребностьвсегда меняется в случае смены общественного устройства иполитико-идеологического режима.
Мы знаем, что бывают ситуации, когда исторические катаклиз-мы уничтожают целые государства вместе с его национальным нар-
9
186
гары и румыны, поляки и немцы. Но вся хитрость в том, что этиестественные рубежи служат линиями государственных границ, иэто уже административные барьеры, сопровождавшиеся даже на-сильственными переселениями (например, немцев с правого бере-га Одера и Нейсе), сформировали этнические границы, а не самапо себе водная артерия. Как писал Кушнер, «только в отдельных ивесьма редких случаях стремление государства укрепить свои гра-ницы путем доведения их до стратегически важных естественныхрубежей, а также подтянуть к этим рубежам границы этническихмассивов основных национальностей, осуществилось в полноймере» (там же. С. 23).
Наш вывод состоит в том, что государственные границы уста-навливаются и удерживаются в результате двух основополагаю-щих обстоятельств: воленавязывания и волеизъявления, а такжеполитических договоренностей и международных норм и соглаше-ний. Везде и всегда действует принцип или силы, или самоопреде-ления территориального сообщества – демоса. Этнический фак-тор является не главным, хотя именно он чаще всего выходит напереднюю линию аргументации и служит инструментом полити-ческой и даже военной мобилизации.
Геоисторические образы и идентичность
О роли административно-государственных границ будет сказа-но ниже. Но с географией еще есть в чем разбираться. Благодаряфранцузской исторической школе Анналов было положено началотак называемым геоисторическим исследованиям, в центре кото-рых образы географического пространства, которые создаютсялюдьми и на которые природная среда реагирует в соответствии сэтими образами. Поэтому в духе этой школы правильнее говоритьне о географическом детерминизме, а о географическом поссиби-лизме, когда географическая среда предоставляет человеческимсообществам возможности для действий и развития. В классичес-ком труде Ф. Броделя «Средиземное море и средиземноморский мирв эпоху Филиппа II» (1949) среда этого региона и его границы пред-ставлены, по словам Замятина, как «упругий, пульсирующий, ды-шащий образ, захватывающий и отдающий обратно Атлантику,Центральную Азию, Восточную Европу, Русь. Средиземное морепостоянно мигрирует как историко-географический образ, воспри-
207
гражданскую солидарность, укрепляет легитимность самого госу-дарства, помогает обосновывать его достоинства и отличительнуюпривлекательность для внешнего мира. В конструировании такойверсии используются как достижения и победы, так и историчес-кие драмы и примеры несправедливости. Как правило, нацио-нальные истории строятся на основе симбиоза изоляционизма,предпочтительной представленности доминирующей культурнойтрадиции и ее носителей, на основе так называемого удревненияисторических корней, непрерывности культурной традиции и го-сударственности. С этой проблемой историки давно знакомы, ноесть некоторые новые моменты.
Во-первых, ослабевает влияние самой концепции мышления внационально-государственных категориях, наблюдается разочаро-вание в общем «авторитетном прошлом», «официальной истории»,обозначается кризис коллективных форм идентификации и исто-рических метанарративов, происходит трансформация классичес-кой модели «национальной памяти». Это большой вопрос истори-ческой эпистемиологии.
В постсоветских странах к этой проблеме добавляется терми-нологический разнобой по поводу самого понятия «национальное».С советских времен в исторических учебниках излагается историяцентра как своего рода русская история и отдельным разделом –«история народов и государств на территории СССР», или историяэтнической периферии. Проблема интегративной версии и представ-ленности разных групп и традиций в большом российском нарра-тиве до сих пор не решена. Для создания полнокровной и открытойверсии истории России это имеет особое значение. При наличиисерьезных наработок по части истории отдельных групп и регио-нов эти проблемы можно решить через более адекватные учебныетексты и через хорошо подготовленные популярные презентации(ТВ, музеи и прочее). Трансляция документальных фильмов ВВСпо истории, некоторые наши сериалы, исторический канал на 5 ка-нале СПб., тема истории радио «Эхо Москвы» показывают, как этоможно делать.
Более серьезной проблемой историописания представляетсявариант национальных версий истории на основе игнорированияобщего прошлого с другими народами. При такой версии можетпоказаться, что православный храм в центре Хельсинки свалился снеба, если, например, в национальной исторической версии игно-
187
ятию чего способствует и картографическая игра с наложениемсредиземноморских контуров на другие географические регионы»(Замятин Д.Н. Культура и пространство. Моделирование географи-ческих образов. М., 2006. С. 31).
Именно Бродель заметил, что Средиземное море в эпоху антич-ности и средневековья воспринималось как море восточное, афро-азиатское, языческое и даже исламское. Европа «узнала» Среди-земноморье и «уменьшила» его образ в физическом отношении (ужекак часть самой Европы) только в эпоху Великих географическихоткрытий, когда открылись новые трансокеанские пространствен-ные коридоры для жителей континента (Бродель Ф. Средиземноеморе и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 1. Рольсреды. М., 2002. С. 258, 300–304).
В наше время также создаются мощные образы различных ре-гионов, стран и континентов. Эта работа с большими пространства-ми позволяет расширить привычные восприятия тех или иных ре-гионов, включить их образы в более крупные образные системы.По поводу России в последнее время было создано много новыхтрудов, ибо возникло новое государство с точки зрения его геогра-фии и геополитической роли. В связи с этим отмечу работы В.Л. Цым-бурского и В.Л. Каганского (Цымбурский В.Л. Россия – Земля заВеликим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М., 2000;Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое про-странство. М., 2001). С волнующими кровь выводами этих геогра-фов-философов чаще всего мне как заземленному эмпирику былотрудно согласиться, но важен сам факт интенсивного обсуждениятемы – образ страны в пространственно-географическом аспекте.Здесь вообще много мифологии и образных конструкций, которыевыдают или узость мысли (если речь идет об ученых), или первич-ность эмоционального начала (если речь идет о художниках и по-литиках). Например, теоретик российского пространства Каган-ский мыслит Россию только в имперской парадигме, не допускаямысли о возможности восприятия страны в аспекте национальногогосударства: «Делать вид, что Россия не имеет значимых импер-ских структур, – безответственность или невменяемость, как и про-жекты превращения России в национальное государство, при том,что не существует доминирующей этнической группы, как и нетведущей профессии или конфессии» (Каганский В. Невменяемоепространство // Отечественные записки. 2002. № 6(7). С. 15).
206
рождения белой расы от славян на территории нашей страны.Поэтому проблемы охраны профессиональных стандартов и про-тиводействия паранаучности и историческим спекуляциям требу-ют особого обсуждения.
История как компонент национальнойидентичности
Серьезная проблема в сфере исторического знания в Россиисвязана с распадом СССР и с появлением не только новых госу-дарств, но и 15 новых национальных нарративов, своего рода офи-циальных версий прошлого каждой страны. Прошлое составляетнеобходимый компонент национального самосознания. Это естьпреимущественная собственность и ответственность страны и еенарода за так называемую национальную историю. Не могут рос-сийские историки быть создателями национальных версий герман-ской или французской истории, и наоборот. Напомню, что комис-сии по поводу 200-летних юбилеев Американской и Французскойреволюций с участием историков создавались соответственно вСША и Франции, а не в России, хотя в те годы советские историкитакже готовили юбилейные издания. На XIII конгрессе историков вСан-Франциско в 1975 г. наши ученые участвовали в обсуждениитемы о роли революций в истории.
В мировой историографии имеются и «внешние» разработкинациональных нарративов. Даже могут быть своего рода заказы натакую работу. Особенно если собственные научные школы недо-статочно сильны или испытывают концептуальный вакуум. Фран-ция, кстати, в отношении собственного «национального наррати-ва» демонстрирует сверхдостаточность и даже своего рода интел-лектуальный изоляционизм. Переведенных и изданных работ рос-сийских авторов во Франции по французской истории гораздо мень-ше, чем изданных в России французских авторов по российскойистории.
Итак, каждая страна при разнообразии научных и бытовых пред-ставлений о прошлом стремится к общеразделяемой историческойверсии собственного народа страны. Этот базовый консенсус, еслиего удается достичь, составляет основу формирования националь-ной идентичности (самосознания). Историческая версия обеспечи-вает веру в преемственность общности и государства, стимулирует
188
Столь резкое суждение основано всего лишь на плоском пони-мании нации и непонимании, что есть национальное государство.Но главное, из чего растут подобные суждения, это из растерянно-сти перед российским пространством и неспособности осмыслитьего как целое даже теми, кто сделал это своей профессией. Кстати,на эмоциональном уровне художники и даже российские обывате-ли с этим вполне справляются. Так, например, в словах нашего на-ционального гимна С.М. Михалков один из шести куплетов посвя-тил географическому образу страны, и звучит этот немного абсурд-ный текст так: «От южных морей до полярного края / Раскинулисьнаши леса и поля. / Одна ты на свете! Одна ты такая – / ХранимаяБогом родная земля!» Хотя южных морей у России нет, и леса сполями до полярного края никак не могут раскидываться, тем неменее, геообраз страны в тексте гимна был создан и он работает,раз его поют. Что касается обывателя, то мой покойный сосед порязанской деревне Алтухово Иван Ефимович Ежов постоянно меняспрашивал, а «не продаст ли Ельцин Курилы японцам»: это былаего территория, хотя сам он дальше города Егорьевска никуда вжизни не выезжал.
Практика использования географическо-пространственных об-разов используется широко и другими государствами. Причем имен-но для формирования национальной идентичности (безотноситель-но, есть или нет в стране доминирующая этническая группа, кон-фессия или профессия). Приведу только один пример. В 1997 г. позаказу кабинета Тони Блэра научно-исследовательским институтомDEMOS был подготовлен доклад «Британия: создавая заново нашуидентичность». Его автор, впоследствии директор Института внеш-ней политики Марк Леонард, предложил шесть ключевых момен-тов для нового имиджа страны. Среди тех из них, которые получи-ли наиболее четкое выражение в последующей политике правитель-ства и нашли отклик в обществе, можно выделить три:
1. Британия провозглашается проводником глобализации –местом, где происходит обмен товарами, информацией и идеями,мостом между Европой и Америкой.
2. Британия – это остров, обладающий уникальными творчес-кими ресурсами. Он уникален во всем – от фундаментальных науч-ных открытий до поп-музыки.
3. Британия – это «нация-гибрид», черпающая свои силы в эт-ническом и культурном многообразии (Липкин Михаил. XXI век
205
исторических версий как некое отрицание их собственно прожи-той жизни. Опыт Франции и других стран мог бы помочь россий-ским историкам решать проблемы моральности ревизии.
Проблема исторического предпринимательстваи любительства
Вторая проблема состоит в том, что при сегодняшней матери-альной и внеоценочной возможности напечатать любой текст в об-ществе создается впечатление, что все желающие могут заниматьсяисторией и считать себя историками. Существует впечатление, чтоисториописание – это не особое профессиональное ремесло, которо-му нужно обучаться, а вариант любительского занятия (как путеше-ствия, охота или рыбалка) или вариант телевизионно-книжной ком-мерции, а иногда просто заказной, политизированной лжеисторичес-кой мифологии. В России появились в большом количестве авторы,центры, журналы и даже фонды, которые выбрали историю своейпрофильной деятельностью. Некоторые из этих центров, фондов ииздательств (например, РОССПЭН) доказали свой профессиона-лизм. Но в целом исторической науке противостоит предпринима-тельство на истории и историческое любительство. Это явлениедавнее, и оно имеется во многих странах, но в России проекты типа«новая хронология» Фоменко стали настоящим бизнесом и обще-национальным явлением. Этнонационалистическая и расистскаялитература на основе, якобы, исторических данных также представ-ляет серьезную проблему для ученых и для общества в целом.
Обе стороны – профессионалы и предприниматели-любители –пока не нашли между собой механизмов взаимодействия. Серьез-ные исследователи чаще всего не хотят связываться с шарлатана-ми, с апологетами этнонационалистических и расистских тракто-вок, с теми, кто вдруг разом решил перевернуть все представленияо прошлом, в том числе в области отечественной истории. Средилжеисториков или непризнанных ниспровергателей в отношениипрофессионалов стали употребляться пренебрежительные термины:«традиционные историки», «кучка ретроградов», «старые догмати-ки», которые, якобы, ничего не знают и не хотят признавать новое.Съездил писатель-сатирик один раз на один день в Аркаим, по егословам, «написал по этой теме три статьи» и после этого много-кратно на миллионную аудиторию доказывает бредовую версию
189
по Гринвичу: Британия в поисках постимперской идентичности //Вестник российской нации. 2009. № 2(4). С. 136).
Причем здесь этнические группы, конфессии, а тем более про-фессии, чтобы самоопределяться как национальное государство?Кроме как невменяемыми и безответственными суждения самогоКаганского по поводу России назвать нельзя.
Географические образы имеют прямое отношение к выработкекак национальной, так и региональной идентичности. Географи-ческий образ – это конструкция, которая ярко и экономно представ-ляет регион или страну. Региональная идентичность призвана об-наружить тесные связи, укореняющие местные сообщества и от-дельных людей, процедуры самоидентификации, в которых образрегиона может предстать как образы населяющих эту территориюлюдей. «Общее в обоих случаях – внимание к географическомупространству, выступающему в роли желанного, полностью недо-стижимого и все же вполне реального эквивалента различных со-циальных и культурных сред» (Замятин Д.Н. Указ. соч. С. 36).
Региональная идентичность сказывается в существовании вы-пуклых и устойчивых образно-географических композиций, а хо-рошо освоенное пространство идентифицируется как система ре-гиональных и оригинальных образов.
Здесь можно привести длинный список примеров конструиро-вания и использования региональных и местных идентичностей,которые мне известны или которые наблюдались мною лично в ходеэтнографических исследований. В США и Канаде эти вопросы хо-рошо освоены не только наукой, творческими лабораториями, но иобщественными активистами, включая туристов и краеведов. Об-разы Новой Англии и американского Запада имеют всемирное зву-чание и составляют важнейшие компоненты национальной иден-тичности. Канадский Север и французская Канада – это также ос-нованные на географии и культуре национальные бренды. Полити-ка любого уровня в этих странах также зиждется на региональныхобразах. Достаточно привести примеры образов штатов, которыеобладают мистической способностью голосовать на предваритель-ных президентских выборах так, как потом проголосует вся стра-на. В России также в последние два десятилетия идет интенсивныйпроцесс этнокультурного освоения региональных пространств, кон-струирование этномиров и этнодеревень, их коммерциализация ииспользование для просвещения и отдыха.
204
ских, экспедиционных, издательских проектов на общую суммуболее 300 млн. руб. Заметно выросло число профессиональныхисториков и научных центров, особенно в системе университетов.Открытой и разнообразной стала сфера международных научныхконтактов. По многим параметрам последние два десятилетия мо-гут считаться наиболее плодотворными для российской историчес-кой науки.
Однако нужно сказать о рисках и о проблемах. Во-первых, этослабая самоорганизованность профессионального цеха российскихисториков. Историки, пожалуй, единственные среди российскихобществоведов не имеют национальной профессиональной ассо-циации, не проводят регулярных научных съездов, которые все-гда есть смотр научных достижений, площадка для дискуссий идля передачи межпоколенческого опыта, а также важный барьерна пути лженауки. Возможно, что Франция здесь не пример, ноопыт Американской исторической ассоциации с ее регулярнымимноготысячными собраниями профессионалов может быть поучи-тельным для таких больших национальных школ, как россий-ская. Российские историки не имеют национального научного жур-нала общего профиля, который можно было бы считать автори-тетной трибуной для изложения и обсуждения научных результа-тов или для критики. Хотя в последние годы появилось несколькохороших журналов обществоведческого профиля, которые пуб-ликуют статьи историков, особенно молодых и талантливых ав-торов. Отмечу, что и число получателей ученых степеней по исто-рической науке выросло за последние 20 лет десятикратно, хотя,к нашей общей ответственности, часть диссертационных текстови дипломов являются купленными суррогатами или результатомпротекционизма.
В целом корпоративная идентичность отечественных истори-ков находится в плохом состоянии. Серьезен не столько теорети-ко-методологический раскол (плюрализм и многоголосие – норманаучной жизни), сколько жесткая нетерпимость представителейразных групп и межпоколенческий раскол, вызванный почти за-крытой возможностью карьерного продвижения для историков мо-лодого и даже среднего поколения, желающих, например, возгла-вить кафедры, научные отделы и центры, журналы, институты.Представители старшего поколения и сторонники старых версийзачастую излишне болезненно воспринимают процесс пересмотра
190
Как формируются региональные идентичности и какие исполь-зуются специфические географические относительно того или иногоместа, ландшафта, пространства? Есть некоторые исходные точкив конструировании значимой географии:
1. Определение и демонстрация типичного природного и куль-турного ландшафта (степь, тундра, горы, городской профиль, ин-женерные сооружения и т.п.).
2. Наиболее известные памятники природного и культурногонаследия.
3. Исторические и политические события, связанные с геогра-фическими объектами, изображенными на карте.
4. Известные люди, чья биография или деятельность связаны сгеографическими объектами, изображенными на карте.
Государственные и административные границыи их воздействие на культуру и идентичность
Государственные рубежи обрели характер четких и охраняемыхлиний сравнительно недавно, в эпоху становления современныхгосударств. Они возникали и оформлялись как результат силы, пе-реговоров, сделок или как результат освоения новых территорийна основе земледельческой или иной формы колонизации и по прин-ципу territoria nullis («ничейной земли»). Именно по такому прин-ципу осваивали Запад канадские и американские колонисты, а рос-сийские колонисты осваивали Сибирь и Дальний Восток. Абори-генное население в расчет не бралось: главное, чтобы над новымиземлями не висел флаг другой большой державы. Государство в лицеармии, бюрократии и просвещенной элиты добивалось минималь-ной гомогенности населения хотя бы в аспекте языкового владенияи вероисповедания, а также обеспечивало принуждением и пропа-гандой лояльность и патриотизм заключенного в рамках госграницнаселения. Это население обретало общую идентичность поОтечеству и по правителю, а в культурном отношении основой слу-жила культура большинства населения. В Российском государстветаковой была русская культура на основе русского языка. Оба пос-ледних понятия имели расширительное содержание по сравнениюс сегодняшними смыслами.
Во время, описанное Н.В. Гоголем в повести «Тарас Бульба»(это XVI в.), и даже во время жизни самого писателя (первая поло-
203
фии в то время. Поэтому есть некоторая несправедливость наблю-дать молодых коллег, не написавших еще ни одной книги и дажееще не родившихся в 1985 г., которые подписываются под текстомпоучительно-осуждающей «Петиции итальянских историков в за-щиту свободы исторических исследований в России» от 13 декабря2009 г. против ее «душителей» Путина, Медведева и заодно – Тиш-кова. При этом никаких реальных оснований, кроме фантомныхстрахов и намерения унизить Россию, не существует. Отделениеисторико-филологических наук РАН, где в 17 научно-исследователь-ских институтах работает несколько тысяч наиболее квалифициро-ванных российских историков, никаких административно-идеоло-гических функций не осуществляет, кроме координации работ ипомощи тем историкам и отдельным научным группам, которыеиногда могут страдать от излишнего администрирования руково-дителей институтов.
Внутрицеховые отношения, место и роль историков в обществе,этика взаимоотношений между национальными школами состав-ляют вопросы, которые следует обсудить на встрече. В этом глав-ная задача нашего «круглого стола», и я благодарен французскимколлегам за нашу совместную инициативу.
Институциональный аспект
Демократизация общества, отмена цензуры, открытие архивови вместе с этим своего рода «открытие прошлого», особенно не-давнего советского прошлого, вызвали взрывной интерес к исто-рии у профессиональных исследователей, деятелей культуры, масс-медиа и рядовых граждан. Это в целом позитивный процесс. Запоследние 20 лет по истории издано первоисточников, переизданостарых и переведено иностранных трудов, написано академичес-ких монографий и публицистических сочинений больше, чем запредыдущие полвека. Особенно это касается российской истории,в том числе истории краев, мест, истории этнических групп, церк-ви, эмиграции и т.д. В стране родилось новое краеведение как осо-бое направление исторических занятий просветительского и пат-риотического направлений. Появились разнообразные, в том числечастные, источники поддержки исторической науки, профильныхмузеев, телепрограмм, генеалогических разработок. Только по ли-нии РГНФ ежегодно получают поддержку сотни исследователь-
191
вина XIX в.) понятие русского включало всех православных сла-вян, а сам язык назывался российским. Граница тогда «воевалась»и действительно была барьером, отгораживающим враждебныеплемена и страны.
Государственные границы были и остаются важными атрибу-тами государства и его безопасности. Граница часто «закрываетсяна замок» и «объята тишиной». Поэтому население страны в зави-симости от исторической длительности существования столь яв-ной разделительной линии все больше воспринимается как ради-кально отличающееся от жителей других государств по другуюсторону границы. Хотя мы знаем, что сами жители пограничнойполосы имеют или сложный этнический состав, или же границаразрезает этнически родственное население по обе стороны. Приусловии нормального демократического управления, когда учи-тываются интересы всех меньшинств, приграничное население,независимо от его этнической принадлежности и соотнесенностис населением по другую сторону границы, гражданская лояльностьи национальное самосознание являются определяющими. Для про-живающих в Оренбуржье граждан – русских, украинцев, казахов идругих – главной является российская идентификация. Именно по-этому особенно опасны и могут обрести драматический характермежгосударственные конфликты, ибо их первыми жертвами стано-вятся пограничные области, где сами жители меньше всего хотятвоевать друг против друга.
Государство, требуя лояльности от своих граждан, включая вы-полнение воинского долга и союзнических обязательств, вполнеможет направить военнослужащего против граждан другого госу-дарства, которые являются этнически родственными или близкимипо культуре людьми. Тем самым через принуждение и гражданскоевоспитание государство создает в своих границах самые социаль-но и политически спаянные сообщества, а культурная общностьстановится вторичной и обычно накладывается на сохраняющеесягрупповое и местное разнообразие.
Политико-административная карта мира – это самая жесткаякарта из трех рассматриваемых, хотя ландшафт меняется гораздомедленнее, чем очертания политических образований, но у рек игор нет своих армий, а есть только предоставляемые для челове-ческих сообществ возможности. Природная среда не может пере-делать человеческие сообщества, включая их конфигурации и куль-
202
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ИСТОРИКИВ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД*
Сегодня историческая тематика вышла на передний край обще-ственно-политической жизни. Это не может не радовать професси-ональных историков и одновременно вызывать озабоченность засостояние науки и профессии. При определенных условиях нашиобщие усилия должны дать позитивные результаты. Одним из та-ких условий является поддержка фундаментальных научных иссле-дований на принципах обеспечения профессионализма, академи-ческой свободы и гражданской ответственности. Несмотря на жес-токие деформации прошлых режимов и на драматическую судьбуученых-историков, российская историческая наука сегодня пред-ставляет собой одну из авторитетных национальных школ в миро-вой исторической науке. Могу это засвидетельствовать как участникпочти всех международных конгрессов историков после 1970 года.Хочется, чтобы эти стандарты были приумножены нынешним по-колением опять же при условии, что старшее поколение не будет«заедать век» молодых и предоставит им возможности для роста исамовыражения. Но и молодое поколение не должно ограничиватьсяподходом tabula rasa, и необходимо учитывать опыт предыдущихпоколений без его отрицания.
Приведу один личный пример. В 1985 г. в издательстве «Наука»вышла моя книга «Историки и история в США», которая, на мойвзгляд, объективно рассказывала о роли истории как науки и учеб-ной дисциплины в американском обществе (кстати, так она былаоценена и в рецензии в «Американском историческом обозрении»).Это было время жесткой советской цензуры. Но в тексте книги, каки во всех других моих научных работах, никогда не было выраже-ний типа «буржуазные фальсификаторы истории», которые былиобязательными для многих, кто писал о зарубежной историогра-_____________* Этнопанорама. 2010. №1–2. С. 41–45 (Выступление на международном «кругломстоле» «История, историки и власть» (г. Москва, 2 февраля 2010 г.).
192
турные облики, если только речь не идет о длительных временныхпериодах, за которые случаются глобальные климатические изме-нения, или о крупных природных катаклизмах. А вот политикипочти вольны распоряжаться средой, и если они между собой дого-вариваются, то могут совершить крупнейшие изменения на физи-ческой карте мира (вернуть к жизни высохшее море или затопитьтайгу и плодородные речные долины).
Политико-административная карта имеет внутренние админис-тративные образования со своими собственными границами. Прирешении вопроса, как поделить пространство внутри государстваи как установить границы между административными единицами,действуют разные факторы и соображения. В СССР были как«укрупнения», так и «разукрупнения», но основным был федера-листский подход, позволявший учитывать многообразие России исохранять ее целостность, в т.ч. и с помощью силы тоталитарного/авторитарного режима.
Современная ситуация во многом изменилась, а многие прин-ципы государствоустройства многоэтничных образований оста-лись прежними, но с важными коррективами, о которых шла речьв докладе.
201
искренне и осознанно – судить не просто, ибо отрицателей Россиикак состоявшегося государства-нации, как страны вполне нормаль-ной и вполне успешной, таких злых отрицателей и унылых скепти-ков еще достаточно. Причем как во внешнем мире, так и внутристраны. Одни считают, что Россия может развиваться только какимперия, вернув себе все назад, что потеряла, и объявив один на-род главным и единственным владельцем российской государ-ственности. Другие считают, что Россия застряла между импери-ей и нацией, ибо в стране нет свободных граждан, а есть толькоподданные, а это означает, что в стране не может быть и граждан-ской нации. Наконец, третьи считают, что разговоры о граждан-ской нации – это пустое фразерство и что нужно, как и в советскоевремя, укреплять дружбу народов и интернационализм.
Россия есть и будет, если в каждом из нас будет присутствоватьпозитивный образ страны, если российские граждане будут испы-тывать любовь к своему Отечеству и нести ответственность за бла-гополучие Родины.
Примечания1 См. Тишков, В. И русский, и российский // Вестник Российской нации. 2009.№2(4). С. 85–97.
2 См. вступительное слово на рабочей встрече по вопросам межнациональных имежконфессиональных отношений, Республика Чувашия, Чебоксары, 5 февраля2004 г. Источник: официальный сайт Президента Российской Федерации,www.president.kremlin.ru.
3 Источник: официальный сайт Президента Российской Федерации,www.president.kremlin.ru.
4 Там же.5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 5 ноября 2008 г. Источ-ник: официальный сайт Президента РФ, www.president.kremlin.ru.
6 Российский консерватизм – идеология партии «Единая Россия». Центр соци-ально-консервативной политики. 2009. Вып. 9. С. 49.
7 Основы социальной концепции Русской православной церкви. Архиерейскийсобор. 13–16 августа 2000 г. См. также: Манина, Е. Социальная концепция Рус-ской православной церкви и ее значение для развития молодежи, http://oroik.prokimen.ru/fakultety/filolog/280-elenamanina.
8 См. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 5 ноября 2008 г.Источник: официальный сайт Президента РФ, www.president.kremlin.ru.
9 Липкин, М. XXI век по Гринвичу: Британия в поисках постимперской идентич-ности // Вестник Российской нации. 2009. №2(4). С. 136.
193
О НАЦИОНАЛЬНОМ ИДЕАЛЕИ ЦЕННОСТЯХ*
Напомним, что наша статья в предыдущем номере журнала1заканчивалась тезисом: только после осознания фундаментальнойнесостоятельности идеи государства-этноса и только после призна-ния формулы российского народа как многоэтничной гражданскойнации можно вести дальнейший разговор о национальных россий-ских ценностях. Сегодня обсуждение таких ценностей ведется мас-штабно и, на мой взгляд, вполне плодотворно. В нем активно участву-ют политический класс, наука, церковь, общественные организации.Вопрос о ценностях, составляющих основу российской идентично-сти, – это, прежде всего, вопрос об отношении к России, своемународу, своей этнической и религиозной принадлежности, культу-ре, традициям и обычаям страны в целом и своей малой родины.
В свое время М.С. Горбачев вообще не думал на эту тему, оста-ваясь в плену старых клише «социалистического федерализма наинтернациональной основе». Б.Н. Ельцин в одном из ежегодныхпрезидентских посланий робко высказался на счет российской на-ции как будущей задачи в строительстве государства, а затем, хотяи неуклюже, но высказался в пользу «поиска национальной идеи».Этот призыв был встречен разномастной публицистикой по поводу«империй», «аскезы» и предначертаний судьбы, но польза от разго-вора была в том, что он был начат, обозначив тем самым кризис, аточнее вакуум в вопросе о национальной идентичности народа Рос-сийской Федерации.
Российская нация: политическое признание
Только президент В.В. Путин ясно и неоднократно заявлял отом, что Россия с ее многонациональным народом в то же самое_____________* Этнопанорама. 2009. №1–4. С. 78–81 (Статья опубликована в журнале «Вестникроссийской нации». 2009. №3(5).
200
ными энтузиасты альтернативных и партикулярных (частных) вер-сий истории, которые, вместо встраивания их в общенациональ-ный контекст, отторгают общее прошлое. В России, точнее – в СССР,был период отторжения религиозной культуры и традиции, а такженаследия русского зарубежья, составляющего часть национально-го достояния. Сейчас это непристойное забвение закончилось. Какпоказала телевизионная передача 2008 г. «Имя России», в сознаниисовременных россиян присутствует самый разный набор знамени-тых людей Отечества. Но сам факт столь обширного выбора вели-ких людей и общее согласие вокруг имен выдающихся правителей,полководцев, ученых, писателей и поэтов говорит о том, что панте-он национальных героев – это также важный компонент нашегонационального самосознания.
Россия – страна великой и неповторимой культуры, котораявнесла огромный вклад в мировую цивилизацию. Эта часть самосоз-нания россиян основана на реальных достижениях, известных каж-дому образованному гражданину страны. Эти достижения извест-ны всему миру и тем самым формируют гордость россиян за своюстрану. Многие нации имеют великие достижения и гордятся ими,начиная от китайского шелка и пороха до английского Шекспира игруппы «Битлз». Но далеко не каждая нация имеет столь широкийнабор культурных достижений, которые стали неотъемлемой час-тью мировой духовной культуры и сопровождают современногочеловека, где бы он не жил и не воспитывался. Это литература До-стоевского, Толстого, Чехова и Шолохова. Это музыка Чайковско-го, Стравинского, Шостаковича и ее великих исполнителей Шаля-пина, Ойстраха, Ростроповича. Это театр Станиславского и русскийбалет. Это живопись Малевича, Кандинского, Шагала.
Россия – страна спортивная. Для россиян спортивные дости-жения, особенно на международных соревнованиях и на Олимпий-ских играх, – предмет особого сопереживания и гордости. Демон-стрируемое единство народа через массовые эмоции и радости мил-лионов болельщиков по поводу выдающихся спортивных победговорят гораздо больше о том, что мы – один народ и у нас однастрана – Россия.
* * *Все эти позиции сегодня разделяет политический истеблишмент
и значительная часть экспертного сообщества России. Насколько
194
время есть суверенное национальное государство с самоопределив-шейся российской нацией. Именно он сказал, что мы имеем всеоснования говорить о российском народе как о единой нации и чтомы обязаны сохранить и укрепить наше национальное историчес-кое единство2. Многочисленные попытки повлиять на президента,чтобы он занял узконационалистическую позицию, ничем не за-кончились. В то же самое время В.В. Путин очень много сделал,чтобы поддержать русский язык и русскую культуру в стране и зарубежом, защитить соотечественников, большинство которых счи-тает себя русскими людьми или людьми, связанными с Россией.При президенте Путине укрепилась одна из основ российскойгосударственности – религиозная христианская традиция в лицеРусской православной церкви.
Вступив в должность в 2008 г., Президент Российской Федера-ции Д.А. Медведев выразил свое видение государства и российско-го народа, которому он принес присягу. Приведем два его высказы-вания на эту тему.
28 июня 2008 г. в выступлении на церемонии открытия V Все-мирного конгресса финно-угорских народов в г. Ханты-Мансийске:
«Само историческое развитие российской нации в немалойстепени основывалось на богатстве и сохранении этнокультур-ной и поликонфессиональной среды. На многовековом мирном опы-те проживания в одном государстве более ста шестидесяти на-родов. Благодаря этому единство российской нации выдержаломногие испытания. И в наши дни является важным фактором пре-одоления экстремистских настроений, национализма и религиоз-ной нетерпимости»3.
29 июня 2008 г. в выступлении в храме Христа Спасителя в свя-зи с началом празднования 1020-летия крещения Руси:
«Реализация такого исторического выбора позволила нашимпредкам глубже осознать собственную идентичность, серьезноукрепить национальное самосознание. Отмечу при этом, что ужена стадии своего зарождения российская нация, как и сама госу-дарственность, стала складываться как полиэтничная и реальносформировалась на базе синтеза восточных и западных культур.Имея в своей основе православное ядро, она была изначально от-крыта для других верований и культур»4.
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации5 ноября 2008 г. Д.А. Медведев обратился к ценностям, обществен-
199
га народа во имя своей страны и во имя освобождения всего мираот «коричневой чумы».
Историческое прошлое – это обязательный компонент нацио-нальной идентичности почти каждого народа, даже если это про-шлое не имеет очень глубоких корней и всемирных побед. СШАпраздновали свое 200-летие в том же году, что праздновал свое 200-летие Большой театр в нашей стране. Тем не менее, это свое недав-нее прошлое американцы воплотили в бесконечное число монумен-тов и памятных мест. Каждый школьник обязан посетить одну изтаких национальных святынь, как «колокол свободы» в Филадель-фии, Капитолий и памятные монументы Вашингтона, места пер-вых выступлений за независимость в Бостоне.
Для некоторых стран в прошлом важны не столько победы,сколько коллективные драмы и травмы (например, геноцид началаХХ в. для армян, Холокост времени Второй мировой войны дляевреев). Иногда коллективные травмы намеренно конструируютсяиз фальсифицированных данных, чтобы придать национальнойверсии истории особый драматизм и определенную политическуюнаправленность. Так, например, в последние годы на Украинесоздается миф о голодоморе украинцев в СССР как этническиизбирательном геноциде с целью дистанцироваться в своем нацио-нальном самосознании от России и усилить «европейское начало»украинской истории.
В России национальная история – один из самых популярныхпредметов образования, научных занятий, просветительской имузейной деятельности. История лежит в основе праздничного ка-лендаря и памятных дат. Историческая тематика постоянно при-сутствует в кинотелевизионном производстве и в художественнойкультуре. Историческая память передается в устной и письменнойтрадиции. Она может охватывать разные эпохи, регионы и места,людские коллективы. Национальная версия истории должна носитькак можно более всеохватный характер, чтобы в ней было местопредставителям разных категорий населения и носителям разныхкультур и традиций. В национальной памяти важен базовый кон-сенсус, т.е. согласие большинства общества по поводу выбора ос-новных событий прошлого и их трактовки.
В России по этой части предстоит еще много сделать, ибо пос-ле распада СССР, помимо смены идеологической основы обществав пользу открытости и свободного выбора, возникли и стали актив-
195
ным идеалам и нравственным принципам, которые «выстраданы ивыверены за века» отечественной истории и без которых «мы неможем представить себе нашу страну». Президент назвал важней-шие из этих ценностей:
Справедливость, включая обеспечение «достойного места длякаждого человека в обществе и для всей российской нации в систе-ме международных отношений»;
Свобода – «личная, индивидуальная» и «свобода общая, нацио-нальная», а также «свобода предпринимательства, слова, вероис-поведания, выбора места жительства и рода занятий»;
Жизнь человека, межнациональный мир, единство разнообраз-ных культур, защита малых народов;
Семейные традиции, любовь и верность, забота о младших истарших;
Патриотизм и «всегда – вера в Россию, глубокая привязанностьк родному краю, к нашей великой культуре»;
«Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, нашинравственные ориентиры. А, говоря проще, таковы очевидные, всемпонятные вещи, общее представление о которых и делает нас еди-ным народом, Россией»5.
В 2009 г. предложения в программу партии «Единая Россия» ввиде «Концепции российского консерватизма» подготовили ее по-литические клубы. Эта концепция начинается с раздела о ценнос-тях российского народа. Среди этих высших ценностей, которыеразделяют россияне, названы:
Единство народа, культуры, истории, государства, права, эко-номики, территории;
Патриотизм как стремление к благу России;Личность в единстве ее достоинства, свободы, прав и ответствен-
ности;Семейные ценности и преемственность поколений;Равенство граждан перед законом;Безопасность личности и государства;Порядок как соблюдение законов и моральных норм и дру-
гие6.Понятно, что в концепции многое было взято из уже высказан-
ного Президентом России в вышеупомянутом Послании Федераль-ному Собранию, но многое партийными экспертами было сформу-лировано дополнительно.
198
ресурсами» стал одним из основных в конструировании новой бри-танской идентичности, которая пришла на смену или же надстрои-лась над прежней английскостью9. Кстати, самосознание некото-рых государств как островных может проявляться даже в такой сво-еобразной солидарности, как голосование на конкурсе «Евровиде-ние». Мальта, Кипр, Ирландия и Великобритания на конкурсе 2009 г.в Москве дружно отдавали свои очки в пользу друг друга, в томчисле и по этой причине.
Важным компонентом национального самосознания россиянстановится представление о стране как своего рода мосте меж-ду Европой и Азией, как о пространстве, которое имеет собствен-ный облик, обозначаемый понятием «Евразия». Вокруг евразий-ской идеи было и сохраняется много антагонистических интерпре-таций антиевропейской и антиатлантической направленности,имеющих цель представить Россию как некий изолированный ма-терик-империю. На евразийскую идею ныне появились претенден-ты за пределами России в других странах – Казахстане и СреднейАзии, где советская модернизация привела к соединению среди на-селения этого региона европейской и восточно-азиатской культур-ных традиций. Однако Россия остается в центре этой новой и одно-временно старой геополитической конфигурации. Ясно одно, чтоевразийскость – это своего рода отличительный маркер самосозна-ния одной из европейских наций, каковой является Россия как странавосточно-христианского мира.
Исключительное место в национальной идентичности росси-ян занимает представление о древней и славной истории страны.Россия имеет более чем 1000-летнюю непрерывную историю сво-ей государственности, а заселение страны славянскими, финно-угор-скими, тюркскими и арктическими народами началось задолго допервых государственных образований. Свидетельства древних кор-ней российского народа присутствуют повсеместно: от новгород-ских древностей до городских поселений Булгара и Казани. Дагес-танский город Дербент имеет еще более древнюю историю.
В национальном гимне также есть слова о «великой славе» и онародной мудрости предков. История России – это мощный ресурси источник идентификации россиян со своей страной. В этом ре-сурсе центральным является реестр славных побед, в т.ч. и преждевсего – это победа над германским фашизмом в годы Великой Оте-чественной войны. Победа 1945 г. стала символом высшего подви-
196
Еще одним важным усилием в этом направлении было обсуж-дение вопросов о национальном идеале, о духовно-нравственныхценностях российского народа на важнейших церковных собрани-ях, а также в пастырских обращениях и в выступлениях первоие-рархов Русской православной церкви Алексия II и Кирилла.
Еще в августе 2000 г. на Архиерейском соборе РПЦ были при-няты «Основы социальной концепции Русской православной церк-ви». В документе имеется раздел «Церковь и нация», в котором го-ворится о том, что церковь не делит людей ни по национальности,ни по классовому признаку, потому что единство народа обеспечи-вается не национальной, культурной или языковой общностью, аверой в Христа и Крещение. В то же время вселенский характерцеркви не означает, что христиане не имеют права на самобытность,национальное самовыражение. Напротив, церковь соединяет все-ленское начало с национальным. Православные христиане, созна-вая себя гражданами небесного отечества, не должны забывать и освоей земной родине.
Патриотизм православного христианина проявляется в защитеОтечества, в труде на благо Родины, в заботе об устроении народ-ной жизни и в участии в делах государственного управления. Хри-стианин призван сохранять и развивать национальную культуру,народное самосознание. Когда нация, гражданская или этническая,является полностью или по преимуществу моноконфессиональнымправославным сообществом, она в некотором смысле может вос-приниматься как единая община веры – православный народ. Пра-вославной этике противоречит деление народов на лучшие и худ-шие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации7.
Вышеизложенные позиции, на наш взгляд, являются глубокоорганичными и абсолютно адекватными для религиозного взглядана вопрос о нации и о самосознании. Они ни в какой мере не проти-воречат светскому взгляду и пониманию, которые были изложенынами выше. Наоборот, они дополняют и усиливают друг друга, под-тверждая один из постулатов нациестроительства: церковь не мо-жет быть отделена от общества, а религиозная вера есть один изважных компонентов национального самосознания как граждан-ской, так и этнической нации.
На XIII конгрессе крупнейшей православной общественнойорганизации – Всемирном русском народном соборе в мае 2009 г.была принята важная резолюция «Будущие поколения – националь-
197
ное достояние России», обращенная к проблеме духовно-нравствен-ного развития молодежи и преодоления кризисных явлений средиэтой части российского общества. Документы этого и предыдущихконгрессов несколько отличаются от собственно церковных уста-новок в понимании национального. Хотя общее название докумен-та говорит о «национальном достоянии России», в его тексте речьидет преимущественно о межнациональном мире в России и о «со-хранении национальной, культурной и духовной идентичностиживущих в ней народов». В этом документе говорится о России как«многонациональном обществе с исторически сложившимся яд-ром – русским народом». Эти формулировки вполне корректны иони нужны для молодого поколения, но без называния вместе с этимроссийского народа как нации повисает в воздухе само «националь-ное достояние России», которое может быть только российским.
Слагаемые национального самосознания
В развитие изложенных выше положений и высказываний повопросу о национальной идентичности попробуем назвать некото-рые, на наш взгляд, базовые компоненты национального россий-ского самосознания. Эти компоненты включают в себя как истори-ко-географические образы, так и социально-культурные ценности.Они не могут быть жестким и кем-либо утвержденным перечнем.Они могут меняться во времени. Их значимость может быть раз-ной в разных регионах, слоях населения и конфессиональных груп-пах. Но главное – это наличие преобладающего согласия россиянпо поводу национальных образов и ценностей. Как сказал прези-дент, «это то, от чего мы не откажемся ни при каких обстоятель-ствах»8.
Конечно, сам по себе географический факт, что Россия самаябольшая по территории страна в мире, есть одна из базовых цен-ностей. Она запечатлена в тексте национального гимна: «От юж-ных морей до полярного края / Раскинулись наши леса и поля».Географический образ и природа (ландшафт и климат) страныприсутствуют в национальной идентичности многих государств.В самопрезентациях, включая официальную символику, можновстретить такие формулы, как «северная страна», «страна тысячиостровов», «страна гор и виноградников» и т.д. Например, образ:«Британия как остров, обладающий уникальными творческими
196
Еще одним важным усилием в этом направлении было обсуж-дение вопросов о национальном идеале, о духовно-нравственныхценностях российского народа на важнейших церковных собрани-ях, а также в пастырских обращениях и в выступлениях первоие-рархов Русской православной церкви Алексия II и Кирилла.
Еще в августе 2000 г. на Архиерейском соборе РПЦ были при-няты «Основы социальной концепции Русской православной церк-ви». В документе имеется раздел «Церковь и нация», в котором го-ворится о том, что церковь не делит людей ни по национальности,ни по классовому признаку, потому что единство народа обеспечи-вается не национальной, культурной или языковой общностью, аверой в Христа и Крещение. В то же время вселенский характерцеркви не означает, что христиане не имеют права на самобытность,национальное самовыражение. Напротив, церковь соединяет все-ленское начало с национальным. Православные христиане, созна-вая себя гражданами небесного отечества, не должны забывать и освоей земной родине.
Патриотизм православного христианина проявляется в защитеОтечества, в труде на благо Родины, в заботе об устроении народ-ной жизни и в участии в делах государственного управления. Хри-стианин призван сохранять и развивать национальную культуру,народное самосознание. Когда нация, гражданская или этническая,является полностью или по преимуществу моноконфессиональнымправославным сообществом, она в некотором смысле может вос-приниматься как единая община веры – православный народ. Пра-вославной этике противоречит деление народов на лучшие и худ-шие, принижение какой-либо этнической или гражданской нации7.
Вышеизложенные позиции, на наш взгляд, являются глубокоорганичными и абсолютно адекватными для религиозного взглядана вопрос о нации и о самосознании. Они ни в какой мере не проти-воречат светскому взгляду и пониманию, которые были изложенынами выше. Наоборот, они дополняют и усиливают друг друга, под-тверждая один из постулатов нациестроительства: церковь не мо-жет быть отделена от общества, а религиозная вера есть один изважных компонентов национального самосознания как граждан-ской, так и этнической нации.
На XIII конгрессе крупнейшей православной общественнойорганизации – Всемирном русском народном соборе в мае 2009 г.была принята важная резолюция «Будущие поколения – националь-
197
ное достояние России», обращенная к проблеме духовно-нравствен-ного развития молодежи и преодоления кризисных явлений средиэтой части российского общества. Документы этого и предыдущихконгрессов несколько отличаются от собственно церковных уста-новок в понимании национального. Хотя общее название докумен-та говорит о «национальном достоянии России», в его тексте речьидет преимущественно о межнациональном мире в России и о «со-хранении национальной, культурной и духовной идентичностиживущих в ней народов». В этом документе говорится о России как«многонациональном обществе с исторически сложившимся яд-ром – русским народом». Эти формулировки вполне корректны иони нужны для молодого поколения, но без называния вместе с этимроссийского народа как нации повисает в воздухе само «националь-ное достояние России», которое может быть только российским.
Слагаемые национального самосознания
В развитие изложенных выше положений и высказываний повопросу о национальной идентичности попробуем назвать некото-рые, на наш взгляд, базовые компоненты национального россий-ского самосознания. Эти компоненты включают в себя как истори-ко-географические образы, так и социально-культурные ценности.Они не могут быть жестким и кем-либо утвержденным перечнем.Они могут меняться во времени. Их значимость может быть раз-ной в разных регионах, слоях населения и конфессиональных груп-пах. Но главное – это наличие преобладающего согласия россиянпо поводу национальных образов и ценностей. Как сказал прези-дент, «это то, от чего мы не откажемся ни при каких обстоятель-ствах»8.
Конечно, сам по себе географический факт, что Россия самаябольшая по территории страна в мире, есть одна из базовых цен-ностей. Она запечатлена в тексте национального гимна: «От юж-ных морей до полярного края / Раскинулись наши леса и поля».Географический образ и природа (ландшафт и климат) страныприсутствуют в национальной идентичности многих государств.В самопрезентациях, включая официальную символику, можновстретить такие формулы, как «северная страна», «страна тысячиостровов», «страна гор и виноградников» и т.д. Например, образ:«Британия как остров, обладающий уникальными творческими
195
ным идеалам и нравственным принципам, которые «выстраданы ивыверены за века» отечественной истории и без которых «мы неможем представить себе нашу страну». Президент назвал важней-шие из этих ценностей:
Справедливость, включая обеспечение «достойного места длякаждого человека в обществе и для всей российской нации в систе-ме международных отношений»;
Свобода – «личная, индивидуальная» и «свобода общая, нацио-нальная», а также «свобода предпринимательства, слова, вероис-поведания, выбора места жительства и рода занятий»;
Жизнь человека, межнациональный мир, единство разнообраз-ных культур, защита малых народов;
Семейные традиции, любовь и верность, забота о младших истарших;
Патриотизм и «всегда – вера в Россию, глубокая привязанностьк родному краю, к нашей великой культуре»;
«Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, нашинравственные ориентиры. А, говоря проще, таковы очевидные, всемпонятные вещи, общее представление о которых и делает нас еди-ным народом, Россией»5.
В 2009 г. предложения в программу партии «Единая Россия» ввиде «Концепции российского консерватизма» подготовили ее по-литические клубы. Эта концепция начинается с раздела о ценнос-тях российского народа. Среди этих высших ценностей, которыеразделяют россияне, названы:
Единство народа, культуры, истории, государства, права, эко-номики, территории;
Патриотизм как стремление к благу России;Личность в единстве ее достоинства, свободы, прав и ответствен-
ности;Семейные ценности и преемственность поколений;Равенство граждан перед законом;Безопасность личности и государства;Порядок как соблюдение законов и моральных норм и дру-
гие6.Понятно, что в концепции многое было взято из уже высказан-
ного Президентом России в вышеупомянутом Послании Федераль-ному Собранию, но многое партийными экспертами было сформу-лировано дополнительно.
198
ресурсами» стал одним из основных в конструировании новой бри-танской идентичности, которая пришла на смену или же надстрои-лась над прежней английскостью9. Кстати, самосознание некото-рых государств как островных может проявляться даже в такой сво-еобразной солидарности, как голосование на конкурсе «Евровиде-ние». Мальта, Кипр, Ирландия и Великобритания на конкурсе 2009 г.в Москве дружно отдавали свои очки в пользу друг друга, в томчисле и по этой причине.
Важным компонентом национального самосознания россиянстановится представление о стране как своего рода мосте меж-ду Европой и Азией, как о пространстве, которое имеет собствен-ный облик, обозначаемый понятием «Евразия». Вокруг евразий-ской идеи было и сохраняется много антагонистических интерпре-таций антиевропейской и антиатлантической направленности,имеющих цель представить Россию как некий изолированный ма-терик-империю. На евразийскую идею ныне появились претенден-ты за пределами России в других странах – Казахстане и СреднейАзии, где советская модернизация привела к соединению среди на-селения этого региона европейской и восточно-азиатской культур-ных традиций. Однако Россия остается в центре этой новой и одно-временно старой геополитической конфигурации. Ясно одно, чтоевразийскость – это своего рода отличительный маркер самосозна-ния одной из европейских наций, каковой является Россия как странавосточно-христианского мира.
Исключительное место в национальной идентичности росси-ян занимает представление о древней и славной истории страны.Россия имеет более чем 1000-летнюю непрерывную историю сво-ей государственности, а заселение страны славянскими, финно-угор-скими, тюркскими и арктическими народами началось задолго допервых государственных образований. Свидетельства древних кор-ней российского народа присутствуют повсеместно: от новгород-ских древностей до городских поселений Булгара и Казани. Дагес-танский город Дербент имеет еще более древнюю историю.
В национальном гимне также есть слова о «великой славе» и онародной мудрости предков. История России – это мощный ресурси источник идентификации россиян со своей страной. В этом ре-сурсе центральным является реестр славных побед, в т.ч. и преждевсего – это победа над германским фашизмом в годы Великой Оте-чественной войны. Победа 1945 г. стала символом высшего подви-
194
время есть суверенное национальное государство с самоопределив-шейся российской нацией. Именно он сказал, что мы имеем всеоснования говорить о российском народе как о единой нации и чтомы обязаны сохранить и укрепить наше национальное историчес-кое единство2. Многочисленные попытки повлиять на президента,чтобы он занял узконационалистическую позицию, ничем не за-кончились. В то же самое время В.В. Путин очень много сделал,чтобы поддержать русский язык и русскую культуру в стране и зарубежом, защитить соотечественников, большинство которых счи-тает себя русскими людьми или людьми, связанными с Россией.При президенте Путине укрепилась одна из основ российскойгосударственности – религиозная христианская традиция в лицеРусской православной церкви.
Вступив в должность в 2008 г., Президент Российской Федера-ции Д.А. Медведев выразил свое видение государства и российско-го народа, которому он принес присягу. Приведем два его высказы-вания на эту тему.
28 июня 2008 г. в выступлении на церемонии открытия V Все-мирного конгресса финно-угорских народов в г. Ханты-Мансийске:
«Само историческое развитие российской нации в немалойстепени основывалось на богатстве и сохранении этнокультур-ной и поликонфессиональной среды. На многовековом мирном опы-те проживания в одном государстве более ста шестидесяти на-родов. Благодаря этому единство российской нации выдержаломногие испытания. И в наши дни является важным фактором пре-одоления экстремистских настроений, национализма и религиоз-ной нетерпимости»3.
29 июня 2008 г. в выступлении в храме Христа Спасителя в свя-зи с началом празднования 1020-летия крещения Руси:
«Реализация такого исторического выбора позволила нашимпредкам глубже осознать собственную идентичность, серьезноукрепить национальное самосознание. Отмечу при этом, что ужена стадии своего зарождения российская нация, как и сама госу-дарственность, стала складываться как полиэтничная и реальносформировалась на базе синтеза восточных и западных культур.Имея в своей основе православное ядро, она была изначально от-крыта для других верований и культур»4.
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации5 ноября 2008 г. Д.А. Медведев обратился к ценностям, обществен-
199
га народа во имя своей страны и во имя освобождения всего мираот «коричневой чумы».
Историческое прошлое – это обязательный компонент нацио-нальной идентичности почти каждого народа, даже если это про-шлое не имеет очень глубоких корней и всемирных побед. СШАпраздновали свое 200-летие в том же году, что праздновал свое 200-летие Большой театр в нашей стране. Тем не менее, это свое недав-нее прошлое американцы воплотили в бесконечное число монумен-тов и памятных мест. Каждый школьник обязан посетить одну изтаких национальных святынь, как «колокол свободы» в Филадель-фии, Капитолий и памятные монументы Вашингтона, места пер-вых выступлений за независимость в Бостоне.
Для некоторых стран в прошлом важны не столько победы,сколько коллективные драмы и травмы (например, геноцид началаХХ в. для армян, Холокост времени Второй мировой войны дляевреев). Иногда коллективные травмы намеренно конструируютсяиз фальсифицированных данных, чтобы придать национальнойверсии истории особый драматизм и определенную политическуюнаправленность. Так, например, в последние годы на Украинесоздается миф о голодоморе украинцев в СССР как этническиизбирательном геноциде с целью дистанцироваться в своем нацио-нальном самосознании от России и усилить «европейское начало»украинской истории.
В России национальная история – один из самых популярныхпредметов образования, научных занятий, просветительской имузейной деятельности. История лежит в основе праздничного ка-лендаря и памятных дат. Историческая тематика постоянно при-сутствует в кинотелевизионном производстве и в художественнойкультуре. Историческая память передается в устной и письменнойтрадиции. Она может охватывать разные эпохи, регионы и места,людские коллективы. Национальная версия истории должна носитькак можно более всеохватный характер, чтобы в ней было местопредставителям разных категорий населения и носителям разныхкультур и традиций. В национальной памяти важен базовый кон-сенсус, т.е. согласие большинства общества по поводу выбора ос-новных событий прошлого и их трактовки.
В России по этой части предстоит еще много сделать, ибо пос-ле распада СССР, помимо смены идеологической основы обществав пользу открытости и свободного выбора, возникли и стали актив-
193
О НАЦИОНАЛЬНОМ ИДЕАЛЕИ ЦЕННОСТЯХ*
Напомним, что наша статья в предыдущем номере журнала1заканчивалась тезисом: только после осознания фундаментальнойнесостоятельности идеи государства-этноса и только после призна-ния формулы российского народа как многоэтничной гражданскойнации можно вести дальнейший разговор о национальных россий-ских ценностях. Сегодня обсуждение таких ценностей ведется мас-штабно и, на мой взгляд, вполне плодотворно. В нем активно участву-ют политический класс, наука, церковь, общественные организации.Вопрос о ценностях, составляющих основу российской идентично-сти, – это, прежде всего, вопрос об отношении к России, своемународу, своей этнической и религиозной принадлежности, культу-ре, традициям и обычаям страны в целом и своей малой родины.
В свое время М.С. Горбачев вообще не думал на эту тему, оста-ваясь в плену старых клише «социалистического федерализма наинтернациональной основе». Б.Н. Ельцин в одном из ежегодныхпрезидентских посланий робко высказался на счет российской на-ции как будущей задачи в строительстве государства, а затем, хотяи неуклюже, но высказался в пользу «поиска национальной идеи».Этот призыв был встречен разномастной публицистикой по поводу«империй», «аскезы» и предначертаний судьбы, но польза от разго-вора была в том, что он был начат, обозначив тем самым кризис, аточнее вакуум в вопросе о национальной идентичности народа Рос-сийской Федерации.
Российская нация: политическое признание
Только президент В.В. Путин ясно и неоднократно заявлял отом, что Россия с ее многонациональным народом в то же самое_____________* Этнопанорама. 2009. №1–4. С. 78–81 (Статья опубликована в журнале «Вестникроссийской нации». 2009. №3(5).
200
ными энтузиасты альтернативных и партикулярных (частных) вер-сий истории, которые, вместо встраивания их в общенациональ-ный контекст, отторгают общее прошлое. В России, точнее – в СССР,был период отторжения религиозной культуры и традиции, а такженаследия русского зарубежья, составляющего часть национально-го достояния. Сейчас это непристойное забвение закончилось. Какпоказала телевизионная передача 2008 г. «Имя России», в сознаниисовременных россиян присутствует самый разный набор знамени-тых людей Отечества. Но сам факт столь обширного выбора вели-ких людей и общее согласие вокруг имен выдающихся правителей,полководцев, ученых, писателей и поэтов говорит о том, что панте-он национальных героев – это также важный компонент нашегонационального самосознания.
Россия – страна великой и неповторимой культуры, котораявнесла огромный вклад в мировую цивилизацию. Эта часть самосоз-нания россиян основана на реальных достижениях, известных каж-дому образованному гражданину страны. Эти достижения извест-ны всему миру и тем самым формируют гордость россиян за своюстрану. Многие нации имеют великие достижения и гордятся ими,начиная от китайского шелка и пороха до английского Шекспира игруппы «Битлз». Но далеко не каждая нация имеет столь широкийнабор культурных достижений, которые стали неотъемлемой час-тью мировой духовной культуры и сопровождают современногочеловека, где бы он не жил и не воспитывался. Это литература До-стоевского, Толстого, Чехова и Шолохова. Это музыка Чайковско-го, Стравинского, Шостаковича и ее великих исполнителей Шаля-пина, Ойстраха, Ростроповича. Это театр Станиславского и русскийбалет. Это живопись Малевича, Кандинского, Шагала.
Россия – страна спортивная. Для россиян спортивные дости-жения, особенно на международных соревнованиях и на Олимпий-ских играх, – предмет особого сопереживания и гордости. Демон-стрируемое единство народа через массовые эмоции и радости мил-лионов болельщиков по поводу выдающихся спортивных победговорят гораздо больше о том, что мы – один народ и у нас однастрана – Россия.
* * *Все эти позиции сегодня разделяет политический истеблишмент
и значительная часть экспертного сообщества России. Насколько
192
турные облики, если только речь не идет о длительных временныхпериодах, за которые случаются глобальные климатические изме-нения, или о крупных природных катаклизмах. А вот политикипочти вольны распоряжаться средой, и если они между собой дого-вариваются, то могут совершить крупнейшие изменения на физи-ческой карте мира (вернуть к жизни высохшее море или затопитьтайгу и плодородные речные долины).
Политико-административная карта имеет внутренние админис-тративные образования со своими собственными границами. Прирешении вопроса, как поделить пространство внутри государстваи как установить границы между административными единицами,действуют разные факторы и соображения. В СССР были как«укрупнения», так и «разукрупнения», но основным был федера-листский подход, позволявший учитывать многообразие России исохранять ее целостность, в т.ч. и с помощью силы тоталитарного/авторитарного режима.
Современная ситуация во многом изменилась, а многие прин-ципы государствоустройства многоэтничных образований оста-лись прежними, но с важными коррективами, о которых шла речьв докладе.
201
искренне и осознанно – судить не просто, ибо отрицателей Россиикак состоявшегося государства-нации, как страны вполне нормаль-ной и вполне успешной, таких злых отрицателей и унылых скепти-ков еще достаточно. Причем как во внешнем мире, так и внутристраны. Одни считают, что Россия может развиваться только какимперия, вернув себе все назад, что потеряла, и объявив один на-род главным и единственным владельцем российской государ-ственности. Другие считают, что Россия застряла между импери-ей и нацией, ибо в стране нет свободных граждан, а есть толькоподданные, а это означает, что в стране не может быть и граждан-ской нации. Наконец, третьи считают, что разговоры о граждан-ской нации – это пустое фразерство и что нужно, как и в советскоевремя, укреплять дружбу народов и интернационализм.
Россия есть и будет, если в каждом из нас будет присутствоватьпозитивный образ страны, если российские граждане будут испы-тывать любовь к своему Отечеству и нести ответственность за бла-гополучие Родины.
Примечания1 См. Тишков, В. И русский, и российский // Вестник Российской нации. 2009.№2(4). С. 85–97.
2 См. вступительное слово на рабочей встрече по вопросам межнациональных имежконфессиональных отношений, Республика Чувашия, Чебоксары, 5 февраля2004 г. Источник: официальный сайт Президента Российской Федерации,www.president.kremlin.ru.
3 Источник: официальный сайт Президента Российской Федерации,www.president.kremlin.ru.
4 Там же.5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 5 ноября 2008 г. Источ-ник: официальный сайт Президента РФ, www.president.kremlin.ru.
6 Российский консерватизм – идеология партии «Единая Россия». Центр соци-ально-консервативной политики. 2009. Вып. 9. С. 49.
7 Основы социальной концепции Русской православной церкви. Архиерейскийсобор. 13–16 августа 2000 г. См. также: Манина, Е. Социальная концепция Рус-ской православной церкви и ее значение для развития молодежи, http://oroik.prokimen.ru/fakultety/filolog/280-elenamanina.
8 См. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 5 ноября 2008 г.Источник: официальный сайт Президента РФ, www.president.kremlin.ru.
9 Липкин, М. XXI век по Гринвичу: Британия в поисках постимперской идентич-ности // Вестник Российской нации. 2009. №2(4). С. 136.
191
вина XIX в.) понятие русского включало всех православных сла-вян, а сам язык назывался российским. Граница тогда «воевалась»и действительно была барьером, отгораживающим враждебныеплемена и страны.
Государственные границы были и остаются важными атрибу-тами государства и его безопасности. Граница часто «закрываетсяна замок» и «объята тишиной». Поэтому население страны в зави-симости от исторической длительности существования столь яв-ной разделительной линии все больше воспринимается как ради-кально отличающееся от жителей других государств по другуюсторону границы. Хотя мы знаем, что сами жители пограничнойполосы имеют или сложный этнический состав, или же границаразрезает этнически родственное население по обе стороны. Приусловии нормального демократического управления, когда учи-тываются интересы всех меньшинств, приграничное население,независимо от его этнической принадлежности и соотнесенностис населением по другую сторону границы, гражданская лояльностьи национальное самосознание являются определяющими. Для про-живающих в Оренбуржье граждан – русских, украинцев, казахов идругих – главной является российская идентификация. Именно по-этому особенно опасны и могут обрести драматический характермежгосударственные конфликты, ибо их первыми жертвами стано-вятся пограничные области, где сами жители меньше всего хотятвоевать друг против друга.
Государство, требуя лояльности от своих граждан, включая вы-полнение воинского долга и союзнических обязательств, вполнеможет направить военнослужащего против граждан другого госу-дарства, которые являются этнически родственными или близкимипо культуре людьми. Тем самым через принуждение и гражданскоевоспитание государство создает в своих границах самые социаль-но и политически спаянные сообщества, а культурная общностьстановится вторичной и обычно накладывается на сохраняющеесягрупповое и местное разнообразие.
Политико-административная карта мира – это самая жесткаякарта из трех рассматриваемых, хотя ландшафт меняется гораздомедленнее, чем очертания политических образований, но у рек игор нет своих армий, а есть только предоставляемые для челове-ческих сообществ возможности. Природная среда не может пере-делать человеческие сообщества, включая их конфигурации и куль-
202
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ИСТОРИКИВ СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД*
Сегодня историческая тематика вышла на передний край обще-ственно-политической жизни. Это не может не радовать професси-ональных историков и одновременно вызывать озабоченность засостояние науки и профессии. При определенных условиях нашиобщие усилия должны дать позитивные результаты. Одним из та-ких условий является поддержка фундаментальных научных иссле-дований на принципах обеспечения профессионализма, академи-ческой свободы и гражданской ответственности. Несмотря на жес-токие деформации прошлых режимов и на драматическую судьбуученых-историков, российская историческая наука сегодня пред-ставляет собой одну из авторитетных национальных школ в миро-вой исторической науке. Могу это засвидетельствовать как участникпочти всех международных конгрессов историков после 1970 года.Хочется, чтобы эти стандарты были приумножены нынешним по-колением опять же при условии, что старшее поколение не будет«заедать век» молодых и предоставит им возможности для роста исамовыражения. Но и молодое поколение не должно ограничиватьсяподходом tabula rasa, и необходимо учитывать опыт предыдущихпоколений без его отрицания.
Приведу один личный пример. В 1985 г. в издательстве «Наука»вышла моя книга «Историки и история в США», которая, на мойвзгляд, объективно рассказывала о роли истории как науки и учеб-ной дисциплины в американском обществе (кстати, так она былаоценена и в рецензии в «Американском историческом обозрении»).Это было время жесткой советской цензуры. Но в тексте книги, каки во всех других моих научных работах, никогда не было выраже-ний типа «буржуазные фальсификаторы истории», которые былиобязательными для многих, кто писал о зарубежной историогра-_____________* Этнопанорама. 2010. №1–2. С. 41–45 (Выступление на международном «кругломстоле» «История, историки и власть» (г. Москва, 2 февраля 2010 г.).
190
Как формируются региональные идентичности и какие исполь-зуются специфические географические относительно того или иногоместа, ландшафта, пространства? Есть некоторые исходные точкив конструировании значимой географии:
1. Определение и демонстрация типичного природного и куль-турного ландшафта (степь, тундра, горы, городской профиль, ин-женерные сооружения и т.п.).
2. Наиболее известные памятники природного и культурногонаследия.
3. Исторические и политические события, связанные с геогра-фическими объектами, изображенными на карте.
4. Известные люди, чья биография или деятельность связаны сгеографическими объектами, изображенными на карте.
Государственные и административные границыи их воздействие на культуру и идентичность
Государственные рубежи обрели характер четких и охраняемыхлиний сравнительно недавно, в эпоху становления современныхгосударств. Они возникали и оформлялись как результат силы, пе-реговоров, сделок или как результат освоения новых территорийна основе земледельческой или иной формы колонизации и по прин-ципу territoria nullis («ничейной земли»). Именно по такому прин-ципу осваивали Запад канадские и американские колонисты, а рос-сийские колонисты осваивали Сибирь и Дальний Восток. Абори-генное население в расчет не бралось: главное, чтобы над новымиземлями не висел флаг другой большой державы. Государство в лицеармии, бюрократии и просвещенной элиты добивалось минималь-ной гомогенности населения хотя бы в аспекте языкового владенияи вероисповедания, а также обеспечивало принуждением и пропа-гандой лояльность и патриотизм заключенного в рамках госграницнаселения. Это население обретало общую идентичность поОтечеству и по правителю, а в культурном отношении основой слу-жила культура большинства населения. В Российском государстветаковой была русская культура на основе русского языка. Оба пос-ледних понятия имели расширительное содержание по сравнениюс сегодняшними смыслами.
Во время, описанное Н.В. Гоголем в повести «Тарас Бульба»(это XVI в.), и даже во время жизни самого писателя (первая поло-
203
фии в то время. Поэтому есть некоторая несправедливость наблю-дать молодых коллег, не написавших еще ни одной книги и дажееще не родившихся в 1985 г., которые подписываются под текстомпоучительно-осуждающей «Петиции итальянских историков в за-щиту свободы исторических исследований в России» от 13 декабря2009 г. против ее «душителей» Путина, Медведева и заодно – Тиш-кова. При этом никаких реальных оснований, кроме фантомныхстрахов и намерения унизить Россию, не существует. Отделениеисторико-филологических наук РАН, где в 17 научно-исследователь-ских институтах работает несколько тысяч наиболее квалифициро-ванных российских историков, никаких административно-идеоло-гических функций не осуществляет, кроме координации работ ипомощи тем историкам и отдельным научным группам, которыеиногда могут страдать от излишнего администрирования руково-дителей институтов.
Внутрицеховые отношения, место и роль историков в обществе,этика взаимоотношений между национальными школами состав-ляют вопросы, которые следует обсудить на встрече. В этом глав-ная задача нашего «круглого стола», и я благодарен французскимколлегам за нашу совместную инициативу.
Институциональный аспект
Демократизация общества, отмена цензуры, открытие архивови вместе с этим своего рода «открытие прошлого», особенно не-давнего советского прошлого, вызвали взрывной интерес к исто-рии у профессиональных исследователей, деятелей культуры, масс-медиа и рядовых граждан. Это в целом позитивный процесс. Запоследние 20 лет по истории издано первоисточников, переизданостарых и переведено иностранных трудов, написано академичес-ких монографий и публицистических сочинений больше, чем запредыдущие полвека. Особенно это касается российской истории,в том числе истории краев, мест, истории этнических групп, церк-ви, эмиграции и т.д. В стране родилось новое краеведение как осо-бое направление исторических занятий просветительского и пат-риотического направлений. Появились разнообразные, в том числечастные, источники поддержки исторической науки, профильныхмузеев, телепрограмм, генеалогических разработок. Только по ли-нии РГНФ ежегодно получают поддержку сотни исследователь-
189
по Гринвичу: Британия в поисках постимперской идентичности //Вестник российской нации. 2009. № 2(4). С. 136).
Причем здесь этнические группы, конфессии, а тем более про-фессии, чтобы самоопределяться как национальное государство?Кроме как невменяемыми и безответственными суждения самогоКаганского по поводу России назвать нельзя.
Географические образы имеют прямое отношение к выработкекак национальной, так и региональной идентичности. Географи-ческий образ – это конструкция, которая ярко и экономно представ-ляет регион или страну. Региональная идентичность призвана об-наружить тесные связи, укореняющие местные сообщества и от-дельных людей, процедуры самоидентификации, в которых образрегиона может предстать как образы населяющих эту территориюлюдей. «Общее в обоих случаях – внимание к географическомупространству, выступающему в роли желанного, полностью недо-стижимого и все же вполне реального эквивалента различных со-циальных и культурных сред» (Замятин Д.Н. Указ. соч. С. 36).
Региональная идентичность сказывается в существовании вы-пуклых и устойчивых образно-географических композиций, а хо-рошо освоенное пространство идентифицируется как система ре-гиональных и оригинальных образов.
Здесь можно привести длинный список примеров конструиро-вания и использования региональных и местных идентичностей,которые мне известны или которые наблюдались мною лично в ходеэтнографических исследований. В США и Канаде эти вопросы хо-рошо освоены не только наукой, творческими лабораториями, но иобщественными активистами, включая туристов и краеведов. Об-разы Новой Англии и американского Запада имеют всемирное зву-чание и составляют важнейшие компоненты национальной иден-тичности. Канадский Север и французская Канада – это также ос-нованные на географии и культуре национальные бренды. Полити-ка любого уровня в этих странах также зиждется на региональныхобразах. Достаточно привести примеры образов штатов, которыеобладают мистической способностью голосовать на предваритель-ных президентских выборах так, как потом проголосует вся стра-на. В России также в последние два десятилетия идет интенсивныйпроцесс этнокультурного освоения региональных пространств, кон-струирование этномиров и этнодеревень, их коммерциализация ииспользование для просвещения и отдыха.
204
ских, экспедиционных, издательских проектов на общую суммуболее 300 млн. руб. Заметно выросло число профессиональныхисториков и научных центров, особенно в системе университетов.Открытой и разнообразной стала сфера международных научныхконтактов. По многим параметрам последние два десятилетия мо-гут считаться наиболее плодотворными для российской историчес-кой науки.
Однако нужно сказать о рисках и о проблемах. Во-первых, этослабая самоорганизованность профессионального цеха российскихисториков. Историки, пожалуй, единственные среди российскихобществоведов не имеют национальной профессиональной ассо-циации, не проводят регулярных научных съездов, которые все-гда есть смотр научных достижений, площадка для дискуссий идля передачи межпоколенческого опыта, а также важный барьерна пути лженауки. Возможно, что Франция здесь не пример, ноопыт Американской исторической ассоциации с ее регулярнымимноготысячными собраниями профессионалов может быть поучи-тельным для таких больших национальных школ, как россий-ская. Российские историки не имеют национального научного жур-нала общего профиля, который можно было бы считать автори-тетной трибуной для изложения и обсуждения научных результа-тов или для критики. Хотя в последние годы появилось несколькохороших журналов обществоведческого профиля, которые пуб-ликуют статьи историков, особенно молодых и талантливых ав-торов. Отмечу, что и число получателей ученых степеней по исто-рической науке выросло за последние 20 лет десятикратно, хотя,к нашей общей ответственности, часть диссертационных текстови дипломов являются купленными суррогатами или результатомпротекционизма.
В целом корпоративная идентичность отечественных истори-ков находится в плохом состоянии. Серьезен не столько теорети-ко-методологический раскол (плюрализм и многоголосие – норманаучной жизни), сколько жесткая нетерпимость представителейразных групп и межпоколенческий раскол, вызванный почти за-крытой возможностью карьерного продвижения для историков мо-лодого и даже среднего поколения, желающих, например, возгла-вить кафедры, научные отделы и центры, журналы, институты.Представители старшего поколения и сторонники старых версийзачастую излишне болезненно воспринимают процесс пересмотра
188
Столь резкое суждение основано всего лишь на плоском пони-мании нации и непонимании, что есть национальное государство.Но главное, из чего растут подобные суждения, это из растерянно-сти перед российским пространством и неспособности осмыслитьего как целое даже теми, кто сделал это своей профессией. Кстати,на эмоциональном уровне художники и даже российские обывате-ли с этим вполне справляются. Так, например, в словах нашего на-ционального гимна С.М. Михалков один из шести куплетов посвя-тил географическому образу страны, и звучит этот немного абсурд-ный текст так: «От южных морей до полярного края / Раскинулисьнаши леса и поля. / Одна ты на свете! Одна ты такая – / ХранимаяБогом родная земля!» Хотя южных морей у России нет, и леса сполями до полярного края никак не могут раскидываться, тем неменее, геообраз страны в тексте гимна был создан и он работает,раз его поют. Что касается обывателя, то мой покойный сосед порязанской деревне Алтухово Иван Ефимович Ежов постоянно меняспрашивал, а «не продаст ли Ельцин Курилы японцам»: это былаего территория, хотя сам он дальше города Егорьевска никуда вжизни не выезжал.
Практика использования географическо-пространственных об-разов используется широко и другими государствами. Причем имен-но для формирования национальной идентичности (безотноситель-но, есть или нет в стране доминирующая этническая группа, кон-фессия или профессия). Приведу только один пример. В 1997 г. позаказу кабинета Тони Блэра научно-исследовательским институтомDEMOS был подготовлен доклад «Британия: создавая заново нашуидентичность». Его автор, впоследствии директор Института внеш-ней политики Марк Леонард, предложил шесть ключевых момен-тов для нового имиджа страны. Среди тех из них, которые получи-ли наиболее четкое выражение в последующей политике правитель-ства и нашли отклик в обществе, можно выделить три:
1. Британия провозглашается проводником глобализации –местом, где происходит обмен товарами, информацией и идеями,мостом между Европой и Америкой.
2. Британия – это остров, обладающий уникальными творчес-кими ресурсами. Он уникален во всем – от фундаментальных науч-ных открытий до поп-музыки.
3. Британия – это «нация-гибрид», черпающая свои силы в эт-ническом и культурном многообразии (Липкин Михаил. XXI век
205
исторических версий как некое отрицание их собственно прожи-той жизни. Опыт Франции и других стран мог бы помочь россий-ским историкам решать проблемы моральности ревизии.
Проблема исторического предпринимательстваи любительства
Вторая проблема состоит в том, что при сегодняшней матери-альной и внеоценочной возможности напечатать любой текст в об-ществе создается впечатление, что все желающие могут заниматьсяисторией и считать себя историками. Существует впечатление, чтоисториописание – это не особое профессиональное ремесло, которо-му нужно обучаться, а вариант любительского занятия (как путеше-ствия, охота или рыбалка) или вариант телевизионно-книжной ком-мерции, а иногда просто заказной, политизированной лжеисторичес-кой мифологии. В России появились в большом количестве авторы,центры, журналы и даже фонды, которые выбрали историю своейпрофильной деятельностью. Некоторые из этих центров, фондов ииздательств (например, РОССПЭН) доказали свой профессиона-лизм. Но в целом исторической науке противостоит предпринима-тельство на истории и историческое любительство. Это явлениедавнее, и оно имеется во многих странах, но в России проекты типа«новая хронология» Фоменко стали настоящим бизнесом и обще-национальным явлением. Этнонационалистическая и расистскаялитература на основе, якобы, исторических данных также представ-ляет серьезную проблему для ученых и для общества в целом.
Обе стороны – профессионалы и предприниматели-любители –пока не нашли между собой механизмов взаимодействия. Серьез-ные исследователи чаще всего не хотят связываться с шарлатана-ми, с апологетами этнонационалистических и расистских тракто-вок, с теми, кто вдруг разом решил перевернуть все представленияо прошлом, в том числе в области отечественной истории. Средилжеисториков или непризнанных ниспровергателей в отношениипрофессионалов стали употребляться пренебрежительные термины:«традиционные историки», «кучка ретроградов», «старые догмати-ки», которые, якобы, ничего не знают и не хотят признавать новое.Съездил писатель-сатирик один раз на один день в Аркаим, по егословам, «написал по этой теме три статьи» и после этого много-кратно на миллионную аудиторию доказывает бредовую версию
187
ятию чего способствует и картографическая игра с наложениемсредиземноморских контуров на другие географические регионы»(Замятин Д.Н. Культура и пространство. Моделирование географи-ческих образов. М., 2006. С. 31).
Именно Бродель заметил, что Средиземное море в эпоху антич-ности и средневековья воспринималось как море восточное, афро-азиатское, языческое и даже исламское. Европа «узнала» Среди-земноморье и «уменьшила» его образ в физическом отношении (ужекак часть самой Европы) только в эпоху Великих географическихоткрытий, когда открылись новые трансокеанские пространствен-ные коридоры для жителей континента (Бродель Ф. Средиземноеморе и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Часть 1. Рольсреды. М., 2002. С. 258, 300–304).
В наше время также создаются мощные образы различных ре-гионов, стран и континентов. Эта работа с большими пространства-ми позволяет расширить привычные восприятия тех или иных ре-гионов, включить их образы в более крупные образные системы.По поводу России в последнее время было создано много новыхтрудов, ибо возникло новое государство с точки зрения его геогра-фии и геополитической роли. В связи с этим отмечу работы В.Л. Цым-бурского и В.Л. Каганского (Цымбурский В.Л. Россия – Земля заВеликим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М., 2000;Каганский В.Л. Культурный ландшафт и советское обитаемое про-странство. М., 2001). С волнующими кровь выводами этих геогра-фов-философов чаще всего мне как заземленному эмпирику былотрудно согласиться, но важен сам факт интенсивного обсуждениятемы – образ страны в пространственно-географическом аспекте.Здесь вообще много мифологии и образных конструкций, которыевыдают или узость мысли (если речь идет об ученых), или первич-ность эмоционального начала (если речь идет о художниках и по-литиках). Например, теоретик российского пространства Каган-ский мыслит Россию только в имперской парадигме, не допускаямысли о возможности восприятия страны в аспекте национальногогосударства: «Делать вид, что Россия не имеет значимых импер-ских структур, – безответственность или невменяемость, как и про-жекты превращения России в национальное государство, при том,что не существует доминирующей этнической группы, как и нетведущей профессии или конфессии» (Каганский В. Невменяемоепространство // Отечественные записки. 2002. № 6(7). С. 15).
206
рождения белой расы от славян на территории нашей страны.Поэтому проблемы охраны профессиональных стандартов и про-тиводействия паранаучности и историческим спекуляциям требу-ют особого обсуждения.
История как компонент национальнойидентичности
Серьезная проблема в сфере исторического знания в Россиисвязана с распадом СССР и с появлением не только новых госу-дарств, но и 15 новых национальных нарративов, своего рода офи-циальных версий прошлого каждой страны. Прошлое составляетнеобходимый компонент национального самосознания. Это естьпреимущественная собственность и ответственность страны и еенарода за так называемую национальную историю. Не могут рос-сийские историки быть создателями национальных версий герман-ской или французской истории, и наоборот. Напомню, что комис-сии по поводу 200-летних юбилеев Американской и Французскойреволюций с участием историков создавались соответственно вСША и Франции, а не в России, хотя в те годы советские историкитакже готовили юбилейные издания. На XIII конгрессе историков вСан-Франциско в 1975 г. наши ученые участвовали в обсуждениитемы о роли революций в истории.
В мировой историографии имеются и «внешние» разработкинациональных нарративов. Даже могут быть своего рода заказы натакую работу. Особенно если собственные научные школы недо-статочно сильны или испытывают концептуальный вакуум. Фран-ция, кстати, в отношении собственного «национального наррати-ва» демонстрирует сверхдостаточность и даже своего рода интел-лектуальный изоляционизм. Переведенных и изданных работ рос-сийских авторов во Франции по французской истории гораздо мень-ше, чем изданных в России французских авторов по российскойистории.
Итак, каждая страна при разнообразии научных и бытовых пред-ставлений о прошлом стремится к общеразделяемой историческойверсии собственного народа страны. Этот базовый консенсус, еслиего удается достичь, составляет основу формирования националь-ной идентичности (самосознания). Историческая версия обеспечи-вает веру в преемственность общности и государства, стимулирует
186
гары и румыны, поляки и немцы. Но вся хитрость в том, что этиестественные рубежи служат линиями государственных границ, иэто уже административные барьеры, сопровождавшиеся даже на-сильственными переселениями (например, немцев с правого бере-га Одера и Нейсе), сформировали этнические границы, а не самапо себе водная артерия. Как писал Кушнер, «только в отдельных ивесьма редких случаях стремление государства укрепить свои гра-ницы путем доведения их до стратегически важных естественныхрубежей, а также подтянуть к этим рубежам границы этническихмассивов основных национальностей, осуществилось в полноймере» (там же. С. 23).
Наш вывод состоит в том, что государственные границы уста-навливаются и удерживаются в результате двух основополагаю-щих обстоятельств: воленавязывания и волеизъявления, а такжеполитических договоренностей и международных норм и соглаше-ний. Везде и всегда действует принцип или силы, или самоопреде-ления территориального сообщества – демоса. Этнический фак-тор является не главным, хотя именно он чаще всего выходит напереднюю линию аргументации и служит инструментом полити-ческой и даже военной мобилизации.
Геоисторические образы и идентичность
О роли административно-государственных границ будет сказа-но ниже. Но с географией еще есть в чем разбираться. Благодаряфранцузской исторической школе Анналов было положено началотак называемым геоисторическим исследованиям, в центре кото-рых образы географического пространства, которые создаютсялюдьми и на которые природная среда реагирует в соответствии сэтими образами. Поэтому в духе этой школы правильнее говоритьне о географическом детерминизме, а о географическом поссиби-лизме, когда географическая среда предоставляет человеческимсообществам возможности для действий и развития. В классичес-ком труде Ф. Броделя «Средиземное море и средиземноморский мирв эпоху Филиппа II» (1949) среда этого региона и его границы пред-ставлены, по словам Замятина, как «упругий, пульсирующий, ды-шащий образ, захватывающий и отдающий обратно Атлантику,Центральную Азию, Восточную Европу, Русь. Средиземное морепостоянно мигрирует как историко-географический образ, воспри-
207
гражданскую солидарность, укрепляет легитимность самого госу-дарства, помогает обосновывать его достоинства и отличительнуюпривлекательность для внешнего мира. В конструировании такойверсии используются как достижения и победы, так и историчес-кие драмы и примеры несправедливости. Как правило, нацио-нальные истории строятся на основе симбиоза изоляционизма,предпочтительной представленности доминирующей культурнойтрадиции и ее носителей, на основе так называемого удревненияисторических корней, непрерывности культурной традиции и го-сударственности. С этой проблемой историки давно знакомы, ноесть некоторые новые моменты.
Во-первых, ослабевает влияние самой концепции мышления внационально-государственных категориях, наблюдается разочаро-вание в общем «авторитетном прошлом», «официальной истории»,обозначается кризис коллективных форм идентификации и исто-рических метанарративов, происходит трансформация классичес-кой модели «национальной памяти». Это большой вопрос истори-ческой эпистемиологии.
В постсоветских странах к этой проблеме добавляется терми-нологический разнобой по поводу самого понятия «национальное».С советских времен в исторических учебниках излагается историяцентра как своего рода русская история и отдельным разделом –«история народов и государств на территории СССР», или историяэтнической периферии. Проблема интегративной версии и представ-ленности разных групп и традиций в большом российском нарра-тиве до сих пор не решена. Для создания полнокровной и открытойверсии истории России это имеет особое значение. При наличиисерьезных наработок по части истории отдельных групп и регио-нов эти проблемы можно решить через более адекватные учебныетексты и через хорошо подготовленные популярные презентации(ТВ, музеи и прочее). Трансляция документальных фильмов ВВСпо истории, некоторые наши сериалы, исторический канал на 5 ка-нале СПб., тема истории радио «Эхо Москвы» показывают, как этоможно делать.
Более серьезной проблемой историописания представляетсявариант национальных версий истории на основе игнорированияобщего прошлого с другими народами. При такой версии можетпоказаться, что православный храм в центре Хельсинки свалился снеба, если, например, в национальной исторической версии игно-
185
активно использовались советскими государственными деятелямии пропагандой. Точно так же сегодня эти же аргументы использу-ются казахскими, украинскими, прибалтийскими националистамидля обоснования территориальных границ бывших советских со-юзных республик или даже для территориальных претензий. Ана-логичные мотивы можно встретить и в риторике крайних национа-листов в самой России.
Опыт мировой политики и современный взгляд на этничностьне позволяют выстроить некую рациональность в соотнесении пос-ледней с государственными и даже внутренними административ-ными границами. Теория Кушнера и территориальные постулаты вобласти этничности заводят политику в тупик и содержат большойконфликтогенный потенциал. Но тогда как соотносятся естествен-ные рубежи и государственные границы с этническими ареалами вистории и в современности?
Связь между тремя картами существует, но скорее как конф-ликтная проблема, а не как гармония. Что касается природной сре-ды, то она оказывает влияние на формирование культуры и на раз-витие общества, хотя и не является определяющей. Достаточнопривести пример, что столь значимые природные рубежи, как, на-пример, реки и горы, почти нигде не служат тем, что называетсяэтнической границей. Реки Волга и Урал хорошо это демонстриру-ют. Уральские горы и Кавказский горный массив также являютсязонами богатой этнической мозаики. Даже на кавказском высоко-горье от первичных ущельных культурных комплексов, которыемогли оформиться давно и без явных внешних взаимодействий,сегодня мало что осталось. Скорее остались ментальнообразныеконструкции, как, например, нынешнее деление чеченцев на гор-ных и равнинных.
Что же касается морской береговой линии и берегов большихостровов, то их, как правило, также населяют представители раз-ных этнических сообществ. Берега Каспийского моря, поделенныемежду пятью государствами, могут быть тому убедительным при-мером. А тем более Средиземноморье, где само море с его острова-ми представляет собой не разъединяющую, а стягивающую куль-туры конструкцию. Тем не менее, мы находим примеры, когда эт-ническая граница проходит по естественным рубежам. Реки Амур,Дунай в его нижнем течении, Одер и Западная Нейсе разделяютдовольно определенно такие народы, как китайцы и русские, бол-
208
рируется период пребывания Финляндии в составе Российскойимперии. Ясно, что единой версии прошлого для 15 государств ужене будет, но это не означает, что политикам нужно вычеркиватьобщую историю, а историкам – отказываться от ее совместной раз-работки или от сотрудничества друг с другом.
Что самое худшее – это конструирование национальных вер-сий прошлого на основе создания враждебного образа других на-родов и государств или на основе коллективной травмы, ответствен-ность за которую возлагается исключительно на внешние силы.Советская эпоха оставила много таких травм, но не меньше идостижений. Все это есть наша общая история и наша общаяответственность. Правопреемственность России по отношению квнешним долгам, посольской собственности или международнымсоглашениям не означает, что, например, мои пострадавшие отсталинизма уральские родственники и я, как их потомок, несемответственность за жестокие ошибки или преступления советскойверхушки, состоящей в том числе из выходцев из Грузии и Украи-ны. Проблема исторической ответственности требует новогообсуждения. Как, кстати, и проблема «исправления историческихнесправедливостей», которая часто решается путем совершенияновых несправедливостей.
Пределы домена историков и возможностивласти
Колингвуд считал, что никакой результат в истории не являетсяокончательным, что свидетельство меняется «с каждым изменени-ем исторического метода», что «принципы, которыми это свиде-тельство интерпретируется, также меняются» и что, следователь-но, «каждое новое поколение должно переписывать историю егособственным способом». Меняются не только метод и принципыинтерпретации, но и социальная среда, интересы и устремлениялюдей, социальных групп, политиков, интеллектуалов. Тем самымкаждое поколение желает видеть или находить в истории то, чтонаиболее значимо для него на сегодняшний день. Эта потребностьвсегда меняется в случае смены общественного устройства иполитико-идеологического режима.
Мы знаем, что бывают ситуации, когда исторические катаклиз-мы уничтожают целые государства вместе с его национальным нар-
9
209
ративом прошлого. Так случилось с версией истории СССР, созда-ваемой несколькими поколениями, в том числе и ныне живущихисториков. На место приходят своего рода «нулевые поколения» –новые граждане новых государств, которые или пытаются продол-жать старый «большой нарратив», или начинают с отрицания пред-шествовавшей версии истории, или же обращение идет к древней,наиболее мифологизированной части прошлого в попытке выстро-ить легитимную преемственность и опору современной идентич-ности, как бы пропуская недавнее прошлое. Такое происходит сре-ди российских историков и историков некоторых других стран быв-шего СССР. Какая позиция наиболее приемлема в ситуации, каза-лось бы, безнадежного релятивизма и субъективности? Во-первых,неправильно считать, что каждое поколение начинает его с чистоголиста, и каждому поколению выдается своего рода картбланш насобственный способ историописания и на отрицание накопленно-го предшественниками знания. Это условие распространяется навсех, участвующих в историописании. При всей неудовлетворен-ности статусом-кво энтузиастов радикальных ревизий, тем не ме-нее, существуют профессиональные проверочные нормы и сохра-няется способность оценивать компетентность историков, которыепредохраняют от разрушения само здание профессиональных ис-торических знаний.
В моменты смены парадигм и радикальных ревизий аргументыи обоснования, т.е. сама историческая эпистемиология, выходят напервый план в профессиональном сообществе и делают тем самымвозможным диалог между сторонниками разных версий. Именноздесь история, как пишет А. Мегилл, «должна быть не только (внекоторых ее аспектах) эстетической практикой, но также и науч-ной дисциплиной, т.е. организованным получением знаний темиколлективами, которые разделяют принципы и практику точного,методического и непрерывного конструирования, деконструкции иреконструирования исторического прошлого»1.
И здесь я задаю один из старых вопросов: каковы условия при-ближения к истине и интеграции нового знания в существующийкорпус достоверных знаний? Каковы условия сохранения истори-ческого знания от внедисциплинарных воздействий политиков, иде-ологов, намеренных шарлатанов и поверхностных энтузиастов?Ясно, что каждое новое поколение будет открывать в истории те еестороны, которые наиболее значимы для его сегодняшнего суще-
232
и гражданской нации. Наконец, третьи считают, что разговоры огражданской нации – это пустое фразерство, и что нужно, как и всоветское время, укреплять дружбу народов и интернационализм.
Должен заметить, что автор является давним и последователь-ным сторонником того, что поддерживать и развивать культуру иязыки больших и малых народов страны необходимо, как и обеспе-чивать межэтнический мир и религиозное согласие. Но на фести-вальной формуле дружбы народов столь сложный механизм, какРоссийское государство, тем более в эпоху больших геополитичес-ких соперничеств, на такой формуле такое государство не удержать.Для России формула единства в многообразии является более на-дежной.
Для меня лично демонстрировавшееся после футбольной побе-ды всю ночь в Лужниках единство десятков тысяч болельщиков,которые принадлежали к самым разным российским национально-стям, как и все российские спортсмены, дало ответ на вопрос, естьили нет один народ в нашей стране. Если кому-то этого не хватает,тогда можно подождать до очень вероятных побед нашей нацио-нальной(!) команды в Сочи, и уже эти ожидаемые солидарность ипатриотизм нации не смогут опровергнуть никакие аргументы.Вновь избранный президент Д.А. Медведев подтвердил позициюпрежнего президента по вопросу о нации, и он принес присягу «слу-жить народу». Этот народ называется российским.
10
210
ствования и восприятия мира, и каждое новое государство будетвыстраивать собственную непрерывную историческую версию.Главное, чтобы эти версии имели в основе профессиональное ис-торическое знание и не были заточены на создание образа врага ина разжигание межгрупповой и межгосударственной вражды. Поэтому вопросу среди историков разных стран возможны договорен-ности. Даже в худые времена холодной войны, в 1970-е гг., дей-ствовала советско-американская комиссия историков по устране-нию из учебников идеологизированных и необоснованных оценоки фактов истории одной страны в учебниках другой страны. В на-шем архиве сохранился текст совместного заключительного док-лада, который не был, к сожалению, опубликован, но использовал-ся профессионалами.
В национальных историях и в мировой истории есть морально-ценностные моменты и трактовки прошлого, которые имеютособое общественно-политическое и эмоционально-нравственноезначение для той или иной страны, этнической, религиозной илирасовой общности и даже для населения целого континента. Приразнообразии мнений и дебатов среди ученых на уровне массово-го потребления исторического знания существуют определенныеограничители и сдерживающие факторы публичных интерпрета-ций. Профессиональные историки не могут считать себя исключи-тельными владельцами знаний прошлого без учета общественныхнастроений, символических ценностей, группового достоинства,интересов формирования национального самосознания или иден-тичности.
Для меня, как ученого-историка, нет непререкаемых постула-тов. Но своим опытом и гражданским чувством я понимаю, чтонельзя исторически необоснованными фактами подвергать тоталь-ной ревизии, а тем более оправдывать колониализм, расизм, нацизм,терроризм, ксенофобию, а также исторические трагедии, как Хо-локост, сталинские репрессии, погромы китайских хунвэйбинов,полпотовский или руандийский геноциды. В 2010 г. – год 65-йгодовщины Победы над гитлеровской Германией – особо нужда-ются в защите со стороны историков такие явления и факты, какправовое дело антигитлеровской коалиции, гуманистическая дея-тельность отдельных лиц, организаций, движений и стран в годыВторой мировой войны. Но только где пределы политико-правово-го вмешательства и что составляет исключительный домен самих
231
вокруг России. Не до конца и не во всем, но очень во многом и вочень важном. Одно решение по Олимпийским играм в Сочи стоитмногих высоких мировых собраний и договоров.
Третье достижение – Путин как политик-государственник сфор-мулировал и выразил, что есть Россия как народ и как государство.Он во многом заложил основы политики российского национализ-ма как политики отстаивания национальных интересов страны внут-ри и на внешней арене. Будущие поколения россиян будут благо-дарны президенту В.В. Путину за сказанные им в Кремле 12 июня2007 г. слова: «История и всевышний распорядились так, что нанашей огромной территории проживают представители разных эт-носов, религий и культур, но мы все – один народ, одна нация».
В свое время М.С. Горбачев вообще не думал на эту тему, оста-ваясь в плену старых клише «социалистического федерализма наинтернациональной основе». Б.Н. Ельцин робко высказался на счетроссийской нации как будущей задачи государствостроительства.В.В. Путин ясно и неоднократно заявлял о том, что Россия с ее мно-гонациональным народом в то же самое время есть государствонациональное с российской гражданской нацией. Многочисленныепопытки политических маргиналов повлиять на президента, чтобыон занял этнонационалистическую позицию, ничем не закончились.В то же самое время Путин очень много сделал, чтобы поддержатьрусский язык и русскую культуру в стране и за рубежом, защититьсоотечественников, большинство которых считает себя русскимилюдьми или людьми, связанными с Россией. При президенте Пути-не укрепилась одна из основ российской государственности – ре-лигиозная византийско-православная традиция в лице Русской пра-вославной церкви.
Все эти позиции сегодня разделяет основной политический ис-теблишмент России. Насколько искренне и осознанно – судить непросто, ибо отрицателей России как состоявшегося государства-нации, как страны вполне нормальной и вполне успешной, такихотрицателей в разных вариантах еще много. Причем, как во внеш-нем мире, так и внутри страны. Одни считают, что Россия можетразвиваться только как империя, вернув себе все назад, что потеря-ла, и объявив один народ главным и единственным владельцем рос-сийской государственности. Другие считают, что Россия застряламежду империей и нацией, ибо в стране нет свободных граждан, аесть только подданные, а это означает, что в стране не может быть
211
историков-профессионалов. Как по этим вопросам должны взаи-модействовать историки разных стран между собой?
Мне кажется, что мы возвращаемся к временам конструирова-ния изгоев и непримиримых идеологических противостояний. Та-кое впечатление, что в мировой истории заложена закономерность,что после одной глобальной битвы должна обязательно следоватьдругая. У меня, например, вызывает беспокойство отсутствие ре-акции со стороны исторического сообщества на правовые нормы внекоторых странах бывшего СССР, в которых предусматриваетсяуголовное наказание за те или иные интерпретации советского про-шлого или за использование его символов. В то же самое время мыимели недавно со стороны части научного сообщества попыткуоказать давление на российских историков по обсуждению проб-лемы исторических фальсификаций. Я это расцениваю как руди-мент холодной войны. Профессиональным историкам предпочти-тельнее общаться и выяснять вопросы в диалоге, а не устраиватьинтернет-петиции, похожие на советские кампании позора.
Примечание1 Мегилл, А. Историческая эпистемиология. М., 2007. С. 197.
230
альное преуспевание российского народа продвинулось за преде-лы крупных мегаполисов. Сегодня другими стали не только Моск-ва или Екатеринбург, но и подмосковные города Звенигород и Один-цово, уральский Нижний Тагил и сотни средних и малых городов,которые в прошлом десятилетии оставались в застое и даже разру-хе. Автомобилизация населения стала всеобщей, хотя нет хорошихдорог и далеко не все сельчане при автомобиле, если не считать ихгородских детей. Радикально снизилось число бедных людей за счетроста заработной платы, пенсий и пособий. Инфляция съедает до-бавки, но постоянный рост потребления товаров, масштабы приоб-ретения жилья, проведение отпусков и каникул говорят о том, чтодостаток присутствует уже у большинства населения. Мы можем идолжны говорить о бедности в России, но уже не имеем права гово-рить о бедной России, как о ней отозвался президент в самом нача-ле своего правления.
Но главные, на мой взгляд, достижения президентства Путиналежат в других направлениях. Первое – это укрепление российскойгосударственности. Драма позднего Горбачева и раннего Ельцинабыла в том, что они, как когда-то сказал мне покойный академикБ.Н. Топорнин, «бросили государство в борьбе за Кремль, а ос-тавлять государство без внимания нельзя ни на минуту». Путинликвидировал очаг вооруженного сепаратизма и восстановил цен-тральную власть по всей территории страны без исключения. Зная,какие внешние ресурсы были брошены на отделение Чечни и су-ществовавшие настроения «отпустить Чечню» даже среди крем-левских советников, должен сказать, что это было историческоедостижение. Клиентов на сецессию в России теперь долго не най-дется.
Второе достижение – это восстановление Россией (а точнее бу-дет сказать – создание) статуса подлинно мировой и уважаемойдержавы (power). При этом следует учесть, что почти все постсо-ветские государства предпочли строить свою идентичность и впи-сываться в мировую политику через дистанциирование от Россииили даже на пути антироссийской политики. Далеко не нашимисимпатизаторами были и остаются все эти годы бывшие советскиесателлиты, медленно изживающие коллективную травму от тяже-лой руки Москвы. Озлоблен на Москву был и исламский мир заразгром чеченского сепаратизма под фундаменталистско-исламист-скими лозунгами. Тем не менее, Путин изменил мировой климат
212
ПРО РАЗНЫЕ ИСТОРИИ(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ
СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА)*
Что пишут историки и что читает народ?
Для внешнего обозревателя историческая наука представляет-ся меньше всего наукой, а некой разновидностью хобби или интел-лектуального предпринимательства. Историю в той или иной сте-пени знают многие, причем, лучше, чем физику, астрономию илиязыкознание. Несколько меньше, но также много людей, которыезанимаются историей в любительско-краеведческом или публици-стическом плане. И, наконец, в стране есть несколько десятков ав-торов, которые пишут на историческую тему коммерчески выгод-ные книги, как это делает «Малахов-плюс» по проблеме здоровьяили Мулдашев по эзотерике. В последней, кстати, многое замеша-но на псевдоисторической аргументации. В то же самое время вРоссии есть достаточно развитое школьное и вузовское историчес-кое образование, а также система подготовки кадров высшей ква-лификации (кандидатов и докторов наук). Общая численность дип-ломированных российских историков составляет десятки тысяччеловек, из которых не менее 4–5 тыс. профессионально занима-ются исследовательским трудом. Только в 18 научно-исследователь-ских институтах, входящих в Секцию истории Отделения истори-ко-филологических наук РАН, трудится более 2 тыс. историков.Не меньшее число составляют университетские профессора исто-рических факультетов, многие из которых также занимаются науч-ным трудом, а не только читают лекции. По-крайней мере, учебни-ки и учебные пособия по истории пишут в основном они, оттеснивв последние годы от этого занятия историков сугубо академическо-го профиля._____________* Этнопанорама. 2011. №1–2 (Статья опубликована в журнале «Вестник Россий-ской нации». 2010. № 4–5).
229
людей чрезвычайно причудлива. Риторика жалоб стала одной изважных стратегий оправдания неправового поведения, стремле-ния получать незаконные доходы и не платить налоги. Наконец,обвинения в «развале страны» и в «геноциде народа» вошли в по-стоянный репертуар политической оппозиции коммунистическогоили ультранационалистического толка. Радикально-либеральная оп-позиция после ухода из власти проклинает кремлевский режим заотказ от реформ и за скатывание в авторитаризм и даже в худшихпрегрешениях.
Прошлому российскому десятилетию не повезло: оно уже по-лучило титул «эпохи хаоса», дожидаясь теперь только послушныхисториографов. Здесь сказались не только упоминавшиеся мноюнастроения реванша и ностальгии, но и неизбывное искушениеполитиков и комментаторов, особенно каждой новой правящей ко-манды и обслуживающих ее экспертов, принизить или перечерк-нуть прошлое, чтобы возвысить собственные планы и свершения.
Хотя, на мой взгляд, 1990-е гг. были далеко не самым худшимиз всех предшествующих им десятилетий отечественной истории.Может быть кто-то сможет назвать лучшее время из тех, что мыпомним, а не выучили из учебников? Но вся интрига в том, чтоследующее за ним время – 8-летнее президентство В.В. Путина –было гораздо более успешным, в значительной мере благодаря лич-ности самого президента, но, отчасти, благодаря тем реформам иих продолжению, которые были до Путина и продолжились приПутине. С точки зрения исторических трансформаций, радикаль-ного разрыва между двумя десятилетиями и двумя правящими ко-мандами в России не существует. Минэкономики России во главе сГрефом, «Газпром» во главе с Миллером, РАО «ЕЭС» во главе сЧубайсом проводили при Путине тот же самый курс. Частный биз-нес ничуть не изменился по своей природе и приоритетам. Он толькостал несколько лучше платить налоги после истории с «ЮКОСОМ».
Что действительно изменилось при Путине уже после того, какмы в целом позитивно оценили в 1999 г. итоги российских транс-формаций с точки зрения социально-культурной антропологии исочли возможным открыть подборку своих публикаций из «Этно-панорамы» данной статьей? А изменилось следующее: страна ста-ла жить еще лучше, причем значительно лучше по ряду направле-ний, которые во многом определяют восприятие страны и личнойжизни. Назовем только некоторые моменты. После 2000 г. соци-
213
Возможно, так и должно быть, однако то, что ученые-исследо-ватели фактически перестали писать книги научно-популярноготолка вместе с кончиной соответствующей серии в издательстве«Наука», плохо. Кстати, свою первую книгу «Страна кленового ли-ста. Начало истории» (М.: Наука, 1977) я опубликовал именно вэтой серии тиражом 83 тыс. экземпляров. Один канадский коллегав те годы как-то заметил в разговоре со мною: «Этого не можетбыть, и все эти экземпляры где-то лежат на складе». А у меня усамого не осталось ни одного экземпляра, даже чтобы сканироватьдля собственного сайта в Интернете! Надо сказать, что моя перваякнига про раннюю историю Канады была далека от занимательнойистории или яркой исторической публицистики, но тем не менее унее в те годы был свой читатель. Точно так же разошлась 60-тысяч-ным тиражом книга про современных индейцев США и Канады(«Тропою слез и надежд». М.: Мысль, 1990), хотя этот текст былсовсем не «а ля Кастанейда», о котором советский читатель тех летфактически еще ничего не слышал.
Серьезную историческую литературу отечественная публикавполне уважала, предпочитала читать и держать в своих библиоте-ках. Книги моих старших коллег по академии, ныне уже покойных,Е.В. Тарле, В.П. Волгина, И.И. Минца, Б.А. Рыбакова, В.Г. Труха-новского, И.Р. Григулевича, М.В. Нечкиной, А.М. Самсонова и дру-гих расходились по стране тиражами в десятки тысяч экземпляров.Сейчас вместе со мною в РАН работают не менее выдающиеся ма-стера, но тиражи их книг не превышают одну тысячу экземпляров:ровно столько издательство «Наука» печатает копий на получаемыепо издательским грантам средства из РГНФ, РФФИ и ПрезидиумаРАН. Продажей и получением прибыли за счет тиражей главноенаучное издательство страны не занимается, у него нет даже соб-ственного магазина в Интернете, в результате изданный нашим ин-ститутом в серии «Народы и культуры» историко-этнографичес-кий том «Русские» был опубликован тиражом одна тысяча экземп-ляров и допечатан после получения нового гранта. Хотя только однаэта книга могла бы приносить большую и постоянную прибыльиздательству, а российская читающая публика имела бы наиболеедостоверное и полное изложение истории, материальной и духов-ной культуры русского народа вместо дореволюционных переизда-ний или современных подделок под «русскую тематику». Лежит,например, на книжных полках изданная в крупнейшем издатель-
228
Последнее десятилетие ХХ в. стало временем серьезного внут-реннего раскола российского общества. Главным был поколенчес-кий раскол, хотя и не выраженный в открытой форме. Старшее по-коление почти все осталось в прошлом, открыто осуждая пере-мены и тех, кто их воплощал или пользовался их возможностями.Правда, это осуждение не распространялось на собственных детейи внуков, которые в большом числе оказались гораздо более спо-собными и успешными в новых условиях, чем их отцы и деды. Сред-нее поколение раскололось неравномерно. Меньшинство, оказав-шееся при должностях, полезных связях или с чертами предприим-чивости, стали обладателями собственности, ресурсов и простобольших денежных сумм. Они стали богатыми россиянами, или«новыми русскими», а к ним с каждым годом присоединялись всебольше и больше людей среднего и выше среднего достатка. Те идругие не платили положенных налогов, и ни в какой официальнойстатистике их бюджеты не получали отражения, кроме списковжурнала «Форбс» для самых богатых и некоторых социологичес-ких замеров для среднего класса.
По поводу среднего класса, а точнее – соотношения выиграв-ших и проигравших от реформ были самые большие расхождениясреди политиков и экспертов. Одни ученые на протяжении всех1990-х гг. называли цифру 10% выигравших и 90% проигравших,другие называли цифру среднего класса в 25%. Ни те, ни другие нехотели признавать цифру 40–45%, которую давали самооценки рос-сиян, когда их спрашивали про принадлежность к среднему классу.Комментаторы обычно ссылались на то, что наш человек, выйдя изнищеты, просто не знает, что такое принадлежать к среднему клас-су. Возможно, что так оно и есть. Но только ни в одной стране незачислят в бедняки, в том числе и живущих на одну пенсию пенси-онеров, тех, кто проживает в старых городских кварталах в кварти-ре стоимостью в полмиллиона долларов и даже выше. Страхи, инер-ция или жадные внуки не позволяют им переехать к дальней стан-ции метро в квартиру в несколько раз дешевле и тем самым обес-печить себе более чем высокий достаток до конца жизни. В миретаких людей – владельцев серьезной недвижимости – обычно от-носят к среднему классу. У нас пенсионер с миллионной кварти-рой – это бедняк.
Этнография российской жизни с точки зрения ненаблюдаемойстатистиками и обществоведами экономики и реальных доходов
214
стве «ОЛМА-ПРЕСС» книга университетского профессора под на-званием «Русские в ХХ веке», но в ней совсем не про русских, апро тех, кто им постоянно строил в истории разные козни. Такимобразом, начнем с того, что профессиональная академическая на-ука отчасти сама сдала свои позиции из-за слабой квалификации,идеологической заангажированности или тривиальной ленности какавторов, так и издателей.
Поле профессиональных текстов стало за последние 20 лет го-раздо более разнообразным и привлекательным по форме и содер-жанию, но этого оказалось недостаточно, чтобы просвещенныйнарод сохранил привычку читать и доверять профессионалам ис-ториописания, а тем более иметь качественные книги в доступно-сти на книжных полках и в библиотеках. Отыграть эту ситуациюдостаточно сложно, но возможно. Добротные и новаторские ис-торические исследования, особенно с элементами открытий и но-визной интерпретаций, становятся бестселлерами во многих стра-нах, где средний читатель даже менее грамотен и любознателенпо сравнению с россиянами. Необходимо возродить своего рода«народную библиотеку по истории» и сделать книги этой сериидоступными на уровне так называемого «аэропортного чтива». По-смотрите, ради интереса, какие книги и каких авторов продают взарубежных международных аэропортах, и что продается в Шере-метьево и Домодедово. Сравнение будет явно не в нашу пользу,хотя на Западе печатной мишуры также хватает, но языческо-эзо-терические и расистско-националистические бредни или откро-венная политическая заказуха на лицензионных печатных стан-ках не печатаются и на полки не выставляются.
Для того, чтобы просветиться по части того, «что читает народ»по истории, достаточно подойти к любому книжному магазину-раз-валу на улицах наших городов, к книжно-газетному киоску в рос-сийском аэропорту или зайти в московский «Библио-глобус». Здесьразница будет невелика: сегодня, как пять и десять лет тому назад,и повсеместно – от Москвы до самых до окраин – продаются книгина одни и те же темы и примерно тех же самых авторов. Не будуназывать фамилии: среди них есть известные политики, писатели ижурналисты, но не меньше шарлатанов и человеконенавистников,против которых возбуждались уголовные дела и даже выносилисьрешения. Темы, которые «продаются», – это выдуманные праисто-рии велесово-ведического цикла и протославянские фантазии, рат-
227
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Издаваемая в Оренбурге книга с перепечаткой моих статей вжурнале «Этнопанорама» за двенадцатилетний период потребова-ла от меня небольшого заключительного рассуждения. Оно связа-но в большой степени с завершением президентства В.В. Путина,избранием нового президента Д.А. Медведева и происходившимив этой связи оценками как итогов пребывания Путина у власти, таки предшествовавшего этому времени 1990-х гг.
Должен сказать, что современность оценивается лучше из луч-шего прошлого. Ибо позитивные свершения в настоящем являютсяподлинно таковыми, если они есть преемственное улучшение. Бы-вают редкие случаи революционного отказа от старого порядка, нодаже здесь опасно тотальное отрицание, ибо несостоятельность пра-вящего режима и социальных условий жизни еще не означают ущерб-ность повседневной жизни людей, их устремлений, морально-це-левых установок, гражданской ответственности и некоторых сфергосударственной политики. Если радикальная трансформация обще-ства строится на революции двойного отрицания, как это случилосьс распадом СССР, тогда неизбежны настроения ностальгии или ре-ванша, которые возникают сразу или спустя некоторое время.
Именно так обстояло дело в России в эпоху позднего Горбачеваи раннего Ельцина, т.е. в период конца 1980 – начала 1990-х. Обще-ство было перегружено социальными переменами и поэтому дажеявно положительные изменения в жизни людей далеко не всегдавоспринимались таковыми. Материальные улучшения и личност-ные свободы зачастую перечеркивались неприятием новых имуще-ственных контрастов и непривычных для большинства людей жиз-ненных ценностей. Многих больше беспокоило снижение мирово-го статуса страны, ее военной и политической мощи, сокращениегосударственного патернализма, чем удовлетворение от устранениядефицита товаров и услуг, от возможностей получать землю и стро-ить дома, заводить свое дело и зарабатывать деньги, свободно по-лучать разнообразную информацию и путешествовать.
215
ные дела и оружие древних предков, про евреев и про разные заго-воры против России, про генералиссимуса Сталина и про подвиги-козни спецслужб, про «исламские» и «оранжевые» угрозы. Нако-нец, это про чудесных царей и цариц, про Горбачева с Ельциным –могильщиков великой державы СССР.
Еще совсем недавно мне было довольно стыдно смотреть накнижный прилавок в здании Государственной Думы. Сейчас тампродаются книги немного посолиднее и во много раз дороже из-за их золотых обрезов и золотых букв с гербами на обложках. Новся эта низкопробная макулатура на историческую тематику рас-ползлась по стране, тиражируется самыми известными издатель-ствами и уже красуется на полках районных, университетских идаже школьных библиотек. Фоменко, Пикуля, Гумилева, Радзин-ского, Кастанейду и подобных авторов будут издавать еще долго,и противостоять новой рыночной истории фактически невозмож-но. Здесь можно предложить только две стратегии привития на-выка к качественной литературе по истории у читателя и повыше-ния критериев отбора у издателя. Первая – это грамотное и ответ-ственное преподавание истории в школе и вузе. Второе – это ужеупомянутое пробуждение академических историков от неспеш-ного писания исключительно для самих себя. Наконец, срочно не-обходим диалог профессионалов и любителей историописания сучастием издателей. Но как сформировать новый спрос на каче-ственную историю, мне сказать трудно. По крайней мере, я не ду-маю, что государственные реестры по защите главных тем отече-ственной истории и тем более правовые нормы по поводу того, какписать и даже как преподавать историю, могут радикально улуч-шить ситуацию.
В России действительно «умственный разброд» по поводу того,что было в прошлом. Как пишет С.Е. Нарышкин, «в итоге – всеоб-щая историческая путаница, разруха в головах, как сказал классик.Учителя в школе и преподаватели в вузах подчас затрудняются втрактовках тех или иных исторических событий, боятся и не хотятотвечать на «неудобные» исторические вопросы, отсылают учащих-ся к противоречивой литературе и текстам сомнительного содер-жания. И без того в целом ряде сюжетов и персонажей нуждающа-яся в дальнейших серьезных исследованиях отечественная исто-рия покрывается еще большим туманом субъективных интерпрета-ций, завесой фальши и невежества. В общем, получается замкну-
226
for Development and Research in Education in Europe. 1993. Vol. 6. Enschede, TheNetherlands.
8 Phillips, R., Goalen P., McCully A., Wood S. Four Histories, One Nation? HistoryTeaching, Nationhood and a British Identity // Compare: A Journal of ComparativeEducation. 1999. Vol. 29. № 2.
9 Hobsbawm, E.J. On History. L.: Weidenfeld and Nicholson. 1997. Р. 357.10 Smith, A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity, 1995. Р. 53.11 Low-Beer, A. School History, National History and the Issue of National Identity.
www.heirnet.org/IJHLTR/journal5/Low-Beer.pdf12 Там же.13 Lowenthal, D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. L.: Viking, 1997. Р. Х,
110–111.
216
тый круг: историческая неразбериха питает почву для историчес-ких фальсификаций, которые, в свою очередь, еще больше усили-вают историческую неразбериху». Но тогда, может быть, простонужно пережить этот момент и подождать прихода нового поколе-ния историков и их читателей? Ну, а если это надолго? Тогда где жевыход? Сергей Нарышкин предлагает искать его в создании новыхэталонов общенациональной истории. На этот счет необходим бо-лее чем серьезный разговор.
Как преподается история и в чем суть проблемы?
Преподавание истории – одна из самых острых и постояннообсуждаемых проблем среди ученых-гуманитариев и обществен-ности. В истории нашей страны было несколько известных деба-тов и даже партийно-правительственных решений по поводу пре-подавания истории в школе. В начале 1930-х гг. было даже реше-ние о создании единого учебника по истории для советской школы,и по конкурсу таким образцовым учебником для младших классовбыл признан учебник истории автора Шестакова. Мои школьные1950-е гг. прошли по учебнику истории, написанному академикомА.М. Панкратовой. Затем были учебники академиков Б.А. Рыбако-ва и М.В. Нечкиной, профессора А.А. Преображенского. По всеоб-щей истории авторами учебников были академики С.Д. Сказкин,В.М. Хвостов. Скажем откровенно, что эти учебные версии былине просто «идеологически выдержаны», они были лишены самойживой ткани истории в ущерб схемам, а также замалчивание важ-нейших событий, героев и вклада в российскую историю разныхнародов и групп населения. Но в любом случае эти учебники былинаписаны профессионалами высшего класса, довольно хорошо вла-девшими писательским пером, были националистичны и этноцен-тричны в том смысле, в каком обычно и пишутся школьные учеб-ники. Их самой слабой стороной было обеднение из-за классовогоподхода. Этот опыт школьного историописания стоит вспомнитьна предмет извлечения из него кое-чего полезного для нынешнейдискуссии.
Что же касается моего обучения на историческом факультетеМГУ в 1959–64 гг., то это было довольно жесткое время, когда вы-сокий профессионализм многих профессоров сочетался с начетни-чеством, постоянными разоблачениями «буржуазных фальсифика-
225
национальное, есть то, что ученики в конечном счете выраба-тывают для себя сами из самых разных источников»12.
Мне обе вышеобозначенные позиции представляются своегорода проявлением общеевропейской кичливости изощренных ин-теллектуалов. Не называю их взгляды космополитичными, но в чем-то они схожи с таким мировидением, к которому, по крайней мере,страны-новообразования или пережившие геополитические катак-лизмы не готовы.
Есть еще один важный вопрос: как развести два фундаменталь-ных понятия – «история как описание прошлого» и «историческоенаследие как часть культурного капитала человека и нации»? Этидве вещи связаны друг с другом, но не полностью идентичны. Какпишет на этот счет Д. Лоуэнталь, «наследие вообще не являетсяисторией, хотя оно пользуется и одушевляется историческим ис-следованием. Наследие – это не экскурс в прошлое, а прославлениепрошлого, это не попытка познать, что действительно было, а ис-поведание (практика) веры»13. Историческое наследие чаще всеговыглядит и воспринимается как домашняя версия мифическогопрошлого, столь важного для чувства идентичности. Именно этаверсия важна для воспитания ответственного гражданина, и пото-му школьная история в большой степени – это версия историческо-го наследия.
Примечания1 Brindle, P. History and National Identity in the Classroom // History Today. 1997.
Vol. 47. № 6. Р. 6–8.2 Тишков, В.А. История и историки в США. М.: Наука, 1984.3 Bergeron, L. The History of Quebec. A Patriot’s Handbook. Toronto, 1971.4 Marsden, W. «All in a Good Cause»: Geography, History and the Politicisation of the
Curriculum in Nineteenth and Twentieth Century England // Journal of CurriculumStudies. 1995. Vol. 21. № 6.
5 Berghahn V., Schissler H. (eds) Perceptions of History. International Textbook Researchon Britain, Germany and the US . Oxford – Berg, 1987.
6 По этому вопросу смотрите изданную Институтом им. Георга Эккерта по меж-дународным исследованиям школьных учебников книгу нескольких авторов:Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. Брауншвейг,2010, а также более ранние публикации под редакцией Бордюгова Г.; книгу Шни-рельмана В.А. «Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье».М.: ИКЦ Академкнига, 2003; Освещение общей истории России и народов пост-советских стран в школьных учебниках новых независимых государств; под ред.А.А. Данилова и А.В. Филиппова. М., 2009.
7 Stradling, R. History and the Core Curriculum 12–16 // Consortium of Institutions
217
торов», конъюнктурными исправлениями оценок этапов советскойистории после смерти очередных вождей. Я еще застал отголоски«дела Краснопевцева», когда за два года до моего поступления наистфак был арестован и получил 10 лет мордовских лагерей сту-дент-историк Лев Краснопевцев (ныне здравствующий директородного из получастных московских музеев истории предпринима-тельства). И всего-то вместе с группой единомышленников он со-ставил листовку по поводу «кризиса социализма». Во время моейучебы был изгнан из университета мой сокурсник Андрей Амаль-рик – также всего лишь за симпатию к норманнской теории про-исхождения Руси. Хорошо помню это позорное комсомольское со-брание факультета, когда исключали из комсомола Амальрика игде с жестокой речью выступил Б.А. Рыбаков. Нет, такого време-ни нам больше в исторической среде не надо, хотя, к большомусожалению, и сегодня могут найтись молодые хунвейбины-погром-щики и идеологически строгие профессора. На этот счет можнотолько сказать фразой почти забытого Юлия Фучика: «Люди, будь-те бдительны!».
В последние десятилетия вопрос о школьной истории и о наци-ональных версиях прошлого тесно переплелся с проблемами гло-бальных переоценок после окончания холодной войны или периода«большого противостояния», с проблемами государствостроитель-ства после распада СССР и Югославии, с причудливыми трансфор-мациями национализма и поисками национальной идентичности.Сразу же скажу, что не следует все эти вопросы и проблемы свали-вать в одну кучу. Сначала полезно разобраться хотя бы в вопросе опреподавании истории и о возможности «эталонной истории».
Следует признать, что в обществе существуют как бы нескольковариантов обращения к истории. Один из них – это научная исто-риография, т.е. академическая версия прошлого, созданная про-фессионалами на основе документальных источников и дисцип-линарных критериев историописания. Но есть и так называемаяфольк хистори (народная или устная история), есть история, воп-лощенная в местах памяти, музейных экспозициях, календаре и то-понимике. Есть история национального и этноконфессиональногосамосознания – своего рода история формирования, конструирова-ния, эволюции идентичности народа или регионально-этническогосообществ в рамках одного государства. Наконец, сегодня можноговорить о медийном варианте исторической презентации, которая
224
В настоящее время концепции национальной идентичности ужене рассматриваются как сугубо основанные на прошлом опытестраны и ее народа. Важные компоненты формирования нацио-нального самосознания – это религия, язык, символьные ритуалыи памятные места, праздничные дни, художественная культура иСМИ. Сегодня влияние телевизионных спорта и кино не менее зна-чительно, чем школьная история, которую зачастую подвергаютжестокой критике те же самые популяризаторы, питающиеся от про-фессионального знания и от собственного воображения. Да и самушкольную историю некоторые ученые считают основанной на ми-фических интерпретациях. Как пишет Э. Смит, национальноепрошлое в качестве компонента идентичности «содержит зернаисторических фактов, вокруг которых вырастает опухоль пре-увеличений, идеализации, аллегорий и искажений, а вместе онисоставляют широко разделяемый исторический рассказ о герои-ческом прошлом, который служит коллективной потребности в на-стоящем и в будущем»11. Подобные школьные версии характерныдля большинства национальных сообществ и культурно отличитель-ных общин. Нейтральные и неэтноцентристские версии представ-ляют собой скорее исключение, чем правило.
Аналогичной позиции придерживается исследовательница воп-роса о школьном преподавании Энн Лоу-Бир, которая относится кэнтузиастам нормативного общеевропейского подхода к школьнойистории. Она пишет следующее: «Возможно, пришло время осво-бодить школьную историю от установки, что ее главная цель – этоформирование чувства национальной идентичности или же обуче-ние гражданским нормам и ценностям, или же ознакомление с на-следием... Для этого имеются другие школьные предметы, вклю-чая географию, литературу, музыку, но почему-то формированиенациональной идентичности не является их главной целью. Ихцель – это получение представлений и понимание данных форм зна-ния и расширение культурных горизонтов обучающихся. Правитель-ственный контроль за школьной историей делает ее легкой жерт-вой националистической пропаганды. История в ее многих формахлегче всего подвергается деформации в школьных классах. Изу-чение «национальной» истории в школе является всеобщей прак-тикой, но оно должно представлять собой введение в «историю»общества, в котором живут ученики, а также давать навыкиисторического мышления. Чувство идентичности, личностное или
218
воплощается в многочисленных исторических сериалах, блокбас-терах, телевизионных шоу, типа нового проекта на Пятом каналеРТ «Суд истории». Скорее всего, правильнее было бы назвать всеэти варианты жанрами исторических презентаций, но в некоторыхаспектах – это больше, чем жанр. Так, например, создатель фильмана историческую тему может пренебречь фактической точностью,исторической повествовательностью и даже позволить себе чис-тый вымысел, если того требует художественный замысел. В ка-кой-то мере драматическая сторона телевизионных шоу также пред-ставляет собой антипод академической трактовки тех же самых теми проблем. Но нужно сказать одно, что все названные вариантыисторий имеют прямое отношение к формированию и существова-нию национального самосознания.
В каком-то смысле школьная история есть одна из особых формбытования и использования исторического знания. Ее отличитель-ная черта – это наличие гораздо в большей степени политическоговоздействия и правительственного контроля прежде всего черезтакие механизмы, как учебные планы и программы (курикулумы) исистема экзаменования (сейчас она «единая государственная»).Казалось бы, такой нейтральный механизм, как план и сетка учеб-ных часов, на самом деле может значить очень многое, а именно:сколько физического времени отводится в школьных классах наизучение истории и, прежде всего, национальной истории. Объеми глубина знаний о собственной стране напрямую зависят от того,насколько подробно или селективно преподается соответствующийпредмет. Есть и самый непосредственный путь вмешательства вла-сти в школьные версии истории – через учебные материалы, кото-рые получают своего рода сертификаты на использование от го-сударственных образовательных структур разного уровня. В не-которых странах школьные исторические учебники должны быть«допущены» центральным министерством. В некоторых странах –это прерогатива регионов (штатов, провинций и т.п.).
В некотором смысле школьная история – это своего рода вари-ант официальной истории. Во многих странах содержание программрешается правительствами, и учителя обязаны по закону обучатьтемам, которые всегда включают национальную историю с некото-рыми различиями. В демократических странах по этому поводупроисходят общественные дискуссии, но все равно учебные вер-сии – это не рыночный продукт. Последним можно назвать телеви-
223
ников заключается в том, что сами нации теперь рассматриваютсяне как культурные монолиты, а как сложные сообщества, включа-ющие в себя разные этноконфессиональные традиции.
Степень изоляционизма национальных версий разная в различ-ных странах. Во французских или итальянских школьных учебни-ках можно встретить ссылки на Великобританию при изучении ис-тории индустриализации, парламентской демократии или консти-туционной монархии, но из английских учебников ученики малочто узнают об истории Италии и Франции. Сравнительный кон-текст – это один из критериев открытости или изоляционизма школь-ной истории. В этом отношении российские учебники выглядятгораздо предпочтительнее: уж про революции и про национально-освободительные и социальные движения, а также про войны рос-сийские школьники получают вполне приличные сведения, причемне только на отечественных материалах.
Почему в школьных историях национальная версия прошлогостоит на первом месте, казалось бы, вполне ясно: свою историюнужно знать и передавать следующим поколениям. Отечественнаяистория – это существенный компонент национальной идентично-сти. Считается, что общество, которое не интересует его прошлоеи которое не озабочено его содержанием, рискует потерять своюидентичность. Но на этот резон иногда выдвигаются противопо-ложные аргументы. Так, например, известный историк Эрик Хоб-сбаум предупреждал о риске связывать историю с национальнойидентичностью или же строить последнюю на основе историчес-кого материала: «Все человеческие индивиды, коллективы и ин-ституты нуждаются в прошлом, но исторические исследованияраскрывают только его случайные моменты. Стандартный случайкультурной идентичности, привязанной к прошлому через мифо-творчество, облаченное в одежды истории, есть не что иное, какнационализм»9. По мнению историка, именно школьная историяесть то самое место, где и когда чаще всего из истории рождаетсямиф. «Почему все режимы принуждают молодых людей изучать вшколе историю? Не для того, чтобы понимать свое общество икак оно меняется, а для того, чтобы принять это общество каксвое, гордиться им и стать хорошим гражданином США илиИспании, или Гондураса, или Ирака... История как форма вдохно-вения и как идеология заключает в себе способность становитьсясамооправдательным мифом»10.
219
зионные исторические сериалы, которые могут иметь широкуюпопулярность и даже воздействовать на обучающихся не меньшешкольных версий. И все же, при всей критике исторических учеб-ников для школы, они остаются основным инструментом обученияистории.
Давление на школу и формы контроля по части преподаванияистории исходят не только от правительства, но и от разных сег-ментов общественности (политических партий, общественных орга-низаций, родительских сообществ, церкви и т.д.). Причина этихустремлений – озабоченность тем, чтобы история вносила свойвклад в обучение социальным нормам и моральным ценностям,которые в тот или иной момент доминируют в обществе или кото-рые хотели бы внедрить в общество те или иные влиятельныеинституты, а иногда – даже отдельные личности или группы.В настоящее время история должна доказывать свою полезностьи необходимость в условиях ограниченного школьного времении при конкуренции таких новых дисциплин, как граждановеде-ние, краеведение, обществознание. Обсуждение этой проблемыимело место на страницах многих журналов, в том числе и таких,как «Teaching History». В 1999 г. обсуждалась тема History, Identityand Citizenship (англ. История, Идентичность и Гражданство).В России эта проблема постоянно обсуждается на страницахстарейшего журнала «Преподавание истории в школе», который,кстати, в рознице купить сегодня невозможно.
Эмпирические данные о влиянии преподавания истории в шко-ле на национальную идентичность довольно ограничены. Англий-ский историк П. Бриндл показал, что даже в начале ХХ в. традици-онные национальные истории подвергались постоянной критике.К тому же в классных комнатах малоквалифицированные учителячасто учили совсем не тому, что было заложено в программы и на-писано в учебниках1. Заслуживает внимания и такой аргумент: вШотландии, например, история собственно Шотландии препода-валась в школах всегда в урезанном виде, но это никак не отрази-лось на сохранении сильной шотландской идентичности. Тоже са-мое можно сказать о национальных версиях школьной истории вдругих странах, где чаще всего эти версии крайне централистскиеили этноцентричные и они не оставляют места для мини-нацио-нальных версий (например, каталонской, корсиканской, бретон-ской или ирландской). Здесь почти всегда идет жестокая борьба за
222
ницкий, возглавляя Институт истории СССР, не смог реализоватьсвой самый амбициозный проект – написание 4-томных региональ-ных историй Средней Азии и Закавказья. Максимум, что вышло –это два тома из четырех по истории Северного Кавказа. Но это –отдельная история, требующая особого анализа и обсуждения.
Тем не менее, за последние полвека, к началу XXI столетия со-держание школьных историй изменилось. В центре осталась исто-рия собственной страны, но это уже была не только политическая,но и социальная история, включая историю всех основных групп(этнических, расовых, религиозных) и категорий населения (жен-щины, молодежь, старшее поколение, инвалиды и т.д.). Изменилсяметод обучения истории, который сделал предмет истории менееавторитарным и монолитным как катехизис. В ряде стран внедри-ли источниковый метод, когда ученик больше задумывается надисторическими свидетельствами и рассматривает их с разных то-чек зрения. В 1970–80-е гг. был популярен «ценностный подход»,когда детей обучали не столько на основе хронологической пос-ледовательности событий, сколько тому, чему учат те или иныеисторические события (неравенство, насилие, патриотизм, толе-рантность и т.п.). Однако хронологический подход остался доми-нирующим, по крайней мере, в европейской школьной истории.Новейшие периоды истории обычно имеют более всемирный ха-рактер изложения, хотя эта всемирность ограничивается чаще все-го показом роли немногих великих держав и не более того.
Существенной новацией школьных версий национальных ис-торий стало появление их различных региональных вариантов. НаБританских островах, в Швейцарии, Бельгии, Испании, Германиимонолитным интерпретациям пришли на смену более открытые исложные по набору фактов и героев истории. Другими словами,каталонский вариант школьной истории Испании отличается отмадридской (кастильской) версии, равно как ольстерцы и шотланд-цы имеют отличительные варианты национальных историй8. Но воттолько что есть национальная история для дублинского школьногоучителя? Этот вопрос остается без ясного ответа: для одних – этобританская история, для других – это история Шотландии и шот-ландцев. Фактически региональная история Шотландии, Уэльса иСеверной Ирландии преподается как национальная в пику или вдополнение к общебританской версии прошлого. И все же главнаяпричина сдвига в содержании национального нарратива для школь-
220
исторические интерпретации, и этот опыт для России может бытьполезен. По крайней мере, с учетом многоэтничного состава насе-ления и федеративного устройства этот опыт более интересен, чемпровальные проекты единых европейских учебников.
В 1970–80-е гг., когда я изучал проблемы преподавания исто-рии в США и Канаде, то столкнулся с жестокими баталиями поэтим вопросам. В США бестселлером была книга Фрэнсис Фитц-жеральд «Пересмотр Америки», посвященная искажениям в школь-ных трактовках американской истории2, а в Канаде скрыто обсуж-далась и тайно рекомендовалась книга квебекского интеллектуалаЛуи Бержерона «Учебник патриота», в котором история француз-ской Канады излагалась совсем по-иному и с отчетливо сепаратист-ских позиций3. Кстати, такие «учебники патриотов» появились сна-чала и до сих пор существуют в большом количестве в США. Ихнекое подобие есть теперь в России, Украине, странах Балтии.
История и идентичность
Школьная история и национальная история – это связанныепонятия, ибо курсы отечественной истории попали в школьныеучебные программы многих стран еще на заре становления нацио-нальных систем образования именно в качестве обязательных пред-метов обучения. Введение этих курсов было связано с системойвсеобщего обучения и с расширением круга обладателей избира-тельного права. По крайней мере, так было в Великобритании вовторой половине XIX в.4, а также в других европейских странах.История становилась обязательным школьным предметом во всехновых независимых государствах как в эпоху деколонизации послеВторой мировой войны5, так и после распада СССР, когда в новыхпостсоветских государствах введение обязательных курсов не былоновинкой, но новой была задача создать версии национальной ис-тории для каждого из государственных образований6.
Не менее значимым моментом в истории вопроса был интересЕвропейского совета к школьному преподаванию истории на кон-тиненте, который проявился почти одновременно с самыми первы-ми европейскими институтами и формами интеграции. С конца1950-х гг. Совет Европы спонсировал много конференций и семи-наров для учителей, а также заказные исследования. Последниепоказали, что национальные истории безраздельно доминировали
221
в школьных курсах повсеместно. Кроме этого, национальные ори-ентации мировидения влияли и на то, чему обучали учеников попредмету мировой истории. Например, тема великих географичес-ких открытий XV–XVI вв. присутствовала во всех школьных ев-роверсиях истории, но выбор путешественников и первооткрыва-телей почти всегда делался в пользу соотечественников. Нам этохорошо известно по шутливой поговорке «СССР – родина слонов».
В западноевропейских версиях национальный уклон особеннозатрагивал трактовку средневековой истории Европы, а также ре-лигиозную историю, в которой совсем не замечалось присутствиеортодоксального (православного) христианства. История Китая,Индии или африканских стран рассматривалась исключительно вконтексте колонизации и в крайне урезанном виде. Точно так же свыборочных позиций в каждой стране рассматриваются важней-шие международные события и многосторонние договоры, как,например, Первая мировая война и Версальская система устрой-ства послевоенного мира.
Спустя полвека ничего особенно не изменилось. Национальныеисторические нарративы доминируют в школьном обучении и оп-ределяют школьные исторические программы. Это показало обсле-дование школьных программ в 12 западноевропейских странах в1990-е гг.7, а также последующие доклады в рамках Совета Евро-пы, которые охватывают более широкий круг стран. Попытки ввес-ти в европейские школы больше материалов по всеобщей историивызвали ответную реакцию, и многие страны пересмотрели своиучебные программы по истории именно под углом укрепления на-циональных версий и придания им большей целостности и после-довательности вместо разных увлечений междисциплинарностьюи прочими методическими новациями.
В странах бывшего СССР вообще поступили более чем опреде-ленно: национальные нарративы были сконструированы на пост-колониальной парадигме, избавлении от имперского господства ивосстановлении древней исторической государственности титуль-ной этнонации. Все это сейчас вызывает недовольство многих лю-дей и групп населения как внутри государств, так и на межгосудар-ственном уровне. Серьезные разборки, видимо, еще впереди. Ноодно можно сказать определенно: эталонных версий для стран Сред-ней Азии, Закавказья и даже Балтии создать не удастся. Даже в со-ветское время мой ныне покойный учитель академик А.Л. Нароч-
220
исторические интерпретации, и этот опыт для России может бытьполезен. По крайней мере, с учетом многоэтничного состава насе-ления и федеративного устройства этот опыт более интересен, чемпровальные проекты единых европейских учебников.
В 1970–80-е гг., когда я изучал проблемы преподавания исто-рии в США и Канаде, то столкнулся с жестокими баталиями поэтим вопросам. В США бестселлером была книга Фрэнсис Фитц-жеральд «Пересмотр Америки», посвященная искажениям в школь-ных трактовках американской истории2, а в Канаде скрыто обсуж-далась и тайно рекомендовалась книга квебекского интеллектуалаЛуи Бержерона «Учебник патриота», в котором история француз-ской Канады излагалась совсем по-иному и с отчетливо сепаратист-ских позиций3. Кстати, такие «учебники патриотов» появились сна-чала и до сих пор существуют в большом количестве в США. Ихнекое подобие есть теперь в России, Украине, странах Балтии.
История и идентичность
Школьная история и национальная история – это связанныепонятия, ибо курсы отечественной истории попали в школьныеучебные программы многих стран еще на заре становления нацио-нальных систем образования именно в качестве обязательных пред-метов обучения. Введение этих курсов было связано с системойвсеобщего обучения и с расширением круга обладателей избира-тельного права. По крайней мере, так было в Великобритании вовторой половине XIX в.4, а также в других европейских странах.История становилась обязательным школьным предметом во всехновых независимых государствах как в эпоху деколонизации послеВторой мировой войны5, так и после распада СССР, когда в новыхпостсоветских государствах введение обязательных курсов не былоновинкой, но новой была задача создать версии национальной ис-тории для каждого из государственных образований6.
Не менее значимым моментом в истории вопроса был интересЕвропейского совета к школьному преподаванию истории на кон-тиненте, который проявился почти одновременно с самыми первы-ми европейскими институтами и формами интеграции. С конца1950-х гг. Совет Европы спонсировал много конференций и семи-наров для учителей, а также заказные исследования. Последниепоказали, что национальные истории безраздельно доминировали
221
в школьных курсах повсеместно. Кроме этого, национальные ори-ентации мировидения влияли и на то, чему обучали учеников попредмету мировой истории. Например, тема великих географичес-ких открытий XV–XVI вв. присутствовала во всех школьных ев-роверсиях истории, но выбор путешественников и первооткрыва-телей почти всегда делался в пользу соотечественников. Нам этохорошо известно по шутливой поговорке «СССР – родина слонов».
В западноевропейских версиях национальный уклон особеннозатрагивал трактовку средневековой истории Европы, а также ре-лигиозную историю, в которой совсем не замечалось присутствиеортодоксального (православного) христианства. История Китая,Индии или африканских стран рассматривалась исключительно вконтексте колонизации и в крайне урезанном виде. Точно так же свыборочных позиций в каждой стране рассматриваются важней-шие международные события и многосторонние договоры, как,например, Первая мировая война и Версальская система устрой-ства послевоенного мира.
Спустя полвека ничего особенно не изменилось. Национальныеисторические нарративы доминируют в школьном обучении и оп-ределяют школьные исторические программы. Это показало обсле-дование школьных программ в 12 западноевропейских странах в1990-е гг.7, а также последующие доклады в рамках Совета Евро-пы, которые охватывают более широкий круг стран. Попытки ввес-ти в европейские школы больше материалов по всеобщей историивызвали ответную реакцию, и многие страны пересмотрели своиучебные программы по истории именно под углом укрепления на-циональных версий и придания им большей целостности и после-довательности вместо разных увлечений междисциплинарностьюи прочими методическими новациями.
В странах бывшего СССР вообще поступили более чем опреде-ленно: национальные нарративы были сконструированы на пост-колониальной парадигме, избавлении от имперского господства ивосстановлении древней исторической государственности титуль-ной этнонации. Все это сейчас вызывает недовольство многих лю-дей и групп населения как внутри государств, так и на межгосудар-ственном уровне. Серьезные разборки, видимо, еще впереди. Ноодно можно сказать определенно: эталонных версий для стран Сред-ней Азии, Закавказья и даже Балтии создать не удастся. Даже в со-ветское время мой ныне покойный учитель академик А.Л. Нароч-
219
зионные исторические сериалы, которые могут иметь широкуюпопулярность и даже воздействовать на обучающихся не меньшешкольных версий. И все же, при всей критике исторических учеб-ников для школы, они остаются основным инструментом обученияистории.
Давление на школу и формы контроля по части преподаванияистории исходят не только от правительства, но и от разных сег-ментов общественности (политических партий, общественных орга-низаций, родительских сообществ, церкви и т.д.). Причина этихустремлений – озабоченность тем, чтобы история вносила свойвклад в обучение социальным нормам и моральным ценностям,которые в тот или иной момент доминируют в обществе или кото-рые хотели бы внедрить в общество те или иные влиятельныеинституты, а иногда – даже отдельные личности или группы.В настоящее время история должна доказывать свою полезностьи необходимость в условиях ограниченного школьного времении при конкуренции таких новых дисциплин, как граждановеде-ние, краеведение, обществознание. Обсуждение этой проблемыимело место на страницах многих журналов, в том числе и таких,как «Teaching History». В 1999 г. обсуждалась тема History, Identityand Citizenship (англ. История, Идентичность и Гражданство).В России эта проблема постоянно обсуждается на страницахстарейшего журнала «Преподавание истории в школе», который,кстати, в рознице купить сегодня невозможно.
Эмпирические данные о влиянии преподавания истории в шко-ле на национальную идентичность довольно ограничены. Англий-ский историк П. Бриндл показал, что даже в начале ХХ в. традици-онные национальные истории подвергались постоянной критике.К тому же в классных комнатах малоквалифицированные учителячасто учили совсем не тому, что было заложено в программы и на-писано в учебниках1. Заслуживает внимания и такой аргумент: вШотландии, например, история собственно Шотландии препода-валась в школах всегда в урезанном виде, но это никак не отрази-лось на сохранении сильной шотландской идентичности. Тоже са-мое можно сказать о национальных версиях школьной истории вдругих странах, где чаще всего эти версии крайне централистскиеили этноцентричные и они не оставляют места для мини-нацио-нальных версий (например, каталонской, корсиканской, бретон-ской или ирландской). Здесь почти всегда идет жестокая борьба за
222
ницкий, возглавляя Институт истории СССР, не смог реализоватьсвой самый амбициозный проект – написание 4-томных региональ-ных историй Средней Азии и Закавказья. Максимум, что вышло –это два тома из четырех по истории Северного Кавказа. Но это –отдельная история, требующая особого анализа и обсуждения.
Тем не менее, за последние полвека, к началу XXI столетия со-держание школьных историй изменилось. В центре осталась исто-рия собственной страны, но это уже была не только политическая,но и социальная история, включая историю всех основных групп(этнических, расовых, религиозных) и категорий населения (жен-щины, молодежь, старшее поколение, инвалиды и т.д.). Изменилсяметод обучения истории, который сделал предмет истории менееавторитарным и монолитным как катехизис. В ряде стран внедри-ли источниковый метод, когда ученик больше задумывается надисторическими свидетельствами и рассматривает их с разных то-чек зрения. В 1970–80-е гг. был популярен «ценностный подход»,когда детей обучали не столько на основе хронологической пос-ледовательности событий, сколько тому, чему учат те или иныеисторические события (неравенство, насилие, патриотизм, толе-рантность и т.п.). Однако хронологический подход остался доми-нирующим, по крайней мере, в европейской школьной истории.Новейшие периоды истории обычно имеют более всемирный ха-рактер изложения, хотя эта всемирность ограничивается чаще все-го показом роли немногих великих держав и не более того.
Существенной новацией школьных версий национальных ис-торий стало появление их различных региональных вариантов. НаБританских островах, в Швейцарии, Бельгии, Испании, Германиимонолитным интерпретациям пришли на смену более открытые исложные по набору фактов и героев истории. Другими словами,каталонский вариант школьной истории Испании отличается отмадридской (кастильской) версии, равно как ольстерцы и шотланд-цы имеют отличительные варианты национальных историй8. Но воттолько что есть национальная история для дублинского школьногоучителя? Этот вопрос остается без ясного ответа: для одних – этобританская история, для других – это история Шотландии и шот-ландцев. Фактически региональная история Шотландии, Уэльса иСеверной Ирландии преподается как национальная в пику или вдополнение к общебританской версии прошлого. И все же главнаяпричина сдвига в содержании национального нарратива для школь-
218
воплощается в многочисленных исторических сериалах, блокбас-терах, телевизионных шоу, типа нового проекта на Пятом каналеРТ «Суд истории». Скорее всего, правильнее было бы назвать всеэти варианты жанрами исторических презентаций, но в некоторыхаспектах – это больше, чем жанр. Так, например, создатель фильмана историческую тему может пренебречь фактической точностью,исторической повествовательностью и даже позволить себе чис-тый вымысел, если того требует художественный замысел. В ка-кой-то мере драматическая сторона телевизионных шоу также пред-ставляет собой антипод академической трактовки тех же самых теми проблем. Но нужно сказать одно, что все названные вариантыисторий имеют прямое отношение к формированию и существова-нию национального самосознания.
В каком-то смысле школьная история есть одна из особых формбытования и использования исторического знания. Ее отличитель-ная черта – это наличие гораздо в большей степени политическоговоздействия и правительственного контроля прежде всего черезтакие механизмы, как учебные планы и программы (курикулумы) исистема экзаменования (сейчас она «единая государственная»).Казалось бы, такой нейтральный механизм, как план и сетка учеб-ных часов, на самом деле может значить очень многое, а именно:сколько физического времени отводится в школьных классах наизучение истории и, прежде всего, национальной истории. Объеми глубина знаний о собственной стране напрямую зависят от того,насколько подробно или селективно преподается соответствующийпредмет. Есть и самый непосредственный путь вмешательства вла-сти в школьные версии истории – через учебные материалы, кото-рые получают своего рода сертификаты на использование от го-сударственных образовательных структур разного уровня. В не-которых странах школьные исторические учебники должны быть«допущены» центральным министерством. В некоторых странах –это прерогатива регионов (штатов, провинций и т.п.).
В некотором смысле школьная история – это своего рода вари-ант официальной истории. Во многих странах содержание программрешается правительствами, и учителя обязаны по закону обучатьтемам, которые всегда включают национальную историю с некото-рыми различиями. В демократических странах по этому поводупроисходят общественные дискуссии, но все равно учебные вер-сии – это не рыночный продукт. Последним можно назвать телеви-
223
ников заключается в том, что сами нации теперь рассматриваютсяне как культурные монолиты, а как сложные сообщества, включа-ющие в себя разные этноконфессиональные традиции.
Степень изоляционизма национальных версий разная в различ-ных странах. Во французских или итальянских школьных учебни-ках можно встретить ссылки на Великобританию при изучении ис-тории индустриализации, парламентской демократии или консти-туционной монархии, но из английских учебников ученики малочто узнают об истории Италии и Франции. Сравнительный кон-текст – это один из критериев открытости или изоляционизма школь-ной истории. В этом отношении российские учебники выглядятгораздо предпочтительнее: уж про революции и про национально-освободительные и социальные движения, а также про войны рос-сийские школьники получают вполне приличные сведения, причемне только на отечественных материалах.
Почему в школьных историях национальная версия прошлогостоит на первом месте, казалось бы, вполне ясно: свою историюнужно знать и передавать следующим поколениям. Отечественнаяистория – это существенный компонент национальной идентично-сти. Считается, что общество, которое не интересует его прошлоеи которое не озабочено его содержанием, рискует потерять своюидентичность. Но на этот резон иногда выдвигаются противопо-ложные аргументы. Так, например, известный историк Эрик Хоб-сбаум предупреждал о риске связывать историю с национальнойидентичностью или же строить последнюю на основе историчес-кого материала: «Все человеческие индивиды, коллективы и ин-ституты нуждаются в прошлом, но исторические исследованияраскрывают только его случайные моменты. Стандартный случайкультурной идентичности, привязанной к прошлому через мифо-творчество, облаченное в одежды истории, есть не что иное, какнационализм»9. По мнению историка, именно школьная историяесть то самое место, где и когда чаще всего из истории рождаетсямиф. «Почему все режимы принуждают молодых людей изучать вшколе историю? Не для того, чтобы понимать свое общество икак оно меняется, а для того, чтобы принять это общество каксвое, гордиться им и стать хорошим гражданином США илиИспании, или Гондураса, или Ирака... История как форма вдохно-вения и как идеология заключает в себе способность становитьсясамооправдательным мифом»10.
217
торов», конъюнктурными исправлениями оценок этапов советскойистории после смерти очередных вождей. Я еще застал отголоски«дела Краснопевцева», когда за два года до моего поступления наистфак был арестован и получил 10 лет мордовских лагерей сту-дент-историк Лев Краснопевцев (ныне здравствующий директородного из получастных московских музеев истории предпринима-тельства). И всего-то вместе с группой единомышленников он со-ставил листовку по поводу «кризиса социализма». Во время моейучебы был изгнан из университета мой сокурсник Андрей Амаль-рик – также всего лишь за симпатию к норманнской теории про-исхождения Руси. Хорошо помню это позорное комсомольское со-брание факультета, когда исключали из комсомола Амальрика игде с жестокой речью выступил Б.А. Рыбаков. Нет, такого време-ни нам больше в исторической среде не надо, хотя, к большомусожалению, и сегодня могут найтись молодые хунвейбины-погром-щики и идеологически строгие профессора. На этот счет можнотолько сказать фразой почти забытого Юлия Фучика: «Люди, будь-те бдительны!».
В последние десятилетия вопрос о школьной истории и о наци-ональных версиях прошлого тесно переплелся с проблемами гло-бальных переоценок после окончания холодной войны или периода«большого противостояния», с проблемами государствостроитель-ства после распада СССР и Югославии, с причудливыми трансфор-мациями национализма и поисками национальной идентичности.Сразу же скажу, что не следует все эти вопросы и проблемы свали-вать в одну кучу. Сначала полезно разобраться хотя бы в вопросе опреподавании истории и о возможности «эталонной истории».
Следует признать, что в обществе существуют как бы нескольковариантов обращения к истории. Один из них – это научная исто-риография, т.е. академическая версия прошлого, созданная про-фессионалами на основе документальных источников и дисцип-линарных критериев историописания. Но есть и так называемаяфольк хистори (народная или устная история), есть история, воп-лощенная в местах памяти, музейных экспозициях, календаре и то-понимике. Есть история национального и этноконфессиональногосамосознания – своего рода история формирования, конструирова-ния, эволюции идентичности народа или регионально-этническогосообществ в рамках одного государства. Наконец, сегодня можноговорить о медийном варианте исторической презентации, которая
224
В настоящее время концепции национальной идентичности ужене рассматриваются как сугубо основанные на прошлом опытестраны и ее народа. Важные компоненты формирования нацио-нального самосознания – это религия, язык, символьные ритуалыи памятные места, праздничные дни, художественная культура иСМИ. Сегодня влияние телевизионных спорта и кино не менее зна-чительно, чем школьная история, которую зачастую подвергаютжестокой критике те же самые популяризаторы, питающиеся от про-фессионального знания и от собственного воображения. Да и самушкольную историю некоторые ученые считают основанной на ми-фических интерпретациях. Как пишет Э. Смит, национальноепрошлое в качестве компонента идентичности «содержит зернаисторических фактов, вокруг которых вырастает опухоль пре-увеличений, идеализации, аллегорий и искажений, а вместе онисоставляют широко разделяемый исторический рассказ о герои-ческом прошлом, который служит коллективной потребности в на-стоящем и в будущем»11. Подобные школьные версии характерныдля большинства национальных сообществ и культурно отличитель-ных общин. Нейтральные и неэтноцентристские версии представ-ляют собой скорее исключение, чем правило.
Аналогичной позиции придерживается исследовательница воп-роса о школьном преподавании Энн Лоу-Бир, которая относится кэнтузиастам нормативного общеевропейского подхода к школьнойистории. Она пишет следующее: «Возможно, пришло время осво-бодить школьную историю от установки, что ее главная цель – этоформирование чувства национальной идентичности или же обуче-ние гражданским нормам и ценностям, или же ознакомление с на-следием... Для этого имеются другие школьные предметы, вклю-чая географию, литературу, музыку, но почему-то формированиенациональной идентичности не является их главной целью. Ихцель – это получение представлений и понимание данных форм зна-ния и расширение культурных горизонтов обучающихся. Правитель-ственный контроль за школьной историей делает ее легкой жерт-вой националистической пропаганды. История в ее многих формахлегче всего подвергается деформации в школьных классах. Изу-чение «национальной» истории в школе является всеобщей прак-тикой, но оно должно представлять собой введение в «историю»общества, в котором живут ученики, а также давать навыкиисторического мышления. Чувство идентичности, личностное или
216
тый круг: историческая неразбериха питает почву для историчес-ких фальсификаций, которые, в свою очередь, еще больше усили-вают историческую неразбериху». Но тогда, может быть, простонужно пережить этот момент и подождать прихода нового поколе-ния историков и их читателей? Ну, а если это надолго? Тогда где жевыход? Сергей Нарышкин предлагает искать его в создании новыхэталонов общенациональной истории. На этот счет необходим бо-лее чем серьезный разговор.
Как преподается история и в чем суть проблемы?
Преподавание истории – одна из самых острых и постояннообсуждаемых проблем среди ученых-гуманитариев и обществен-ности. В истории нашей страны было несколько известных деба-тов и даже партийно-правительственных решений по поводу пре-подавания истории в школе. В начале 1930-х гг. было даже реше-ние о создании единого учебника по истории для советской школы,и по конкурсу таким образцовым учебником для младших классовбыл признан учебник истории автора Шестакова. Мои школьные1950-е гг. прошли по учебнику истории, написанному академикомА.М. Панкратовой. Затем были учебники академиков Б.А. Рыбако-ва и М.В. Нечкиной, профессора А.А. Преображенского. По всеоб-щей истории авторами учебников были академики С.Д. Сказкин,В.М. Хвостов. Скажем откровенно, что эти учебные версии былине просто «идеологически выдержаны», они были лишены самойживой ткани истории в ущерб схемам, а также замалчивание важ-нейших событий, героев и вклада в российскую историю разныхнародов и групп населения. Но в любом случае эти учебники былинаписаны профессионалами высшего класса, довольно хорошо вла-девшими писательским пером, были националистичны и этноцен-тричны в том смысле, в каком обычно и пишутся школьные учеб-ники. Их самой слабой стороной было обеднение из-за классовогоподхода. Этот опыт школьного историописания стоит вспомнитьна предмет извлечения из него кое-чего полезного для нынешнейдискуссии.
Что же касается моего обучения на историческом факультетеМГУ в 1959–64 гг., то это было довольно жесткое время, когда вы-сокий профессионализм многих профессоров сочетался с начетни-чеством, постоянными разоблачениями «буржуазных фальсифика-
225
национальное, есть то, что ученики в конечном счете выраба-тывают для себя сами из самых разных источников»12.
Мне обе вышеобозначенные позиции представляются своегорода проявлением общеевропейской кичливости изощренных ин-теллектуалов. Не называю их взгляды космополитичными, но в чем-то они схожи с таким мировидением, к которому, по крайней мере,страны-новообразования или пережившие геополитические катак-лизмы не готовы.
Есть еще один важный вопрос: как развести два фундаменталь-ных понятия – «история как описание прошлого» и «историческоенаследие как часть культурного капитала человека и нации»? Этидве вещи связаны друг с другом, но не полностью идентичны. Какпишет на этот счет Д. Лоуэнталь, «наследие вообще не являетсяисторией, хотя оно пользуется и одушевляется историческим ис-следованием. Наследие – это не экскурс в прошлое, а прославлениепрошлого, это не попытка познать, что действительно было, а ис-поведание (практика) веры»13. Историческое наследие чаще всеговыглядит и воспринимается как домашняя версия мифическогопрошлого, столь важного для чувства идентичности. Именно этаверсия важна для воспитания ответственного гражданина, и пото-му школьная история в большой степени – это версия историческо-го наследия.
Примечания1 Brindle, P. History and National Identity in the Classroom // History Today. 1997.
Vol. 47. № 6. Р. 6–8.2 Тишков, В.А. История и историки в США. М.: Наука, 1984.3 Bergeron, L. The History of Quebec. A Patriot’s Handbook. Toronto, 1971.4 Marsden, W. «All in a Good Cause»: Geography, History and the Politicisation of the
Curriculum in Nineteenth and Twentieth Century England // Journal of CurriculumStudies. 1995. Vol. 21. № 6.
5 Berghahn V., Schissler H. (eds) Perceptions of History. International Textbook Researchon Britain, Germany and the US . Oxford – Berg, 1987.
6 По этому вопросу смотрите изданную Институтом им. Георга Эккерта по меж-дународным исследованиям школьных учебников книгу нескольких авторов:Многоликая Клио: бои за историю на постсоветском пространстве. Брауншвейг,2010, а также более ранние публикации под редакцией Бордюгова Г.; книгу Шни-рельмана В.А. «Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье».М.: ИКЦ Академкнига, 2003; Освещение общей истории России и народов пост-советских стран в школьных учебниках новых независимых государств; под ред.А.А. Данилова и А.В. Филиппова. М., 2009.
7 Stradling, R. History and the Core Curriculum 12–16 // Consortium of Institutions
215
ные дела и оружие древних предков, про евреев и про разные заго-воры против России, про генералиссимуса Сталина и про подвиги-козни спецслужб, про «исламские» и «оранжевые» угрозы. Нако-нец, это про чудесных царей и цариц, про Горбачева с Ельциным –могильщиков великой державы СССР.
Еще совсем недавно мне было довольно стыдно смотреть накнижный прилавок в здании Государственной Думы. Сейчас тампродаются книги немного посолиднее и во много раз дороже из-за их золотых обрезов и золотых букв с гербами на обложках. Новся эта низкопробная макулатура на историческую тематику рас-ползлась по стране, тиражируется самыми известными издатель-ствами и уже красуется на полках районных, университетских идаже школьных библиотек. Фоменко, Пикуля, Гумилева, Радзин-ского, Кастанейду и подобных авторов будут издавать еще долго,и противостоять новой рыночной истории фактически невозмож-но. Здесь можно предложить только две стратегии привития на-выка к качественной литературе по истории у читателя и повыше-ния критериев отбора у издателя. Первая – это грамотное и ответ-ственное преподавание истории в школе и вузе. Второе – это ужеупомянутое пробуждение академических историков от неспеш-ного писания исключительно для самих себя. Наконец, срочно не-обходим диалог профессионалов и любителей историописания сучастием издателей. Но как сформировать новый спрос на каче-ственную историю, мне сказать трудно. По крайней мере, я не ду-маю, что государственные реестры по защите главных тем отече-ственной истории и тем более правовые нормы по поводу того, какписать и даже как преподавать историю, могут радикально улуч-шить ситуацию.
В России действительно «умственный разброд» по поводу того,что было в прошлом. Как пишет С.Е. Нарышкин, «в итоге – всеоб-щая историческая путаница, разруха в головах, как сказал классик.Учителя в школе и преподаватели в вузах подчас затрудняются втрактовках тех или иных исторических событий, боятся и не хотятотвечать на «неудобные» исторические вопросы, отсылают учащих-ся к противоречивой литературе и текстам сомнительного содер-жания. И без того в целом ряде сюжетов и персонажей нуждающа-яся в дальнейших серьезных исследованиях отечественная исто-рия покрывается еще большим туманом субъективных интерпрета-ций, завесой фальши и невежества. В общем, получается замкну-
226
for Development and Research in Education in Europe. 1993. Vol. 6. Enschede, TheNetherlands.
8 Phillips, R., Goalen P., McCully A., Wood S. Four Histories, One Nation? HistoryTeaching, Nationhood and a British Identity // Compare: A Journal of ComparativeEducation. 1999. Vol. 29. № 2.
9 Hobsbawm, E.J. On History. L.: Weidenfeld and Nicholson. 1997. Р. 357.10 Smith, A.D. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity, 1995. Р. 53.11 Low-Beer, A. School History, National History and the Issue of National Identity.
www.heirnet.org/IJHLTR/journal5/Low-Beer.pdf12 Там же.13 Lowenthal, D. The Heritage Crusade and the Spoils of History. L.: Viking, 1997. Р. Х,
110–111.
214
стве «ОЛМА-ПРЕСС» книга университетского профессора под на-званием «Русские в ХХ веке», но в ней совсем не про русских, апро тех, кто им постоянно строил в истории разные козни. Такимобразом, начнем с того, что профессиональная академическая на-ука отчасти сама сдала свои позиции из-за слабой квалификации,идеологической заангажированности или тривиальной ленности какавторов, так и издателей.
Поле профессиональных текстов стало за последние 20 лет го-раздо более разнообразным и привлекательным по форме и содер-жанию, но этого оказалось недостаточно, чтобы просвещенныйнарод сохранил привычку читать и доверять профессионалам ис-ториописания, а тем более иметь качественные книги в доступно-сти на книжных полках и в библиотеках. Отыграть эту ситуациюдостаточно сложно, но возможно. Добротные и новаторские ис-торические исследования, особенно с элементами открытий и но-визной интерпретаций, становятся бестселлерами во многих стра-нах, где средний читатель даже менее грамотен и любознателенпо сравнению с россиянами. Необходимо возродить своего рода«народную библиотеку по истории» и сделать книги этой сериидоступными на уровне так называемого «аэропортного чтива». По-смотрите, ради интереса, какие книги и каких авторов продают взарубежных международных аэропортах, и что продается в Шере-метьево и Домодедово. Сравнение будет явно не в нашу пользу,хотя на Западе печатной мишуры также хватает, но языческо-эзо-терические и расистско-националистические бредни или откро-венная политическая заказуха на лицензионных печатных стан-ках не печатаются и на полки не выставляются.
Для того, чтобы просветиться по части того, «что читает народ»по истории, достаточно подойти к любому книжному магазину-раз-валу на улицах наших городов, к книжно-газетному киоску в рос-сийском аэропорту или зайти в московский «Библио-глобус». Здесьразница будет невелика: сегодня, как пять и десять лет тому назад,и повсеместно – от Москвы до самых до окраин – продаются книгина одни и те же темы и примерно тех же самых авторов. Не будуназывать фамилии: среди них есть известные политики, писатели ижурналисты, но не меньше шарлатанов и человеконенавистников,против которых возбуждались уголовные дела и даже выносилисьрешения. Темы, которые «продаются», – это выдуманные праисто-рии велесово-ведического цикла и протославянские фантазии, рат-
227
ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА
Издаваемая в Оренбурге книга с перепечаткой моих статей вжурнале «Этнопанорама» за двенадцатилетний период потребова-ла от меня небольшого заключительного рассуждения. Оно связа-но в большой степени с завершением президентства В.В. Путина,избранием нового президента Д.А. Медведева и происходившимив этой связи оценками как итогов пребывания Путина у власти, таки предшествовавшего этому времени 1990-х гг.
Должен сказать, что современность оценивается лучше из луч-шего прошлого. Ибо позитивные свершения в настоящем являютсяподлинно таковыми, если они есть преемственное улучшение. Бы-вают редкие случаи революционного отказа от старого порядка, нодаже здесь опасно тотальное отрицание, ибо несостоятельность пра-вящего режима и социальных условий жизни еще не означают ущерб-ность повседневной жизни людей, их устремлений, морально-це-левых установок, гражданской ответственности и некоторых сфергосударственной политики. Если радикальная трансформация обще-ства строится на революции двойного отрицания, как это случилосьс распадом СССР, тогда неизбежны настроения ностальгии или ре-ванша, которые возникают сразу или спустя некоторое время.
Именно так обстояло дело в России в эпоху позднего Горбачеваи раннего Ельцина, т.е. в период конца 1980 – начала 1990-х. Обще-ство было перегружено социальными переменами и поэтому дажеявно положительные изменения в жизни людей далеко не всегдавоспринимались таковыми. Материальные улучшения и личност-ные свободы зачастую перечеркивались неприятием новых имуще-ственных контрастов и непривычных для большинства людей жиз-ненных ценностей. Многих больше беспокоило снижение мирово-го статуса страны, ее военной и политической мощи, сокращениегосударственного патернализма, чем удовлетворение от устранениядефицита товаров и услуг, от возможностей получать землю и стро-ить дома, заводить свое дело и зарабатывать деньги, свободно по-лучать разнообразную информацию и путешествовать.
213
Возможно, так и должно быть, однако то, что ученые-исследо-ватели фактически перестали писать книги научно-популярноготолка вместе с кончиной соответствующей серии в издательстве«Наука», плохо. Кстати, свою первую книгу «Страна кленового ли-ста. Начало истории» (М.: Наука, 1977) я опубликовал именно вэтой серии тиражом 83 тыс. экземпляров. Один канадский коллегав те годы как-то заметил в разговоре со мною: «Этого не можетбыть, и все эти экземпляры где-то лежат на складе». А у меня усамого не осталось ни одного экземпляра, даже чтобы сканироватьдля собственного сайта в Интернете! Надо сказать, что моя перваякнига про раннюю историю Канады была далека от занимательнойистории или яркой исторической публицистики, но тем не менее унее в те годы был свой читатель. Точно так же разошлась 60-тысяч-ным тиражом книга про современных индейцев США и Канады(«Тропою слез и надежд». М.: Мысль, 1990), хотя этот текст былсовсем не «а ля Кастанейда», о котором советский читатель тех летфактически еще ничего не слышал.
Серьезную историческую литературу отечественная публикавполне уважала, предпочитала читать и держать в своих библиоте-ках. Книги моих старших коллег по академии, ныне уже покойных,Е.В. Тарле, В.П. Волгина, И.И. Минца, Б.А. Рыбакова, В.Г. Труха-новского, И.Р. Григулевича, М.В. Нечкиной, А.М. Самсонова и дру-гих расходились по стране тиражами в десятки тысяч экземпляров.Сейчас вместе со мною в РАН работают не менее выдающиеся ма-стера, но тиражи их книг не превышают одну тысячу экземпляров:ровно столько издательство «Наука» печатает копий на получаемыепо издательским грантам средства из РГНФ, РФФИ и ПрезидиумаРАН. Продажей и получением прибыли за счет тиражей главноенаучное издательство страны не занимается, у него нет даже соб-ственного магазина в Интернете, в результате изданный нашим ин-ститутом в серии «Народы и культуры» историко-этнографичес-кий том «Русские» был опубликован тиражом одна тысяча экземп-ляров и допечатан после получения нового гранта. Хотя только однаэта книга могла бы приносить большую и постоянную прибыльиздательству, а российская читающая публика имела бы наиболеедостоверное и полное изложение истории, материальной и духов-ной культуры русского народа вместо дореволюционных переизда-ний или современных подделок под «русскую тематику». Лежит,например, на книжных полках изданная в крупнейшем издатель-
228
Последнее десятилетие ХХ в. стало временем серьезного внут-реннего раскола российского общества. Главным был поколенчес-кий раскол, хотя и не выраженный в открытой форме. Старшее по-коление почти все осталось в прошлом, открыто осуждая пере-мены и тех, кто их воплощал или пользовался их возможностями.Правда, это осуждение не распространялось на собственных детейи внуков, которые в большом числе оказались гораздо более спо-собными и успешными в новых условиях, чем их отцы и деды. Сред-нее поколение раскололось неравномерно. Меньшинство, оказав-шееся при должностях, полезных связях или с чертами предприим-чивости, стали обладателями собственности, ресурсов и простобольших денежных сумм. Они стали богатыми россиянами, или«новыми русскими», а к ним с каждым годом присоединялись всебольше и больше людей среднего и выше среднего достатка. Те идругие не платили положенных налогов, и ни в какой официальнойстатистике их бюджеты не получали отражения, кроме списковжурнала «Форбс» для самых богатых и некоторых социологичес-ких замеров для среднего класса.
По поводу среднего класса, а точнее – соотношения выиграв-ших и проигравших от реформ были самые большие расхождениясреди политиков и экспертов. Одни ученые на протяжении всех1990-х гг. называли цифру 10% выигравших и 90% проигравших,другие называли цифру среднего класса в 25%. Ни те, ни другие нехотели признавать цифру 40–45%, которую давали самооценки рос-сиян, когда их спрашивали про принадлежность к среднему классу.Комментаторы обычно ссылались на то, что наш человек, выйдя изнищеты, просто не знает, что такое принадлежать к среднему клас-су. Возможно, что так оно и есть. Но только ни в одной стране незачислят в бедняки, в том числе и живущих на одну пенсию пенси-онеров, тех, кто проживает в старых городских кварталах в кварти-ре стоимостью в полмиллиона долларов и даже выше. Страхи, инер-ция или жадные внуки не позволяют им переехать к дальней стан-ции метро в квартиру в несколько раз дешевле и тем самым обес-печить себе более чем высокий достаток до конца жизни. В миретаких людей – владельцев серьезной недвижимости – обычно от-носят к среднему классу. У нас пенсионер с миллионной кварти-рой – это бедняк.
Этнография российской жизни с точки зрения ненаблюдаемойстатистиками и обществоведами экономики и реальных доходов
212
ПРО РАЗНЫЕ ИСТОРИИ(РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ
СЕРГЕЯ НАРЫШКИНА)*
Что пишут историки и что читает народ?
Для внешнего обозревателя историческая наука представляет-ся меньше всего наукой, а некой разновидностью хобби или интел-лектуального предпринимательства. Историю в той или иной сте-пени знают многие, причем, лучше, чем физику, астрономию илиязыкознание. Несколько меньше, но также много людей, которыезанимаются историей в любительско-краеведческом или публици-стическом плане. И, наконец, в стране есть несколько десятков ав-торов, которые пишут на историческую тему коммерчески выгод-ные книги, как это делает «Малахов-плюс» по проблеме здоровьяили Мулдашев по эзотерике. В последней, кстати, многое замеша-но на псевдоисторической аргументации. В то же самое время вРоссии есть достаточно развитое школьное и вузовское историчес-кое образование, а также система подготовки кадров высшей ква-лификации (кандидатов и докторов наук). Общая численность дип-ломированных российских историков составляет десятки тысяччеловек, из которых не менее 4–5 тыс. профессионально занима-ются исследовательским трудом. Только в 18 научно-исследователь-ских институтах, входящих в Секцию истории Отделения истори-ко-филологических наук РАН, трудится более 2 тыс. историков.Не меньшее число составляют университетские профессора исто-рических факультетов, многие из которых также занимаются науч-ным трудом, а не только читают лекции. По-крайней мере, учебни-ки и учебные пособия по истории пишут в основном они, оттеснивв последние годы от этого занятия историков сугубо академическо-го профиля._____________* Этнопанорама. 2011. №1–2 (Статья опубликована в журнале «Вестник Россий-ской нации». 2010. № 4–5).
229
людей чрезвычайно причудлива. Риторика жалоб стала одной изважных стратегий оправдания неправового поведения, стремле-ния получать незаконные доходы и не платить налоги. Наконец,обвинения в «развале страны» и в «геноциде народа» вошли в по-стоянный репертуар политической оппозиции коммунистическогоили ультранационалистического толка. Радикально-либеральная оп-позиция после ухода из власти проклинает кремлевский режим заотказ от реформ и за скатывание в авторитаризм и даже в худшихпрегрешениях.
Прошлому российскому десятилетию не повезло: оно уже по-лучило титул «эпохи хаоса», дожидаясь теперь только послушныхисториографов. Здесь сказались не только упоминавшиеся мноюнастроения реванша и ностальгии, но и неизбывное искушениеполитиков и комментаторов, особенно каждой новой правящей ко-манды и обслуживающих ее экспертов, принизить или перечерк-нуть прошлое, чтобы возвысить собственные планы и свершения.
Хотя, на мой взгляд, 1990-е гг. были далеко не самым худшимиз всех предшествующих им десятилетий отечественной истории.Может быть кто-то сможет назвать лучшее время из тех, что мыпомним, а не выучили из учебников? Но вся интрига в том, чтоследующее за ним время – 8-летнее президентство В.В. Путина –было гораздо более успешным, в значительной мере благодаря лич-ности самого президента, но, отчасти, благодаря тем реформам иих продолжению, которые были до Путина и продолжились приПутине. С точки зрения исторических трансформаций, радикаль-ного разрыва между двумя десятилетиями и двумя правящими ко-мандами в России не существует. Минэкономики России во главе сГрефом, «Газпром» во главе с Миллером, РАО «ЕЭС» во главе сЧубайсом проводили при Путине тот же самый курс. Частный биз-нес ничуть не изменился по своей природе и приоритетам. Он толькостал несколько лучше платить налоги после истории с «ЮКОСОМ».
Что действительно изменилось при Путине уже после того, какмы в целом позитивно оценили в 1999 г. итоги российских транс-формаций с точки зрения социально-культурной антропологии исочли возможным открыть подборку своих публикаций из «Этно-панорамы» данной статьей? А изменилось следующее: страна ста-ла жить еще лучше, причем значительно лучше по ряду направле-ний, которые во многом определяют восприятие страны и личнойжизни. Назовем только некоторые моменты. После 2000 г. соци-
211
историков-профессионалов. Как по этим вопросам должны взаи-модействовать историки разных стран между собой?
Мне кажется, что мы возвращаемся к временам конструирова-ния изгоев и непримиримых идеологических противостояний. Та-кое впечатление, что в мировой истории заложена закономерность,что после одной глобальной битвы должна обязательно следоватьдругая. У меня, например, вызывает беспокойство отсутствие ре-акции со стороны исторического сообщества на правовые нормы внекоторых странах бывшего СССР, в которых предусматриваетсяуголовное наказание за те или иные интерпретации советского про-шлого или за использование его символов. В то же самое время мыимели недавно со стороны части научного сообщества попыткуоказать давление на российских историков по обсуждению проб-лемы исторических фальсификаций. Я это расцениваю как руди-мент холодной войны. Профессиональным историкам предпочти-тельнее общаться и выяснять вопросы в диалоге, а не устраиватьинтернет-петиции, похожие на советские кампании позора.
Примечание1 Мегилл, А. Историческая эпистемиология. М., 2007. С. 197.
230
альное преуспевание российского народа продвинулось за преде-лы крупных мегаполисов. Сегодня другими стали не только Моск-ва или Екатеринбург, но и подмосковные города Звенигород и Один-цово, уральский Нижний Тагил и сотни средних и малых городов,которые в прошлом десятилетии оставались в застое и даже разру-хе. Автомобилизация населения стала всеобщей, хотя нет хорошихдорог и далеко не все сельчане при автомобиле, если не считать ихгородских детей. Радикально снизилось число бедных людей за счетроста заработной платы, пенсий и пособий. Инфляция съедает до-бавки, но постоянный рост потребления товаров, масштабы приоб-ретения жилья, проведение отпусков и каникул говорят о том, чтодостаток присутствует уже у большинства населения. Мы можем идолжны говорить о бедности в России, но уже не имеем права гово-рить о бедной России, как о ней отозвался президент в самом нача-ле своего правления.
Но главные, на мой взгляд, достижения президентства Путиналежат в других направлениях. Первое – это укрепление российскойгосударственности. Драма позднего Горбачева и раннего Ельцинабыла в том, что они, как когда-то сказал мне покойный академикБ.Н. Топорнин, «бросили государство в борьбе за Кремль, а ос-тавлять государство без внимания нельзя ни на минуту». Путинликвидировал очаг вооруженного сепаратизма и восстановил цен-тральную власть по всей территории страны без исключения. Зная,какие внешние ресурсы были брошены на отделение Чечни и су-ществовавшие настроения «отпустить Чечню» даже среди крем-левских советников, должен сказать, что это было историческоедостижение. Клиентов на сецессию в России теперь долго не най-дется.
Второе достижение – это восстановление Россией (а точнее бу-дет сказать – создание) статуса подлинно мировой и уважаемойдержавы (power). При этом следует учесть, что почти все постсо-ветские государства предпочли строить свою идентичность и впи-сываться в мировую политику через дистанциирование от Россииили даже на пути антироссийской политики. Далеко не нашимисимпатизаторами были и остаются все эти годы бывшие советскиесателлиты, медленно изживающие коллективную травму от тяже-лой руки Москвы. Озлоблен на Москву был и исламский мир заразгром чеченского сепаратизма под фундаменталистско-исламист-скими лозунгами. Тем не менее, Путин изменил мировой климат
210
ствования и восприятия мира, и каждое новое государство будетвыстраивать собственную непрерывную историческую версию.Главное, чтобы эти версии имели в основе профессиональное ис-торическое знание и не были заточены на создание образа врага ина разжигание межгрупповой и межгосударственной вражды. Поэтому вопросу среди историков разных стран возможны договорен-ности. Даже в худые времена холодной войны, в 1970-е гг., дей-ствовала советско-американская комиссия историков по устране-нию из учебников идеологизированных и необоснованных оценоки фактов истории одной страны в учебниках другой страны. В на-шем архиве сохранился текст совместного заключительного док-лада, который не был, к сожалению, опубликован, но использовал-ся профессионалами.
В национальных историях и в мировой истории есть морально-ценностные моменты и трактовки прошлого, которые имеютособое общественно-политическое и эмоционально-нравственноезначение для той или иной страны, этнической, религиозной илирасовой общности и даже для населения целого континента. Приразнообразии мнений и дебатов среди ученых на уровне массово-го потребления исторического знания существуют определенныеограничители и сдерживающие факторы публичных интерпрета-ций. Профессиональные историки не могут считать себя исключи-тельными владельцами знаний прошлого без учета общественныхнастроений, символических ценностей, группового достоинства,интересов формирования национального самосознания или иден-тичности.
Для меня, как ученого-историка, нет непререкаемых постула-тов. Но своим опытом и гражданским чувством я понимаю, чтонельзя исторически необоснованными фактами подвергать тоталь-ной ревизии, а тем более оправдывать колониализм, расизм, нацизм,терроризм, ксенофобию, а также исторические трагедии, как Хо-локост, сталинские репрессии, погромы китайских хунвэйбинов,полпотовский или руандийский геноциды. В 2010 г. – год 65-йгодовщины Победы над гитлеровской Германией – особо нужда-ются в защите со стороны историков такие явления и факты, какправовое дело антигитлеровской коалиции, гуманистическая дея-тельность отдельных лиц, организаций, движений и стран в годыВторой мировой войны. Но только где пределы политико-правово-го вмешательства и что составляет исключительный домен самих
231
вокруг России. Не до конца и не во всем, но очень во многом и вочень важном. Одно решение по Олимпийским играм в Сочи стоитмногих высоких мировых собраний и договоров.
Третье достижение – Путин как политик-государственник сфор-мулировал и выразил, что есть Россия как народ и как государство.Он во многом заложил основы политики российского национализ-ма как политики отстаивания национальных интересов страны внут-ри и на внешней арене. Будущие поколения россиян будут благо-дарны президенту В.В. Путину за сказанные им в Кремле 12 июня2007 г. слова: «История и всевышний распорядились так, что нанашей огромной территории проживают представители разных эт-носов, религий и культур, но мы все – один народ, одна нация».
В свое время М.С. Горбачев вообще не думал на эту тему, оста-ваясь в плену старых клише «социалистического федерализма наинтернациональной основе». Б.Н. Ельцин робко высказался на счетроссийской нации как будущей задачи государствостроительства.В.В. Путин ясно и неоднократно заявлял о том, что Россия с ее мно-гонациональным народом в то же самое время есть государствонациональное с российской гражданской нацией. Многочисленныепопытки политических маргиналов повлиять на президента, чтобыон занял этнонационалистическую позицию, ничем не закончились.В то же самое время Путин очень много сделал, чтобы поддержатьрусский язык и русскую культуру в стране и за рубежом, защититьсоотечественников, большинство которых считает себя русскимилюдьми или людьми, связанными с Россией. При президенте Пути-не укрепилась одна из основ российской государственности – ре-лигиозная византийско-православная традиция в лице Русской пра-вославной церкви.
Все эти позиции сегодня разделяет основной политический ис-теблишмент России. Насколько искренне и осознанно – судить непросто, ибо отрицателей России как состоявшегося государства-нации, как страны вполне нормальной и вполне успешной, такихотрицателей в разных вариантах еще много. Причем, как во внеш-нем мире, так и внутри страны. Одни считают, что Россия можетразвиваться только как империя, вернув себе все назад, что потеря-ла, и объявив один народ главным и единственным владельцем рос-сийской государственности. Другие считают, что Россия застряламежду империей и нацией, ибо в стране нет свободных граждан, аесть только подданные, а это означает, что в стране не может быть
209
ративом прошлого. Так случилось с версией истории СССР, созда-ваемой несколькими поколениями, в том числе и ныне живущихисториков. На место приходят своего рода «нулевые поколения» –новые граждане новых государств, которые или пытаются продол-жать старый «большой нарратив», или начинают с отрицания пред-шествовавшей версии истории, или же обращение идет к древней,наиболее мифологизированной части прошлого в попытке выстро-ить легитимную преемственность и опору современной идентич-ности, как бы пропуская недавнее прошлое. Такое происходит сре-ди российских историков и историков некоторых других стран быв-шего СССР. Какая позиция наиболее приемлема в ситуации, каза-лось бы, безнадежного релятивизма и субъективности? Во-первых,неправильно считать, что каждое поколение начинает его с чистоголиста, и каждому поколению выдается своего рода картбланш насобственный способ историописания и на отрицание накопленно-го предшественниками знания. Это условие распространяется навсех, участвующих в историописании. При всей неудовлетворен-ности статусом-кво энтузиастов радикальных ревизий, тем не ме-нее, существуют профессиональные проверочные нормы и сохра-няется способность оценивать компетентность историков, которыепредохраняют от разрушения само здание профессиональных ис-торических знаний.
В моменты смены парадигм и радикальных ревизий аргументыи обоснования, т.е. сама историческая эпистемиология, выходят напервый план в профессиональном сообществе и делают тем самымвозможным диалог между сторонниками разных версий. Именноздесь история, как пишет А. Мегилл, «должна быть не только (внекоторых ее аспектах) эстетической практикой, но также и науч-ной дисциплиной, т.е. организованным получением знаний темиколлективами, которые разделяют принципы и практику точного,методического и непрерывного конструирования, деконструкции иреконструирования исторического прошлого»1.
И здесь я задаю один из старых вопросов: каковы условия при-ближения к истине и интеграции нового знания в существующийкорпус достоверных знаний? Каковы условия сохранения истори-ческого знания от внедисциплинарных воздействий политиков, иде-ологов, намеренных шарлатанов и поверхностных энтузиастов?Ясно, что каждое новое поколение будет открывать в истории те еестороны, которые наиболее значимы для его сегодняшнего суще-
232
и гражданской нации. Наконец, третьи считают, что разговоры огражданской нации – это пустое фразерство, и что нужно, как и всоветское время, укреплять дружбу народов и интернационализм.
Должен заметить, что автор является давним и последователь-ным сторонником того, что поддерживать и развивать культуру иязыки больших и малых народов страны необходимо, как и обеспе-чивать межэтнический мир и религиозное согласие. Но на фести-вальной формуле дружбы народов столь сложный механизм, какРоссийское государство, тем более в эпоху больших геополитичес-ких соперничеств, на такой формуле такое государство не удержать.Для России формула единства в многообразии является более на-дежной.
Для меня лично демонстрировавшееся после футбольной побе-ды всю ночь в Лужниках единство десятков тысяч болельщиков,которые принадлежали к самым разным российским национально-стям, как и все российские спортсмены, дало ответ на вопрос, естьили нет один народ в нашей стране. Если кому-то этого не хватает,тогда можно подождать до очень вероятных побед нашей нацио-нальной(!) команды в Сочи, и уже эти ожидаемые солидарность ипатриотизм нации не смогут опровергнуть никакие аргументы.Вновь избранный президент Д.А. Медведев подтвердил позициюпрежнего президента по вопросу о нации, и он принес присягу «слу-жить народу». Этот народ называется российским.
10
В.А. Тишков
ЕДИНСТВОВ МНОГООБРАЗИИ
Известный российский ученый, историк, этнолог и антрополог, специалист по этни- ческой истории, межэтническим отношени-ям, этнополитике и конфликтам, академик РАН, директор Института этнологии и ан-тропологии Российской академии наук, вице-президент Международного союза антропо-логических и этнологических наук.
Он автор многих монографий, в том числе «Очерки теории и политики этничности», «Эт-ничность, национализм и конфликт», «Поли-тическая антропология», «Реквием по этносу», «Общество в вооруженном конфликте»; автор и редактор энциклопедических изданий: «На-роды и религии мира», «Народы и культуры».
Оренбург
ТИШКОВВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕДИ
НС
ТВО
В М
НО
ГОО
БРА
ЗИИ
В.А
. Ти
шков


















































































































































































































































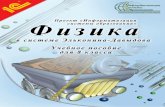
![[2011] "Выдвинуть на первый план мотив русского национализма". Споры в сталинских идеологических кругах,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322c42063847156ac06c566/2011-vidvinut-na-perviy-plan-motiv-russkogo.jpg)











