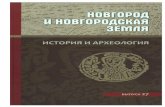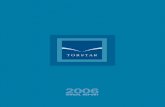Stančo 2013: Archaeological excavations at Dzhandavlattepa in 2002-2006...
Transcript of Stančo 2013: Archaeological excavations at Dzhandavlattepa in 2002-2006...
19
Археологические раскопки
на Джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
Л. Станчо
Первым прямым вкладом чешско -узбекского сотрудничества в обла-сти исследования древней Средней Азии стало изучение городища Джандавлаттепа и его окресностей в Сурхандарьинской области юж-ного Узбекистана, то есть в западной части исторической Северной Бактрии. Этот проект возник благодаря инициативе и совместным усилиям Института археологии Академии наук Республики Узбеки-стан в Самарканде и Института классической археологии Философ-ского факультета Карлова университета в Праге. Финансировался про-ект главным образом Карловым университетом или напрямую его Философским факультетом. Исследование дало ряд интересных нахо-док и сделало доступными для специалистов новые данные, имеющие, в частности, большое значение для уточнения хронологии первого ты-сячелетия нашей эры и для лучшего познания материальной культуры 3–5 вв. нашей эры.
Чешскую часть экспедиции составляли, прежде всего, классические археологи. На вопрос о том, что привело отечественную классическую археологию в сердце Средней Азии, так далеко от центров классиче-ской культуры Средиземноморья, существует простой ответ – следы классической (греческой или римской) культуры в столь отдаленных областях. Греки оставили в Средней Азии весьма значительный след и необходимо признать, что нашей исходной мотивацией было проа-нализировать – по аналогии с французскими группами в Термезе или Самарканде – прежде всего этот аспект исследования. Истинно пер-вый чешский проект с таким сочетанием был ориентирован на ганд-харское искусство, иногда именуемое греко-буддийским. По мере вы-полнения поставленных первоначально задач возникали новые идеи продолжения проекта.
Для начала исследования именно местности Джандавлаттепа име-лось сразу несколько причин. Первая из них – стратегическое положе-ние, нахождение на важном в прошлом торговом пути, связывавшем столицу Бактрии на юге с крупнейшими центрами Согдианы, прежде всего с Маракандой (нынешним Самаркандом) на севере. Джандавлат-
20 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
тепа по своей площади – 7,5 гектаров – являлось крупнейшим укреплен-ным городищем Шерабадского оазиса и еще в предисламский период считалась административным центром. Понятие «оазис» в данном случае использовано для упрощения, речь идет о регионе сравни-тельно плодородных земель, которые, однако, в здешнем засушливом климате можно использовать только при обильном искусственном орошении. В нашем распоряжении имелось также много информа-ции о самой местности. Первые археологические раскопки здесь про-водили совесткие специалисты в 70 -х гг. прошлого века, отчёт о своих находках они опубликовали в 1973 г. и в 1974 г. Несколько шурфов было заложено здесь немецко -узбекской экспедицией в 1993 году.
Д. Хуфф и Ш. Пидаев провели опытное зондирование: одно на цита-дели, другое – недалеко от самого высокого места холма (вне цитадели), в овраге на восточном склоне холма в русле, вымытом весенними лив-нями. в последних упомянутых секторах они стремились исследовать обнаженные нижние, то есть древнейшие слои обитания на террито-рии древнего городища. Как предполагалось, прежде всего сектор 2 позволил бы установить хронологию всего холма, а последний сектор 4 должен был дать ответы на вопросы, связанные с укреплением по-селения и доступными коммуникациями. Однако небольшие шурфы в условиях сложного рельефа не дали быстрых ответов, а потребовали скрупулёзного кропотливого исследования, которое было предпринято нашей экспедицией, начиная с 2002 г. Еще одним основанием для на-шего выбора данной местности стала мощность культурных слоев, ко-торая в некоторых местах достигает 20 метров. Как мы и надеялись, в процессе раскопок были вскрыты не только отдельные культурные горизонты, но и весьма интересные переходные фазы.
Работы в секторе 7 на «шахристане»
В первый год работ нашей группы (2002 г.) наша деятельность имела скорее разведочно -ознакомительный характер. Мы сосредоточились на исследовании шахристана. Проведя зондаж, мы хотели получить информацию для дальнейшей деятельности, ознакомиться с ситу-ацией и проверить предварительные выводы, известные из опубли-кованных и неопубликованных отчетов. Следует отметить, что пер-вый сезон был для чешских архологов своеобразной «школой» труда в местных климатических условиях. Узбекские коллеги терпеливо знакомили нас со спецификой исследования в исторически мульти-культурной местности типа ближневосточного поселения «телль» (ру-котворного кургана с накопившимися слоями цивилизации, отража-ющими древнюю историю), с особенностями исследования нелегко
работы в секторе 7 на «шахристане» 21
распознаваемых остатков объектов архитектуры, сооруженных из не-обожженных кирпичей.
В тот период в исследовании принимали участие археологи К. Аб-дуллаев, Ш. Шайдуллаев, Л. Станчо и Л. Богач. Работы проводились с помощью 12–15 местных рабочих в четырех секторах. в раскопках сектора 4 последовательно принимали участие Ш. Шайдуллаев, К. Ра-химов, Л. Богач и К. Абдуллаев. В южной оконечности Джандавлаттепа работы осуществлялись на территории, постепенно повышающейся до значительно большего, чем где -либо по периметру кургана, уровня, что наводило на мысль о наличии своего рода «рампы» перед воро-тами. Уже с самого начала раскопок выяснилось, что наши предполо-жения о том, что здесь находился комплекс городских ворот и при-легающие к ним укрепления, полностью оправдались. в первом и во втором сезоне были зачищена поверхность и составлен план укре-пления. Уже в 2004 г. началось поверхностное обнажение некоторых участков стены. К западу от проема ворот был обнаружен внешний прямоугольный бастион позднего этапа строительства, близ выхода от проема ворот был открыт другой бастион, связанный с самым ран-ним этапом функционирования укрепления. Наружная стена этого бастиона, к сожалению, сохранилась лишь до высоты одного кирпича, остальное уничтожила эрозия.
Проход во внутренние помещения находился не в середине, а с на-ружной части. в стене между этим бастионом и самими воротами была обнаружена верхняя часть бойницы стреловидной формы, ко-торaя характерна для среднеазиатских фортификационных сооруже-ний. в непосредственной близости – влево от ворот – мы обнаружили боковую защитную стену, которая заканчивается как минимум в 25 метрах перед передними стенами, а влево над проёмом ворот был вскрыт коридор, мощёный необожженными кирпичами и в значи-тельной мере заполненный большим количеством крупных булыж-ников, которые могли служить в качестве тяжелых боеприпасов при обороне ворот.
До сих пор, конечно, не прояснена в полной мере конструкция во-рот, отсутствует ряд деталей архитектурного решения, есть безответ-ные пока вопросы в определении отдельных функций ворот. Всё это потребовало дальнейших исследований, однако сегодня уже можно говорить, что исследование пространства городских ворот дало много новой информации о фортификационном строительстве в кушанской Бактрии.
Вторым сектором в пределах шахристана, где нами велись раскопки уже с 2002 г., был сектор 7. Это пространство в непосредственной близо-сти к наивысшей точке поселения, где мы предполагали значительную
22 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
строительную деятельность вследствие наложения культурных слоев и из -за близости цитадели.В 2002 г. здесь были проведены два опытных зондажа – установлены поисковые шурфы. Годом позже к ним прибавились дальнейшие шурфы на четырёх квадратах, а в 2004 и 2005 гг. – еще 10. В исследова-ниях на этом секторе последовательно участвовали чешские археологи и студенты Л. Станчо (2002–2004 гг.), Я. Халама (2003–2005 гг.), Л. Шма-гелова (2004–2005 гг.), K. Урбанова (2003–2004 гг.), Л. Грмела (2004–2005 гг.) и Ш. Рюкл (2004 г.). в целом здесь проводились работы в 15 квадратах размерами 4×4 метра каждый, что представляло собой в общей слож-ности примерно 250 м2 площади. Эта площадь располагалась на склоне, из -за чего очень различной была глубина отдельных шурфов; у выше-расположенных квадратов она превышала 2 метра, тогда как у нижних квадратов – около 1–1,2 метров. Прежде всего мы знали, что вскрытие последнего строительного этапа будет осложнено из -за использования площади холма под позднейшие захоронения. в итоге ситуация оказа-лась ещё сложнее, чем изначально предполагалось. Для полноты кар-тины добавим, что речь шла в основном о могилах глубиной около двух
Фундаменты жилых домов из необожженного кирпича, обнаруженные в секторе 7, фото Я. Халама.
работы в секторе 7 на «шахристане» 23
метров. Как правило, такая могила представляла собой овальную яму шириной более одного метра, внутри которой находилась еще одна, более узкая яма; её ширины едва хватало для того, чтобы разместить в ней тело умершего. Могилу прикрывали или фрагменты необожжен-ных кирпичей, куски керамической посуды, или слой тростника (нам удалось обнаружить его фрагменты). Кое -где внутренняя яма находи-лась сбоку от широкой ямы (подбойное захоронение). Остатки скелетов из всех открытых нами мусульманских могил обработал узбекский ан-трополог З. Шодиев.
Раскопки в южной части сектора показали, что здесь существовала обширная платформа, построенная из необожженных кирпичей разме-рами 30×30 см. Это пространство оказалось не слишким богатым на от-крытия. в некоторых квадратах северной части были обнаружены стены зданий, сооруженных на последнем этапе строительства, то есть в сере-дине 3 в. и в 4 в. н.э. Мы зафиксировали также ситуацию, где эта поздняя застройка нарушает более старую, по всей видимости, относящуюся к ку-шанским постройкам (2 в.– начало 3 в. н.э.). Раскопки на вышеупомяну-тых квадратах позволили обнаружить как керамику, так и предметы из металла (мелкие инструменты, иголки, наконечники стрел, бронзовый
Каменный боеприпас в коридоре над воротами в город в секторе 4, фото Л. Станчо.
24 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
совок), кости (много фрагментов декоративных булавок, головка одной из них по форме напоминает кисть руки) и целый ряд кушанских монет.
Одной из интереснейших находок явилась типично римская за-стежка в форме клипсы из квадрата 7B, найденная, к сожалению, в верхних деструктивных слоях и потому, несомненно, оказавшаяся в них в переотложенном состоянии. Эта клипса датируется концом 1 в. -серединой 2 в. н.э., ее находка в Средней Азии является уникальной. Общая картина ясно показывает, что здесь речь идет о комплексе жи-лых домов, в которых концентрировалась небольшая производствен-ная деятельность различных видов. Очевидно, что здесь занимались ткачеством, о чем свидетельствует множество найденных пряслиц, а также отпечатки самих тканей, сохранившиеся в виде оттисков на сы-рой необожженой глине.
Многочисленные каменные и керамические пряслицы указывают на широкое распространение здесь домашнего прядения. Кроме гото-вых изделий, были обнаружены также их полуфабрикаты и несколько образцов сырого алебастра. Повседневной деятельностью в рамках веде-ния домашнего хозяйства являлась выпечка хлеба или лепешек, на что указывают находки небольших печей во всем секторе 7. Встречаются здесь также доказательства того, что аналогичная печь могла быть вновь
Общий вид работ в секторе 4, стены и ворота в южную часть города, фото Л. Станчо.
работы в секторе 7 на «шахристане» 25
Бронзовый черпак, найденный в секторе 7, фото Л. Станчо.
Головка украшенной костяной булавки в форме кисти руки, фото Л. Станчо.
26 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
построена на том же месте через какое -то время с целью заменить собой вышедшую из строя предыдущую печь. Один дом мог в почти неизмен-ном виде служить своим хозяевам в течение нескольких поколений.Самым распространенным видом находок была, естественно, керамика. в позднем и самом последнем кушанском периоде большинство столо-вых керамических изделий вырабатывалось из качественной глины на гончарном круге. Часто они украшались красным ангобом и изображе-ниями на самые различные темы (по большей части это были расти-тельные мотивы). Во всей зоне, которую мы исследовали, не было обна-ружено никаких следов керамического производства. Вполне вероятно, однако, что гончарные мастерские, включая печи для обжига, концен-трировались в одном месте, не попавшем в зону раскопок. Поблизости от сектора 7 уже в 2002 г. было проведено еще два зондажа. в секторе но-мер 6 – на юге от сектора 7 – его провел K. Абдуллаев (руководитель ис-следования с узбекской стороны), в том секторе мы предполагали обна-ружить часть городской стены и связанную с ней городскую застройку.
Монета кушанского правителя с греческой легендой Сотер Мегас, фото Л. Станчо.
работы в секторе 7 на «шахристане» 27
Ситуация в квадратах 6A и 6B, однако, позволяет предположить, что на последнем этапе строительства (о чем свидетельствуют несколько обнаруженных фрагментов фрагментов стены) городское укрепление уже не выполняло своих функций. в секторе 8 (восточнее секторов 6 и 7) в центральной части поселения, в том же 2002 г. при участии Л. Бохача был проведен зондаж. Здесь сразу под поверхностью появились остатки архитектуры. На этом почти хрестоматийном примере археологической ситуации мы смогли исследовать три периода обитания здания, у которого сохранилось расположение внешних стен и конструкция новых уровней полов. Работа в секторах 6 и 8 была приостановлена после первого сезона.
В сезон 2003 года К. Абдуллаев начал археологическое зондирование в секторе 2, в непосредственной близости от старого незаконченного стратиграфического шурфа, оставшегося от немецко -узбекской экспе-диции (обнаруженный ими археологический материал не был описан или как -то отражен в отчётах) и дошедшего до нас в виде небольшой
Римская бронзовая застежка типа Lunula, рубеж первого и второго веков до нашей эры, сектор 7, фото Л. Станчo.
28 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
ямки. На крутом склоне глубокого оврага, в который выходили все ос-новные стратиграфические слои, был заложен новый обширный шурф под номером 2A. Главной его целью было определение хронологии этого важного поселения и, тем самым, уточнение хронологии региона в целом. Процесс фиксирования культурных наслоений представлял собой последовательный выбор грунта слоями глубиной около 15 см. При этом строго фиксировался характер грунта, его антропогенные особенности и описание. Выбор грунта в 15 см условно обозначался как «слой» и каждому слою присваивался порядковый номер. Керамика каждого слоя, как и другие артефакты, проходила камеральную обра-ботку и шифровку, что облегчало последующую работу. После заверше-ния раскопок все грани раскопа зачерчивались на масштабную бумагу (миллиметровку), отмечались и описывались послойно. Особенно вы-делялись своей мощностью культурные напластования, относящиеся к кушанскому, эллинистическому периоду, довольно внушительная толща аккумуляций принадлежала так называемому доахеменид-скому и ахеменидскому времени, т.е. древне -бактрийскому периоду. Более подробное деление и детальное описание керамических ком-плексов будет отражено в томе, посвященному раскопу 2а.
Фрагмент керамической посуды, украшенной орнаментом в виде пальметт и розеток, гравировкой и красным ангобом, кушанский период, середина 2 в. н.э., 2004 г., фото Л. Станчо.
исследование в секторе 20 на «цитадели» 29
Стратиграфический шурф достиг глубины 14 метров от поверхно-сти, прорезав сверху вниз слои кушано-сасанидского, кушанского, пе-реходного (юэчжийского), греко-бактрийского, ахемендского, а также пред-ахеменидского периодов – так называемый период Кучук I и Ку-чук II. Здесь было обнаружено множество мелких находок: несколько терракотовых фигурок, хорошо сохранившиеся монеты и большое количество датирующей керамики. Материк был достигнут в октябре 2006 г. в нижних слоях были обнаружены находки, относящиеся к на-чалу железного века. О поселении более раннего периода, в частности, эпохи бронзы, свидетельствуют находки керамики, обнаруженные в 2005 г. всего лишь в нескольких сотнях метров от шурфа. Предвари-тельно можно говорить о том, что местность была практически непре-рывно обитаема на протяжении примерно 15 веков.
Исследование в секторе 20 на «цитадели»
В сезоне 2004 г. мы решили открыть новый сектор исследования – на так называемой цитадели Джандавлаттепа. Этот сектор был обо-значен номером 20. Работы здесь проводил Л. Станчо, в них прини-
Стратиграфический разрез на Джандавлаттепа глубиной 14 метров, фото К. Абдуллаева.
30 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
мали участие К. Урбанова (2004–2005 гг.), Й. Кысела и П. Беланёва (оба в 2005–2006 гг.). с самого начала было ясно, что в данном секторе может находиться чрезвычайно важный объект – отдельно стоящеее сооруже-ние на самой высокой части холма. Вначале было произведено поиско-вое зондирование, которое выявило обводную стену монументального здания, ориентированного по направлению север -юг. Ширина стены, которая была сложена из необожженных кирпичей размерами 40×40 см достигала 1,5 метра.
Очень хорошо сохранившаяся конструкция, не нарушенная мо-гильными ямами, а также формирование окружающего рельефа при-вели нас к решению расширить ряд первых трех квадратов на север и на юг, причем в самом северном из них был обнаружен лишь ста-рый строительный этап, формирующий угловые укрепления (по всей видимости, бастионы). Эта ранняя конструкция была сооружена из меньших необожженных кирпичей размерами 30×30 см.
Фрагменты стены были обнаружены под более поздней стеной и в других исследованных квадратах. Прямо между кирпичами старой стены в квадрате 20C мы нашли четыре монеты, которые можно да-
Фундаменты здания времен позднего античного периода на цитадели Джандавлаттепа, фото Л. Станчо.
исследование в секторе 20 на «цитадели» 31
План руин монументального строения на цитадели Джандавлаттепа.
32 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
тировать кушанским периодом, то есть 2 в. – началом 3 в. н.э. в том же квадрате мы обнаружили и угол раннего фундаментального здания. После поискового зондирования по соседству – по направлению на запад – нам удалось открыть не только северную стену, но и первую стену в интерьере. Взаимная удаленность обеих северо -южных стен около 2,5 метров, они формируют коридор или прихожую. Одновре-менно исследование было расширено на восток, постепенно на сле-дующие три квадрата. Благодаря этому была установлена продолжи-тельность обводной стены – около 30 метров. Поскольку зондирование в квадрате 20H свидетельствовало о том, что мы здесь обнаружили юго -восточный угол здания, можно сказать, что мы открыли полно-стью одну стену здания дворцового характера 4 в. н.э. Кроме того, мы открыли скважину фундамента этой постройки и фрагменты пола, укрепленного керамическими осколками, который мог быть таким, как минимум, на последнем этапе существования дворца. в качестве фундамента при строительстве этого здания служили части прежней стены. Сооружения аналогичного характера можно наблюдать и на других памятниках Северной Бактрии. в качестве примеров можно привести такие памятники, как Бабатепа или Балалыктепа. Все они датируются переходным периодом от античности к средневековью. Хотя по конструкции эти «дворцы» очень похожи на наше здание, они в целом сооружены на равнине, а не на возвышенности, как в нашем случае.
В сезонах 2005 г. и 2006 г. мы продолжили расчистку монумен-тального здания, прежде всего его интерьеров, для чего были иссле-дованы новые участки. Подтвердилось существование внутреннего вытянутого зала, проходящего по всей длине здания. в нескольких местах мы также обнаружили части пола, выложенного из ком-пактных керамических черепков, покрытых сверху слоями свежей глины. Сравнительно большой участок этого пола в северной части был поврежден сильным пожаром. Кроме керамики, мы обнаружили здесь также несколько обожжённых кирпичей, которые доказывают, что пол мог быть полностью или частично вымощен. Не менее инте-ресным было открытие расположенных кругом сферических отвер-стий, которые указывают на существование какой -то деревянной конструкции на месте монументального здания после его исчезно-вения. Если дать волю фантазии, то можно представить себе юрту или другую простую кровлю предводителя эфталитов, которые вторглись в первой половине 5 в. на эту территорию. Что же касается находок на цитадели, то среди них также оказался ряд интересных предме-тов. Вместе с тем, исследование окрестностей показало, что цитадель была обитаема на последней стадии и за пределами пространства
дальнейшая деятельность 33
сектора 7, то есть собственно города. Материальная культура, которую мы здесь зафиксировали, во многом отличалась от шахристанской. К числу уникальных находок относится часть керамической посуды, украшенной изображениями старика с орлиным носом, которого мы назвали «Бабай», то есть Дед, и который стал своеобразным символом нашей экспедиции.
Наряду с этим были обнаружены фрагменты керамики с изобра-жением животных. Столовая керамика часто покрыта красным анго-бом и дополнительно украшена замысловатыми кружками. Новин-кой явилось также использование двухъярусных керамических ламп и появление каменных мельниц для помола зерна, которые не были зафиксированы среди находок более позднего периода. Монет и здесь обнаружено было сравнительно много, однако они большей частью от-носились к монетам кушано -сасанидского периода – были характерно тонкими, лёгкими, сделанными из некачественной меди, вследствие чего их сохранность и читаемость оказалась плохой.
Из предыдущего абзаца следует, что работа экспедиции сосредо-точилась на поверхностном открытии самых ранних этапов обита-ния Джандавлаттепа как в нижней части, так и на цитадели. Целью этого было получение информации о материальной культуре и быте населения северной Бактрии в целом с 3 в. по 5 в. н.э., то есть пери-ода, синхронного раннему римскому периоду и переселению народов в Центральной Европе. Кроме этого, нас интересовал вопрос о том, как выглядело укрепление городского центра в кушанский период, как оно развивалось в дальнейшем, а также исследование хронологии всей местности с помощью стратиграфического зондажа. Отметим, что в сравнении с первым годом работы экспедиции, численность и, соответственно, силы отряда увеличились: в 2005 г. в исследовании участвовало уже семеро археологов и студентов из Чехии, трое из Уз-бекистана, а также 35 рабочих из кишлака Саитабад. в 2006 г. вся мест-ность вместе со всеми исследованными участками была замерена гео-дезистом П. Турцзером (Чешское высшее техническое училище), и мы получили данные для публикации и возможность продолжить работу.
Дальнейшая деятельность
Деятельность чешско -узбекской экспедиции в 2002–2006 гг. не ограни-чивалась только исследованиями на Джандавлаттепа. Также, мы уде-ляли внимание частичному поиску и проведению исследований как в близлежащих, так и на более удалённых территориях.
В качестве примера стоит упомянуть поисковое исследование Я. Халамы и Л. Шмагеловой у кишлака Кала Мазар севернее Шерабада,
34 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
проведённое в 2004 г., которое опровергло теорию о существовании в этой местности кушанских погребений. Исследование малой архи-тектуры в области Джандавлаттепа в 2005 г., проведенное К. Урбано-вой, можно назвать спасительным, так же, как и работу К. Абдуллаева непосредственно в кишлаке Саитабад. в первом случае объекту угро-жала распашка и вследствие чего быстрое уничтожение, во втором случае случайно обнаруженная при строительстве жилого дома кера-мика бронзового века позволила нам определить, что поселение в об-ласти Джандавлаттепа уходит в глубокую древность ещё на несколько веков.
К прочим видам деятельности относились регулярные посеще-ния близлежащих окрестностей, прежде всего тех, где проводились новые исследования коллег из других археологических экспедиций. Благодаря этому мы имели возможность ознакомиться с положением и материалами в соседних местностях. К целям наших воскресных вы-ездов, конечно, относились и архитектурные памятники или местно-сти, уже исследованные в прошлом. Однако нередко мы направлялись туда, где можно было получить ответ на какой -то актуальный вопрос, связанный, например, со случайными находками важных артефактов.
Антропоморфно украшенный сосуд, сектор 20, фото Л. Станчо.
дальнейшая деятельность 35
Речь шла, в частности, о выяснении происхождения редкой находки хорошо сохранившихся монет бактрийских греков.
В частности, до нас дошла информация о находке дихалка (брон-зовой монеты) греко -бактрийского царя Деметрия – 200–171 гг. до н.э. (монета впоследствии была опубликована К. Абдуллаевым) в окрест-ностях Курганчи в Байсунском районе. в одно из воскресений на специальном, пригодном для горных дорог транспорте, отряд выехал из Байсуна в северном направлении в самый горный массив. Высота над уровнем моря местами достигала более 2000 метров. Не доезжая до селения Кайрак, на одной из вершин мы обнаружили развалины сооружения, выложенного из рваных камней. Судя по планировке и множеству помещений примерно одного и того же размера, можно было предположить, что сооружение в древности могло служить караван -сараем. Подьёмного материала практически не было обна-ружено, кроме 1–2 фрагментов неглазурованной керамики. К сожа-лению, датировать это сооружение не представилось возможным, хотя очень приблизительно можно отнести его к раннесредневеко-вому и средневековому времени. Доехав до селения Деи -Боло, от-ряд расположился здесь на короткий отдых, в течение которого мы провели опрос местного населения об археологических памятниках и памятных местах. Удалось выяснить, что неподалеку от этого селе-ния добывалась руда. Другая примечательная информация касалась горных проходов. Здесь не обошлось без упоминания дороги, по кото-рой якобы прошел Александр Великий (Искандер Зулкарнейн), через перевал у Деи -Боло можно напрямую выйти в долину Кашкадарьи (Согд).
Другим интересным познавательным выездом была поездка в се-ление Газ в Пашхуртском районе – севернее Шерабада. По дороге про-езжали один из крупных в этом районе археологических памятников Дабилькурган. в самом селении Газ был зафиксирован один из древних кяризов (древняя старейшая система сбора воды, посредством соеди-нения подпочвенных вод разных уровней в накопители – колодцы, от-куда уже вода подавалась на поливы и другие нужды). Здесь же мест-ным жителем была найдена каменная ступка с выгравированными знаками, похожими на письмо. До настоящего времени надпись эта не дешифрована и даже не идентифицирована, хотя ее показывали известным филологам. в южной оконечности селения Газ был обнару-жен и обследован небольшой по своим размерам памятник Кырккыз, служивший в древности, скорее всего, крепостью и воздвигнутый на высоком крутом холме, омывающемся с южной стороны Улансаем. Судя по собранной на поверхности керамике, крепость относится к античному времени. Расположена она также в стратегически важном
36 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
месте, а именно на выходе ущелья, выходящем, если следовать в юж-ном направлении, на Шерабадский оазис.2007 г. представлял собой исследовательский сезон, в котором нача-лась работа по обработке керамики и, прежде всего, подготовка пер-вого сборника археологической публикации. Тогда ещё не прово-дились полевые работы, прошло, однако, несколько консультаций чешской и узбекской сторон о дальнейшем направлении взаимного сотрудничества, на которые впервые был приглашен Термезский го-сударственный университет, представленный егосотрудником Шапу-латом Шайдуллаевым, тогдашним деканом Исторического факультета, предлагавшим хорошую базу в Термезе, техническое оснащение и, при необходимости, студентов для земляных работ. с профессиональных позиций, наряду с вышеупомянутой деятельностью, было уделено осо-бое внимание – благодаря новому грантовому проекту – кушанским, а также ранним среднеазиатским украшениям, изучением которых за-нималась П. Беланова (прежде всего в 2007–2009 гг.).
П. Турцзер и Й. Кысела при геодезических измерениях Джандавлаттепа, 2006 г., фото Л. Станчо.
дальнейшая деятельность 37
Л. Шмагелова при измерении уровней на участке Кала Мазар, 2004 г., фото Я. Халама.
Разведочные исследование К. Урбановой на хлопоковых полях поблизости Джандавлаттепа, 2005 г., фото К. Урбановой.
38 археологические раскопки на джандавлаттепа в 2002–2006 гг.
Члены экспедиции в 2002 г.
Члены экспедиции в 2003 г.
дальнейшая деятельность 39
Члены экспедиции в 2004 г. вместе со школьниками перед музеем в Аккургане.
Члены экспедиции в 2005 г.