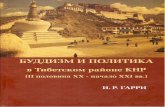Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье:...
-
Upload
kunstkamera -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье:...
Р О С С И Й С К А Я А К А Д Е М И Я Н А У К
Музей антропологии и этнографииим. Петра Великого (Кунсткамера)
Хабаровский краевой музейим. Н.И. Гродекова
И.Я. Шевкомуд, О.В. Яншина
Начало неолита в Приамурье:поселение Гончарка-1
Санкт-Петербург, 2012
В отечественной археологии, как и в зарубеж-ной, неолитоведение всегда представляло собойодно из самых актуальных направлений исследо-ваний. Однако становление его шло довольно слож-ным путем. Многообразие культур, ландшафтов,природно-климатических условий, огромные про-странства крайне затрудняли однозначное понима-ние неолита в целом. Неолитическими признава-лись культуры, зачастую диаметрально отличаю-щиеся друг от друга, что порождало в научной сре-де многочисленные и довольно острые дискуссии.
Важнейшим результатом на пути осмыслениянеолита как особого феномена стало осознание ис-следователями, главным образом отечественными,принципиальной разницы между неолитом север-ных и южных областей Евразии и признание имитого факта, что переход от палеолита к неолиту привсем разнообразии его конкретных обстоятельствмог осуществляться двумя различными путями –на базе производящего и присваивающего хозяйств[см., напр., материалы дискуссии в КСИА. 1984.Вып. 180; Гурина 1973; Хлобыстин 1978; НеолитСеверной…].
Новый импульс полемике вокруг неолита при-дало открытие в бассейне Японского моря финаль-но-плейстоценовых комплексов с остатками кера-мической посудой (а точнее окончательное призна-ние факта их существования). Можно сказать, этисобытия перевернули привычную картину миравсех археологов. Западным специалистам, взра-щенным на концепции неолитической революцииГ.Чайлда, пришлось привыкать к мысли об отсут-ствии неразрывной связи между керамикой и про-изводящим хозяйством [Ceramics before farming:33-50], в российской археологии «посыпалась» всясистема критериев выделения неолита, в которойкерамика играла ключевую роль.
Что же в действительности происходило в бас-сейне Японского моря на рубеже плейстоцена и го-лоцена? Вопрос этот пока очень далек от своегорешения, строго говоря, нам еще только предсто-ит найти на него ответ, но тем не менее некоторыеобщие характеристики этой эпохи в последнее вре-мя стали просматриваться.
Так, после внимательного анализа упомянутыхфинально-плейстоценовых комплексов сталоясно, что керамика – далеко не единственный нео-литический маркер, характеризующий их. Други-ми немаловажными их составляющими являются,например, такие типично неолитические новации,как наконечники стрел и рубящие орудия типа то-поров и тесел, в том числе обработанные приема-ми шлифования. В таком контексте комплексы сдревнейшей керамикой выглядят не как какое-тослучайное явление, а как отражающие процесс по-степенной трансформации палеолитического ук-лада в неолитический. По мнению многих, пуско-вым механизмом этих трансформаций стали серь-езные изменения природно-климатических усло-вий и ресурсной базы, вызванные таянием ледни-ков и общим потеплением. Анализ же каменныхиндустрий показал, что все эти неолитические по-сути новации имели в бассейне Японского моряглубоко местные корни [Кононенко 1994; Позднийпалеолит…; Васильевский и др. 1997; Деревянкои др. 1998; Василевский 2000; Охотники-Собира-тели…; Табарев 2004; Яншина 2008].
Дальнейшие открытия привели специалистовк еще одному очень важному выводу. Оказалось,процесс неолитизации разворачивался в совершен-но различных природно-климатических зонах и взависимости от этого на разной хозяйственной ос-нове. Например, на юге Японского архипелага иКитая значительную роль в хозяйстве играли про-
ВВЕДЕНИЕ
6
дукты собирательства, прежде всего растительно-го происхождения [Imamura 1996; Underhill 1997;Junko Habu 2004; Zhang, Hung 2008], в Китае этовскоре привело к сложению земледельческого ком-плекса. На севере Японии и, по-видимому, на Аму-ре большое значение имело освоение морских иречных ресурсов [Васильевский и др. 1997; Таба-рев 2004; Икава-Смит 2005; Imamura 1996], а в За-байкалье неолитические новации затронули ти-пичные охотничьи культуры [Ветров 1981; 2010;Berdnikova 1995].
Эти наблюдения показывают, что дальнейшееуглубление наших знаний о том, как шел процесснеолитизации в бассейне Японского моря и при-легающих к нему территориях, возможен толькопо пути более детального изучения региональныхматериалов, только так можно воссоздать всю па-литру событий и раскрыть все возможные меха-низмы этого процесса с тем чтобы впоследствиистало возможно понять и всю картину в целом.
В настоящем издании вниманию исследовате-лей будут предложены материалы, раскрывающиенекоторые аспекты процесса неолитизации в Ниж-нем Приамурье. Начало неолита в этом регионесвязывают с памятниками осиповской археологи-ческой культуры. История их изучения насчиты-вает лишь немногим менее 100 лет. Самые первыеиз них были открыты М.М. Герасимовым в чертесовременного г. Хабаровска еще в конце 1920-х гг.,в том числе среди них был обнаружен и памятникОсиповка-1, давший позднее название всей куль-туре в целом. В 1935 г. эти памятники обследовалА.П. Окладников, тогда же им были найдены иновые стоянки данного типа. Оба исследователяопределили их как наиболее ранние памятникикаменного века Нижнего Приамурья [Герасимов1928; Окладников 1980; Ветров и др. 2007].
Спустя годы на рубеже 1950-1960-х гг. А.П.Окладников вернулся на Амур как руководительДальневосточной археологической экспедиции иразвернул здесь широкомасштабные археологи-ческие работы. В числе первых им были проведе-ны раскопки стоянки Осиповка-1 [Окладников1960 а; Окладников, Деревянко 1973: 39-41]. Бла-годаря своему яркому своеобразию ее осиповскийкомплекс привлек к себе особое внимание иссле-дователя и использовался им в обобщающих тру-дах по Дальнему Востоку при характеристике пе-реходного времени от палеолита к неолиту [Исто-рия Сибири 1968: 89-92], хотя сам таксон «осипов-ская культура» был введен в литературу несколь-ко позднее [Деревянко 1973: 252]. А.П. Окладни-ков отнес осиповские памятники к мезолиту [Ок-ладников 1971 а, 1973; Деревянко 1983], однакотакое понимание осиповской культуры просуще-ствовало недолго – лишь до начала 1980-х гг.
Переломным моментом в ее изучении стали рас-копки поселения Гася. Оно было открыто в 1935 г.[Окладников 1980: 14], но систематическое его
изучение началось только в 1975 г. А.П. Окладни-ковым и В.Е. Медведевым [Деревянко, Медведев1992 а]. Уже в первых раскопах 1975-1976 гг. внижнем слое памятника В.Е. Медведевым, кото-рый непосредственно руководил работами, былоотмечено совместное залегание осиповских арте-фактов и фрагментов керамики, но доказать ихпринадлежность к одному комплексу удалось чутьпозже. В 1980 г. вместе с осиповскими каменны-ми орудиями in situ был найден развал сосуда, за-легавший в углистой прослойке [Медведев 2003 а].
Датировка, полученная по углю, взятому изэтого комплекса, казалась в то время невероятной:12960±120 (Ле-1781) [Окладников, Медведев1983; Деревянко, Медведев 1993], а потому былавоспринята большинством специалистов с осто-рожностью. Но уже тогда эти находки вызвали удальневосточных археологов вполне закономер-ные ассоциации с аналогичными открытиями наЯпонском архипелаге [Бродянский 1985: 135-140;1989: 21-28]: к тому моменту там было известноуже несколько комплексов, сочетавших позднепа-леолитический по облику каменный инвентарь икерамику (Фукуи, Камикуроива и др.) [Aikens,Higuchi 1982; Imamura 1996].
Древность осиповского комплекса и наличие внем керамики были подтверждены в дальнейшемоткрытиями первой половины 1990-х гг., когдабыли раскопаны два новых памятника – поселе-ния Хумми и Гончарка-1. Полученные на них ра-диоуглеродные даты и другие факты свидетель-ствовали о том, что осиповская культура относит-ся к финалу неоплейстоцена [Лапшина 1995; 1999;Шевкомуд 1996 б, в; 1998].
Эти открытия вызвали большой интерес как уроссийских специалистов, так и у их зарубежныхколлег. Они заметно активизировали международ-ное сотрудничество в области археологическихисследований, по данной теме была опубликованацелая серия специальных работ и проведена неодна научная конференция. Исследователи обсуж-дали вопросы стратиграфии, хронологии и типо-логии финально-плейстоценовых комплексов скерамикой, причем не только вновь открытых, нои тех, чьи материалы в свое время были восприня-ты как в России, так в Японии и Китае с большойосторожностью и недоверием. Итогом всей этойполемики стало окончательное признание фактараннего появления керамической посуды в бассей-не Японского моря [The Origin of Ceramics…; По-здний палеолит…; The Review of Archaeology…].
В результате, уже в середине 1990-х гг. в пери-одизации каменного века Нижнего Приамурья на-метлись перемены. В частности, на материалахосиповской культуры был выделен период началь-ного неолита [Медведев 1995], что совпало с общейтенденцией к отказу от понятия «мезолит» приме-нительно к бассейну Амура и сопредельным тер-риториям Северо-Востока Азии [Мочанов 1977; Ва-
7
сильевский, Гладышев 1989; Кузнецов 1992; Де-ревянко и др. 1998; Охотники-собиратели…]. Па-раллельно шла разработка концепции переходно-го периода, в которой доказывалось, что суть про-цессов, происходивших в данном регионе на рубе-же плейстоцена и голоцена, заключалась в посте-пенной трансформации палеолитических культурв неолитические, а археологические комплексыэтого времени имеют переходный облик [Позднийпалеолит…; Василевский и др. 1997; Деревянко идр. 1998].
В целом проблема с определением периодизаци-онного положения памятников конца плейстоце-на сохраняется. Сложность ее в том, что облик ком-плексов этой эпохи различен. Одни из них, какнапример осиповские на Нижнем Амуре, действи-тельно демонстрируют весь набор неолитическихноваций, другие, как например устиновские вПриморье, сохраняют еще во многом палеолити-ческие черты. Недостаток данных по абсолютно-му датированию большинства этих комплексов, ксожалению, не позволяет пока хронологическисоотнести их между собой и тем самым проследитьистинную динамику процессов неолитизации врегионе. Сохраняет свое значение для разработкивсех этих вопросов и общая слабость источнико-вой базы. Источников либо не хватает, либо онинедостаточно полно исследованы и опубликованы.
В связи с этим необходимо отметить, что откры-тия на поселениях Гася, Хумми и Гончарка-1 зна-чительно стимулировали интерес к памятникамрубежа плейстоцена и голоцена в Нижнем Приаму-рье. Их изучение приобрело системный характер.Наиболее активные изыскания проводились экс-педициями Хабаровского краевого музея им. Н.И.Гродекова. Результатом их было открытие более45 новых памятников осиповской культуры в до-лине Амура и Уссури, и, что особенно важно, боль-шая их часть оказалась однослойными и хорошостратифицированными объектами.
На ряде памятников были проведены стацио-нарные полевые исследования на общей площадиоколо 2000 кв. м. Благодаря им удалось установитьстратиграфические особенности залегания осипов-ских комплексов, собрать представительную кол-лекцию артефактов, в том числе керамики, полу-чить внушительную серию радиоуглеродных дати убедительные данные о раннем переходе к нео-литу в Нижнем Приамурье [Шевкомуд 2002 б;2003 б; 2004 б; 2005 б; Шевкомуд и др. 2002 а, б, в;2004; Shewkomud et al. 2003; Naganuma et al. 2005;Шевкомуд, Яншина 2010 а, б и др.].
В дополнение к этим исследованиям В.Е. Мед-ведевым были пересмотрены и частично опубли-кованы осиповские коллекции уже давно извест-ных памятников, таких как Осиповка-1, Кондон-Почта, Сикачи-Алян (нижний пункт), Госян и др.[Медведев 2001; 2003 а; 2008 а, б], а также опуб-ликованы обобщающие работы по археологии
Нижнего Приамурья, в которых затрагивались ипроблемы изучения осиповской культуры [Медве-дев 2005; 2006].
В результате за последние пятнадцать лет ис-точниковая база осиповской культуры значитель-но увеличилась, появилась возможность вывестипредставления о ней на новый уровень. В настоя-щее время достаточно точно очерчен ареал ее рас-пространения, получена информация об особенно-стях топографической локализации осиповскихпоселений, их стратиграфической приуроченнос-ти, хронологии, о палеогеографической обстанов-ке, в которой складывалась культура, определеныосновные характеристики осиповского инвентаряи в конечном итоге выявлен ряд факторов, способ-ствовавших ранней неолитизации в Нижнем При-амурье [Шевкомуд 1998; 2002 б; Медведев 2005;Шевкомуд, Яншина 2010 а].
В то же время в исследованиях, посвященныхосиповской культуре, имеется и ряд проблемсубъективного характера. Из них наиболее акту-альными сегодня можно считать две, требующихрешения в самую первую очередь.
Во-первых, несмотря на значительные достиже-ния и успехи амурских археологов, к сожалению,имеется недостаток в монографических описани-ях материалов отдельных осиповских памятни-ков, большая их часть отражена пока только в ма-лодоступных широкому кругу исследователей от-четах или статьях [см. напр.: Деревянко, Медве-дев 1992 а, б; 1993; 1994; 1995 и др.]. Исключениесоставляют лишь материалы Хумми [Лапшина1999], однако источниковая ценность этого памят-ника вполне справедливо подвергается сомнениюиз-за отсутствия достоверных стратиграфическихданных и ясной типологической классификацииего инвентаря [Кузнецов 2003]. Все это создает из-вестные трудности, так как лишает многих специ-алистов возможности составить целостное пред-ставление об осиповской культуре и оценить на-дежность аргументации ее финально-плейстоцено-вого возраста. Особенно важно это с точки зрениядоказательства раннего появления в бассейне Аму-ра неолитических новаций и прежде всего керами-ческой посуды.
Во-вторых, активные полевые исследованияосиповских памятников привели к тому, что в пос-ледние годы отчетливо сформировалась потреб-ность в систематизации и осмыслении накопив-шихся источников. Речь идет об анализе каменно-го инвентаря, керамики, их типологии, сравни-тельной характеристике отдельных осиповскихкомплексов и т.п. Такие исследования фактичес-ки еще не проводились в амурской археологии,между тем сам статус осиповской культуры кактой, с которой было связано начало неолита в При-амурье, просто обязывает к их скорейшему осуще-ствлению. Целый пласт проблем дальневосточнойархеологии напрямую связан с разработкой этого
8
круга вопросов. Часть из них касается более глу-бокого понимания самой осиповской культуры,например, ее внутренней динамики, локальныхразличий, определения ее общих технико-типоло-гических характеристик, происхождения, контак-тных связей, другая связана с более общей пробле-матикой, например, выявлением факторов, спо-собствовавших ранней неолитизации в бассей-не Амура, конкретных ее механизмов, общей ди-намики, определения осиповского вклада в после-дующие культуры дальневосточного неолита.
Настоящая монография призвана в известнойстепени восполнить наметившиеся в историогра-фии пробелы. Ее основная задача – публикацияматериалов поселения Гончарка-1.
Интерес авторов к этому памятнику обусловленнесколькими обстоятельствами. На сегодняшнийдень Гончарка-1 – один из самых широко раско-панных осиповских памятников, в общей сложно-сти здесь за несколько полевых сезонов быловскрыто более 530 кв. м. В пределы раскопа попалпрактически непотревоженный участок поселе-ния, за счет чего в процессе исследований удалосьчетко зафиксировать стратиграфические условиязалегания осиповских артефактов, выявить со-хранные комплексы находок, объекты хозяй-ственно-бытового и культового назначения, а так-же погребение и культово-ритуальный комплекс.Материалы Гончарки-1 выгодно отличаются ещеи тем, что они обеспечены целой серией радиоуг-леродных датировок, связанных с надежным ар-хеологическим контекстом, и данными палиноло-гических исследований.
Очень показательна и сама коллекция находок.Она представлена многочисленными, яркими и от-носительно хорошо сохранившимися артефакта-ми, которые позволяют проводить статистическизначимые типологические и иные исследования.Особенно важно последнее обстоятельство приме-нительно к керамике, т.к. на большинстве другихраскопанных осиповских стоянок керамическиеколлекции насчитывают не более нескольких де-сятков черепков. Таким образом, по общей суммепоказателей поселение Гончарка-1 представляетсобой сегодня наиболее полноценный с точки зре-ния источниковых возможностей памятник оси-повской культуры, что ставит его в разряд опор-ных в археологии рубежа плейстоцена и голоценана Дальнем Востоке России.
В книге рассмотрены материалы, полученныев 1995-1996 гг., когда раскопками был охвачен наи-более насыщенный находками участок памятника.Работы 2001 г. были проведены в содружестве сяпонскими археологами из университета Хоккай-
до и др. [Шевкомуд и др. 2002 б; Shewkomud et al.2003], поэтому их результаты будут опубликова-ны отдельно.
Основной акцент в книге сделан на характери-стику условий обнаружения осиповских артефак-тов, с тем чтобы показать надежность аргументов,свидетельствующих об их финально-плейстоцено-вом возрасте, а также на подробный анализ камен-ного инвентаря и керамики. Кроме того, в книгесделана попытка детального сравнительного анали-за материалов Гончарки и коллекций двух другихшироко известных памятников осиповской куль-туры – поселений Гася и Хумми, а также с мате-риалами финально-плейстоценового поселенияГроматуха и раннеголоценовых неолитическихкомплексов региона – устиновского, новопетровс-кого, мариинского, руднинского и кондонского. Наэтой основе в монографии предлагаются новые под-ходы к решению ряда общих проблем дальневосточ-ной археологии, в частности внутренней динамикии происхождения осиповской культуры, ее соотно-шения с громатухинской культурой, а также оси-повского участия в формировании дальневосточ-ных культур классического неолита.
Авторы благодарят А.П. Деревянко, С.П. Не-стерова, А.В. Табарева, В.Н. Зенина, В.Е. Медве-дева, Н.А. Кононенко, А.В. Гарковик, А.Н. Куз-нецова, Н.А. Клюева, О.Л. Мореву, А.Н. Попова,Б.С. Сапунова, Д. П. Болотина, А.А. Василевско-го, А.Н. Алексеева, В.М. Дьяконова, Ю.А. Моча-нова, С.А. Федосееву, Ямада Масахиса, Онуки Сид-зуо, Сато Хироюки, Наганума Масаки, Фукуда Ма-сахиро и многих других российских и японскихколлег за возможность ознакомиться с коллекци-ями археологических памятников Приамурья,Приморья, Сахалина, Якутии, Японии и за полез-ные дискуссии по теме работы, Я.В. Кузьмина запомощь в подготовке английского резюме, КатоСимпея, Йошида Кунио, Куникиту Даи, ФукудаТомоюки, Я.В. Кузьмина, А.В. Чернюк, Т. Джал-ла за результаты радиоуглеродной и палинологи-ческой аналитики для памятника Гончарка-1,Я.А. Ядринцеву, А.Б. Шиповалову за графическоеоформление монографии, И.Е. Воробья и Э.В. Ма-лявину за фотографический материал и его обра-ботку, многочисленных участников экспедиций вНижнем Приамурье, школьников и студентов,благодаря труду которых был исследован замеча-тельный памятник Гончарка-1. Авторы благода-рят также генерального директора Хабаровскогокраевого музея Н.И. Рубана за то, что в сложныедля науки и культуры России 1990-е гг. обеспечилвсевозможную поддержку и финансирование на-ших экспедиционных исследований.
ГЛАВА 1
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПОСЕЛЕНИИ ГОНЧАРКА-1 В 1995-1996 ГГ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКЕ
Поселение Гончарка-1 находится на правом бе-регу протоки Амурской в 1 км на северо-восток отс. Новотроицкое и в 20 км на юго-запад от Хаба-ровска. По своей территориальной приуроченнос-ти оно относится к новотроицкой группе памятни-ков осиповской культуры Хехцирского геоархео-логического района [Шевкомуд 1998; 2002], кото-рый расположен в центральной части Среднеамур-ской низменности на правобережье Амура и Уссу-ри в районе их слияния (рис. 1).
Археологическое изучение этого района нача-лось в середине прошлого столетия. На рубеже1950 – 1960-х гг. здесь работала Дальневосточнаяархеологическая экспедиция под руководствомА.П. Окладникова, и именно в то время впервыебыли обследованы окрестности с. Казакевичево ис. Бычиха, расположенные в непосредственнойблизости от с. Новотроицкое [Ларичев 1961; Ок-ладников, Деревянко 1973].
Чуть позднее появились сведения краеведчес-кого характера о находках в этом районе различ-ных археологических памятников. В частности, впериод с 1978 по 1980 гг. преподаватель Хабаров-ского политехнического института В.В. Казанцевпроводил в долине ручья Гончарка летнюю студен-ческую практику. По его устному свидетельству,в общей сложности тогда было сделано около 100шурфов. Собранный в ходе разведочных работ ар-хеологический материал был сдан им в ХКМ, од-нако, к сожалению, в настоящее время эти коллек-ции в фондах музея не значатся.
Примерно в то же время осмотр местности наэтом участке берега протоки Амурской проводил-ся В.Е. Медведевым. Однако в его полевых отче-тах сведений о результатах данного обследования,к сожалению, нет, краткое упоминание о них быловпервые опубликовано лишь спустя почти двад-цать лет [Медведев 1995: 231]. Согласно этим дан-ным, В.Е. Медведевым в 1978 г. у с. Осиновая Реч-ка было обнаружено одно местонахождение оси-повской культуры. Спустя еще несколько лет влитературе появилась более подробная информа-
ция об этом открытии [Медведев 2011]. Согласноэтим данным, В.Е. Медведевым была открыта сто-янка, расположенная у переправы на о. БольшойУссурийский и известная ныне под названием Оси-новая Речка-1 (рис. 29).
В 1980-х гг. осмотры местности с краеведчески-ми целями по берегам протоки Амурской и на ост-рове Большой Уссурийский проводил Б.Н. Дене-ко – в то время учитель средней школы в с. Осино-вая Речка. В 1989 г. он показал найденные им па-мятники И.Я. Шевкомуду. Тогда же при осмотреберегов ручья с местным названием Гончарка ибыло выявлено поселение, получившее наимено-вание Гончарка-1. В 1995 г. на нем были проведе-ны первые разведывательные работы, по резуль-татам которых памятнику было присвоено второе(паспортное) название – Новотроицкое-5. Матери-алы, собранные во время разведки, со всей очевид-ностью свидетельствовали о необходимости про-должения здесь исследований, и в этом же году напоселении Гончарка-1 был заложен первый раскоп[Шевкомуд 1996 в]. Исследования на нем велись втечении нескольких полевых сезонов археологи-ческой экспедицией ХКМ под руководствомИ.Я. Шевкомуда. Этой же экспедицией на участ-ке берега протоки Амурской между с. Казакеви-чево и Корсаково начиная с 1989 г. было выявле-но не менее 45 памятников осиповской культуры.
В топографическом отношении поселение Гон-чарка-1 повторяет ситуацию, характерную длябольшинства осиповских памятников. Оно зани-мает правый приустьевой мыс долины ручья Гон-чарка, ныне почти пересохшего. В данном местеручей прорезает террасовидную поверхность в дол-готном направлении и впадает в протоку Амурс-кую, образовывая долину, ширина которой в усть-евой части составляет около 200 метров. Поверх-ность мыса расположена на высоте от 15 до 25 м иболее от уреза воды (рис. 2). Со стороны протокиАмурской мыс имеет крутой склон, а со стороныручья – более пологий. Поселение расположено научастке площадью примерно 110 х 55 м, вытяну-
10
Рис. 1. Карта южной части Дальнего Востока с памятниками, упоминаемыми в тексте. Цифрами указаны памятники осиповской культуры, в том числе места отдельных находок:
1-3 – памятники эвороно-горинского геоархеологического района (Кондон-Почта, Кондон-1, Харпичан-4),4 – Хумми; 5 – Иннокентьевка-Бон; 6 – Синда; 7 – Челны; 8-11 – памятники малышевско-сикачи-алянского геоархео-
логического района (Сикачи-Алян / нижний пункт/, Госян, Гася, Малышево-2); 12 – Дабанда-2; 13 – Дарга-1;14 – Джермень; 15 – Энтузиаст; 16-25 – памятники хабаровской группы хехцирского геоархеологического района
(Осиповка-1-3; Амур-2 /«У железнодорожного моста»/, Богдановка, Амурский Санаторий, Мясокомбинат,Рыбный Порт, Казачья Гора, «У собачьего питомника»); 26-67 – памятники хехцирской группы
хехцирского геоархеологического района (Корсаково-4, Осиновая Речка-1-2, 4-12, 16-17, 19, 23-25, 27-31;Гончарка-1, 3; Новотроицкое-1, 3-4, 8, 10, 13-17; Бычиха-1, 4, 7; Казакевичево-4, 7; Лесное, Бархатная);
68 – стоянка на р.Кие; 69 – Венюково; 70 – Шереметьево-14; 71 – Лончаково; 72 – Сяонаньшань.
11
том с юго-запада на северо-восток вдоль протокиАмурской, с западной и северной стороны оно ог-раничено склонами мыса, южная и восточная егограницы определены условно на основе данныхшурфовки.
Территория памятника была покрыта листвен-ным лесом и хорошо задернована. Какие-либо ре-льефные признаки, свидетельствующие о наличиидревних жилищных котлованов или других объек-тов, отсутствовали. Выраженных поверхностныхразрушений культурного слоя (ям, шурфов, рыт-вин и т.п.) не отмечалось.
В 1995 г. раскоп площадью 10х10 кв. м был за-ложен в верхней северо-восточной части поселе-ния – в 12 м от края террасы. В 1996 г. был состав-лен план многолетних исследований, разделив-ший поселение на участки по 100 кв. м. Каждыйтакой участок был разделен бровками на четыресектора, в результате чего была создана единая сет-ка стратиграфических разрезов с интервалом впять метров. Площадь, вскрытая в 1995 г., вошлав данную сетку как раскоп 1. В 1996 г. к нему с се-вера был прирезан раскоп 2, а с юга – раскоп 3, обас размерами 10х10 кв. м. В том же 1996 г. к западуот раскопа 1 вниз по склону террасы был заложенраскоп 4 площадью 50 кв.м, увеличенный из-заприрезок на 5,5 кв. м (рис. 3).
Все четыре раскопа были ориентированы неточно по сторонам света, а примерно по линии «се-вер-северо-запад – юг-юго-восток». Поскольку от-клонение в целом было очень незначительным, вобщих описаниях планиграфической ситуации па-мятника мы его не учитывали. За пикет 0’-0 – на-чальную точку отсчета координатной сетки – былпринят юго-восточный угол раскопа 1. От данногопикета на север шли квадраты А-К, а на юг – А’-K’. Вниз по склону террасы с востока на запад былирасположены цифровые обозначения квадратов от0 до 16. Нулевой репер установлен равным уров-ню пикета К/0 – на самой высокой точке для всехраскопов (рис. 3Б).
Полученный в 1995-1996 гг. материал вызвалбольшой интерес со стороны специалистов, и рас-копки памятника были продолжены в 2001 г. со-вместной российско-японской экспедицией ХКМи университетов Хоккайдо и Токио (TokyoMetropoliten University) под руководством И.Я.Шевкомуда и М. Наганумы. В этот год был доис-следован оставшийся участок раскопа 4, далее кего северной стенке были прирезаны и полностьювыбраны раскопы 5 и 6 [Шевкомуд и др. 2002 б;Shewkomud et al. 2003]. Таким образом, за все годыраскопок на поселении Гончарка-1 была вскрытаплощадь 531 кв. м (рис. 3А).
Рис. 2. Вид на поселение Гончарка-1 с запада
Рис. 3. План поселения Гончарка-1с обозначением раскопов разных лет (А)
и схема расположения раскопов 1995-1996 гг. (Б)
А
Б
13
СТРАТИГРАФИЯ
Контроль за стратиграфической ситуацией входе исследований памятника осуществлялся какпо стенкам раскопов, так и по двум перекрещи-вающимся бровкам в каждом из них. В общейсложности в 1995-1996 гг. было снято двадцатьразрезов, которые фиксировали в целом одну и туже картину отложений. Ниже приводятся описа-ния некоторых наиболее показательных из них.
Р а з р е з п о л и н и и 5 - 5 (раскоп 1, пи-кеты К-0’, вид с запада). Дневная поверхностьпочти горизонтальная, с неровностями (рис. 4).
1. Дерновый слой, черный или темно-серый гу-мусированный суглинок, перевитый корнями.Прослежен по всей длине разреза. Его толщина от5 до 10 см. В кв. В и Ж имеются биотурбации, выз-ванные корнями небольших деревьев (1А).
2. Серый пылеватый суглинок. Прослежен повсей длине разреза в виде относительно горизон-тального пласта с неровными четкими границами.Его толщина от 5 до 20 см, наибольшая мощностьотмечена в левой части разреза, к правой он посте-пенно постепенно выклинивался.
3. Легкие суглинки светлых коричневых, крас-новатых или желтоватых оттенков. Прослеженыв виде горизонтального пласта общей мощностьюот 23 до 45 см. Контакты с другими слоями чет-кие, с неровностями, наибольшая толщина отме-чена в левой части разреза. Литологически (поцветности и плотности) в этом слое выделялись двагоризонта с нечеткой линией границы междуними. Верхний горизонт (3А) представлен светло-коричневым пылеватым суглинком с галькой илигравием мощностью от 10 до 17 см, нижний (3Б) –темно-желтым, иногда красноватым, плотным суг-линком с песком, гравием, галькой. Последнийзалегал на контакте с материковым галечникомравномерным пластом мощностью от 12 до 25 см.Нижние 10-15 см горизонта 3Б отличались наи-большей плотностью и составляли основной куль-туросодержащий горизонт поселения.
4. Материк прослежен в виде гальки второй сте-пени окатанности с песком, гравием и темно-жел-тым, красноватым суглинком.
Р а з р е з п о л и н и и Г - Г (раскоп 1, пикеты10-0, вид с юга). Дневная поверхность неровная,бугристая, имеет уклон вниз по склону террасы,перепад высоты составляет около 122 см на 10 м(рис. 4).
1. Дерновый слой, черный или темно-серый гу-мусированный суглинок, перевитый корнями.Прослежен по всей длине разреза. Его толщина от5 до 15 см. В кв. 8 имеется крупная биотурбация(1А), вызванная корнями дерева и нарушающаянижележащие слои.
2. Серый пылеватый суглинок. Прослежен повсей длине разреза в виде слабонаклонного, отно-
сительно равномерного пласта с неровными четки-ми границами, толщиной от 10 см в правой частиразреза и до 20 см в левой.
3. Легкие суглинки светлых коричневых, крас-новатых или желтоватых оттенков с галькой и гра-вием. Прослежены в виде слабонаклонного плас-та с четкими, но неровными границами. Наиболь-шая толщина – до 45 см – зафиксирована в сред-ней части разреза, к краям разреза она уменьша-ется до 8-10 см. Литологически (по цветности иплотности) здесь также выделялись два горизонтас нечеткой линией контакта. Верхний (3А) – свет-ло-коричневый пылеватый суглинок толщиной от8 до 16 см. Нижний (3Б) представлен темно-жел-тым, красноватым плотным суглинком с песком,гравием и галькой, залегавшим относительно рав-номерным пластом почти по всей длине разреза,кроме кв. 10. Его мощность от 12 до 30 см, наи-большая – в средней части разреза. Нижняя частьгоризонта 3Б наиболее плотная, в основании онаконтактирует с материковым галечником, а в кв.8-9 перекрывает кровлю криогенного клина (5).
В кв. 1-2 в основании горизонта 3Б выявлен ус-туп неясного происхождения высотой до 12 см, сло-женный темно-желтым суглинком с галькой (4А)и галькой со светло-коричневым суглинком (4Б).
В кв. 8-9 горизонт 3Б подстилается прослойкойсерого или светло-серого плотного суглинка (3В),перекрывающего кровлю заполнения криогенно-го клина (5), который бровка разрезала поперек.Толщина прослойки 3В от 11 до 15 см, она запол-няла углубление с пологими плечиками, выявлен-ными под пикетами 7 и 9.
4. Материк прослежен в виде гальки с песком,гравием и темно-желтым суглинком.
5. Плотные сцементированные мешаные суг-линки и супеси бурого, коричневого цвета с галь-кой и песком. Представляли собой заполнениекриогенной деформации, выявленной в кв. 8-9.Она имела характерную текстуру затекания и былавпущена в виде клина в материковый галечник наглубину не менее 90 см от кровли и более 240 см отрепера. Поперечное ее сечение асимметрично-кли-новидное, кровля слегка выпуклая, ширина в ус-тье более 2 м, в средней части – до 40 см. В верхнейчасти заполнения суглинки более темные, бурые(5А), к основанию – светло-коричневые и корич-невые (5Б). В верхней части суглинков 5Б в разре-зе прослежены углистые примазки.
Р а з р е з п о л и н и и К - К (раскоп 1, пикеты10-0, вид с юга). Дневная поверхность относитель-но ровная, имеет уклон вниз по склону террасы,падение склона составляет 122 см на 10 м (рис. 4).
1. Дерн представлен по всему разрезу равномер-ным пластом толщиной от 5 до 8 см. В кв. 3, 7, 8отмечены биотурбации, нарушающие слои 2 и 3.
15
2. Серый пылеватый суглинок прослежен повсему разрезу в виде пласта с неровными четкимиграницами толщиной от 8 до 15 см.
3. Слой коричневых, желтоватых и краснова-тых легких светлых суглинков представлен повсей длине разреза в виде неравномерного пластатолщиной от 10 см в кв. 9 до 45 см в кв. 1-7. В нем,как и везде, выделяются два горизонта. Горизонт3А мощностью 10-12 см зафиксирован по всей дли-не разреза кроме кв. 9-10, линия контакта в осно-вании нечеткая. Горизонт 3Б прослежен такжетолько в кв. 1-8, в кв. 1-5 он представлен равно-мерным пластом толщиной 25-27 см. Он перекры-вал здесь прослойку серого песка 3В’ толщиной 5-8 см, линия контакта с ней нечеткая. Прослойка3В’ лежала на материке и не содержала находок.
В кв. 9-10 слой 3 перекрывал плечико криоген-ного клина, содержал много галечных включенийи по всей толщине отличался пылеватостью и вы-ветренностью, из-за чего его разделение здесь налитологические горизонты было невозможным.
В кв. 6-9 ниже горизонта 3Б прослежен крио-генный клин. Он был перекрыт прослойкой 3В тол-щиной до 12 см, сложенной из плотного светло-се-рого суглинка. Эта прослойка четко отделяла за-полнение клина от горизонта 3Б. В кв. 6-7 в кров-лю клина спускалось естественное углубление ши-риной до 35 см с конусовидным основанием. Онобыло заполнено комковатым плотным суглинкомтемно-желтого цвета с красноватым оттенком и ссерыми вкраплениями (3Б’).
4. Материк – слабоокатанная галька с песком,гравием и темно-желтым суглинком.
5. Плотные сцементированные мешаные суг-линки и супеси бурого, коричневого, светло-ко-ричневого и красного цвета с галькой и песком (5).Прослежены только в кв. 8-6 и представляли со-бой заполнение криогенного клина с характернойтекстурой затекания. Ширина его в устье 3,25 м, всредней части до 60 см, поперечное сечение асим-метрично-клиновидное, границы неровные. В ос-новании зафиксирован подбой в правую сторонуразреза. Литологические элементы заполненияклина можно подразделить на первичные и вто-ричные, т.е. образующиеся в результате оплыва-ния его стенок и последующего затягивания.
К первичным отнесены слои, заполняющиекриогенный клин до основания:
– бурый мешаный очень плотный суглинок(5А), в кровле более темный;
– светло-коричневый и коричневый плотныймешаный суглинок (5Б), залегал несколько нижебурого суглинка 5А;
– темно-красный и красный охристый песок сгалькой; составлял самую нижнюю прослойку за-полнения клина (5В’);
– красный, светлый, охристый суглинок с уг-листыми примазками, возможно антропогенного
характера (5В); составлял уступ, образовавшийсяпосле обвала части материкового грунта в полостькриогенного клина.
К элементам вторичного заполнения отнесеныкоричневый мешаный суглинок с галькой (5Б’),сформировавшийся в результате оплывания бор-та криогенного клина, а также фрагмент его обва-лившегося края, представленный материковымгрунтом (4А’).
Р а з р е з п о л и н и и П - П (раскоп 2, пике-ты 10-0, вид с юга). Дневная поверхность имеетнебольшой уклон к левой части разреза, т.е. внизпо склону террасы, перепад высоты составляет 140см на 10 м (около 7-8°) (рис. 5; 6).
1. Дерновый слой представлен черным или тем-но-серым гумусированным суглинком, перевитымкорнями. Прослежен по всей длине разреза, мощ-ность его от 5 до 15 см.
2. Серый пылеватый суглинок прослежен повсему разрезу в виде слабонаклонного, относитель-но равномерного пласта толщиной от 15 до 29 см снеровными, но четкими границами. В кв. 8-10 этотслой представлял собой сильно выветренную фрак-цию светло-серого пылеватого суглинка (2’). В кв.2-10 серый пылеватый суглинок залегал на про-слойке желтовато-серого мешаного суглинка (2Б)толщиной от 4 до 12 см, граница между ними раз-мытая, и только между пикетами 3 и 5 она былаболее четкой.
3. Легкие светлые суглинки коричневых, жел-товатых или красноватых оттенков с галькой илигравием залегали в виде слабонаклонного пласта счеткими неровными границами, толщина его от 45см в правой части разреза до 21 см в левой. В осно-вании слой контактирует с материковым галечни-ком, а в кв. 4-7 – с кровлей отложений криогенно-го клина. Как и в раскопе 1, в слое 3 выделялисьдва горизонта, контакт между которыми нечет-кий, а переход – плавный. Горизонт 3А представ-лен светло-коричневым пылеватым суглинком,его толщина от 10 до 20 см, наменьшая в левой ча-сти разреза. Горизонт 3Б – темно-желтый, крас-новатый плотный суглинок с гравием и галькой –залегал относительно равномерным пластом почтипо всей длине разреза. Его мощность от 11 до 25см, наибольшая в правой части разреза, нижние10-15 см отличалась большей плотностью.
Между пикетами 4-6 в основании горизонта 3Бзалегала прослойка серого или светло-серого плот-ного суглинка толщиной 4-10 см (3В), отчетливоразделяющая горизонт 3Б и заполнение криоген-ного клина. Под пикетом 6 эта прослойка посте-пенно выклинивалась и содержала галечно-гра-вийную фракцию (ЗГ).
4. Материк прослежен в виде гальки второй сте-пени окатанности с песком, гравием и темно-жел-тым суглинком.
5. Очень плотные, сцементированные мешаные
17
суглинки и супеси бурого и коричневого цвета сгалькой и песком составляли заполнение криоген-ного клина, впущенного в материк между пикета-ми 4-6 на глубину не менее 50 см. Клин рассеченразрезом поперек. В кровле заполнение слабовы-пуклое, в сечении асимметрично-клиновидное,имеет характерную текстуру затекания, в верхнейчасти более темное, содержит больше гальки (5А’),в основании светлее и имеет коричневый цвет (5Б).
Между пикетами 6-7 в кровле криогенного кли-на зафиксирована изогнутая линза темно-желто-го суглинка с галькой толщиной до 12 см, лежа-щая частично на плечике клина (4А). Правое пле-чико клина было перекрыто коричневым меша-ным суглинком с галькой (5Б’), образовавшимсяв результате вторичного оплывания его стенок.
Р а з р е з п о л и н и и 5 - 5 (раскоп 2, пикетыФ-К, вид с запада). Разрез проходит не точно полинии 5-5, а посредине между пикетами 5-6. Осо-бенность его в том, что он прорезает вдоль практи-чески весь мерзлотный клин по линии, ближней кего восточному краю. Это позволяет еще более точ-но зафиксировать его основные стратиграфичес-кие характеристики. Дневная поверхность неров-ная, немного поднятая в центре, имеет слабый ук-лон к правой части разреза, перепад высоты состав-ляет 29 см на 10 м (рис. 5; 7).
1. Дерновый слой представлен темно-серым гу-
мусированным суглинком, перевитым корнями,толщина его от 6 до 17 см. Прослежен почти по всейдлине разреза, за исключением метрового участкау пикета 7, где он разрушен лесной тропой.
2. Серый пылеватый суглинок. Общая мощ-ность слоя от 8 до 20 см. Линии контактов неров-ные, плавные. Между пикетами П-Ф серый пыле-ватый суглинок разрушен плужной распашкой,частично затронувшей и кровлю нижележащегослоя 3. За счет этого основание слоя имеет «рва-ные» границы, а сам слой представлен мешанымжелтовато-серым грунтом с угольками (2Б).
3. Легкие светлые суглинки коричневых, жел-товатых и красноватых оттенков прослежены повсей длине разреза в виде относительно ровного,горизонтального пласта общей мощностью от 34 до52 см, постепенно уменьшающейся к правой час-ти разреза. Залегают на кровле отложений крио-генного клина почти по всей его длине, и толькопод пикетами К-М – на материковом галечнике.Как и везде, здесь прослеживаются два горизонтас плавным переходом между ними. Горизонт 3Аимеет мощность от 12 до 27 см, его верхняя частьнарушена между пикетами П-Ф распашкой. Мощ-ность горизонта 3Б от 12 до 25 см, в его основаниимежду пикетами М-Ф залегала прослойка 3В, от-деляющая его от заполнения криогенного клина 5.
4. Материк в виде гальки с песком, гравием и
Рис. 6. Гончарка-1. Раскоп 2. Разрез по линии П-П, пикет 5-1. Вид с юга
18
темно-желтым суглинком прослежен только подпикетами К-М, где он образует плечико криогенно-го клина, на других участках разреза он располо-жен значительно ниже – под заполнением клина.
5. Очень плотные, сцементированные мешаныесуглинки и супеси бурого и коричневого цвета сгалькой и песком составляли заполнение криоген-ного клина, впущенного в материк на глубину от37 до 60 см. В верхней части оно было представле-но в основном светло-коричневым и коричневымсуглинком мощностью от 8 до 45 см (5Б), наиболь-шая его толщина отмечена между пикетами О и С.В этом суглинке фиксировались крупные включе-ния коричневого мешаного суглинка с галькой(5Б’), представлявшего собой следы вторичногооплывания краев клина. Под пикетом С в разрезевыявлен фрагмент бурого мешаного суглинка (5А),между пикетами М-П – крупный фрагмент мате-рикового грунта изогнуто-овальной формы разме-рами 180х40 см, вероятно следы обвала борта кли-на. В основании криогенного клина под пикетамиФ и П зафиксирована материковая галька. Егоплечико выявлено под пикетом М, оно крутое, по-чти отвесное, с закругленным краем.
Р а з р е з п о л и н и и Д ’ - Д ’ (раскоп 3, пи-кеты 0-10, вид с севера). Дневная поверхность от-носительно ровная, имеет уклон вниз по склону тер-расы, перепад высоты – 138 см на 10 м (рис. 8).
1. Дерновый слой представлен черным или тем-но-серым гумусированным суглинком. Он просле-жен по всей длине разреза и имеет мощность от 3до 10 см. В кв. 2 отмечена небольшая биотурбация,вызванная корнями деревьев.
2. Серый пылеватый суглинок прослежен повсей длине разреза в виде равномерного пласта тол-щиной от 8 до 19 см, линии контактов с верхним инижним слоями четкие и плавные.
3. Легкие светлые суглинки коричневых, жел-товатых, красноватых оттенков, с галькой и гра-вием. Залегают в виде слабонаклонного пласта счеткими неровными границами. Наименьшая еготолщина – между пикетами 0-3 – 12 см (здесь онзалегает на материке); наибольшая – между пике-тами 3-7 – до 45 см. В основании он перекрываетзаполнение двух мерзлотных клиньев: в кв. 4-8 и9-10. В слое выделяются те же два горизонта с плав-ным переходом от одного к другому. Горизонт 3А –светло-коричневый пылеватый суглинок – имеетмощность от 10 до 30 см, горизонт 3Б – от 4 до 30см (наибольшую – в кв. 5). Под пикетами 0-3 гори-зонт 3Б представлен темно-желтым, красноватымсуглинком с галькой. Над заполнением криоген-ного клина в кв. 4-7 в основании горизонта 3Б за-легает прослойка серого однородного мелкозерни-стого песка 3В”, смешанного с бурым плотным суг-линком. Прослойка имеет вид «наплыва» грунтас верхних уровней поверхности.
4. Материк в разрезе представлен галькой с тем-но-желтым суглинком.
5. Мерзлотные клинья выявлены под пикета-ми 4-7 и 9-10. Первый разрезан бровкой по диаго-нали. В пределы разреза вошел его участок шири-ной в устье 4,3 м. Выявлены крутые плечики кли-на. Кровля заполнения неровная, линия контактас верхними отложениями довольно четкая. Клинвскрыт на глубину до 60 см от плечиков. Другой
Рис. 7. Гончарка-1. Раскоп 2. Разрез по линии 5-5, пикеты Ф-Р. Вид с запада
20
Методика полевых работ
Методика полевых работ была единой для всехчетырех раскопов. Работы начинались с нивели-ровки дневной поверхности. Далее осуществля-лось снятие отложений по условным пластам, но сучетом естественных напластований памятника.Принятая толщина условного пласта 10 см. Одна-ко с учетом каждой конкретной литологическойситуации данный показатель мог варьировать от
ОПИСАНИЕ ХОДА РАБОТ,
ВЫЯВЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И АРТЕФАКТОВ
мерзлотный клин разрезан бровкой поперек. Егоширина в устье 1,2 м, плечики крутые, стенки по-чти отвесные, кровля – слабовыпуклая. Заполне-ние вскрыто на глубину до 40 см, в нем почти небыло находок. Заполнение обоих клиньев пред-ставлено бурым мешаным очень плотным суглин-ком (5А). Только в кровле наблюдается примесьсерой супесчаной фракции.
Р а з р е з п о л и н и и 1 0 - 1 0 (раскоп 3, пи-кеты К’-0, вид с востока). Из данного разреза былиотобраны образцы на палинологический анализ.Место отбора – в 5-20 см правее пикета Ж’. Днев-ная поверхность относительно ровная, имеет сла-бый уклон к левой части разреза, падение состав-ляет около 20 см на 10 м (рис. 8).
1. Дерн представлен черным или темно-серымгумусированным суглинком толщиной от 6 до 12см, прослежен по всему разрезу. Линия контактанечеткая. В кв. Б’ и И’ отмечены нарушения слоя,вызванные корнями деревьев (1А).
2. Серый пылеватый суглинок толщиной от 7до 20 см прослежен в виде неравномерного гори-зонтального пласта по всей длине разреза. Линияконтакта со слоем 3 нечеткая.
3. Легкие светлые суглинки коричневых, жел-товатых, красноватых оттенков. Слой выявлен повсей длине разреза в виде неравномерного горизон-тального пласта мощностью от 25 до 53 см, наи-большая его толщина наблюдается в левой частиразреза. Залегает на большей части разреза на ма-терике, в кв. Е’ и К’ он перекрывает заполнениекриогенных клиньев, отделенное от него прослой-кой серого песка 3В’, толщина которой от 6 до 10см. Выделяются два горизонта с плавной грани-цей: верхний – светло-коричневый пылеватый суг-линок толщиной от 8 до 17 см (3А), нижний – плот-ный темно-желтый красноватый суглинок толщи-ной от 17 до 36 см (3Б).
4. Материк прослежен в виде гальки с песком,гравием и темно-желтым суглинком.
5. Мерзлотные клинья выявлены на двух участ-ках разреза. Под пикетом Ж’ прослежен попереч-ный разрез одного из них, он имел асимметрично-клиновидную форму, ширина клина в устье до 55см, плечики четкие, стенки – отвесные. Заполне-
ние – бурый, плотный, мешаный суглинок 5А – вкровле перекрыто наплывами серого песка 3В’.Между пикетами З’- К’ в разрез вошел край ещеодной криогенной жилы, выявленной в раскопах1-3 и уходящей в стенку 10-10. В разрезе просле-живаются плечики этого клина (правое – с подбо-ем) и чашевидное неровное дно. Заполнение пред-ставлено бурым плотным мешаным суглинком 5А.Кровля заполнения выпуклая, перекрыта про-слойкой 3В’ толщиной до 8 см. Глубина клина открая плечика не превышает 27 см. Вероятно, та-кая небольшая глубина связана со значительны-ми обрушениями стенок клина на этом участке.
Р а з р е з п о л и н и и 1 5 - 1 5 (раскоп 4, пи-кеты 0’- К, вид с востока). Разрез был снят до того,как к западной стенке раскопа были сделаны не-большие прирезки общей площадью 5,5 кв. м.Дневная поверхность относительно горизонталь-ная, со слабым уклоном левой части разреза. Па-дение склона 15 см на 10 м (рис. 8).
1. Дерновый слой в виде черного или темно-се-рого гумусированного суглинка прослежен по всейдлине разреза в виде относительно равномерногопласта толщиной от 6 до 12 см.
2. Серый пылеватый суглинок толщиной 8-17 смпрослежен по всему разрезу в виде относительноравномерного пласта, линии контактов со смежны-ми слоями в основном четкие, только в левой частиразреза отмечалась нечеткая граница со слоем 3.
3. Легкие светлые суглинки коричневых, жел-товатых, красноватых оттенков общей мощностьюот 20 до 47 см, наибольшая отмечалась в правойчасти разреза. Залегают на неровной материковойповерхности. Верхний горизонт светло-коричнево-го пылеватого суглинка (3А) имеет толщину от 10до 16 см, к низу он переходит в плотный темно-желтый, красноватый суглинок (3Б), толщина ко-торого варьирует от 8 см под пикетом Г до 33 смпод пикетом И. Под пикетом Б имеется чашевид-ное углубление, заполненное суглинком с галькой3Г (край ямы погребения). Между пикетами Е-Кна материке залегают четыре черные сажистыелинзы толщиной до 3 см и длиной от 20 до 35 см.
4. Материк прослежен в виде гальки с песком,гравием и темно-желтым суглинком
15-20 до 5-7 см. После выборки каждого пластапроводились зачистка раскопа и нивелировка егоповерхности. Все выявленные находки, комплек-сы и объекты фиксировались на планах, соответ-ствующих каждому слою. Наибольшее вниманиеуделялось пластам, которыми разбирался основ-ной культуросодержащий горизонт памятника, скоторым были связаны основные материалы оси-повской культуры (рис. 9).
22
явлено. Находок сделано немного, всего 157 отще-пов (144 – из серого ороговикованного алевроли-та, 13 – из цветных кремней, туфов и прочих по-род) и 163 фрагмента керамики (рис. 11).
Отщепы, в том числе и с ретушью (рис. 39, 5),были равномерно рассеяны по всему раскопу, час-то имели признаки выветривания в виде серой по-ристой поверхности и происходили из нижележа-щего осиповского горизонта. Обломки керамичес-кой посуды были также рассеяны по всему раско-пу, но при этом повышенная их концентрация от-мечалась в южной его части. В основном это мел-кие фрагменты стенок плохой сохранности. Сре-ди них по технологическим характеристикам вы-деляется один обломок от сосуда польцевскойкультуры, а остальная керамика однородна и пред-ставляет осиповский комплекс. Она отличаетсятолстым и рыхлым черепком, серовато-коричне-выми оттенками, а также наличием на поверхнос-тях следов технической обработки в виде узких па-раллельных желобков. Среди осиповской керами-ки выделяется несколько обломков стенок с сохра-нившимся узором.
В кв. Б/6 найдено два маленьких фрагмента,внутренняя поверхность которых была покрытапараллельными желобками, а на внешней сохра-нились обрывки узора в виде рядов гребенчатыхоттисков, мотивы его не определяются (рис. 97, 2).
В кв. В/3 найден небольшой обломок с парал-лельными желобками на внутренней поверхностии обрывками узора в виде двух слегка изогнутыхи направленных под углом друг к другу линий гре-бенчатых оттисков, одна из которых видна оченьхорошо, другая едва заметна.
В кв. Б/8 найден крупный обломок сосуда, наего внутренней стороне отчетливо просматривают-ся параллельные желобки, с внешней – обрывкиузора в виде вертикального зигзага (рис. 97, 1).
В кв. Ж/1 найдено два склеивающихся фраг-мента, на их внешней стороне сохранились три па-раллельные друг другу горизонтальные прочерчен-ные бороздки, они очень поверхностные и не впол-не понятно, являются ли они остатками узора.
Пластами 2 и 3 осуществлялось снятие основ-ного культуросодержащего горизонта стоянки.Пласт 2 имел мощность 10-15 см, пласт 3 – 3-7 см.Большая часть находок была сделана на уровне 2-го пласта, в 3-м пласте их оказалось немного, про-слойки ЗВ’ и ЗВ были стерильными. Bceгo в обоихпластах было обнаружено 37 нуклеусов и их заго-товок, 70 орудий, 32 отщепа со следами вторич-ной обработки, в том числе заготовки орудий, атакже 882 отщепа (743 из серого ороговикованно-го алевролита и 139 из других пород) и около 900фрагментов керамики. Все находки относятся косиповскому комплексу. Высокая концентрацияартефактов и их скопления отмечались в западнойчасти раскопа, здесь же зафиксированы бытовыеи производственные объекты (рис. 12).
В северо-западном секторе раскопа, в самомуглу, в пределах квадратов И-К/9-10 было выяв-лено скопление артефактов, обозначенное как«площадка мастера» (скопление № 3 в полевойдокументации) (рис. 12). Оно занимало углублениенеправильной формы, частично уходящее в стен-ку раскопа. Плечики углубления пологие высотойдо 25 см, общая его площадь составляла порядка3,5 кв.м. С юга к нему примыкала округлая в пла-не яма II, также вошедшая в раскоп не полностью,диаметр ее около 80 см, глубина около 20 см. Уг-лубление и яма II были заполненены темно-жел-тым плотным суглинком, составлявшим самуюнижнюю часть слоя ЗБ.
Всего в пределах «площадки мастера» былонайдено более 80 мелких и средних отщепов из се-рого ороговикованного алевролита и около 100микроотщепов, чешуек, отщепов, а также нукле-усы из цветных кремнистых пород и окремнелыхтуфов (красных, желтых, желтовато-коричне-вых). Среди находок здесь нужно отметить четыремикропластины из светло-коричневой кремнистойпороды (рис. 35, 5-7), три нуклеуса для снятия мик-ропластин, все на гальках желтовато-коричнево-го туфа, шесть галечных нуклеусов со следами суб-параллельного скалывания отщепов с плоскогофронта и их преформ (рис. 36, 1, 3, 5), два листо-видных и один асимметрично-листовидный бифас(рис. 31, 4), скребок (рис. 33, 5), несколько отще-пов с ретушью (рис. 39, 2), три оббитые заготовкиорудий (рис. 41, 2), а также три разрозненных об-ломка керамики осиповского облика с толстымистенками и рыхлым слабоспеченным черепком.
В том же северо-западном секторе раскопа былонайдено еще два скопления находок. Одно из нихрасполагалось в кв. Е/9, здесь обнаружено 230микроотщепов из серого ороговикованного алев-ролита, рассредоточенных по площади чуть более1 кв. м. Среди них были также найдены скол с нук-леуса для снятия микропластин, преформа длягалечного нуклеуса, два листовидных бифаса, кон-цевой скребок на крупном сколе (рис. 34, 1). У краяскопления находился крупный плоский камень.Второе скопление находилось рядом в кв. Ж-9. Наплощади 30x30 см здесь было собрано более 20 от-щепов и микроотщепов из серого ороговикованно-го алевролита Не исключено, что эти два скопле-ния в древности были связаны с «площадкой мас-тера», которая располагалась в 2-3 м к северо-за-паду от них (рис. 12).
Помимо скоплений в северо-западном секторераскопа было найдено много разрозненных нахо-док, они залегали широкой полосой над заполне-нием криогенного клина. В ее пределах помимоотщепов и сколов были также сделаны следующиеиндивидуальные находки:
в кв. К/8 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельного скалывания;
21
Дерн (1) всегда выбирался одним пластом.Слой серого пылеватого суглинка (2) снимался
также одним пластом. В северной части раскопа 2из-за большой мощности его пришлось разбиратьдвумя условными пластами по 10-15 см каждый,их материалы затем были сведены в один план.
Слой легких светлых суглинков коричневатых,желтоватых и красноватых оттенков (3) выбирал-ся тремя условными пластами. Пласт 1 включаллитологический горизонт ЗА и кровлю горизонтаЗБ, толщина его варьировала в зависимости от об-щей мощности наслоений от 10 до 20 см. Все вы-явленные при снятии 1-го пласта находки, комп-лексы и объекты фиксировались на отдельном пла-не. Пласт 2 включал основание горизонта ЗБ, тол-щина его варьировала от 10 до 15 см. После выбор-ки 2-го пласта остатки горизонта 3Б оставалисьтолько в понижениях рельефа и над кровлей мо-розобойных трещин. Они выбирались пластом 3,мощность которого варьировала от 3 до 10 см. Пла-стами 2 и 3 снимался основной культуросодержа-щий горизонт. Их материалы для удобства воспри-ятия в камеральных условиях сводились в одинплан. На этих же планах нашли отражение и не-многочисленные находки из прослоек 3В и 3В’,снятия которых осуществлялось уже после выбор-ки горизонта 3Б, мощность их была очень неболь-шой, от 3 до 8 см.
Заполнение мерзлотных клиньев (5) выбира-лось условными пластами 4-8 мощностью по 10 смкаждый. Находки встречались на глубину до 30-40 см. В 1995 г. материалы этих пластов из-за ихпереотложенности и немногочисленности находокбыли сведены в один план, в 1996 г. – в два. На от-дельных участках проводился контрольный выборзаполнения клиньев на глубину до 60-80 см.
Раскоп 1
Дневная поверхность раскопа была относитель-но ровной, имела уклон к югу-юго-западу, перепадот пикета К/0 к пикету 0’/10 составлял 133 см. На
Рис. 9. Гончарка-1. Раскоп 2.Разборка горизонта 3Б
размеченной площади росло несколько деревьев,которые были убраны после снятия дерна (1). Пос-ледний никаких особенностей в раскопе не имел, внижней его части, на контакте с нижележащим сло-ем серого пылеватого суглинка (2), были собраныпервые немногочисленные артефакты. При выбор-ке слоя 2 никаких археологических объектов вы-явлено не было. Артефакты залегали в разрознен-ном состоянии, главным образом в северной частираскопа, в толще слоя они были распределены рав-номерно (рис. 10). Всего обнаружено 9 предметовиз камня и 176 фрагментов керамики.
Изделия из камня представлены четырьмя от-щепами из серого ороговикованного алевролита ипятью индивидуальными находками, относящи-мися к позднему неолиту и палеометаллу:
в кв. З/8 – наконечник из прозрачного халце-дона на пластинчатом отщепе с краевой ретушью(рис. 43, 5);
в кв. И/10 – наконечник из красной кремнис-той породы с бифасиальной ретушью (рис. 43, 6);
в кв. Д/6 – обломок средней части шлифован-ного наконечника стрелы из серого ороговикован-ного алевролита (рис. 42, 2);
в кв. К/10 – обломок основания наконечника;в кв. Ж/8 – подтрапециевидное в плане рубя-
щее шлифованное орудие из голубоватого алевро-лита (рис. 43, 7).
Керамика представлена разрозненными облом-ками сосудов красновато-коричневого цвета, сре-ди них фрагменты стенок тулова (167), горловин(4) и донышек (5), и отличается хорошим каче-ством изготовления. Она прочная, имеет плотное,хорошо промешаное тесто и равномерно распреде-ленную минеральную примесь. Толщина стенокварьирует и может составлять 0,5–0,6 см или 0,8–1,1 см в зависимости от размера сосудов. Частьфрагментов имеет орнамент: налепные широкиевалики в основании горловин и вдоль устья в соче-тании ложнотекстильными оттисками на стенках,либо горизонтально-поясковые композиции из
прочерченных линий и гребенчатыхоттисков. Конечно, комплекс керами-ки малочисленный и фрагментарный,но он может быть уверенно сопостав-лен с польцевской археологическойкультурой эпохи палеометалла.
После выборки слоя 2 осуществля-лось снятие легких светлых суглин-ков коричневатых и желтоватых от-тенков (3). При снятии 1-го пласта,мощность которого варьировала наразных участках раскопа от 10 до 25см, никаких археологических объек-тов или скоплений артефактов не вы-
23
в кв. К/7 – обломок крупного бифаса и оббитаязаготовка орудия;
в кв. И/8 – преформа нуклеуса для снятия мик-ропластин с подработкой контрфронта и негатива-ми пластинчатых снятий по фронту, преформа длягалечного нуклеуса со следами субпараллельногоскалывания, крупный бифас и листовидный бифассредних размеров (рис. 38, 6), два концевых скреб-ка (рис. 33, 6) и рубящее орудие на удлиненно-тре-угольной гальке с зауженным обушком и полу-круглым двусторонне пришлифованным лезвием(рис. 42, 1);
в кв. И/7 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельного скалывания и двустороннеобработан-ное тесловидно-скребловидное орудие миндале-видной формы (рис. 30, 2);
в кв. И/6 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельного скалывания (рис. 36, 2); два бифаса(рис. 38, 5) и ножевидное изделие;
в кв. З/9 – листовидный бифас средних разме-ров (рис. 31, 2) и отщеп с ретушью;
в кв. З/8 – отщеп с ретушью, мелкий бифас (их-тиоморфное изображение - ?) (рис. 43, 3) и микро-пластина (рис. 35, 8);
в кв. З/7 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельного скалывания, преформа для такого женуклеуса, асимметрично-листовидный бифас сред-них размеров, возможно орнитоморфное изобра-жение (рис. 43, 1), нож полулунной формы с би-фасиальной обработкой (рис. 38, 4) и отщеп с ре-тушью;
в кв. З/6 – отщеп с ретушью;в кв. Ж/10 – обломок ножа овальной формы с
бифасиальной обработкой;в кв. Ж/9 – галечный нуклеус со следами суб-
параллельного скалывания (рис. 35, 4) и галька-манупорт, вероятно, принесенная на стоянку в ка-честве заготовки для такого же нуклеуса;
в кв. Ж/7 – обломок бифаса крупного размераи мелкий листовидный бифас – наконечник стре-лы (рис. 32, 2);
в кв. Е/10 – отщеп с ретушью;в кв. Е/7 – обломок листовидного бифаса и кон-
цевой скребок на плоской гальке с краевой подра-боткой (рис. 33, 4);
в кв. Е/6 – листовидный бифас (рис. 39, 3); иихтиоморфное изображение на пластинчатой за-готовке из белого опала (рис. 43, 4);
в кв. Д/9 – оббитая заготовка орудия (рис. 41, 1)и иволистная провертка на отщепе с бифасиальнойобработкой (рис. 32, 10 );
в кв. Д/8 – провертка плечикового типа с выде-ленным острием на отщепе (рис. 32, 7) и листовид-ный бифас средних размеров (рис. 31, 5);
в кв. Д/7 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельных снятий (рис. 36, 4) и обломок листо-видного бифаса средних размеров;
в кв. Д/6 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельных снятий, и галька-заготовка для ана-
логичного нуклеуса, два обломка скребков неяс-ной формы, скобель на аморфном удлиненном ско-ле с двухсторонней оббивкой и отщеп с ретушью.
Фрагменты керамики в северо-западном секто-ре найдены в основном в разрозненном состоянии,но при этом выделяется несколько пятен с их по-вышенной концентрацией. Одно из них распола-галось на границе пересекающихся линий 7 и З,здесь собрано чуть более 60 очень мелких окатан-ных обломков очень плохой сохранности, разме-ры которых редко превышали 1-1,5 см, на отдель-ных фрагментах прослеживаются обрывки харак-терных для осиповской керамики узких парал-лельных желобков. Примерно в полуметре на се-веро-восток от этого скопления в кв. И/7 находи-лось еще одно небольшое пятно находок керами-ки, состоящее из 12 черепков аналогичных по ка-честву и степени сохранности. Несколько фрагмен-тов керамики найдены вместе в кв. З/8, они так-же залегали неподалеку от только что описанныхскоплений, но отличались от них лучшей сохран-ностью (рис. 99, 2). Возможно, все эти находки вдревности были связаны друг с другом.
В южной части раскопа количество артефактовнесколько снижается, главным образом за счетмассового материала – отщепов и сколов. В то жевремя именно здесь выявлены наиболее интерес-ные и сохранные комплексы.
Один из них зафиксирован в кв. В/9 (скопле-ние № 2 в полевой документации) прямо над кров-лей криогенного клина, перекрытой тонкой сте-рильной прослойкой серого плотного суглинка(ЗВ). В комплекс входили большое очажное пятно(№ 1) с двумя углистыми скоплениями, развал со-суда (№ 1), крупный камень и две ямки типа стол-бовых (№ 1-2) (рис. 12; 15). Одно из углистых скоп-лений находилось на границе кв. Б-В/9. Оно ухо-дило вглубь на 7-8 см и имело в профиле линзовид-ную форму. Мелкие угольки были рассеяны здесьна площади 40x40 см. У края этого скопления вкв. Б/9 найдено крупное пластинчатое снятие с ре-тушью, вероятно полифункциональное орудие(рис. 39, 4). Остатки второго скопления углей за-фиксированы в центре кв. В/9. Среди углей и сра-зу над ними обнаружены компактно залегающиеобломки сосуда (рис. 78, 1). Рядом находилсякрупный камень. Ямки были выявлены на самомкраю криогенного клина около очажного пятна,они были заполнены серовато-коричневым суглин-ком и впущены в прослойку 3В. В яме № 1 в кв. Г/9 найдено два отщепа, а у ямы № 2 в кв. В/10 най-ден концевой скребок на плоской гальке (рис. 33,7). Из очажного пятна № 1 получены две радиоуг-леродные даты (см. главу 2).
Возможно, комплекс в кв. В/9 представляетсобой остатки небольшого наземного жилища илиукрытия, для которого было использовано есте-ственное углубление, образовавшееся над кровлейкриогенного клина.
24
В двух метрах на восток от этого комплекса, вкв. А-Б/5-6 у южной стенки раскопа зафиксиро-вано еще одно большое скопление керамики (скоп-ление № 1 в полевой документации) и других на-ходок (рис. 12). Обломки керамических сосудовбыди довольно равномерно рассеяны в пределахэтого участка, но наибольшая их концентрациянаблюдалась в кв. А/6, рядом с крупным камнеми несколькими камнями меньших размеров, а так-же у другого края в кв. А/5. Совсем рядом с этимскоплением в кв. Б/5 найдено в виде компактно за-легающей группы еще около 20 обломков керами-ки, по качеству полностью повторяющих черепкииз большого скопления и, по-видимому, являю-щихся частью последнего. Всего в кв. А-Б/5-6 былонайдено более 200 черепков, по-видимому, от трехсосудов (рис. 80-83).
В пределах этого скопления керамики и непос-редственно рядом с ним в рассредоточенном состо-янии помимо отщепов были также найдены:
в кв. А/7 – крупный листовидный бифас из зе-леноватого алевролита (рис. 31, 1) и оббитая заго-товка для орудия (рис. 38, 1);
в кв. А/6 – галечный нуклеус со следами раска-лывания (рис. 35, 1) и отщеп с ретушью;
в кв. А/5 – обломок крупного бифаса, мелкийлистовидный бифас с усеченным основанием, тес-ловидно-скребловидное орудие овальной формы сдвухсторонней обработкой (рис. 30, 1) и отщеп сретушью;
в кв. А/4 – концевой скребок на сколе со сплош-ной унифасиальной обработкой и отщеп с рету-шью;
в кв. Б/6 – два галечных нуклеуса плоскостно-го параллельного принципа скалывания, мелкийлистовидный бифас и скребок на плоской гальке скраевой ретушью (рис. 34, 2);
в кв. Б/5 – крупный бифас эллипсовидной фор-мы с прямым основанием (рис. 37, 2);
в кв. Б/4 – мелкий листовидный бифас с выде-ленным у основания уступом (рис. 32, 3), конце-вой скребок на сколе со сплошной одностороннейобработкой, пластинчатая заготовка с краевой ре-тушью (рис. 39, 1) и микропластина.
На перекрестье линий Г и 5 выявлено чашевид-ное округлое углубление диаметром около 50 см,заполненное темно-желтым плотным суглинком3Б и впущенное в материк на 20 см. В яме найденгалечный нуклеус, рядом с ней в кв. Г/6 – лыже-видный скол (рис. 36, 6), концевой скребок сосплошной односторонней обработкой (рис. 33, 1)и две гальки со сколами, в кв. Г/5 – тесловидно-скребловидное орудие с односторонней обработкой(рис. 30, 3).
В юго-восточном секторе раскопа был выявленнебольшой материковый уступ, у краев которогозафиксировано два небольших скопления отще-пов, но в целом находок здесь было очень мало.
В кв. Г/1 практически на материке около 20
отщепов были рассеяны на площади 40 x 40 см,среди них были найдены листовидный бифас свыделенным у основания уступом и нож на отще-пе. В этом же квадрате в разрозненном состояниисобрано 7 фрагментов керамики с гребенчатымзигзагообразным узором и узкими параллельны-ми желобками на внутренней стенке, все они, по-видимому, от одного сосуда (рис. 97, 4, 12).
В кв. Б/3 находилось второе скопление, состо-ящее всего из нескольких отщепов. В этом же квад-рате были найдены галечный нуклеус со следамисубпараллельного скалывания, провертка плечи-кового типа с выделенным острием (рис. 3, 9) ипластина (рис. 35, 9).
Остальные находки в южной части раскопа за-легали вне каких-либо комплексов или скопленийи были рассеяны довольно равномерно. Помимоотщепов и сколов здесь обнаружены:
в кв. А/8 – нож асимметрично-листовиднойформы с бифасиальной обработкой (рис. 38, 3) искребок (рис. 33, 3);
в кв. Б/1 – галечный нуклеус со следами субпа-раллельного скалывания;
в кв. Б/7 – отщеп с ретушью;в кв. В/2 – обломок крупного бифаса;в кв. В/3 – мелкий листовидный бифас и про-
вертка листовидной формы с закругленным осно-ванием на длинном трехгранном сколе (рис. 3, 8);
в кв. В/4 – обломок крупного бифаса, концевойскребок со сплошной односторонней обработкой(рис. 4, 2) и наконечники стрел (рис. 32, 1; 38, 2);
в кв. В/6 – галька со сколами и мелкий череш-ковый бифас с выделенным уступом, возможноихтиоморфное изображение (рис. 32, 6);
в кв. В/7 – преформа для галечного нуклеуса;в кв. В/8 – небольшая галька-манупорт и мел-
кий листовидный бифас с выделенным выступом –ихтиоморфное изображение (рис. 43, 2);
в кв. Г/1 – отщеп с ретушью и наконечник стре-лы (рис. 32, 4);
в кв. Г/2 – отщеп с ретушью;в кв. Г/4 – листовидный бифас средних разме-
ров и тесловидно-скребловидное орудие на круп-ном сколе с односторонней обработкой (рис. 34, 3);
в кв. Г/7 – галька-манупорт – заготовка для га-лечного нуклеуса;
в кв. Г/9 – ножевидная микропластина с огра-ненной спинкой;
в кв. Е/1 – лодковидная заготовка (рис. 40, 2).Менее всего насыщен находкам был северо-во-
сточный сектор раскопа. В кв. Ж/5 здесь быловыявлено единственное скопление керамики, со-стоящее более чем из 200 фрагментов (развал со-суда № 2 в полевой документации). Они залегаликомпактной группой в слое 3Б в 15 см выше мате-рика. В основном это были очень мелкие обломки.На самом краю скопления залегал небольшой ка-мень, еще один, более крупный, найден примернов полуметре от него. Вся керамика из скопления
25
однотипна, рыхлая, хрупкая. Петрографическийанализ показал, что здесь залегали обломки двухсосудов, почти не отличающихся по внешним при-знакам (рис. 12; 16).
В самом скоплении керамики, а также вокругнего никаких других находок не было. Исключе-ние составляет скребловидное орудие удлиненнойполулунной формы, обработанное приемами бифа-сиальной оббивки и покрытое патиной, оно былонайдено у северного края скопления (рис. 37, 1).Данное скопление, возможно, является перифе-рийной частью площадки с повышенной концент-рацией находок, которая располагалась в северо-западном углу раскопа над заполнением криоген-ного клина. Следует также отметить, что пример-но в метре на юго-запад от него, в кв. Е/6, обнару-жена уже упоминавшаяся выше находка ихтио-морфного изображения, выполненного на плас-тинчатой заготовке (рис. 43, 4).
В кв. И/1-2 обнаружено небольшое скоплениекаменных артефактов, состоящее из 11 отщепов изороговикованного алевролита и двух бифасиаль-но обработанных наконечников стрел, один из ко-торых имел листовидную форму, другой отличал-ся присутствием приостренного черешка, выделен-ного уступами (рис. 31, 3; 32, 5). Рядом в кв. И/2был также обнаружен галечный нуклеус со следа-ми субпараллельных снятий.
Остальные находки в северо-восточном секто-ре найдены в разрозненном состоянии:
в кв. К/2 – наконечник стрелы на небольшомлистовидном бифасе;
в кв. К/3 – отщеп с ретушью;в кв. И/4 – отщеп с ретушью (рис. 32, 11);в кв. И/5 – галечный нуклеус со следами субпа-
раллельных снятий и отщеп с ретушью;в кв. З/3 – отщеп с ретушью;в кв. Ж/1 – отщеп с ретушью;в кв. Е/4 – обломок бифаса средних размеров;в кв. Д/2 – галечный нуклеус со следами субпа-
раллельных снятий (рис. 35, 3).После снятия 3-го пласта и зачистки материко-
вой поверхности в раскопе отчетливо обозначилсямерзлотный клин, он был ориентирован в долгот-ном направлении, длина его участка 10 м, шири-на в устье от 1,5 до 3 м, в месте крутого обрыва пле-чиков от 0,9 до 2 м. Для его изучения в 1995 г. былисделаны две поперечные траншеи шириной 1 м.
Первая траншея проходила по линиям квадра-тов Г и Д. Заполнение криогенного клина здесьбыло выбрано почти полностью. Вторая траншеяшла по линии К, однако здесь выбрать грунт уда-лось только на 4/5 ее общей глубины из-за подбоя,затруднявшего работы в основании заполненияклина. Кровля клина выпуклая, плавно опускает-ся к краям по всей его длине. Литологически за-
Рис. 15. Гончарка-1. Раскоп 1. Скопление керамики в кв. В/9
26
полнение криогенного клина четко отделялось отосновного культурного горизонта 3Б тонкой про-слойкой светло-серого суглинка 3В.
В первой траншее было найдено три отщепа, не-сколько фрагментов керамики, которые не удалосьизвлечь из-за плохой сохранности. Но наиболееуникальными оказались остатки сосуда. На грани-це кв. Д/8-9 на гл.171 см от репера или в 15 см нижекровли криогенного клина найдена в развале ниж-няя часть сосуда. При расчистке было видно, чтососуд залегал кверху дном, дно было плоским,диаметром 12-15 см. Однако при извлечении изземли сохранить его не удалось, он рассыпался наочень мелкие осколки – всего 21 фр. Обломки со-суда очень хрупкие, сильно крошатся, толщинастенок 0,5-0,7 см, поверхности, по-видимому,практически полностью разрушены эрозией, цветчерепков серовато-бурый со стороны поверхнос-тей, внутри изломов некоторых из них заметнасерая полоса недожега.
Во второй траншее обнаружено два отщепа имелкий фрагмент керамики осиповского облика.Находки шли до глубины 30-40 см от кровли.
В 1996 г. исследование криогенного клина в рас-копе 1 было продолжено. На оставшейся его частибыло снято четыре условных пласта по 10 см каж-дый. Находки – только отщепы – встречались до
глубины 30 см от кровли заполнения, многие квад-раты пустовали полностью.
Всего в криогенном клине раскопа 1 были об-наружены 21 отщеп из серого ороговикованногоалевролита, 9 фрагментов осиповской керамикиочень плохой сохранности, которые удалось из-влечь, и остатки придонной части сосуда.
Раскоп 2
Дневная поверхность раскопа была относитель-но ровная, с уклоном вниз по склону террасы, пе-репад высоты составлял 140 м на 10 см (7-8°). В се-верной части раскопа вдоль края террасы прохо-дила лесная тропа. На размеченной площади рос-ло семь деревьев, которые были убраны после сня-тия дерна. Никаких археологических объектов,комплексов или скоплений находок в дерне зафик-сировано не было.
Слой серого пылеватого суглинка (2) снималсяв южной части раскопа в один прием, в северной вдва – условными пластами по 10-15 см. При рас-копках в этом слое не было выявлено каких-либобытовых и производственных объектов, к тому жев северной части раскопа вдоль края террасы онбыл потревожен распашкой и переотложен (рис.10). Надо отметить, что распашкой в разной сте-пени была разрушена и кровля слоя 3, отложениядвух слоев оказались здесь перемешаны. По этойпричине в слое 2 было найдено довольно много от-щепов, попавших в него из слоя 3. В основном, онизалегали в основании распаханного слоя.
Всего в слое 2 было найдено 235 отщепов из се-рого ороговикованного алевролита, 34 отщепа изцветных кремней, туфа и прочих пород и около1770 фрагментов керамики. Все отщепы по разме-рам и материалу сопоставимы с осиповской куль-турой. Керамика представляла польцевскую куль-туру эпохи палеометалла. Визуально она хорошоотличима, имеет красновато-коричневый цвет,прочная, с крупнозернистой минеральной приме-сью и характерным орнаментом из поясков прочер-ченных линий и/или гребенчатых оттисков, на-лепных валиков, пальцевых вдавлений (рис. 75).Подавляющее большинство находок керамики –1557 фр. – было сделано в северо-восточном секто-ре раскопа. В основном она залегала разрозненно,но обнаружено также два развала польцевских со-судов – в кв. П/1 и У/1.
Единственный фрагмент венчика с меандровид-ным узором на стенке может быть уверенно соот-несен с вознесеновской культурой позднего неоли-та, он найден в кв. Р/9 при снятии 2-го пласта слоясерого пылеватого суглинка.
После выборки слоя серого пылеватого суглин-ка осуществлялось снятие легких светлых суглин-ков коричневатых, желтоватых и красноватыхоттенков (3). Пласт 1 имел неодинаковую мощ-ность – от 12 до 25 см. Находок в нем сделано мало,они были рассеяны по всему раскопу и, вероятно,
Рис. 16. Гончарка-1. Раскоп 1.Скопление керамики в кв. Ж/5
27
залегали в частично переотложенном состоянии,т.к. кровля горизонта 3А была затронута распаш-кой (рис. 6).
Массовый материал 1-го пласта представлендвумя отщепами из серого ороговикованного алев-ролита и примерно 120 фрагментами керамики, изкоторых около 50 обломков связаны с польцевс-кой культурой (все они были найдены в северо-во-сточном секторе), и примерно 70 – с вознесеновс-кой культурой позднего неолита (рис. 11). С пос-ледней могут быть сопоставлены и немногочислен-ные индивидуальные находки, обнаруженные наэтом же уровне. Часть материалов позднего нео-лита залегала в скоплениях в пределах северо-за-падного сектора раскопа.
В кв. У/7 найден развал сосуда, отощенного тол-ченой раковиной. Сохранились обломки дна и не-орнаментированного тулова (16 фр.).
В кв. У/5 найден развал сосуда, отощенного тол-ченой раковиной. Сохранились обломки дна и не-орнаментированного тулова (18 фр.).
В кв. У/3-7 найдены обломки (20 фр.) верхнейчасти сосуда , отличавшегося ярким красно-бурымцветом и присутствием на стенках вертикальногозигзага, выполненного прокатом зубчатого коле-сика. Сосуд был также отощен примесью толченойраковины.
В кв. Р/9 найдены обломки (12 фр.) верхней ча-сти тонкостенного горшковидного сосудика, укра-шенного на тулове резным меандром. Здесь же об-наружен наконечник стрелы (рис. 45, 7).
Среди разрозненных материалов, сопостави-мых с поздним неолитом, следует отметить наход-ку в кв. Т/7 керамического стержня, вероятно,использовавшегося в качестве грузила для сетей,в составе теста, из которого он был изготовлен,присутствовала примесь толченой раковины. Кро-ме того, в кв. П/9 был найден венчик, утолщен-ный с внешней стороны характерным для возне-сеновской посуды налепным валиком-карнизом, ав кв. Ф/9 – обломок стенки от сосуда, отощенногодробленой раковиной.
Далее снимались пласты 2 и 3. После снятия 2-го пласта почти по всей площади обнажился мате-риковый галечник. С севера на юг раскоп пересе-кала ложбина шириной от 1,5 до 3 м, образовав-шаяся над кровлей криогенного клина. Вдоль еезападного края тянулась гравийно-щебнистая гря-да, появившаяся, очевидно, при выдавливании ма-терикового грунта в период формирования клина.Еще одна аналогичная ложбина пересекала юж-ную часть раскопа с востока на запад, ее ширинаот 0,7 до 1,5 м. В этих естественных пониженияхнад кровлей криогенных клиньев, а также в от-дельных углублениях на остальной площади рас-копа сохранялись остатки горизонта 3Б, которыебыли выбраны пластом 3 (рис. 12). При его снятиив восточной части раскопа у материка была выяв-лена тонкая прослойка серого песка 3В’ толщиной
всего 3-5 см, постепенно выклинивающаяся к за-паду. Кровля заполнения криогенных клиньевбыла перекрыта тонкой прослойкой серого суглин-ка 3В, практически не содержащей находок.
Всего при снятии 2-го и 3-го пластов было най-дено 1889 отщепов, из них 1634 из серого орогови-кованного алевролита, 255 из кремней различныхрасцветок, туфов и других пород, а также около110 индивидуальных находок, среди которых нук-леусы и их заготовки, орудия труда, отщепы и ско-лы со вторичной обработкой и другие изделия, от-носящиеся к осиповской культуре. Больше поло-вины всех этих находок сделано в скоплениях, ос-тальные были рассеяны в слое. Керамики найденомало, всего 121 обломок. Все они, за исключениемодного фрагмента с примесью толченой раковины(М/7) относятся к осиповскому комплексу. Кера-мика залегала в разрозненном виде – по несколь-ко фрагментов в квадрате, большая ее часть – научастке пересечения двух мерзлотных трещин.Сохранность керамики очень плохая, она разруше-на эрозией и очень мелко фрагментирована.
Наиболее высокая концентрация находок отме-чалась в юго-западном секторе раскопа. Здесь по-мимо большого числа разрозненных находок ору-дий труда, отщепов, сколов, обломков керамикибыли также выявлены наиболее интересные быто-вые и производственные объекты, а также скоп-ления артефактов.
В самом углу раскопа в кв. Л/9-10 обнаруженыостатки комплекса, почти целиком вошедшего впределы раскопа 1995 г. и получившего название«площадка мастера». На небольшой площади в175 х 75 см было рассеяно 230 мелких отщепов исколов – продуктов расщепления галек кремнис-тых пород и туфов светло-коричневого, коричне-вого, серого и красного цвета. Здесь же среди скоп-ления отщепов, а также непосредственно рядом сним найдены пять микропластин (рис. 44, 7-9) , га-лечный нуклеус (рис. 44, 2) и галька со сколами,нож на бифасе асимметрично-листовидной формы,обломок небольшого бифаса иволистной формы,вероятно наконечника стрелы, скребок с бифаси-альной обработкой и прямым лезвием, а такженож или скребок на отщепе с краевой ретушью.Вместе с этими находками в кв. Л/9 было обнару-жено скопление небольших камней.
«Площадка мастера» располагалась в непосред-ственной близости от края криогенного клина,вдоль плечика которого в кв. Л-М/7-8 залегала ещеодна группа достаточно крупных камней, среди ко-торых отмечена повышенная концентрация нахо-док разнообразных изделий из камня:
в кв. Л/8 – небольшое точечное скопление из30 отщепов серого ороговикованного алевролита,мелкий галечный нуклеус со следами субпарал-лельных снятий (рис. 44, 5) и несколько отщепов;
в кв. Л/7 – микропластина, галечный нуклеус(рис. 44, 3), скребок на сколе подтреугольной фор-
28
Рис. 17. Гончарка-1. Раскоп 2.Крупные камни, заготовка тесловидно-скребловидногоорудия и обломки шлифованного тесла в кв. О-П/7-8
мы с унифасиальной обработкой спинки и подтес-кой брюшка (рис. 46, 3), нож на бифасе асиммет-рично-листовидной формы, ш л и ф о в а л ь н ы йкамень на плоской гальке, а также рубящее ору-дие миндалевидной формы с линзовидным сечени-ем и закругленным сработанным лезвием, обе по-верхности его были з а ш л и ф о в а н ы , а следысколов сохранились только по краям;
в кв. М/8 – галечный нуклеус, обломок листо-видного бифаса средних размеров, ш л и ф о в а н -н ы й наконечник стрелы с линзовидным попереч-ным сечением и прямым насадом (рис. 50, 2) , скре-бок на сколе подтреугольной формы с унифасиаль-ной обработкой спинки и подтеской брюшка, нож(?) на отщепе с краевой ретушью, крупный листо-видный бифас с п р и ш л и ф о в к о й на одной сто-роне (рис. 45, 2);
в кв. М/7 – обломок наконечника стрелы (?) нанебольшом бифасе трудноопределимой формы иобломок бифаса.
Несколько интересных находок было сделанона противоположном плечике криогенного клинав кв. Л-М/6:
в кв. Л/6 – обломок листовидного бифаса сред-них размеров, боковой скребок на пластинчатомотщепе с крутой дорсальной ретушью по одномукраю и отщеп с краевой ретушью;
в кв. М/6 – два листовидных бифаса среднегоразмера, один из них грубообработанный с обло-
манным основанием, другой в обломке, а также от-щеп с нерегулярной краевой ретушью (рис. 51, 1).
Чуть севернее в кв. О-П/7-8 также вдоль пле-чика морозобойного клина располагались ещеодно довольно плотно сконцентрированное скоп-ление камней средних размеров и далее несколь-ко камней более крупных размеров. С этим скоп-лением, возможно, было связано в древности ещеодно небольшое скопление камней средних разме-ров, локализованное чуть в стороне на границе кв.О/7-6 прямо над кровлей криогенного клина. Сре-ди этих камней и непосредственно рядом с нимибыли обнаружены в основном изделия из камня –отщепы и индивидуальные находки (рис. 17):
в кв. О/8 – микропластина (рис. 44, 11), бифа-сиально обработанный скребок минадалевиднойформы с приостренным насадом и следами исполь-зования по рабочему краю, нож на бифасе оваль-ной формы и обломок подтрапециевидного в сече-нии рубящего орудия удлиненно-треугольной фор-мы с острым обушком (обломок его найден в кв.П/7) и закругленным лезвием (рис. 50, 3).
в кв. О/7 – галечный нуклеус, обломок наконеч-ника стрелы (?) трудно определимой формы на не-большом бифасе, заготовка крупного тесловидно-скребловидного орудия на гальке с унифасиальнойобработкой спинки и хорошо оформленным полу-круглым лезвием (рис. 48) , а также нож на отще-пе с краевой ретушью;
в кв. О/6 – скребок на крупном подтреугольномсколе с унифасиальной обработкой спинки и под-теской брюшка;
в кв. П/8 – нож на бифасе овальной формы инаконечник стрелы (?) на небольшом бифасе уко-роченной листовидной формы;
в кв. П/7 – обломок листовидного бифаса сред-них размеров, обломок иволистного наконечникастрелы (?) на небольшом бифасе и обломок обуш-ка от рубящего орудия, найденного в кв. О/8.
Еще одна группа крупных камней была зафик-сирована чуть западнее от предыдущей – на пле-чике второго криогенного клина на границе кв. О-П/9-10. Здесь также было сделано несколько ин-тересных находок:
в кв. О/10 – скребок с бифасиальной обработ-кой и прямым лезвием;
в кв. О/9 – черешковый наконечник стрелы (?)на небольшом бифасе и отщеп с нерегулярной кра-евой ретушью;
в кв. П/10 – отщеп с нерегулярной краевой ре-тушью;
в кв. П/9 – сильно дефлированный крупныйлистовидный бифас с закругленной базой, ш л и -
29
ф о в а н н ы й наконечник стрелы с обломаннымчерешком, ромбовидным сечением и листовиднымпером, изготовленный из серой кремнистой поро-ды с пятнами бурого налета (рис. 45, 10).
В юго-западном секторе в кв. Р/9 располагалсяеще один очень интересный комплекс (рис. 12; 18).Он состоял из крупного валуна и двух скульптур-ных изображений, выполненных из камня.
Валун был уплощен и имел усеченно-овальнуюв плане форму. На его верхней плоскости имелисьдве слабо различимые мелкие лунки, возможносделанные преднамеренно (рис. 54, 1). Диаметр ихоколо 0,5 см. Подобные камни с лунками могутбыть интерпретированы как портативные петрог-лифы, изображающие парциальные антропомор-фные личины, широко представленные среди пет-роглифов Нижнего Амура, в частности в Сикачи-Аляне [Окладников 1971 а; Бродянский 2010].
Скульптурные изображения залегали чуть вос-точнее валуна в 2-4 см выше материка, были изго-товлены из серого базальта путем фигурного вы-тачивания. Форма их сложная, в виде неправиль-ной буквы «У», поперечное сечение округлое илиовальное (рис. 18, 52, 53). Предметы залегали insitu и были сложены в определенном порядке с об-щей ориентацией по линии «север-юг». Один изних имел длину 27 см и ширину 9 см, второй – со-ответственно 24 и 10 см
Несомненно, что камень с лунками и У-образ-ные предметы составляли единый комплекс, ко-торый можно уверенно интерпретировать каккультовый. Другие находки вблизи не обнаруже-ны. По условиям залегания мы относим его косиповской культуре. Дополнительным обстоя-тельством, подтверждающим обоснованность та-кой его атрибуции, служит тот факт, что полнос-тью аналогичный комплекс находок был обнару-жен и в раскопе 4 в условиях, исключающих ошиб-ки в понимании его культурной принадлежности.
Среди разрозненных находок юго-западногосектора отметим следующие:
в кв. М/10 – бифас;в кв. М/9 – обломок листовидного бифаса сред-
них размеров и наконечник стрелы (?) иволистнойформы на мелком бифасе;
в кв. Н/9 – пластинчатая заготовка с ретушью,два обломка листовидных бифасов крупного исреднего размера, а также обломанный черешко-вый наконечник стрелы (?) на мелком бифасе имикропластинка (рис. 44, 6);
в кв. Н/8 – наконечник стрелы (?) укороченнойлистовидной формы на мелком бифасе и отщеп скраевой нерегулярной ретушью (рис. 51, 2);
в кв. Н/7 – микропластина (рис. 44, 10) и ма-ленький обломок крупного листовидного бифаса;
в кв. Н/6 – нож на бифасе овальной формы;в кв. П/6 – рубящее орудие с односторонне вы-
пуклым сечением, острым обушком и полукруг-лым оббитым лезвием со следами п р и ш л и -
ф о в к и (рис. 46, 1) и наконечник стрелы (?) уко-роченной листовидной формы на мелком бифасе;
в кв. Р/10 – обломок листовидного бифаса сред-них размеров;
в кв. Р/9 – наконечник стрелы (?) укороченнойлистовидной формы на мелком бифасе (рис. 45, 6);
в кв. Р/8 – отщеп с нерегулярной краевой рету-шью
в кв. Р/7 – наконечник стрелы (?) листовиднойформы на мелком бифасе;
в кв. Р/6 – нож (?) на отщепе с краевой рету-шью, скребок на сколе овальной формы с краевойунифасиальной обработкой, обломок наконечни-ка стрелы (?) укороченной листовидной формы намелком бифасе, обломок листовидного бифасасредних размеров и пластинчатая заготовка;
В пределах юго-западного сектора была сосре-доточена также и большая часть найденной в рас-копе керамики. Помимо отдельных рассеянныхфрагментов здесь были зафиксированы и участкис повышенной их концентрацией: в кв. Л/7 – 7 фр.,Л/6 – 8 фр., М/7 – 15 фр., Н/6 – 17 фр., Н/8 – 10фр., Р/6 – 11 фр. Это были слабообожженные че-репки с толщиной стенок 0,8-1 см, нередко с не-смываемым землистым налетом на поверхностяхкоричневого или красновато-коричневого цвета,серыми или темно-серыми изломами, в качестве
Рис. 18. Гончарка-1. Раскоп 2.Ритуально-культовый комплекс в кв. Р/9
30
примеси зафиксирован шамот, редко крупная исредняя дресва, а также измельченная трава. Сре-ди них вызывают интерес следующие обломки:
в кв. Н/8 – венчик с пояском из четырах налеп-ных валиков вдоль устья, валики были рассеченыедва заметными вдавлениями, а сам черепок от-личался характерным землистым налетом на по-верхностях (рис. 94);
в кв. Н/9 – маленький обломок венчика с плос-ким обрезом, украшенным вдавлением овальнойформы, возможно пальцем, и сквозным отверсти-ем чуть ниже кромки.
Юго-восточный сектор был менее всего насы-щен находками, но и здесь были обнаружены ин-тересные скопления находок (рис. 12).
Одно из них располагалось в кв. М-О/3-4, здесьнайдено более 80 отщепов из серого ороговикован-ного алевролита (в полевой документации скопле-ние № 2). Участок их наибольшей концентрации –в кв. М/4 – был окружен камнями средних и круп-ных размеров. Скопление это было локализованопрямо над кровлей мерзлотного клина, пересекав-шего раскоп с запада на восток.
Цепочка крупных камней тянулась такжевдоль южного плечика этого же мезлотного клинаот кв. М/4 вплоть до границы кв. Л-М/1, где рас-полагался еще один интересный комплекс, вклю-чавший мелкое точечное скопление 12 отщепов изсерого ороговикованного алевролита и очажноепятно округлой формы (в полевой документации№ 4). Диаметр последнего около 20 см, мощностьлинзовидного заполнения, состоявшего из светло-серого пылеватого суглинка, не превышала 4-5 см.
Еще одно небольшое скопление из 11 отщеповсерого ороговикованного алевролита было зафик-сировано в кв. О/3, т.е. чуть севернее большогоскопления отщепов в кв. М-О/3-4.
Помимо перечисленных скоплений в пределахюго-восточного сектора были обнаружены разроз-ненные находки отщепов и сколов, а также серияиндивидуальных находок из камня:
в кв. Л/1 – микропластина, нуклеус на неболь-шой гальке и крупный листовидный бифас с обло-манным основанием;
в кв. М/5 – наконечник стрелы на мелком би-фасе с обломанным жалом;
в кв. М/3 – обломок крупного асимметрично-листовидного бифаса с противолежащей приост-ряющей ретушью по краям (рис. 45, 9) и отщеп снерегулярной краевой ретушью;
в кв. М/2 – обломок бифаса средних размеров;в кв. М/1 – ножевидно-скребловидное орудие на
асимметрично-овальном бифасе и пластинчатыйскол с краевой дорсальной ретушью (рис. 44, 14) ;
в кв. Н/2 – скребок на отщепе с краевой уни-фасиальной обработкой, небольшой обломок лис-товидного бифаса средних размеров и обломок на-конечника стрелы на бифасе иволистной формы;
в кв. Н/1 – листовидный бифас средних разме-
ров (рис. 47, 1) и отщеп с нерегулярной краевойретушью;
в кв. О/3 – отщеп с нерегулярной краевой рету-шью и обломок листовидного бифаса средних раз-меров;
в кв. О/1 – листовидный бифас средних разме-ров и отщеп с нерегулярной краевой ретушью;
в кв. П/5 – обломок листовидного бифаса сред-них размеров;
в кв. П/2 – микропластина (рис. 44, 12) и обло-мок листовидного бифаса средних размеров;
в кв. П/1 – небольшая галька со сколами (пре-форма для галечного нуклеуса) и обломок наконеч-ника стрелы на бифасе трудноопределимой формы;
в кв. Р/4 – обломок листовидного бифаса сред-них размеров, обломок иволистного наконечникастрелы на мелком бифасе, а также отбойник из сер-доликовой гальки яйцевидной формы со следамииспользования (рис. 50, 4);
в кв. Р/3 – провертка с выделенными плечика-ми и жалом;
в кв. Р/2 – провертка-остроконечник на плас-тинчатом отщепе удлиненно-треугольной формы;
в кв. Р/1 – заготовка наконечника стрелы набифасе (рис. 44, 13).
Керамики в юго-восточном секторе найденомало. Обращает на себя внимание единственныйобломок стенки со следами гребенчатого узора,обнаруженный в кв. Л/2 (рис. 97, 9). На его внут-ренней стороне отчетливо видны наклонные узкиежелобки, оставшиеся от выравнивания стенки гре-бенчатым инструментом.
Северо-восточный сектор был также мало насы-щен находками. Прямо в центре в кв. Т/3 здесьбыло выявлено очажное пятно овальной формы (вполевой документации № 3). Его размеры – 45 x30 см, заполнение в центре состояло из темно-се-рого углистого суглинка, а у краев – из коричне-вого суглинка с углями. В разрезе очажное пятноимело линзовидную форму. С северо-востока кнему почти вплотную примыкало скопление деби-тажа, локализованное на границе кв. У-Т/2 и со-стоящее из 48 отщепов серого ороговикованногоалевролита (скопление № 4 в полевой документа-ции). Среди них был найден наконечник стрелы(?) на небольшом бифасе.
Каких-либо иных объектов или скоплений на-ходок в пределах северо-восточного сектора най-дено не было. В разрозненном состоянии здесь об-наружены следующие изделия из камня:
в кв. С/5 – ш л и ф о в а н н о е мелкое тесломиндалевидное в плане, острообушное, со слабо ок-ругленным лезвием (Рис. 50, 1) и скребок;
в кв. С/4 – пластинчатое снятие с ретушью;в кв. С/3 – иволистный наконечник стрелы (?);в кв. С/2 – тесловидно-скребловидное орудие
удлиненно-миндалевидной формы (рис. 49, 2);в кв. С/1 – скребок с краевой унифасиальной
обработкой;
31
в кв. Т/4 – скребок с краевой унифасиальнойобработкой и скребловидное изделие на усеченнойс двух сторон гальке, оббитое по одному краю;
в кв. Т/3 – отщеп с нерегулярной краевой рету-шью;
в кв. Т/1 – обломки двух бифасов крупного исреднего размеров;
в кв. У/5 – пластинчатое снятие со сплошнойдорсальной ретушью и краевой со стороны вент-рала (рис. 47, 5);
в кв. У/2 – скребок с унифасиальной обработ-кой спинки и подтеской брюшка, обломок иволи-стного наконечника стрелы на мелком бифасе;
в кв. У/1 – два наконечника стрел, из них одинс обломанным жалом (рис. 45, 3-4);
в кв. Ф/5 – заготовка рубящего орудия на уд-линенной гальке;
в кв. Ф/4 – отщеп с нерегулярной краевой ре-тушью.
Керамики в северо-восточном секторе найденомало, в основном она залегала пятнами. Несколь-ко обломков одного сосуда найдены в кв. Т/5, сре-ди них один прямой венчик с уплощенным обре-зом, по которому нанесены крупные овальныевдавления, придающие кромке волнистые очерта-ния. На внешней поверхности зафиксированы бес-системные удлиненные оттиски (рис. 99, 4).
В кв. У/1 найдено несколько обломков еще од-ного сосуда, у двух из них на одной из поверхнос-тей зафиксированы следы в виде характерных па-раллельных желобков. Наибольший интереспредставляет фрагмент, у которого на одной изповерхностей были расположены параллельныедруг другу дугообразно изогнутые трасы-желобки,а на другой два ряда оттисков предположительногребенчатого инструмента (рис. 99, 3).
Несколько фрагментов, по-видимому, от одно-го сосуда было найдено в кв. У/4. У одного из нихочень неровная внутренняя поверхность и пестрыйразноцветный излом с зеленоватыми оттенками,что встречается на этой керамике крайне редко, ана наружной стенке сохранились обрывки дугооб-разных линий. Техника их выполнения точно нереконструируется (рис. 98).
Интересные объекты были выявлены и в севе-ро-западном секторе. Так, практически в центрераскопа в кв. С/6 близко к краю морозобойногоклина обнаружен участок грунта с углистыми при-мазками и мелкими угольками, размер пятна25x18 см. С севера практически вплотную к немупримыкало большое, но компактное скопление де-битажа, состоящее более чем из 600 отщепов серо-го ороговикованного алевролита (скопление № 3 вполевой документации), никаких иных находокздесь сделано не было. Еще чуть севернее в кв. Т/6также на краю мерзлотного клина среди довольнокрупных камней обнаружено второе скоплениедебитажа. Оно было небольшим и состояло всегоиз 11 отщепов серого ороговикованного алевроли-
та. Интересно, что с востока к этой группе нахо-док примыкал участок с повышенной концентра-цией керамических обломков – в кв. Т/5.
В центральной части сектора вдоль западногоборта криогенного клина тянулась в виде уступагравийно-щебнистая гряда, около которой былорассредоточено большое количество камней сред-них и крупных размеров, но никаких индивиду-альных находок среди них не найдено. Следуеттакже отметить скопление небольших галек в кв.С/10, они были рассеяны по площади 50х25 см ирасполагались примерно в метре на северо-западот упомянутого выше культового комплекса с У-образными предметами из кв. Р/9.
Интересный комплекс из трех очажных пятенобнаружен в северо-западном углу раскопа в кв. У-Ф/10-9. Одно из них располагалось в кв. У/10 иимело округлую форму диаметром около 30 см,заполнение его было представлено светло-серым,углисто-золистым суглинком, мощность которогосоставляла 7-9 см (в полевой документации №1).Вокруг него было рассеяно небольшое количествоотщепов. Второе очажное пятно выявлено в кв. Ф/9, оно также было округлой формы диаметром око-ло 30 см, а заполнение его мощностью около 8 смсостояло из светло-серого пылеватого суглинка суглистыми примазками (в полевой документации№ 2). Третье очажное пятно зафиксировано в кв.Ф/10, оно вошло в пределы раскопа только краем(в полевой документации № 5).
Находок в северо-западном секторе было оченьмало. Из керамики представлен единственныйобломок стенки сосуда из кв. У/10, наружная по-верхность которого была сплошь покрыта гребен-чатыми оттисками (рис. 97, 11). Среди изделий изкамня обнаружены следующие:
в кв. С/7 – обломок листовидного бифаса сред-них размеров;
в кв. Т/7 – черешковый наконечник стрелы намелком бифасе с обломанным жалом и нож на би-фасе асимметрично-листовидной формы;
в кв. У/8 – отщеп с нерегулярной краевой рету-шью;
в кв. Ф/8 – галечный нуклеус.После снятия 2-го и 3-го пластов на поверхнос-
ти материкового галечника обозначились два кри-огенных клина (рис. 13-14; 19). Первый шел по ли-нии север-юг и имел ширину в устье от 80 до 140см. Второй клин был расположен по линии восток-запад, ширина его в устье была примерно такаяже – от 70 до 160 см. Оба клина пересекались почтив центре раскопа и были заполнены очень плотны-ми, сцементированными мешаными суглинкамиот светло-коричневого до бурого цвета. Вскрытиеих оказалось процессом сложным из-за сцементи-рованности грунта. Выборка его осуществляласьусловными пластами мощностью до 10 см.
Пласты 4 и 5 вскрывались по всей площади за-полнения клиньев. На участке пересечения пос-
32
ледних – в кв. О-П/6-7 – был выявлен крупный,расположенный под наклоном фрагмент обвалив-шегося материкового грунта, перекрытый обыч-ным заполнением криогенных трещин, его разме-ры 2,90x1,30 м. На поверхности материкового об-вала в кв. П/6 зафиксировано овальное пятно суг-линка с углистыми включениями, размеры его35 х 50 см. Из других объектов следует отметитькрупные камни, найденные вдоль бортов криоген-ных клиньев, зафиксированные на тех же участ-ках, где располагались камни выше – в основномкультуросодержащем горизонте.
Всего при снятии 4-го и 5-го пластов было най-дено найдено 31 изделие из камня, 198 отщепов изсерого ороговикованного алевролита и 21 отщеп издругих пород, а также 62 обломка керамическихсосудов. Почти все находки были сосредоточены вместе пересечения криогенных клиньев или близ-ко к нему, т.е. примерно там же, где и в вышеле-жащем слое 3Б.
Среди изделий из камня представлены следую-щие артефакты:
в кв. Л/8 – галечный нуклеус;в кв. Л/7 – сильно разрушенный эрозией круп-
ный листовидный бифас с закругленным лезвием(рис. 46, 4), обломок бифаса средних размеров, на-конечник стрелы иволистной формы на мелком би-фасе и обломок еще одного наконечника стрелы намелком бифасе;
в кв. Н/10 – наконечник стрелы (?) иволистнойформы на мелком бифасе;
в кв. Н/9 – крупный асимметрично-листовид-ный бифас из красной яшмовидной породы (рис.45, 1), микропластина и бифасиально обработан-ное тесловидно-скребловидное орудие с полукруг-лым лезвием и приостренным насадом;
в кв. Н/8 – галечный нуклеус, скребок (рис. 47,4), перфоратор (рис. 47, 3) и рубящее орудие одно-сторонне выпуклое в поперечном сечении, оббитое,на удлиненной гальке с зауженным обушком и по-лукруглым лезвием (рис. 55, 2) ;
в кв. Н/7 – черешковый наконечник стрелы намелком бифасе, обломок наконечника стрелы намелком бифасе трудноопределимой формы и тес-ловидно-скребловидное орудие (рис. 49, 1) ;
в кв. Н/5 – листовидный наконечник стрелы намелком бифасе (рис. 47, 6);
в кв. М/7 – пластинчатое снятие из дымчатогохалцедона, обломок бифаса среднего размера и кон-цевой скребок со скошенным лезвием (рис. 43, 2);
в кв. М/6 – скребок на отщепе со скошеннымлезвием;
в кв. О/10 – галечный нуклеус;в кв. О/7 – обломок крупного бифаса (рис. 45,
8) и наконечник стрелы (?) на мелком бифасе;в кв. О/6 – наконечник стрелы (?) в двумя боко-
выми выступами у основания из черной кремнис-той породы;
Рис. 19. Гончарка-1. Раскоп 2. Вид с запада на раскоп после выборки заполнения криогенных клиньев
33
в кв. П/7 – обломок наконечника стрелы (?) намелком бифасе;
в кв. С/7 – галечный нуклеус;в кв. Т/5 – микропластинчатый нуклеус высо-
кой формы с контрфронтом, оформленным мелки-ми сколами, изготовлен из дымчатого красногосердолика (рис. 44, 4);
в кв. Ф/7 – обломок заготовки для крупного би-фаса;
в кв. Ф/6 – галечный нуклеус (рис. 44, 1) и об-ломок заготовки для крупного бифаса;
в кв. Ф/5 – галечный нуклеус;Вся керамика, найденная при выборке 4-го и 5-
го пластов, представлена очень мелкими кусочка-ми, их преимущественные размеры 1,5х1,5 см. На-ходки залегали «пятнами», в основном на участкепересечения криогенных клиньев в кв. Н/5-8 и О-М/7, а также в кв. Т/5. Отличительных особенно-стей черепки не имели. На нескольких фрагмен-тах зафиксированы характерные параллельныежелобки-трассы, довольно слабо заметные в видузначительной разрушенности эрозией. Обращаетна себя внимание также очень маленький обломоквенчика, найденный в кв. Н/5. Он имел уплощен-ный обрез с широкими овальными вдавлениями исквозное отверстие, проколотое по сырой глине состороны наружной поверхности.
Пласты 6-8 выбирались также по всей площа-ди криогенных деформаций. Количество находокв них резко сократилось, а при снятии 8-го пластаони уже не встречались совсем. Всего было найде-но 5 изделий из камня, 36 отщепов из серого оро-говикованного алевролита, 6 отщепов из другихпород и 4 фрагмента керамики. Артефакты по-прежнему локализовались преимущественно научастке пересечения мерзлотных клиньев. Средииндивидуальных находок представлены:
в кв. Н/9 – обломок бифаса средних размеровиз светло-серой кремнистой породы;
в кв. Н/8 – наконечник стрелы с угловатым че-решком (рис. 45, 5), перфоратор иволистный фор-мы с треугольным сечением и бифасиально обра-ботанное ножевидно-скребловидное орудие асим-метрично-листовидной формы с массивным нео-бработанным черешком (рис. 47, 2);
в кв. Н/7 – концевой скребок на отщепе с крае-вой ретушью (рис. 46, 5);
Все четыре обломка керамики были найдены вкв. Н/7, из них один очень интересный. Это круп-ный обломок стенки с желтой наружной поверх-ностью, серым изломом и характерной коричнева-то-белесой патиной на внутренней стороне. На на-ружной поверхности отчетливо заметны перекре-щивающиеся в виде горизонтального зигзага па-раллельные желобки, нанесенные гребенчатыминструментом, здесь же обильно проступают гли-нистые комочки аморфных очертаний белесого исветло-серого цвета (рис. 76).
Раскоп 3
Дневная поверхность раскопа ровная, с укло-ном к юго-западу, перепад высоты 150 см на 10 м.На размеченной площади росло 17 небольших де-ревьев, которые были убраны при снятии дерна.Общая мощность дернового горизонта и нижеле-жащего слоя серого пылеватого суглинка (2) со-ставляла 15-25 см. При их разборке никакихкомплексов или объектов выявлено не было, а на-ходки оказались представлены всего десятью раз-розненными фрагментами керамики польцевскойкультуры. Таким образом, слои 1 и 2 в пределахраскопа 3 оказались практически стерильными(рис. 10).
Далее осуществлялось снятие слоя легких свет-лых суглинков коричневатых, желтоватых и крас-новатых оттенков (3). Мощность 1-го пласта в за-висимости от конкретной ситуации варьировалаот 8 до 12 см. При его вскрытии не выявлено ка-ких-либо комплексов или бытовых объектов (рис.11). Находок сделано немного – 65 отщепов, изних 47 из серого ороговикованного алевролита и18 из других пород, а также 64 фрагмента кера-мики1. Основная часть артефактов концентриро-валась в северо-восточной части раскопа, и лишьнебольшая их группа – у его юго-западной стен-ки в кв. З’-Ж’/10. За исключением трех фрагмен-тов польцевской керамики (кв. В’/1) и одного отсосуда вознесеновской культуры (кв. Г’/8) все ос-тальные находки 1-го пласта относятся к осиповс-кому комплексу.
Керамика залегала «пятнами», находки еди-ничных разрозненных фрагментов редки. Болееполовины всех найденных в 1-ом пласте черепковбыло зафиксировано в кв. Д’/6 и В’/5. Среди нихв основном обломки стенок, на некоторых из нихвстречаются слаборазличимые из-за эрозии желоб-ки-трасы. В кв. В’/5 и В’/3 найдено несколькофрагментов, по-видимому, от одного сосуда, сре-ди них два венчика и две стенки с едва заметнымузором. Этот сосуд имел в тесте крупные включе-ния красного шамота и был украшен наклоннымилиниями оттисков (рис. 99, 1).
При снятии 2-го и 3-го пластов было обнаруже-но 189 изделий из камня, 1012 отщепов из серогоороговикованного алевролита и 226 из других по-род, а также немногим более 300 фрагментов ке-рамики, около 140 из них найдены в разрозненномсостоянии и около 180 в скоплениях.
Наибольшая концентрация находок выявленав восточной половине раскопа, материал здесь рас-полагался скоплениями, приуроченными к быто-вым объектам (рис. 12).
1 Те немногочисленные изделия, что были найдены награнице 1-го и 2-го пластов, рассматриваются вместе с ма-териалами 2-го пласта.
34
В кв. E’-Ж’/2 зафиксировано очажное пятно№ 1 округлой в плане формы, размерами 46 x 38см, заполнение его состояло из коричневато-серо-го суглинка с углистыми примазками. Под пятномбыла выявлена очажная яма, плоское дно которойоказалось впущенным в кровлю мелкой криоген-ной деформации на глубину до 10-12 см. У север-ного края ямы располагался крупный камень, ещетри камня средних размеров обнаружены чуть за-паднее. В самом очаге и в непосредственно близос-ти от него обнаружены следующие артефакты:
в кв. Е’/2 – удлиненная галька со сколами,оформляющими лезвие рубящего орудия , заготов-ка оббитого линзовидного в сечении рубящего ору-дия миндалевидной формы с бифасиальной обра-боткой (рис. 58, 1), остроконечник асимметрично-листовидной формы на бифасе, листовидный би-фас средних размеров с удлиненными пропорция-ми (рис. 57, 3) и галечный нуклеус;
в кв. Ж’/2 – два микропластинчатых нуклеусаторцового принципа скалывания, два широкихлистовидных наконечника на мелких бифасах, дваскребка на отщепах, один случайной формы, дру-гой со сплошной обработкой спинки (рис. 57, 2), атакже обломок заготовки бифасиального орудиятрудноопределимой формы.
Серия камней крупных и средних размеров це-почкой окружала очажное пятно № 1 примерно водном-двух метрах от него. Они залегали непос-редственно на материке или чуть выше него.
Большая группа камней (не менее 14) распола-галась также в полутора метрах к западу от очаж-ного пятна № 1 – в кв. E’-Ж’/4-5. С ними былосвязано большое количество находок – бифасов,скребков, дебитажа и т.п. Здесь же были найденыи немногочисленные разрозненные обломки кера-мики, в том числе один венчик с разнонаправ-ленными желобками-трассами по внутренней по-верхности, уплощенным обрезом и сквозным от-верстием чуть ниже кромки. Высокая концентра-ция артефактов свидетельствует о довольно интен-сивной эксплуатации данного участка. Из индиви-дуальных находок здесь были обнаружены:
в кв. Е’/5 – отщеп с угловатым лезвием,оформленным ретушью, обломок отщепа с рету-шью и обломок бифасиального орудия труднооп-ределимой формы и назначения;
в кв. Е’/4 – пластинчатая заготовка, скребок наотщепе со сплошной обработкой спинки (рис. 60,7), обломок черешкового бифаса средних размеров(рис. 59, 5), листовидный бифас среднего размера сзакругленным основанием – тонкое тесловидно-скребловидное орудие (рис. 61, 2), крупное теслона бифасе с изогнутым профилем (рис. 58, 7), а так-же обломок еще одного крупного бифаса;
в кв. Е’/3 – ножевидно-скребловидное орудие(рис. 62, 1), скребловидное изделие полулуннойформы на бифасе, ножевидно-скребловидное ору-
дие на мелком отщепе (рис. 62, 3), отщеп с углова-тым лезвием, оформленным ретушью, массивнаязаготовка бифасиального орудия овальной формыс линзовидным сечением, заготовка бифасиально-го орудия трудноопределимой формы и скоплениеотщепов, снятых с одного нуклеуса из светло-ко-ричневого туфа (рис. 56, 7-10);
в кв. Ж’/5 – лыжевидный скол с бифаса (рис.56, 2) и скребок на отщепе со сплошной обработ-кой спинки (рис. 60, 6);
в кв. Ж’/4 – скребок на отщепе со сплошной об-работкой спинки, отщеп с угловатым лезвием,оформленным ретушью, нож (?) на асимметрично-листовидном бифасе (рис. 62, 5), обломки двух би-фасов крупного и среднего размера;
в кв. Ж’/3 – скол с фронта микропластинчато-го нуклеуса (рис. 65, 3), широкий листовидный на-конечник стрелы на мелком бифасе, скребок наотщепе со сплошной обработкой спинки, нож наасимметрично-листовидном бифасе с тонким лин-зовидным сечением, отщеп с угловатым лезвием,оформленным ретушью.
Примерно в метре к югу от очажного пятна № 1в кв. Ж’/2 располагалось небольшое скопление из15 отщепов серого ороговикованного алевролита.
В кв. Д’/5 было выявлено очажное пятно № 2.Оно располагалось прямо над кровлей криогенно-го клина и имело вид вытянутого вдоль его плечи-ков овального пятна с неясными границами. За-полнение очажного пятна было представлено тем-но-серым, почти черным, или темно-коричневымсуглинком с углистыми включениями и примаз-ками, размеры его 1 x 0,45 м. В его кровле выделя-лись три более темных углистых пятна неправиль-ной удлиненной формы с четкими границами, раз-мер пятен в длину – от 30 до 35 см. Вокруг очагагрунт также содержал углистые включения, осо-бенно к востоку от него. В разрезе это очажное пят-но имело вид наклонной линзы толщиной до 12 см(рис. 8; 21). У юго-западной его границы распо-лагался крупный – 45x20 см – камень, видимо,составлявший с очагом комплекс.
Можно предположить, что очажное пятно № 2представляло собой остатки долговременного оча-га. Участок вокруг него отмечен большим коли-чеством находок, в основном дебитажа. Среди из-делий из камня здесь были обнаружены:
в кв. Д’/4 – скребок на сколе со сплошной обра-боткой (рис. 60, 2), отщеп с угловатым лезвием,оформленным ретушью (рис. 64, 3), и обломок би-фасиального орудия трудноопределимой формы;
в кв. Д’/5 – резец на усеченном отщепе с боко-вым резцовым сколом (рис. 65, 4), заготовка длякрупного асимметрично-листовидного бифаса,провертка на приостренном отщепе с жалом,оформленным ретушью, обломок отщепа с рету-шью, скребок на отщепе со сплошной обработкойспинки, скребок на бифасе с зауженным насадом
35
и полукруглым лезвием (рис. 60, 4), галечный мик-ронуклеус торцового типа;
в кв. Е’/6 – широкий листовидный наконечникстрелы на мелком бифасе из красной кремнистойпороды (рис. 57, 12), сильно эродированный лис-товидный наконечник и бифас средних размеров(рис. 57, 13);
У северной границы очажного пятна № 2 выяв-лено три развала сосудов.
Развал сосуда № 1 (кв. Г’/5) состоял примерноиз 20 фрагментов, рассеянных на площади 20x15см (рис. 20). Большая их часть принадлежала со-суду с обильной примесью дресвы, сильно разру-шенному эрозией, изредка в тесте встречаются от-печатки травы (рис. 87, 4). Несколько обломковотносятся к другому сосуду с хорошо сохранив-шимися поверхностями и следами заглаживаниягребенчатым инструментом (рис. 88-89).
Развал сосуда № 2 (кв. Д’/5) был рассеян на пло-щади 30x20 см. В общей сложности сохранилосьболее 70 обломков, принадлежавших, по-видимо-му, одному сосуду с очень грубой примесью дрес-вы и практически полностью разрушенными по-верхностями (рис. 87, 1-2, 5). На отдельных череп-ках видны единичные отпечатки травы. Несколь-ко фрагментов подклеиваются и дают представле-ние об общей форме сосуда в верхней подвенечнойчасти. Он имел абсолютно прямые стенки и такойже прямой венчик, кромка которого не сохрани-лась. Под венчиком в один ряд располагалисьсквозные отверстия, и рядом с ними – остатки пи-щевого нагара.
Развал сосуда № 4 (кв. Д’/4-5) частично пере-крывал очажное пятно № 2, его обломки были рас-сеяны на площади 75x40 см (рис. 12; 21). Все онипринадлежали одному археологически целому,плоскодонному, сосуду с низкими – всего 10-12см – стенками. На его внутренней поверхности за-фиксированы горизонтальные желобки-трасы, ана наружной – узор в виде горизонтального зигза-
га, выполненного прокатом гребенчатого инстру-мента (рис. 85-86; 87, 3).
Далее на север примерно в двух метрах от очаж-ного пятна № 2 прямо на краю криогенного клинав кв. В’/4 было зафиксировано скопление, состоя-щее более чем из 12 небольших камней. На этомучастке также отмечалась повышенная концент-рация находок, в том числе дебитажа, изделий изкамня и керамики. Среди индивидуальных нахо-док отметим следующие:
в кв. В’/5 – ножевидно-скребловидное орудиена отщепе с выемчатыми лезвиями, оформленны-ми ретушью (рис. 65, 1), отщеп с угловатым лез-вием, оформленным ретушью (рис. 62, 6), а такжезаготовка небольшого бифасиального орудия типапровертки и микропластина;
в кв. В’/4 – обломок орудия на бифасе неяснойформы, два бифасиальных тесловидно-скребло-видных орудия с округлым лезвием (рис. 57, 1) иобломок крупного бифаса;
в кв. Г’/5 – микропластина, крупный бифас(рис. 59, 1), нож на крупном овальном бифасе иотщеп с угловатым лезвием, оформленным рету-шью (рис. 64, 5).
Еще одно рассеянное скопление камней отме-чено к северо-востоку от предыдущего, на краю тойже мерзлотной трещины. Камни были рассредото-чены в пределах кв. А’-Б’/2-3. Находок здесь былонемного:
в кв. А’/2 – скол с фронта микропластинчатогонуклеуса, бифасиально обработанное тесловидно-скребловидное орудие с полукруглым лезвием исильно эродированное долотовидное орудие оваль-ной в плане формы с односторонне-выпуклым се-чением и полукруглым лезвием;
в кв. А’/3 – два широких листовидных наконеч-ника стрел на мелких бифасах;
в кв. Б’/2 – нож (?) на асимметрично-листовид-ном бифасе с выделенной рукоятью (рис. 58, 4) иобломок отщепа с ретушью.
У северной стенки раскопа в кв. А’/4 выявленоеще одно небольшое пятно находок, на этом участ-ке отмечалась повышенная концентрация дебита-жа и разрозненных обломков керамики, обнару-жено несколько камней разных размеров и неболь-шая серия изделий из камня:
в кв. А’/4 – пластинка длиной более 2,5 см, об-ломки крупного бифаса и бифаса средних разме-ров, скребок со сплошной унифасиальной обработ-кой спинки и заготовка трудноопределимого би-фасиального орудия;
в кв. А’/3 – два широких листовидных наконеч-ника стрелы на мелких бифасах.
Завершая обзор находок, сделанных в восточ-ной части раскопа, дадим характеристику тем из-делиям из камня, которые были обнаружены здесьв разрозненном состоянии:
в кв. Б’/5 – галечный нуклеус, обломок круп-
Рис. 20. Гончарка-1. Раскоп 3.Развал сосуда в кв. Г’/5
36
ного листовидного бифаса, два ножевидно-скреб-ловидных орудия асимметрично-листовиднойформы с бифасиальной обработкой, одно из них стонким линзовидным сечением (рис. 62, 2), круп-ная заготовка бифасиального орудия в начальнойстадии оформления и обломок удлиненно-листо-видного бифаса средних размеров;
в кв. Б’/4 – резец на мелком отщепе с гальки,крупная заготовка бифасиального орудия в на-чальной стадии оформления, подтреугольный вплане скребок с прямым лезвием и приостреннымнасадом, листовидный наконечник стрелы с корот-ким угловатым черешком (рис. 57, 7), обломок уд-линенно-листовидного бифаса средних размеров,галечный нуклеус;
в кв. В’/3 – листовидный наконечник стрелы скоротким черешком на мелком бифасе и обломокотщепа с ретушью;
в кв. В’/2 – две микропластины, удлиненно-листовидный бифас средних размеров и иволист-ный наконечник стрелы на бифасе (рис. 57, 4);
в кв. В’/1 – провертка на отщепе с ретушью;в кв. Г’/4 – отщеп с угловатым лезвием, оформ-
ленным ретушью, ножевидно-скребловидное ору-дие на бифасе асимметрично-листовидной формы стонким линзовидным сечением, листовидный на-конечник стрелы на бифасе (рис. 58, 8);
в кв. Г’/3 – листовидный наконечник стрелы набифасе с коротким черешком, листовидный нако-
нечник стрелы с удлиненным черешком (рис. 59,7), боковой скребок на пластинчатом сколе, рез-чик на приостренном сколе (рис. 63, 1);
в кв. Г’/2 – обломок лезвийной части односто-ронне-выпуклого в сечении тесла с полукруглымполностью ш л и ф о в а н н ы м лезвием, скребокна подтреугольном в плане отщепе с прямым лез-вием и приостренным насадом (рис. 60, 8), скре-бок на сколе со сплошной обработкой спинки, об-ломок бифаса средних размеров трудноопредели-мой формы, крупный листовидный бифас, скол сфронта микропластинчатого нуклеуса и галечныйнуклеус со следами субпараллельных снятий от-щепов;
в кв. Д’/3 – проколка на сколе иволистной фор-мы, массивная, треугольная в сечении, иволист-ный наконечник стрелы на бифасе (рис. 59, 3), уг-ловатое ножевидно-скребловидное орудие на отще-пе (рис. 64, 1);
в кв. Д’/2 – галечный нуклеус, бифасиальнаягрубо оббитая заготовка удлиненно-овальной фор-мы, обломок листовидного бифаса средних разме-ров, обломок бифаса трудноопределимой формы,обломок отщепа с ретушью;
в кв. Д’/1 – широкий листовидный наконечникстрелы на мелком бифасе;
в кв. Е’/1 – листовидный наконечник стрелы судлиненным черешком, тесловидно-скребловид-ное орудие овальной формы с полукруглым лезви-
Рис. 21. Гончарка-1. Раскоп 3. Развал сосуда № 4 и кровля очага № 2 в кв. Д’/4-5
37
ем и зауженным насадом, скребок на отщепе сосплошной обработкой спинки, остроконечник(нож - ?) асимметрично-листовидной формы с од-носторонней обработкой (рис. 65, 2), перфораторна приостренном отщепе с жалом, оформленнымретушью;
в кв. Ж’/1 – скребок-бифас с полукруглым лез-вием, макроскребок на сколе с полукруглым лез-вием (рис. 61, 1) и обломок отщепа с ретушью;
в кв. З’/4 – галечный нуклеус, обломок бифасасреднего размера, сильно эродированный листо-видный наконечник стрелы (рис. 57, 11), отщеп свыемчатым рабочим лезвием, оформленным рету-шью;
в кв. З’/3 – обломок отщепа с ретушью и и га-лечный нуклеус (рис. 56, 5);
в кв. З’/2 – скребок на сколе со сплошной обра-боткой спинки (рис. 60, 5);
в кв. З’/1 – обломок бифаса средних размеров.Несколько интересных объектов, по-видимому
хозяйственного назначения, было выявлено вдольюжной стенки раскопа (рис. 12).
В кв. И’-К’/8 зафиксирована яма I неправиль-ной округлой формы с чашевидным дном, ее глу-бина до 20 см, размеры 102x114 см; заполнена онажелто-коричневым мешаным суглинком с красно-ватым оттенком. Находок в ней немного – несколь-ко отщепов и нуклевидное изделие на гальке. Уюго-восточного края ямы отмечалась повышеннаяконцентрация отщепов и разрозненных обломковтипичной осиповской керамики. Примерно в 1 мк северу от края ямы выявлен участок с группойрассеянных на небольшой площади крупных кам-ней и повышенной концентрацией дебитажа и из-делий из камня:
в кв. И’/7 – галечный нуклеус;в кв. З’/7 – микропластинчатый нуклеус тор-
цового типа, две микропластины и широкий лис-товидный наконечник стрелы на мелком бифасе;
в кв. З’/8 – три микропластинчатых нуклеусаторцового типа (рис. 56, 1), микропластина, а так-же трудноопределимый обломок орудия со следа-ми ш л и ф о в к и ;
в кв. Ж’/7 – наконечник стрелы на листовид-ном бифасе с коротким черешком (рис. 57, 9),ш л и ф о в а н н ы й наконечник стрелы иволист-ной формы (рис. 63, 5) и скребок с полукруглымлезвием и зауженным насадом (рис. 60, 3).
Далее к востоку от ямы I в кв. З’-К’/5-6 зафик-сирована яма II неправильной овальной формы,размеры ее 115x80 см, плечики четкие, покатые,дно плоское и неровное, глубина до 30 см. Запол-нение представлено красновато-коричневым свет-лым суглинком. Находок в яме немного – несколь-ко отщепов и галечный нуклеус. На юго-восточномее плечике и рядом с ней найдено несколько облом-ков осиповской керамики. В полуметре к югу отямы в кв. К’/6 выявлено локальное скопление де-битажа размерами 50х30 см, включающее 36 мик-
ропластин, микроотщепов, сколов из светло-ко-ричневой, красной и серой кремнистых пород. Ксеверу и востоку от ямы было рассеяно около де-сятка камней разных размеров, а среди них отще-пы, сколы и изделия из камня.
На этом участке были обнаружены следующиеиндивидуальные находки:
в кв. З’/5 – отщеп с угловатым лезвием, оформ-ленным ретушью (рис. 64, 4), ножевидно-скребло-видное орудие на асимметрично-овальном тонкомбифасе с линзовидным сечением и галечный нук-леус;
в кв. И’/5 – ладьевидный скол с бифаса, нож наплитке с двусторонней краевой ретушью (рис. 62,4), удлиненно-треугольный наконечник стрелы спрямым основанием (рис. 57, 8), скребок случай-ной формы на отщепе и оббитое рубящее орудиеминдалевидной в плане формы и с линзовиднымпоперечным сечением (рис. 58, 2);
в кв. И’/4 – микропластина и обломок иволис-тного наконечника стрелы на бифасе (рис. 59, 6);
в кв. К’/5 – галечный нуклеус, иволистный на-конечник стрелы с обломанным черешком и вы-деленными у основания уступами (рис. 57, 6), сколс выемчатым лезвием (рис. 63, 4);
в кв. К’/4 – торцовый микропластинчатый нук-леус (рис. 56, 3).
Далее на восток от ямы II в юго-восточном углураскопа в пределах кв. З’-К’/1-3 была выявленаяма III и связанная е с ней серия более мелких ям.Здесь же располагались скопление камней и раз-вал сосуда. Яма III вошла в раскоп большей своейчастью. Она имела подтреугольную форму с неров-ными округлыми границами и плоское дно, раз-меры ее 125x125 см, глубина 10-12 см. Плечикичеткие, покатые. Заполнение представлено крас-новато-коричневым суглинком с гравием и линза-ми песка. В нем найдено четыре камня, еще пятьразмерами 10-15 см выявлены на плечиках ямы.
Находок мало. В самой яме найдены скребок наотщепе со сплошной обработкой спинки и обломокбифаса средних размеров, на юго-западном ее пле-чике в кв. К’/2 – удлиненно-листовидный бифассреднего размера (рис. 58, 6), у ее западного края вкв. И’/2 –галечный нуклеус, плечиковая проверт-ка с обломанным жалом (рис. 63, 3) и развал сосу-да № 3, включавший около 40 фрагментов кера-мики, рассеяных на площади 37 x 20 см (рис. 90,1-2). Сохранность керамики в этом скоплении пло-хая, все поверхности разрушены эрозией, в тестеобильно проступает минеральная разнозернистаяпримесь дресвы и отдельные включения шамота,на внутренней стороне заметны следы от парал-лельных трас-желобков.
К западу и юго-западу от ямы III располагалисьчетыре небольшие ямы. Ямы № 1-3 имели округ-лую форму и были вытянуты в одну линию с севе-ро-запада на юго-восток, яма № 4 отличаласьовальными очертаниями и находилась в стороне
38
от этой линии, почти вплотную примыкая к севе-ро-западному краю ямы III. Заполнение ям № 1-2,4 было представлено серовато-коричневой супесьюс гравием, а ямы № 3 – красновато-коричневымсуглинком с гравием, глубина ям соответственно30, 12, 7 и 14 см. Ямы, вероятно, служили для ук-репления столбовых опор какой-то наземной кон-струкции сравнительно небольших размеров.
Среди разрозненных находок, сделанных вдольюжной стенки раскопа, отметим следующие изде-лий из камня:
в кв. И’/10 – микропластина, листовидный на-конечник стрелы (рис. 58, 9), ножевидно-скребло-видное орудие на крупном пластинчатом сколе сдвухсторонней краевой ретушью, заготовка бифа-сиального орудия, резцевидное изделие с острием,оформленным диагональными сколами (рис. 64,2), крупный галечный скол типа ладьевидного снегативами снятия микропластин;
в кв. И’/9 – микропластина;в кв. И’/6 – галечный нуклеус;в кв. И’/3 – галечный нуклеус (рис. 56, 6), два
листовидных наконечника стрел на бифасах (рис.59, 4);
в кв. К’/10 – торцовый микропластинчатыйнуклеус (рис. 56, 4);
в кв. К’/8 – две микропластины;в кв. К’/6 – скол с фронта микропластинчатого
нуклеуса;
в кв. К’/3 – тесловидно-скребловидное бифаси-альное орудие с полукруглым лезвием и заужен-ным насадом, обломок отщепа с ретушью.
На оставшейся северо-западной части раскопанаходок было немного, и все они залегали в раз-розненном состоянии. Исключение составляетпятно находок, обнаруженное на самом краюкриогенного клина в кв. Ж’/9-8. Здесь в кв. Ж’/9выявлено точечное скопление микропластин имикроотщепов из светло-коричневой и серой крем-нистой породы, всего не менее 40 изделий, рассе-янных на площади 12 x 15 см (рис. 22). Рядом об-наружены ладьевидный скол с бифаса из светло-коричневой кремнистой породы. Вокруг скопле-ния залегала группа мелких и средних камней,среди которых отмечалась повышенная концент-рация разрозненных отщепов, сколов, в том чис-ле здесь найдены микропластина и скребок на от-щепе со сплошной обработкой спинки, а такжекерамика. В северо-западном углу раскопа в кв.А’/10 обнаружено небольшое скопление разроз-ненных обломков осиповской керамики, а такжелистовидный наконечник стрелы на бифасе.
Среди других изделий из камня, найденных впределах северо-западной части раскопа былипредставлены следующие артефакты:
в кв. А’/8 – микропластина;в кв. Б’/9 – листовидный наконечник стрелы
на бифасе;
Рис. 22. Гончарка-1. Раскоп 3. Скопление микроотщепов и микропластин в кв. Ж’/9
39
в кв. Б’/8 – листовидный наконечник стрелына бифасе;
в кв. Б’/6 – листовидный наконечник стрелына бифасе;
в кв. В’/8 – галечный нуклеус;в кв. Г’/10 – листовидный наконечник стрелы
с коротким черешком на бифасе (рис. 57, 10), лис-товидный наконечник стрелы на бифасе , скребокна сколе со сплошной обработкой спинки, скребокна подтреугольном отщепе с прямым лезвием;
в кв. Г’/6 – листовидный наконечник стрелы счерешком на бифасе (рис. 57, 5) и скребок на би-фасе миндалевидной формы (рис. 60, 1);
в кв. Д’/10 – заготовка массивного, линзовид-ного в сечении бифасиального орудия;
в кв. Д’/9 – галечный микронуклеус торцовоготипа;
в кв. Д’/7 – галечный нуклеус;в кв. Д’/6 – крупный асимметрично-листовид-
ный бифас (рис. 58, 3), листовидный наконечникстрелы на небольшом бифасе (Рис. 58, 5) и обло-мок трехгранного полностью ш л и ф о в а н н о г оорудия типа перфоратора или наконечника стре-лы иволистной формы (другой его обломок найденв кв. В’/7) (рис. 63, 2);
в кв. Е’/10 – скребок-бифас с полукруглым лез-вием и зауженным насадом;
в кв. Е’/9 – микропластина;в кв. Е’/8 – микропластина, грубооббитая би-
фасиальная заготовка для орудия удлиненно-овальной формы и обломок ножевидного орудия свыделенной рукоятью;
в кв. Ж’/10 – тесловидно-скребловидное орудиес зауженным насадом и полукруглым лезвием набифасе;
в кв. З’/10 – два галечных нуклеуса.Говоря в целом о найденной в раскопе 3 разроз-
ненной керамике, хотелось бы отметить ее сравни-тельную немногочисленность. Обломки сосудовзалегали, как правило, «пятнами» и были приуро-чены к скоплениям камней (Ж’-З’/8-9), дебитажа(А’4, В’/4-5, Г’/5, Е’-Ж’/3-4) или к выявленным враскопе объектам предположительно хозяйствен-ного назначения (К’/7-8, К’/5). Среди них выде-ляются обломок уплощенного по обрезу венчикасо сквозным отверстием (Ж’/4), обломок венчикас уплощенным обрезом и орнаментом в виде одно-го ряда слабо заметных оттисков гребенки (В’/8)(рис. 97, 5), фрагмент стенки с остатками гребен-чатого узора в виде вертикального зигзага (Ж’/8)(рис. 97, 7), а также небольшой обломок стенки сгребенчатым узором (В’/5). Оставшаяся керами-ка – плохо сохранившиеся мелкие обломки стеноксосудов. По качеству все они типично осиповские.Как особенность можно отметить, что основнаямасса керамики из раскопа 3 отличалась очень гру-бой формовочной массой.
После снятия 2-го и 3-го пластов в раскопе обо-значились два крупных криогенных клина, пере-
секавшихся в западной его части (рис. 13-14). Пер-вый клин тянулся с юго-запада на северо-восток иимел ширину в устье от 1,5 до 2,7 м, между усту-пами плечиков – от 0,5 до 1,2 м. Второй клин былрасположен в западной части раскопа, ширина егов устье доходила до 2 м, между уступами плечи-ков – до 1,2 м, глубина достигала 1,5 м. Этот мерз-лотный клин – самый крупный на памятнике. Онпересекал с севера на юг сразу три раскопа.
Кроме того, в раскопе 3 были зафиксированыеще две небольшие криотурбации, нарушавшиематериковый галечник. Одна из них выявлена всеверной части раскопа, она тянулась с запада навосток примерно на 3 м, ширина ее от 0,2 до 0,4 м,глубина 0,3 м. Находок в ней не было. Вторая на-ходилась в средней части раскопа ближе к его вос-точной стенке, ее длина около 4,5 м, ширина от 0,1до 0,2 м, глубина до 0,3 м. Эта небольшая трещи-на была ориентирована по линии юго-запад – се-веро-восток, как и крупный мерзлотный клин,рядом с которым она располагалась, находок в нейтакже не обнаружено.
Выбор заполнения криогенных клиньев осуще-ствлялся, как и в других раскопах, условнымипластами 4-8. При снятии пластов 4-5 выяснилось,что археологического материала здесь мало, наи-большая его концентрация наблюдалась в кв. Д’/4, а на других участках находки были единичны ирассеяны неравномерно почти по всей их площа-ди. Всего при снятии 4-5-го пластов найдено 15 из-делий из камня, а также 106 отщепов из серого оро-говикованного алевролита и 13 из других пород(рис. 13).
Среди индивидуальных находок представленыследующие:
в кв. Г’/10 – обломок бифаса средних размеров,шестиугольный в плане скребок на отщепе с крае-вой обработкой и пластинчатый скол длиной 6 см;
в кв. Г’/9 – обломок бифаса средних размеров;в кв. Д’/4 – сильно разрушенный эрозией на-
конечник стрелы листовидной формы на неболь-шом бифасе и два обломка ретушированных ору-дий на отщепах;
в кв. Д’/3 – листовидный бифас с закругленнымоснованием (рис. 55, 1);
в кв. Е’/9 – галечный нуклеус из сердолика иобломок бифаса средних размеров;
в кв. Е’/5 – сильно разрушенный эрозией нако-нечник стрелы листовидной формы на небольшомбифасе;
в кв. Ж’/10 – небольшая галька со сколами,отщеп с выемчатым лезвием, которое былооформлено ретушью, и микропластина из халце-дона длиной 1,7 см;
в кв. К’/10 – крупный асимметрично-листовид-ный бифас;
в кв. А’/10 – листовидный наконечник стрелы(рис. 59, 2).
Керамики на уровне 4-го и 5-го пластов собра-
40
но около 25 фрагментов, практически все – в пре-делах кв. Д’/4. Находки представлены мелкимиобломками стенок плохой сохранности, на неко-торых из них едва различимы следы характерныхтрас-желобков. Здесь же найден довольно большойкусок обожженной мелкотекстурной глины.
При снятии 6-7-го пластов археологическийматериал был выбран полностью уже на уровне 6-го пласта (рис. 14). Концентрация находок наблю-далась в кв. Г’/3 и Д’/3-4, несколько изделий об-наружено в кв. Ж’/10. На других участках крио-генных клиньев находок не было. Всего было най-дено 13 отщепов из серого ороговикованного алев-ролита и отщеп из туфа, а также 9 разрозненныхобломков типичной осиповской керамики. Инди-видуальные находки из камня представлены не-большим обломком бифаса трудноопределимойформы (Д’/4) и тесловидно-скребловидным оруди-ем (Ж’/10).
Раскоп 4
Дневная поверхность на площади раскопа от-носительно ровная, с незначительным уклоном наюго-запад – падение склона составляет примерно60-70 см на 5 м. В пределы раскопа попало шестьдеревьев, они были убраны при снятии дерна и ле-жащего ниже слоя серого пылеватого суглинка (2).Общая мощность этих двух слоев около 20 см. Приих снятии каких-либо комплексов или бытовыхобъектов выявлено не было (рис. 10). Находкипредставлены тремя фрагментами керамики эпо-хи раннего железа из кв. Г/13-14.
Далее пластами 1-3 осуществлялось снятие лег-ких светлых суглинков коричневатых и желтова-тых оттенков (3).
Пласт 1 имел мощность от 8 до 12 см в зависи-мости от конкретных условий. При его вскрытиикаких-либо комплексов или бытовых объектовтакже зафиксировано не было. Находок в нем сде-лано мало, всего найдено 93 отщепа из серого оро-говикованного алевролита, 73 отщепа из другихпород и 3 мелких фрагмента керамики труднооп-ределимой по внешним признакам (рис. 11).
Пластами 2 и 3 был выбран основной культуро-содержащий горизонт памятника. Всего при егоснятии было найдено 90 индивидуальных находокиз камня, 228 отщепов из серого ороговикованно-го алевролита, 53 отщепа из других пород, а так-же около 450 обломков керамики. Все находкипредставляют осиповскую культуру. Археологи-ческий материал был рассеян по площади раскопанеравномерно. В южной части находок практичес-ки не было, а в северной, напротив, их обнаруже-но довольно много, здесь наблюдались также скоп-ления и различные комплексы (рис. 12).
Наиболее интересный из них выявлен в северо-западном углу раскопа. Для более полного еговскрытия в кв. Ж-К/16 была сделана небольшаяприрезка в 3,5 кв.м. Этот комплекс включал очаг,
серию углистых пятен, развал сосуда и различныенаходки. С восточной стороны он был ограниченестественным пологим уступом материкового га-лечника, расположенным почти по линии 14-14,высота его составляла от 8-10 до 25 см, а в кв. Е/14он постепенно выравнивался. У южной границыуступа в кв. Ж/14-15 выявлена группа из трехкрупных камней-галек с размерами от 15 до 25 см,рядом с камнями в кв. Ж/15 зафиксировано уг-листое пятно размером 50х25 см, перекрывающеематерик. Здесь же найдены концевой скребок уд-линенно-овальной формы с выступами по краямлезвия и отщеп с ретушью.
Примерно в центре этого комплекса в кв. З-И/15 располагался очаг. Очажное углубление имелонеправильную овальную форму с неровными гра-ницами, размеры его 90x70 см. Плечики углубле-ния пологие, дно чашевидное, неровное. В кровлеочажного заполнения выявлены крупные углис-тые пятна неправильной формы, а в разрезе онопредставляло собой изогнутую неравномерную потолщине линзу черного или темно-серого суглин-ка с углистыми включениями, толщина ее дохо-дила до 9 см. Здесь же располагались два неболь-ших камня. В очаге и непосредственно рядом с нимпомимо отщепов и сколов были найдены:
в кв. И/15 – обломок основания крупного би-фаса с противолежащим оформлением краев;
в кв. З/15 – скребок на сколе со сплошной об-работкой спинки, удлиненно-листовидный бифассредних размеров и нож на асимметрично-листо-видном бифасе.
С юго-западной стороны очага в кв. З/16 выяв-лен развал плоскодонного сосуда, обломки кото-рого были рассеянны по площади 60х70 см (в по-левой документации развал сосуда № 2). На пери-ферии этого развала располагались три углистыхпятна размерами от 15-20 до 30-35 см. От сосудасохранились около 200 обломков. На внутреннихповерхностях его тулова отчетливо заметны харак-терные следы заглаживания поверхности гребен-чатым инструментом, а на внешних сохранилисьостатки узора из оттисков фигурного штампа (рис.90, 6,7; 91). Здесь же найдены фронтальный сколс нуклеуса (рис. 66, 7) и угловатое ножевидно-скребловидное орудие на отщепе (рис. 73, 1).
Среди скопления керамики и непосредственнорядом с ним были найдены разрозненные отщепыи сколы, а также нож на асимметрично-листовид-ном бифасе, концевой скребок со сплошной уни-фасиальной обработкой спинки, удлиненно-треу-гольный наконечник стрелы на небольшом бифа-се с закругленным основанием и боковыми высту-пами, два отщепа с ретушью, один из них оченькрупный, галечный нуклеус и микропластина.
Рядом с развалом в кв. З/15, но примерно в 15см выше него по уровню, было зафиксировано ещеодно скопление керамики (в полевой документа-ции развал сосуда № 1). Оно состояло примерно из
41
сорока мелких фрагментов керамики с примесьюшамота и породных обломков, с плохо сохранив-шимися поверхностями и отчетливыми желобка-ми-трасами (рис. 92). Аналогичные по качеству об-ломки керамики были найдены в большом коли-честве, но в разрозненном состоянии в кв. З/11-13,Ж/13, И/15, Д/14.
Среди общей массы черепков, рассеянных вэтих квадратах, выделяются фрагменты иного ка-чества, изготовленные из мелкотекстурной мас-сы с крупными включениями красного шамота.Поверхности их были покрыты ярко-красной об-мазкой, которая в большинстве случаев была раз-рушена эрозией. На стенках с сохранившимсяслоем обмазки отчетливо видны желобки-трасы(рис. 93).
К северо-западу от комплекса с очагом и скоп-лениями керамики в кв. И-К/15-16 было расчище-но еще два крупных углистых пятна серого цвета,перекрывающих материк. Они занимали площадь100x75 см. Мощность их незначительна, около1 см или чуть более, границы нечеткие. Здесь же вкв. И/16 было выявлено овальное в плане чаше-видное углубление, возможно естественное, разме-рами 60х30 см и глубиной до 8-10 см, по краям еголежало два крупных камня. Концентрация нахо-док на этом участке несколько снизилась. Поми-мо отщепов и сколов здесь обнаружены:
в кв. И/16 – листовидный наконечник стрелы;в кв. К/15 – листовидный наконечник стрелы
и отщеп с ретушью.Стоит также упомянуть находки, сделанные не-
посредственно на плечике материкового уступа,ограничивающего с востока весь этот комплекс:
в кв. К/14 – заготовка скребка, перфоратор иво-листной формы, подтреугольный в сечении с лез-вием скребкового типа, оформленным ретушью;
в кв. И/14 – обломок небольшого бифаса;в кв. З/14 – скребок на сколе со сплошной уни-
фасиальной обработкой спинки;в кв. Ж/14 – крупный отщеп с краевой ретушью
(рис. 73, 3) и концевой скребок с прямым лезвием.У противоположной стенки раскопа в кв. З-И/
11 выявлен край крупной ямы с чашевиднымдном, глубиной до 10 см. Большая ее часть былавскрыта в 1995 г. в раскопе 1. Она с юга примыка-ла к «площадке мастера». Размер части этой ямы,вошедшей в раскоп 4, 130х50 см. С ее заполнени-ем связаны отщепы и разрозненные обломки ти-пичной осиповской керамики.
Среди последних следует выделить шесть час-тично склеивающихся фрагментов тулова одногососуда, украшенного двумя налепными валиками,поверх которых были нанесены едва заметные на-сечки (рис. 96). По соседству в кв. К/11, но чутьвыше по уровню залегания, найдена верхняя частьдругого сосуда, также украшенного двумя налеп-ными валиками (рис. 95). Качество формовочноймассы, сохранность и характерная патина позво-
ляют вполне уверенно говорить о принадлежнос-ти данных сосудов к осиповскому комплексу.
Вне комплексов и скоплений артефактов в се-верной части раскопа, кроме того, были найденыследующие изделия из камня:
в кв. К/11 – нуклеус высокой формы со скошен-ной площадкой (рис. 66, 6), микропластина, галеч-ный нуклеус, отщеп с ретушью;
в кв. К/12 – скребловидное изделие лодковид-ной формы с оббивкой по выпуклому краю, нако-нечник стрелы на небольшом листовидном бифа-се, три галечных нуклеуса и обломок бифаса;
в кв. К/13 – отщеп с ретушью, обломок неболь-шого бифаса и микропластина;
в кв. И/11 – три обломка небольших бифасов;в кв. И/12 – заготовка торцового нуклеуса с
негативами начальных снятий микропластин, сра-ботанный микронуклеус высокой формы;
в кв. И/13 – широкий листовидный наконеч-ник стрелы на небольшом бифасе, скребок с пря-мым лезвием, нож на асимметрично-листовидномбифасе;
в кв. З/11 – галечный нуклеус и обломок не-большого бифаса;
в кв. З/12 – обломок наконечника стрелы набифасе;
в кв. З/13 – нож на асимметрично-листовидномбифасе;
в кв. Ж/11 – крупный широкий отщеп с крае-вой ретушью и плоскостное ихтиоморфное рету-шированное изображение (?) (рис. 66, 4);
в кв. Ж/13 – галечный нуклеус;в кв. Е/13 – обломок наконечника стрелы на
бифасе, узкий массивный остроконечник с закруг-ленным основанием, изготовленный на бифасе(рис. 66, 3), обломок полукруглого лезвия, веро-ятно рубящего орудия, со следами ш л и ф о в к и .
Среди разрозненных фрагментов керамичес-кой посуды, собранных при снятии 2-го и 3-гопластов в северной части раскопа 4, следует упо-мянуть фрагмент стенки с остатками гребенчато-го тисненого узора из кв. Е/12, маленький обло-мок венчика из кв. К/11, который возможно при-надлежал сосудам с налепными валиками, а так-же маленький осколок сосуда из кв. З/11 с глубо-ким вдавленным желобком.
В южной части раскопа находки залегали в раз-розненном состоянии, не образуя скоплений, и безсвязи с каким-либо объектами. Среди изделий изкамня здесь были найдены:
в кв. Д/12 – крупный широкий отщеп с крае-вой ретушью (рис. 66, 5);
в кв. Д/13 – ш л и ф о в а л ь н ы й камень дляобработки древков стрел (калибратор), подтрапе-циевидный в плане, с тремя продольными желоб-ками (рис. 67, 2), отщеп с ретушью, нож на асим-метрично-листовидном бифасе, микроскребок наотщепе с ретушью, микропластина и крупныйширокий отщеп с краевой ретушью;
42
в кв. Д/14 – обломок обушковой части ш л и -ф о в а н н о г о долотовидного орудия с прямымикраями и овальным сечением (рис. 67, 1);
в кв. Д/15 – пластинка, полученная, вероятно,случайно при обработке сырья, обломок кинжало-видного бифаса удлиненно-листовидной формы сзакругленным основанием, отличающийся нео-бычно узкими и длинными пропорциями (другойего обломок обнаружен в кв. В/15) (рис. 66, 1), пил-ка на отщепе с зубчатой ретушью по одному краю;
в кв. Г/12 – ножевидно-скребловидное орудиена отщепе с угловатым лезвием (рис. 73, 2);
в кв. Г/15 – отщеп с ретушью;в кв. В/13 – заготовка торцового нуклеуса с не-
гативами начальных снятий микропластин, кон-цевой скребок со сплошной унифасиальной обра-боткой спинки;
в кв. В/14 – отщеп с ретушью;в кв. В/15 – галечный нуклеус, широкий лис-
товидный бифас в двух обломках (рис. 66, 2) ивторой обломок кинжаловидного бифаса из кв.Д/15;
в кв. Б/11 – удлиненно-листовидный бифассредних размеров, ножевидно-скребловидное ору-
дие на асимметрично-листовидном бифасе и мас-сивный черешковый наконечник стрелы;
в кв. Б/14 – отщеп с ретушью (рис. 51, 6) и пла-стинчатый скол;
в кв. Б/15 – два обломка наконечников стрелна мелких бифасах, тесловидно-скребловидноеорудие на крупном сколе с прямым лезвием и об-ломок небольшого бифаса;
в кв. Б/16 – обломок наконечника стрелы намелком бифасе;
в кв. А/13 – наконечник стрелы удлиненнойформы с выступами у основания;
в кв. А/15 – отщеп с ретушью и концевой скре-бок со сплошной унифасиальной обработкой.
Находки керамики в южной части раскопа 4крайне малочисленны. Из них следует упомянутьединичные фрагменты от сосудов с гребенчатымтисненым узором, найденные в кв. В/13 и Б/14(рис. 97, 8).
Завершая описание полевых работ в раскопе 4следует отдельно остановиться на характеристикеобъекта, интерпретированного нами как остаткипогребения. Он был выявлен при контрольном уг-лублении у западной стенки раскопа (по линии 15-15). При этом под слоем материкового галечникабыли зафиксированы углистые пятна и археоло-гические находки. Для полного изучения данногообъекта к кв. Б-В/16 была сделана вторая неболь-шая прирезка общей площадью 2 кв. м (рис. 12).
При выборке галечника с темно-желтым суг-линком постепенно оконтурилось углублениеовальной формы с неровными границами, разме-ры его 3,5x1,5 м, глубина до 15-20 см от уровняматериковой поверхности. Оно было ориентирова-но длинной стороной по линии «север-юг». Пле-чики углубления пологие, четкие, прослеженыпочти по всему периметру, кроме южного и юго-западного края.
На чашевидном, не очень ровном дне былавыявлена серия темно-серых углистых пятен раз-личной интенсивности, сливающихся в одно боль-шое пятно. Интересно, что в этих пятнах углистыхвкраплений как таковых не было, их структура,скорее, сажистая, что не характерно для очаговыхлинз. Важно обратить внимание на тот факт, чтосажистые пятна заполняли углубления в матери-ковом грунте, полностью соответствующие им поформе. Толщина сажистого слоя в этих углубле-ниях составляла всего 3-5 см. Сверху он был пе-рекрыт мелким галечником и гравием с темно-желтым суглинком мощностью около 10-15 см, ко-торый контактировал с вышележащим темно-жел-тым суглинком горизонта ЗБ (рис. 23-25).
Наиболее яркие и темные пятна располагалисьв северной части углубления. Здесь зафиксирова-но два пятна, по абрису напоминающие контур го-ловы и верхней части туловища человека. Разме-ры пятна «головы» 20х25 см, границы его четкие,под ним находилось овальное углубление глубиной
Рис. 23. Гончарка-1. Раскоп 4.Общий вид погребения с юга
45
около 5 см, также заполненное слоем сажистогосуглинка. Ширина пятна, образующего «тулови-ще», 54 см, длина 60 см, к югу оно постепенно выс-ветлялось, теряя четкость своих границ. Оба пят-на были соединены узким участком шириной от10 до 20 см, хотя и менее интенсивным, но также счеткими границами. В восточной стенке имелсянебольшой подбой, заполненный тем же темнымгрунтом, из которого состояли пятна, глубина егоне превышала 5-6 см (рис. 24). В северной полови-не ямы найдено несколько отщепов, скребок, об-ломок полупрозрачной сердоликовой гальки и двакрупных скребка.
В средней и южной частях ямы сажистый слойимел серый или светло-серый цвет. Только у само-го южного ее края пятна становились более ин-тенсивными по цвету – темно-серыми. Здесь жевыявлен наиболее интересный комплекс артефак-тов (рис. 26). Центральное место в нем занималитри предмета.
Во-первых, овальный в плане валун с плоски-ми поверхностями, размер его 31x23x8,5 см. Наверхней плоскости камня имелись три мелкие ок-руглые лунки диаметром 0,5-0,6 см, скорее всего,искусственного характера (рис. 54, 2).
Во-вторых, два фигурных предмета из камня,предварительно интерпретированных нами какскульптурные изображения (рис. 71-72). Они былиизготовлены из крупнозернистого базальта серо-коричневого цвета с использованием техник пике-тажа и пришлифовки. Один из них – более круп-ный – находился под валуном с лунками, второй –
в 30 см на северо-востоке от него. Напомним, чтоаналогичный комплекс, включавший валун с лун-ками на поверхности и два скульптурных изобра-жения, был обнаружен в раскопе 2 (рис. 18).
Следует добавить, что в южной части погребе-ния найдено еще несколько камней средних раз-меров, которые могли попасть в него вместе с за-сыпкой. Четыре камня залегали у юго-западногокрая, один – у восточного. У юго-восточного краяпогребения зафиксировано скопление небольшихгалек.
В заполнении ямы, на ее полу и в сажистомгрунте, обнаружены 35 отщепов из серого орого-викованного алевролита, отщеп из туфа и серия из-делий из камня. При выборке все они были после-довательно пронумерованы:
№ 1 – пластинчатая заготовка из желтовато-белой кремнистой породы с дорсальной ретушьюпо двум краям, оформляющей прямое и выемча-тое лезвия (рис. 70, 5);
№ 2 – обломок удлиненной гальки, расколотойвдоль, со следами использования в виде забитостина конце (рис. 70, 8);
№ 3 – крупный скребок подтреугольной формы,с прямым лезвием и подтеской брюшка у приост-ренного насада (рис. 69, 3);
№ 4 – массивный бифас овальной формы с од-носторонне-выпуклым сечением (заготовка тесло-видно-скребловидного орудия - ?) (рис. 68, 7);
№ 5 – обломок гальки желто-красного сердоли-ка со следами воздействия огня (рис. 70, 4);
№ 6 – небольшое тесловидно-скребловидное
Рис. 26. Гончарка-1. Раскоп 4. Деталь погребения. Вид с северо-востока
46
орудие подтреугольной формы, с прямым лезвиеми приостренным насадом, имеет следы воздей-ствия огня в виде розоватого оттенка (рис. 69, 4);
№ 7 – боковой скребок на сколе с ретуширован-ным краем, имеет следы эрозии (рис. 70, 1);
№ 8 – концевой скребок-унифас с округлым лез-вием и острым насадом (рис. 69, 6);
№ 9 –наконечник стрелы удлиненно-листовид-ной формы не небольшом бифасе (рис. 68, 6);
№ 10 – обломок грубо обработанного бифаса(рис. 70, 2);
№ 11 – торцовый нуклеус на гальке желтова-то-коричневой кремнистой породы, латерали икиль ретушированы, оформлена маленькая пло-щадка, имеются негативы снятий микропластин(рис. 70, 6);
№ 12 – небольшая галька красной яшмовиднойпороды со сколами;
№ 13 – провертка на удлиненно-треугольномсколе с ретушированным острием (рис. 70, 3);
№ 14 – крупный скребок подтреугольной фор-мы с прямым лезвием и приостренным насадом,бифасиально обработан (рис. 69, 2);
№ 15 – тесловидно-скребловидное орудие с гру-бой бифасиальной обработкой (рис. 68, 1);
№ 16 – крупный скребок подтреугольной фор-мы с прямым лезвием и приостренным насадом,бифасиально обработан (рис. 27; 69, 1);
№ 17 – грубообработанный концевой скребокподтрапециевидной формы с прямоскошеннымлезвием (рис. 69, 5);
№ 18 – крупный листовидный бифас с сильноэродированной поверхностью (рис. 68, 2) ;
№ 19 – широкий листовидный наконечникстрелы на небольшом бифасе (рис. 68, 5);
№20 –наконечник стрелы удлиненно-листовид-ной формы на небольшом бифасе (рис. 68, 4);
№ 21 – асимметрично-листовидный бифас с зак-ругленным основанием (рис. 68, 3).
Рис. 27. Гончарка-1. Раскоп 4.Скребок со следами огня в подбое восточнойстенки погребения
Рядом с камнем и фигурными пред-метами на дне ямы обнаружено такжеоколо десяти мелких фрагментов харак-терной осиповской керамики очень пло-хой сохранности. В целом, все черепкипохожи по качеству. Формовочная мас-са отличалась тонкозернистостью, при-месь в ней практически не заметна. Наодном из обломков видны типичные же-лобки-трасы. Один фрагмент представ-лял собой очень маленький, но типич-ный обломок венчика – с овальным от-тиском на плоском обрезе.
Некоторые из артефактов, найден-ных в непосредственной близости откомплекса с фигурными предметами,
имели сильно эродированную поверхность. Мож-но предположить, что такие изделия, а также от-щепы могли попасть в заполнение предполагаемо-го погребения случайно, вместе с галечно-гравий-ной засыпкой. Те же предположения можно сде-лать и для артефактов, найденных за его предела-ми. Часть предметов имеет прокаленную болеесветлую розовато-серую поверхность – они, напро-тив, видимо, связаны с этим комплексом.
Сам комплекс может быть интерпретирован какпогребение с использованием огня. В самом сажи-стом грунте обнаружен один очень мелкий фраг-мент пережженой кости. Следует заметить, что из-за состава грунтов в данном районе кость не сохра-няется, даже если она пережженная. Процессы вы-ветривания не оставляют следов костной ткани.Даже в очагах периода позднего неолита кость со-храняется только в виде мелких фрагментов.
Таким образом, обнаруженный комплекс име-ет следующие основные признаки: наличие удли-ненной ямы, темные сажистые пятна, повторяю-щие очертания силуэта человека, явно ритуаль-ный комплекс в южной части, включающий валунс лунками и парные фигурные предметы, а такжекерамику и каменные артефакты. Комплекс мож-но уверенно характеризовать как закрытый, и егоосиповская культурная принадлежность выглядитв данном случае несомненной, поскольку яма былаперекрыта материковой галькой с темно-желтымсуглинком, и с материковой поверхности ее пятносовершенно не прослеживалось. Как дополнитель-ные детали следует отметить два факта. Во-пер-вых, наличие у северного края ямы галечной от-сыпки, прослеженной при снятии пласта 1, веро-ятно, это остатки выброса из ямы. Во-вторых, на-ходка над погребением двух обломков бифаса, на-званного нами «кинжаловидным» за его редкуюформу. Не исключено, что такие бифасы изготав-ливали для культовых или ритуальных целей.
47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги полевым исследованиям поселе-ния Гончарка-1 в 1995-1996 гг., необходимо отме-тить следующие важные моменты.
Все стратиграфические разрезы поселения от-ражают единую картину формирования отложе-ний. Общий уклон дневной поверхности и всехслоев направлен в основном к юго-западу в сторо-ну долины ручья Гончарка и не превышает 7-8°. Восновании культурных отложений залегает слой4 из плохо сортированного галечника и валунни-ка различной степени окатанности, в основномнезначительной. В качестве наполнителя в нихприсутствует гравий, щебень, различные пески,супеси и суглинки.
Важной чертой стратиграфии памятника явля-ется наличие крупных полигонально-жильных де-формаций. Их основные признаки – ассиметрич-но-клиновидное сечение, немного выпуклая вер-шина, плотное, сцементированное заполнение изсуглинков и супесей бурого, коричневого и крас-новатого цвета с наполнителем из гравия и галь-ки, пламевидная, «затечная», текстура – позволя-ют уверенно говорить об их мерзлотном происхож-дении [Грехова 1990 и др.]. Все они впущены в слой4 от уровня его поверхности. Вдоль плечиков кри-огенных клиньев прослежены бугры из выдавлен-ного льдом окружающего грунта.
Развитие таких мощных криогенных деформа-ций можно уверенно связывать с периодом сар-танского (партизанского – по дальневосточнойклиматической шкале [Короткий и др. 1997]) тем-пературного минимума. Однако верхняя часть ихзаполнения с осиповскими артефактами, по всейвидимости, относится к межстадиалам конца нео-плейстоцена, когда происходило полное замеще-ние ледяных жил грунтовыми. К этому же време-ни можно относить образование прослоек бурогоочень плотного суглинка с признаками солифлюк-ционного смещения – слоя 5.
В раскопах 1995-1996 гг. данный суглинокпрослеживался только в криогенных клиньях и наих плечиках, а также в небольших углублениях вгалечнике в виде незначительных по мощности (1-2 см) прослоек, не содержавших находок. В 2001 г.аналогичный «криогеновый» суглинок был про-слежен в виде натечного «языка» в отрицательныхформах микрорельефа [Шевкомуд 2002 а]. Он со-держал перемещенные осиповские артефакты,которые по времени, скорее всего, аналогичны повозрасту обнаруженным в заполнении клиньев.
Кровля заполнения криогенных клиньев сгла-жена и перекрыта прослойкой светло-серого илисерого плотного суглинка 3В, почти не содержа-щего находок. В северо-восточной части вскры-той площади материковые галечники местамиперекрыты практически стерильной прослойкойсерого песка или опесчаненной супеси 3В’. Обра-
зование данных прослоек связано, вероятно, ссубаэральными процессами. Но наиболее важныйвывод заключается в том, что прослойка 3В стра-тиграфически четко отделяла заполнение клинь-ев от горизонта 3Б, свидетельствуя тем самым обопределенном временном разрыве между ними.
Основная масса материалов осиповской культу-ры была получена при изучении горизонта 3Б. Раз-резы свидетельствуют о том, что накопление ли-тологических горизонтов 3Б и 3А было медленными постепенным, переход между ними нечеткий иплавный. Никаких древних антропогенных дефор-маций этих отложений не прослеживается, чтотакже можно сказать и о слое 2, более гумусиро-ванном из-за близости к дневной поверхности слесной растительностью. Данное обстоятельствовыгодно отличает Гончарку-1 от большинства дру-гих древних поселений Нижнего Приамурья (Гася,Кондон, Сучу и др.), где представлены многочис-ленные объекты, впущенные в грунт от уровнядревней дневной поверхности: котлованы жилищ,хозяйственные и прочие ямы, а также земляныевыбросы из них. Все это позволяет говорить о пре-имущественно субаэральном генезисе слоев 2 и 3,видимые признаки естественного склонового пе-ремещения в них не прослеживаются. Маломощ-ный субаэральный чехол является характернымвидом покровных отложений высоких террасовид-ных поверхностей в нижнем течении Амура [Ма-хинов 2006: 34-35].
Локальные признаки смешанности слоев и пе-ремещение некоторых артефактов по вертикалиможно объяснить биотурбационным фактором,который, безусловно, имел место, как и на любомархеологическом памятнике. Современные антро-погенные нарушения прослеживаются только враскопе 2 в виде четких следов распашки. Однакоона затронула только слой 2 и литологический го-ризонт 3А. Таким образом, исходя из анализастратиграфии, можно говорить о целостностикультурных отложений Гончарки на основной час-ти вскрытой площади, что в свою очередь позво-ляет сделать ряд ценных выводов относительнохронологии заселения памятника.
Так, опираясь на данные стратиграфии, мыможем уверенно говорить, как минимум, о двуххронологических горизонтах обитания осиповс-кого населения в районе ручья Гончарка. Самыйранний из них связан с заполнением криогенныхклиньев. В раскопы 1-3 попал тридцатиметровыйучасток самого крупного из выявленных в ходераскопок клина, ориентированного по линии «се-вер-юг». Два других клина чуть меньшего разме-ра были ориентированы c некоторыми отклоне-ниями в широтном направлении и пересекали пер-вый клин, что и было зафиксировано в раскопах 2и 3. Еще две небольшие криогенные деформации
48
были выявлены в раскопе 3, но они имели здесь ло-кальное распространение и не содержали находок.
Каменные артефакты и фрагменты керамикиобнаружены только в верхних 20-30 см заполне-ния крупных криогенных клиньев. Планиграфи-чески они распределялись неравномерно. Доволь-но многочисленное скопление находок выявленона пересечении клиньев в раскопе 2, большое ихколичество обнаружено также в центральной час-ти раскопа 3. На других участках заполненияклиньев находок мало, и все они разрозненные, аво многих квадратах отсутствуют совсем. Пред-ставляют интерес лишь остатки донной части со-суда в клине раскопа 1 (рис. 13-14).
Данные находки, несомненно, связаны с наи-более ранним горизонтом осиповской культуры по-селения Гончарка-1. Часть материалов этого гори-зонта попала в мерзлотные клинья при их вытаи-вании, другая часть, по-видимому, сохранилась наповерхности памятника, но была перемещена со-лифлюкцией и плоскостным смывом. Непотрево-женные комплексы раннего горизонта могли сохра-ниться здесь лишь в отдельных понижениях мик-рорельефа.
Насыщенность раннего горизонта археологи-ческим материалом была небольшой. Вероятно,скопления находок в криогенных клиньях раско-пов 2 и 3 неслучайны и связаны с площадками оби-тания, которые остались от самых первых обита-телей памятника и могли располагаться в тех жеквадратах или выше по склону. На это могут ука-зывать, например, остатки кострища в кв. П/6 рас-копа 2, обнаруженные на участке древней поверх-ности, провалившейся в полость клина и перекры-той солифлюкционным суглинком.
Более поздний осиповский комплекс связан соснованием горизонта 3Б. Именно здесь быливыявлены непотревоженные скопления находок,приуроченные к хозяйственно-бытовым, производ-ственным и культово-ритуальным объектам. Ихразмещение было неравномерным: от высокой кон-центрации на одних участках до полного отсутствияна других. Всего можно выделить три зоны сосре-доточения осиповских культурных остатков в го-ризонте 3Б. Первая намечается в западной частираскопа 1 и примыкающей к ней юго-западнойчасти раскопа 2, вторая зона – в раскопе 3, третья –в северо-западных квадратах раскопа 4 (рис. 12).
В первой из отмеченных зон обращают на себявнимание два сходных комплекса хозяйственно-бытового характера. Прежде всего, это очажноепятно с крупным валуном и развалом большого со-суда в кв. Б-В/9. Рядом с очажным пятном обна-ружены две небольших ямки и незначительное ко-личество каменных артефактов. Второй комплексотмечен рядом в кв. А-Б/5-6. Здесь залегали облом-ки, как минимум, трех керамических сосудов,компактная группа камней и массивный валун, атакже целая серия каменных артефактов. Камни,
возможно, были связаны с очагом, следы которо-го не сохранились. Не исключено, что оба комп-лекса представляют собой остатки одного или двухжилых сооружений наземного типа.
Несколько в стороне в кв. Ж/5 выявлен ещеодин комплекс, состоящий из большого скоплениякерамических фрагментов и валуна. Каменные ар-тефакты в его пределах и рядом немногочисленны.Следов кострища в виде линз, пятен или скопленийугольков здесь не обнаружено. К хозяйственно-бы-товым объектам можно также отнести округлыеямы с чашевидным дном в центре раскопа 1 (кв.Г/5) и в его северо-западном углу.
Были выявлены в пределах первой зоны и скоп-ления производственного характера. Они залега-ли в ложбине над криогенным клином, соединяю-щим раскопы 1 и 2. Пространство здесь было гус-то усеяно находками, в числе которых три скоп-ления из отщепов и микроотщепов и два неболь-ших скопления мелких обломков керамики.
Здесь же, рядом с мерзлотным клином на по-верхности галечника или чуть выше него в кв. И-К/9-10 располагалась «площадка мастера» – ком-плекс из отщепов, микроотщепов, микропластин,нуклеусов и орудий, залегавший в углублении.Следует отметить, что «площадка мастера» быласвязана с расщеплением микронуклеусов, тогда какостальные скопления на этом участке представля-ли дебитаж, оставшийся после вторичной обработ-ки фасиальных орудий из серого ороговикованно-го алевролита.
Вторая зона высокой концентрации объектов,скоплений и находок, выявленная в раскопе 3,структурно аналогична первой. Центром ее явля-ется хозяйственно-бытовой комплекс с большимочагом в кв. Д’/5. В довольно мощном очажномзаполнении и рядом с ним обнаружен развал од-ного из самых примечательных сосудов Гончаркис декором в виде горизонтального гребенчатогозигзага. Чуть севернее очага располагались ещедва развала сосудов, а юго-западнее – крупный ва-лун. Комплекс сопровождался повышенной кон-центрацией отщепов, а также каменными издели-ями. По своим основным характеристикам данныйкомплекс практически повторяет тот, что найденв кв. Б-В/9: очаг, валун, развалы сосудов, камен-ные артефакты. Любопытно, что комплекс из кв.Д’/5, как и сравниваемый комплекс из раскопа 1,находился в ложбине над криогенным клином. Неисключено, что он также был связан с жилищем.Вокруг данного комплекса с северо-западной,южной и восточной сторон обнаружены довольнокрупные валуны, которые могли использоватьсядля укрепления конструкции жилища.
В ближайшем окружении комплекса в кв. Д’/5обнаружена группа хозяйственно-бытовых объек-тов, которые можно относить к внежилищным.Примерно в 2,5 м юго-восточнее обнаружено очаж-ное пятно № 1. В южной и юго-восточной части рас-
49
копа расположены в ряд три довольно крупные, нонеглубокие ямы. Наиболее интересный комплекссвязан с ямой III, вокруг которой выявлены четы-ре мелких ямки и развал сосуда. Ямки, вероятностолбовые, могли служить опорами для сооруже-ния типа навеса. Других находок в этой части рас-копа немного. Можно предполагать, что крупныеямы служили хранилищами пищевых запасов.
В раскопе 3 представлено только два произ-водственных скопления. Они распологались в раз-ных частях раскопа. Небольшое скопление из 15отщепов в кв. Ж’/2 чуть южнее очажного пятна № 1осталось на месте вторичной обработки фасиальныхорудий из серого ороговикованного алевролита,другое скопление в кв. К’/6 включает рассеянныедериваты микрорасщепления.
Третья зона максимальной концентрации отме-чена в раскопе 4. Ее центром является хозяйствен-но-бытовой комплекс с очагом в кв. З-И/15. Комп-лекс залегал в понижении, ограниченном с восто-ка естественным уступом галечной поверхности.Севернее и южнее очага выявлены обширные уг-листые пятна. Юго-западнее очага залегал развалсосуда со штамповыми оттисками, образующимифестоны, а северо-западнее располагалась оваль-ная яма с плоским дном, вероятно хозяйственная.
На участках раскопа, расположенных за преде-лами обозначенных зон с повышенной концентра-цией материала, находки единичны, но имеютсяочажные и костровые линзы, компактные скопле-ния дебитажа, керамики, а также комплексыкультово-ритуального назначения.
Почти все производственные скопления, обна-руженные на этих участках, связаны с обработкойсерого ороговикованного алевролита, и толькоодно – в кв. Ж’/9 – с микропластинчатым расщеп-лением. В раскопе 2 обнаружено три комплекса (С/6, Т/2-3, Л-М/1), каждый из которых включалскопление дебитажа и костровую линзу, что сви-детельствует, видимо, об определенной ситуациипри изготовлении фасиальных орудий. Крометого, три разрозненных скопления отщепов из оро-говикованного алевролита обнаружены в практи-чески «пустой» восточной части раскопа 1, а в се-веро-западной части раскопа 2 выявлены костро-вые линзы. Хаотичность расположения всех этихобъектов свидетельствует, скорее всего, о том, чтоони появились в результате неоднократных засе-лений территории памятника осиповскими куль-туроносителями.
Отметим характерные признаки планиграфи-ческого зонирования горизонта 3Б Гончарки.Прежде всего, относительно выделенных зон мак-симальной концентрации комплексов, скопленийи находок можно отметить следующее.
Во-первых, все три зоны довольно четко лока-лизованы и отделены друг от друга относительно«чистым» пространством, в котором количествонаходок и скоплений минимально.
Во-вторых, для них характерно наличие при-мерно одного и того же «набора» типологическисходных комплексов и скоплений. В них уверен-но диагностируется, как минимум, по одному вы-раженному очажному комплексу. Очаги во всехслучаях залегали либо в естественном углубленииматерикового галечника, либо в ложбинах надкриогенными клиньями и сопровождались разва-лами одного или нескольких сосудов. Близ очаговрасполагались валуны без следов использования,а также в двух случаях ямы разных размеров, в томчисле, возможно, столбовые. Имеются и каменныеорудия, но их количество может быть разным. Ве-роятнее всего, данные комплексы представляютсобой остатки жилых объектов.
Любопытно предпочтение осиповцами пони-женных участков рельефа для размещения своиххозяйственно-бытовых объектов. Это вполне мог-ло способствовать лучшему их обогреву в холод-ное время года и служить дополнительной защи-той от ветра. Впоследствии, как известно, жили-ща в Приамурье стали строить уже именно на ос-нове искусственных котлованов, т.е. с соблюдени-ем того же принципиального правила.
Другой характерный признак выделенных зонсостоит в наличии искусственных ям различныхразмеров – от довольно крупных (1 м и более) домелких. Крупные ямы имели небольшую глубину,уплощенное дно и были, вероятно, предназначе-ны для хранения пищевых запасов. Возможно, наих основе делались большие емкости-хранилищаиз органических материалов подобные тем, чтоотмечены в памятниках вознесеновской культурыпозднего неолита [Шевкомуд 2004 а: 24]. Мелкиеямы, вероятно, поддерживали столбы – опоры со-оружений типа навесов или жилищ. В любом слу-чае, в Гончарке-1 на ряде примеров убедительнозафиксирована практика создания искусственныхгрунтовых углублений различного назначения,которая в голоценовом неолите Дальнего Востокаполучила широчайшее распространение.
Еще одна характерная черта заключается в на-личии производственных комплексов в виде скоп-лений дебитажа и дериватов микрорасщепления.Следует отметить, что они четко разделяются надве группы. Первая связана с дериватами микро-расщепления (нуклеусы, микропластины, мелкиеотщепы, сколы из прочных кремнистых яшмоид-ных и туфогенных пород), вторая – с отщепами имикроотщепами серого ороговикованного алевро-лита, оставшимися от вторичной обработки фаси-альных орудий. Смешанных вариантов нет.
Важно подчеркнуть, что отсутствуют в мате-риалах Гончарки и скопления с признаками пер-вичной обработки заготовок фасиальных орудий,т.е. такие, в которых были бы представлены отще-пы, сколы и осколки с сохранившейся естествен-ной поверхностью на дорсале, – типичные отходыгрубой обработки глыб или галек. Вероятно, такая
50
первичная обработка происходила в другом месте,а на поселении выполнялась только окончатель-ная «доводка» уже оформленных заготовок.
Отдельно следует остановиться на двух комп-лексах, интерпретированных нами как культово-ритуальные. Оба они расположены на участках сминимальной концентрацией объектов и находок.Для них также характерен одинаковый наборпредметов нефункционального назначения: дваскульптурных изображения, названных нами У-образными, и валун с парциальной личиной. У-образные предметы из обоих комплексов несколь-ко различаются морфологически и по размерам, носемантика их, надо полагать, была одной и той же.
В связи с оценкой и пониманием данных комп-лексов прежде всего возникают два вопроса. Одинкасается их предназначения, другой – их культур-ной принадлежности. Последнее особенно важно,ведь в Гончарке имеются еще культурные остаткифинального неолита и палеометалла, а предметыиз культово-ритуальных комплексов не только де-монстрируют весьма высокий уровень владения аб-разивными технологиями, но и близки по переда-ваемым ими образам и приемам их воплощения кобразцам первобытного искусства более позднихэтапов амурского неолита.
Наиболее важным для ответа на оба эти вопро-са является комплекс, интерпретированный намикак погребение. Его ценность в том, что он отно-сится к категории закрытых. Его осиповская ат-рибуция, по нашему мнению, несомненна, и понескольким причинам.
Во-первых, на это указывают реальные стратиг-рафические аргументы. Погребение было закры-то галечно-щебнисто-суглинистыми отложения-ми, по плотности и структуре не отличавшимисяот материковой поверхности (слоя 4). Оно и былообнаружено совершенно случайно, при прокопкеузкой контрольной траншеи вдоль стенки по ли-нии 15-15. О позднем возрасте комплекса можнобыло бы говорить, если бы яма, в которой залега-ли артефакты, была впущена от уровня горизонта3А или слоя 2, а на уровне материка было бы за-фиксировано коричневое суглинистое пятно, соот-ветствующее по структуре и цвету вышележащимслоям. Но ничего этого не было. Ненарушенностьвышележащих отложений и заполненность ямыгрунтом, по структуре и плотности неотличимымот материкового, являются главным доказатель-ством того, что комплекс погребения не можетбыть моложе времени существования комплексовгоризонта 3Б.
Во-вторых, в данном комплексе обнаруженадовольно многочисленная группа артефактов иостатки керамической посуды, и все они однознач-но относятся к осиповской культуре. Если бы по-гребение относилось к позднему неолиту или па-леометаллу, это легко можно было бы определить
даже по одному предмету, т.к. материалы поздне-го неолита и палеометалла Нижнего Приамурьяизучены к настоящему времени довольно неплохои не представляют сложностей для атрибуции [Де-ревянко 1973, 1976; Шевкомуд 2004 а].
В-третьих, У-образный предмет был обнаруженв осиповском слое поселения Сакачи-Алян (ниж-ний пункт). Это можно рассматривать как допол-нительный аргумент в пользу осиповской культур-ной принадлежности артефактов данного типа[Медведев 2001].
Что касается интерпретации рассматриваемо-го комплекса как погребения, то следует отметить,что он имеет все необходимые признаки объектовтакого рода: закрытая удлиненная яма, ритуаль-ные предметы (У-образные артефакты и валун сизображением парциальной личины) и повседнев-ный инвентарь (остатки керамического сосуда,скребки, тесловидно-скребловидные и другие ору-дия, в том числе имеющие следы воздействия огня),признаки погребения человека в виде сажистыхпятен, заполняющих ямы,повторяющие по формеконтур человеческой головы и тела. Кроме того, взаполнении сажистых пятен был обнаруженочень мелкий (до 3 мм) фрагмент кости со следа-ми обожжения. Конечно, трудно утверждать, чтокость принадлежит именно человеку, но как кос-венный факт это, безусловно, имеет значение.
Некоторые сомнения могут вызывать следы ис-пользования огня, явно фиксирующиеся в данномкомплексе. На юге Дальнего Востока и в Северо-Восточном Китае наиболее древние погребениятакого рода пока соотносятся только с позднимнеолитом [Алкин 1995], однако связь огня, очагас погребальной практикой известна еще со временверхнего палеолита [Добровольская 2010].
Очень важно, что в раскоп 2 попал еще одинкомплекс, близкий к погребению по набору пред-метов. Он располагался не в яме, а на материковойповерхности и включал только парные У-образныепредметы и валун с изображением парциальнойличины, какие-либо иные находки связать с нимдостоверно нельзя. У-образные предметы из это-го комплекса, безусловно, являются высокохудо-жественными произведениям древнего искусства.Особенно это относится к изделию с изображени-ем антропоморфной личины.
Сходство описанных выше культово-ритуаль-ных комплексов проявляется не только в наборекультовых предметов, но и в следующем факте.Предполагаемое погребение было ориентированопо линии «север-юг» «головой» на север. В комп-лексе в кв. Р/9 У-образные предметы залегали в до-вольно специфическом положении, за которымтрудно усматривать случайность. Они были уложе-ны вплотную друг к другу и образовывали фигу-ру, длинной стороной ориентированную также полинии «север-юг». И хотя явных признаков погре-
51
бения здесь не обнаружено, на основании анало-гии с закрытым комплексом в раскопе 4 можнопредположить, что комплекс в кв. Р/9 также могпредставлять собой остатки погребения. Достовер-ная интерпретация его, конечно, вряд ли возмож-на, однако в любом случае очевидно, что он имееткультовый характер.
Подводя итоги, сделаем несколько предположе-ний относительно функционального использова-ния памятника в целом.
Во-первых, отсутствие признаков первичнойобработки каменного сырья исключает трактовкуГончарки-1 как стоянки-мастерской.
Во-вторых, на памятнике выявлено несколькокомплексов хозяйственно-бытового и культовогохарактера, обособленных друг от друга относи-тельно «чистыми» или необжитыми участками. Впределах последних довольно хаотично распола-гались отдельные производственные и бытовыеобъекты (костровые линзы, скопления дебитажаи т.п.). В сочетании с данными хронологии и ре-зультатами технико-типологического анализа ке-рамики (см. гл. 4) это, по-видимому, указывает нанеоднократное заселение территории памятникаразличными группами осиповского населения.
В-третьих, сам факт наличия отдельных зонобитания с высокой концентрацией находок, со-провождающихся мощными очажными линзами,
а также присутствие разнотипных хозяйственно-бытовых и производственных комплексов, в томчисле, возможно, и остатков жилищ, позволяет го-ворить о том, что по крайней мере иногда времяобитания осиповских культуроносителей на па-мятнике было достаточно длительным.
В-четвертых, некоторую специфику Гончаркепри сравнении ее с другими осиповскими памят-никами придает то обстоятельство, что здесь най-дено два комплекса культового назначения.
Для понимания общего характера памятниканеобходимо учитывать, что в устье руч. Гончаркаобнаружены еще три осиповские стоянки (рис. 28).По-видимому, этот участок служил излюбленнымместом обитания осиповского населения – постоян-ного или сезонного характера. Поэтому можнопредположить, что площадка, занятая ныне Гон-чаркой-1, могла функционировать в осиповскоевремя и как отдельное поселение, и как часть бо-лее широкого поселения, и как место периодичес-кого посещения людей с определенными хозяй-ственными или культово-ритуальными целями.
В заключение отметим, что с учетом всех дан-ных можно утверждать, что поселение Гончарка-1представляет собой полноценный археологичес-кий источник по начальному неолиту Приамурья,который позволяет ставить и решать исследова-тельские задачи самого широкого круга.
ГЛАВА 2
ХРОНОЛОГИЯ. ПАЛИНОЛОГИЯ. ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ
Абсолютная хронология
Один из главных вопросов, которые вызываютматериалы поселения Гончарка-1, безусловно, свя-зан с определением их хронологии. Важнейшимаргументом при решении подобного рода вопросовсегодня являются результаты радиоуглеродногодатирования. Использовался 14С метод и при изу-чении Гончарки. Материалом для датированияслужил уголь и нагар на стенках керамическихсосудов. Уголь признается специалистами наибо-лее надежным источником [Орлова 1995]. В отно-шении нагара имеется проблема, связанная с «эф-фектом резервуара»[Fischer, Heinemeier 2003;Cook et al. 2001]. Как правило, даты, полученныепо нагару, древнее археологического возраста и 14Сдат по углю, разница между ними может доходитьдо нескольких сотен лет. Поэтому значения дат понагару приходится рассматривать как ориентиро-вочные, их нет смысла калибровать, чтобы полу-чить календарный возраст. Но для доказательствадревности керамики и слоя в целом они безуслов-но имеют большое значение.
Конкретные методы датирования включалижидкостно-сцинтилляционную методику и уско-рительную масс-спектрометрию (AMS) [Кузьмин2005: 16-20; Вагнер 2006: 157-198, 442-460]. Датыбыли получены в лабораториях УниверситетовАризоны (г. Тусон, США) [АА], Токио [TKa] и Га-кушуин [GaK] (Токио, Япония), а также в нацио-нальной лаборатории Лоренса в Ливерморе (Кали-форния, США) [LLNL]. Даты c индексами AA,LLNL, TKa получены методом AMS.
Важным преимуществом радиоуглеродного ме-тода является возможность калибровки 14С дат сцелью получения календарного возраста датируе-мых объектов. Для этого нами использовалась наи-более популярная среди специалистов компьютер-ная программа Calib Rev 5.0.1 [Stuiver, Reimer1993], созданная на основе калибровочной кривойIntCal04 [Reimer et al. 2004]. При калибровке при-нималось значение доверительного интервала,
равное ±2 сигма. Календарные даты (cal BC) име-ют как точку отсчета начала хронологии 1950 г.
При оценке результатов радиоуглеродного да-тирования Гончарки необходимо учитывать следу-ющие обстоятельства.
Во-первых, на большей части вскрытой площа-ди памятника осиповский культуросодержащийгоризонт не имел существенных нарушений. Здесьотсутствовали комплексы более поздних культур,при сооружении которых такие нарушения моглибы возникнуть – жилища с углубленными котло-ванами, крупные хозяйственные ямы и т.п. По-здние вторжения если и имели место, то минималь-ные, индицируются они единичными артефактамии, скорее всего, связаны с биотурбационными про-цессами. Важным обстоятельством является так-же наличие горизонта 3А, на значительной пло-щади практически стерильного. Он перекрывал го-ризонт 3Б и способствовал его консервации.
Во-вторых, хотя археологический материал,«запечатанный» в криогенных морфоструктурах,имел явно переотложенный характер, со стратиг-рафических позиций его вполне можно рассмат-ривать как закрытый комплекс более раннего вре-мени, чем горизонт 3Б.
В-третьих, уголь для датирования осиповскогогоризонта в большинстве случаев происходил изхозяйственно-бытовых комплексов, включавшихв себя не только очаги и кострища, но и непосред-ственно связанный с последними археологическийматериал – развалы сосудов, скопления каменныхартефактов и т.п. Исходя из этого связь получен-ных дат с находками осиповского облика выгля-дит вполне надежной, а кроме того, это дает воз-можность для контроля результатов 14С датирова-ния типологическими наблюдениями.
Для датирования находок из криогенных де-формаций были отобраны образцы из скоплениямелких углей в кв. Д/8, обнаруженного в буромплотном суглинке на глубине 0,9-1 м от дневнойповерхности и в 25-35 см от кровли заполненияклина. По данным образцам, обработанным в двух
53
лабораториях, были получены следующие даты:12500±60 л.н. (LLNL-102169) и 12055±75 л.н.(AA-25437). В калиброванном виде они дают пе-риод 13010–11810 лет до н.э. В этом же квадратена глубине 0,8 м от дневной поверхности и в 15 смот кровли клина, т.е. немного выше места отбораугля, была обнаружена донная часть сосуда.
Для горизонта 3Б были получены четыре радио-углеродные даты. Две из них связаны с комплек-сом, обнаруженным in situ в кв. Б-В/9 раскопа 1 ивключавшим очажную линзу, небольшой валун,развал сосуда, каменные артефакты и др. (рис. 12;15). По двум образцам угля, отобранным из раз-ных частей очажной линзы, были получены сле-дующие достаточно близкие даты: 9890±230 л.н.(GaK-18981), 10590±60 л.н. (LLNL-102168). ДатаGaK-18981 получена жидкостно-сцинтилляцион-ным методом с использованием образца малоговеса, вероятно, поэтому она имеет большой дове-рительный интервал. Дата LLNL-102168, получен-ная методом AMS, более точно отражает возрасткомплекса. В калиброванном виде она дает пери-од 10850–10450 лет до н.э.
Две другие даты получены из комплекса в кв.Д’/4-5 раскопа 3. Он включал в себя мощную очаж-ную линзу, развал сосуда с гребенчатыми зигзага-ми, каменные артефакты и др. и также обнаруженin situ (рис. 12; 21). По двум образцам древесногоугля, отобранным из разных частей очажной лин-зы, были получены даты 10280±70 л.н. (AA-25438),10280±70 л.н. (AA-25439). В калибованном видеони дают период 10430–9820 лет до н. э.
Имеются также две 14С даты, полученные понагару с сосуда из данного скопления (рис. 85):11110±60 (TKa-15003), 11390±60 (TKa-15004)1.Они, как видно, древнее дат по древесному углюпримерно на 1000 лет, что объясняется «эффектомрезервуара». Их значения, конечно, следует оце-нивать как приблизительные и нельзя рассматри-вать в одном ряду с датами, полученными по дре-весному углю. Вместе с тем, эти результаты быливполне предсказуемы, и в целом даты по нагару сосиповского сосуда полностью согласуются с дата-ми по древесному углю, подтверждая древний воз-раст осиповского комплекса.
Приведенным выше данным соответствуют и14С даты, полученные по образцам угля из очаж-ных линз, взятым в ходе раскопок 2001 г. Для го-ризонта 3Б имеется дата 10550±80 (TKa-13007),для нижележащего горизонта 3В (слой 4 в раско-пе 2001 г.) – дата 11340±110 (TKa-13005).
Анализируя полученные даты, хотелось бы об-ратить внимание на следующее.
Во-первых, все они указывают на финально-плейстоценовый возраст осиповского комплексаГончарки. При этом надежность этих дат вряд лиможет вызывать сомнения. Образцы угля отбира-лись в условиях ясного стратиграфического и ар-
хеологического контекста, сами даты дублирова-ны и согласуются друг с другом, а также с датами,полученными по нагару с керамики осиповскогооблика, несколько удревненными вследствие «эф-фекта резервуара». Кроме того, результаты дати-рования Гончарки-1 полностью соответствуют ирезультатам 14С датирования других осиповскихпамятников (табл. 1, 2).
Во-вторых, комплексы горизонта 3Б показаливозраст заметно более поздний по сравнению с ма-териалами из заполнения криогенных клиньев.При этом надо подчеркнуть, что датированныекомплексы горизонта 3Б располагались точно надкровлей двух крупных криогенных деформаций иперекрывающей их прослойкой серого суглинка3В, из чего следует, что данные стратиграфии под-тверждают результаты 14С датирования, свиде-тельствующие о более раннем возрасте находок иззаполнения криогенных деформаций.
В-третьих, датированные комплексы горизон-та 3Б из раскопов 1 и 3 оказались несколько раз-личающимися по времени, что, по-видимому, ука-зывает на наличие между ними микрохронологи-ческих различий, возможность существования ко-торых вытекала из планиграфического анализавыявленных в раскопе объектов осиповского куль-турного горизонта.
Таким образом, можно считать, что материалыосиповской культуры стоянки Гончарка-1 датиро-ваны вполне надежно. Результаты радиоуглерод-ного датирования и стратиграфические наблюде-ния позволяют выделить в них как минимум двахронологических горизонта. Ранний явно древнее12 тыс. л.н., а поздний формировался в интервалемежду 11 и 10 тыс. л.н. При этом оба горизонтасогласно современным представлениям о хроноло-гической границе между плейстоценом и голоце-ном относятся к финалу неоплейстоцена [Walkeret al. 2009].
Для понимания общей ситуации, зафиксиро-ванной на поселении Гончарка-1, необходимо ос-тановится на результатах датирования его позднихкомплексов. С этой целью обратимся к материа-лам поселения Новотроицкое-12 (Гончарка-6), ко-торое находится в нескольких метрах на юго-за-пад от Гончарки-1 (рис. 28). Оно имеет более низ-кий гипсометрический уровень, занимая шести-метровый мысовидный уступ на правом берегуруч. Гончарка в 150 м от его устья. ПоселениеНовотроицкое-12 исследовалось в 2004 г., в общейсложности здесь было вскрыто около 170 кв.м.[Шевкомуд и др. 2006].
Данный геоархеологический объект имеетбольшое значение для нашей работы. Он входит вгруппу из шести памятников в устьевой части руч.
1Авторы благодарят Йошида Кунио и Куникита Даи зарадиоуглеродное датирование данного сосуда.
57
Гончарка, расположенных весьма компактно исходных по хронологии, технико-типологическимхарактеристикам инвентаря и иным признакам(рис. 28). В нем выявлены комплексы, аналогич-ные поздним материалам Гончарки, при этом весь-ма яркие и надежно датированные. Нижний слой3 представляет жилище и материалы малогаванс-кого варианта вознесеновской культуры позднегонеолита, слой 2 содержит керамику польцевскойкультуры эпохи палеометалла. Хронология Ново-троицкого-12 определяется стратиграфически исерией радиоуглеродных дат.
Для неолитического слоя по образцам из очаж-ных и костровых линз получены 14С даты 3650±40 л.н. (TKa-13490), 3540±40 л.н. (TKa-13491) и4050±40 л.н. (TKa-13495), которые после калиб-ровки указывают на конец 3-го – первую четверть2-го тыс. до н.э. как на наиболее вероятное времясуществования поздненеолитических обитателейпамятника. Дата TKa-13495 на фоне двух другихвыглядит удревненной, но это можно связывать сболее древним возрастом самого древесного образ-ца. Для польцевского комплекса из углистых про-слоек на уровне древней дневной поверхности по-лучены две даты: 1825±35 л.н. (TKa-13492),1885±35 л.н. (TKa-13493). После калибровки этихдат можно утверждать, что площадь стоянки Но-вотроицкое-12 осваивалась носителями польцевс-кой культуры в первой четверти 1-го тыс. н.э., наи-более вероятно – во 2 в. н.э.
На поселении Гончарка-1 материалы малога-ванского варианта вознесеновской культуры най-дены на небольшом периферийном участке раско-па 2 и связаны с кровлей горизонта 3А. По пробеугля из наземного очага (раскоп 4,2001 г.) для них была полученадата 3610±60 л.н. (TKa-13006), хо-рошо вписывающаяся в интервалдат, известных для памятников ма-логаванского типа позднего неоли-та [Шевкомуд, Кузьмин 2009].
Остатки польцевской культурыбыли связаны с тем же участкомпоселения Гончарка-1, что и мало-гаванские находки, хотя они ибыли распределены в пределах рас-копа чуть более широко. 14С дат дляпольцевского комплекса не получе-но, однако результатов датирова-ния поселения Новотроицкое-12достаточно, чтобы объективнопредставить его хронологическоеположение.
Таким образом, абсолютная хронология комп-лексов поздних культур поселения Гончарка-1 ис-следована также достаточно полно и обоснованавполне надежно.
Палинология
С целью уточнения хронологии и полученияинформации о палеогеографической обстановке впериод обитания на поселении Гончарка-1 носите-лей осиповской культуры была отобрана серия об-разцов на спорово-пыльцевой анализ. Для этогобыл выбран участок западной стенки раскопа 3 подпикетом Ж’/10, где по вертикали представленывсе наиболее важные литологические слои и про-слойки, отмеченные в материалах памятника.Кроме того, важно подчеркнуть, что на этом участ-ке полностью отсутствовали признаки обитаниякакого-либо иного населения, кроме осиповского,что предполагает известную степень сохранностиестественной седиментации отложений.
Образцы отбирались через 10 см с учетом ли-тологических подразделений разреза, на глубину1 м от дневной поверхности (всего 10 образцов).Спорово-пыльцевой анализ позволил довольноуверенно выделить 10 фаз развития и смены рас-тительных сообществ в районе памятника от фи-нала неоплейстоцена до настоящего времени. Под-робные сведения о методике отбора образцов, ре-зультатах анализа и другие сведения изложены вприложении к данной главе.
Две самых ранних и холодных фазы отмеченыдля верхней части заполнения мерзлотного кли-на. Для фазы 1 характерны спорово-пыльцевыеспектры холодных тундро-лесостепей с незначи-
Рис. 28. План расположения разновре-менных памятников в долинеручья Гончарка: 1 – Гончарка-1;2 – Гончарка-2; 3 – Гончарка-3;4 – Гончарка-4; 5 – Гончарка-5;6 – Гончарка-6; 7 – Новотроицкое-3
58
тельными лиственничными и березовыми лесами,а также широкими площадями, занятыми ли-ственничными марями и кустарниковыми тундра-ми. Доминируют злаково-полынные и полынно-разнотравные ассоциации, распространены сфаг-новые болота. Данная растительность соответству-ет континентальному крио-ксерофитному похоло-данию позднеледниковья. Для фазы 2 характернопреобладание суммы спор и пыльцы травянистыхрастений до 86%. Среди древесных преобладаютбереза (в том числе кустарниковая), осина, тополь.Спектры фазы 2 отражают обстановку холоднойлесостепи с участками (колками) березовых и бе-резово-осиновых лесов, лиственничными марями,а также тенденцию к потеплению климата в срав-нении с фазой 1.
Таким образом, фазы 1-2 с их тундро-лесостеп-ными спектрами можно уверенно связывать с фи-налом неоплейстоценового оледенения. 14С датыпозволяют уточнить палинофакты и соотнестифазы 1-2 с ранним дриасом – переходом к аллере-ду. По современным хронологическим данным этопримерно период 12500-12000 л. н. [Короткий идр. 1997:133-134; Короткий 2001: 48], что согла-суется с радиоуглеродными датами из криогенныхдеформаций Гончарки-11.
В определенном смысле переломной можно счи-тать фазу 3, отраженную в палиноспектре прослой-ки серого суглинка 3В, перекрывающей кровлюзаполнения мерзлотного клина. Это фаза осветлен-ных березовых и лиственничных лесов, с участка-ми хвойно-широколиственных, с некоторымуменьшением площади болот и марей. Отмеченорезкое – до 27% среди древесных пород – возрас-тание пыльцы широколиственных деревьев и дажепоявление дуба монгольского, ореха маньчжурс-кого и тому подобных теплолюбивых пород. В тоже время в группе древесных уменьшается про-цент пыльцы берез до 31% (в отличие от сорока иболее процентов в фазах 1-2). Спектры спор и пыль-цы трав также отражают обстановку резкого по-тепления климата в конце неоплейстоцена, кото-рое с наибольшей вероятностью соотносится с ал-лередом, датированным в радиоуглеродном интер-вале около 12000-11350 л.н. [Короткий 2001: 48].
Приведенные данные хорошо согласуются состратиграфическими наблюдениями, согласно ко-торым крупные криогенные деформации Гончар-ки к данному периоду были полностью заполненыгрунтом и «запечатаны».
Фазы 4-6 связаны с разными уровнями горизон-та 3Б. Фаза 4 отражает нижний уровень горизон-та 3Б и характерную для него обстановку хвойно-березовых и осиново-березовых лесостепей с учас-тками лиственничных, елово-кедровых лесов, бо-лот, марей и лугов. Лесостепной характер ланд-шафтов индицируется минимумом пыльцы древес-ных пород при возрастании пыльцы трав и кустар-
ников. Таким образом, спорово-пыльцевой спектротражает явное похолодание и остепнение клима-та по сравнению с фазой 3.
Похолодание и аридизация климата усилива-ется в фазе 5, представляющей средний уровеньгоризонта 3Б. Для нее были характерны ландшаф-ты лиственничных и осиново-березовых лесосте-пей, со значительной площадью марей и болот, атакже остепненных лугов и лугово-степных ассоци-аций. Ярким показателем похолодания являетсяувеличение среди древесных пород пыльцы березы(до 37%) и особенно кустарниковой (до 13%).
Напомним, что именно с нижней и средней ча-стью горизонта 3Б связан основной культуросодер-жащий горизонт Гончарки-1. Его 14С даты хорошокоррелируют с современными сведениями по хро-нологии позднего дриаса – 11100-9995 л.н. , с ко-торым мы таким образом имеем все основания со-поставлять фазы 4-5 [Короткий 2001:48].
В фазу 6, соответствующую верхнему уровнюгоризонта 3Б, наблюдается существенное потепле-ние климата. Распространены спектры светлыхразреженных березово-лиственничных и кедрово-широколиственных лесов, с участками марей, бо-лот, лугов, приречных пойменных лесов и кустар-никовых зарослей. Данная фаза отражает измене-ния климата в начале голоцена, в пребореальныйи бореальный периоды, что хронологически соот-ветствует периоду 10000-8000 л.н.
Дальнейшее потепление климата и климати-ческий оптимум голоцена характеризуют фазы 7и 8, связаные с разными уровнями горизонта 3А.Фаза 7 – нижний уровень – отражает спектрыхвойно-широколиственных и березово-широколи-ственных лесов с участками марей, болот, лугов.Данные спектры связаны с атлантическим перио-дом голоцена. Фаза 8 – верхний уровень – отража-ет доминирование хвойно-широколиственныхлесов со значительным – до 25% палиноспектра –присутствием кедра, со вторичными березнякамина террасах, увеличением площадей болот и ма-рей. Климат стал более влажным, чем в фазу 7. Вцелом, фаза 8 сопоставляется со второй половинойатлантика или, что более вероятно, со вторым кли-матическим оптимумом суббореала, который да-тируется позднее 4100 л.н. [Короткий и др. 1997:139]. С версией о суббореальном возрасте фазы 8согласуется тот факт, что малогаванский вариантвознесеновской культуры, материалы которогообнаружены в горизонте 3А, по стратиграфии и
1 Сопоставление абсолютного возраста археологичес-ких комплексов и климатостратиграфических подразде-лений дается на основе некалиброванных значений радио-углеродных дат, как это принято в российских работах попалеогеографии. Здесь и далее по тексту, если не указаноиное, приводится радиоуглеродный возраст объектов.
59
серии 14С дат из различных памятников НижнегоПриамурья датируется в интервале 3700–3500 л.н.[Шевкомуд 2004 а: 136].
Фазы 9 и 10 имеют очевидные признаки антро-погенного воздействия на характер растительныхсообществ. Фазу 9, связанную со слоем 2, характе-ризует присутствие вторичных березняков и бере-зово-широколиственных лесов, что соответствуетсубатлантику и хорошо коррелирует с возрастомкомплекса эпохи палеометалла Гончарки, попада-ющим в интервал между рубежом эр и первой чет-вертью 1-го тыс. н.э. [Шевкомуд и др. 2006: 137].Фаза 10 отражает растительность историческоговремени 15-20 вв., в том числе наличие сельскохо-зяйственных угодий.
Надо отметить, что признаки палиноспектров,которые можно связывать с антропогенным воздей-ствием на среду, прослеживаются уже в фазе 4, ког-да отмечается повышенное количество пыльцы по-лыней, что вообще характерно для культурных сло-ев археологических памятников. Признаки, свиде-тельствующие о земледелии, фиксируются в фазе8. Но эта пыльца в незначительном количестве мог-ла попасть в горизонт 3А случайно из слоев 1 и 2.
Палеогеография
Для более полного понимания материалов по-селения Гончарка-1 представляют большой инте-рес данные палеогеографии. В сочетании с резуль-татами палинологического анализа они позволя-ют лучше понять общие условия, в которых про-ходила жизнедеятельность носителей осиповскойкультуры в целом, в том числе и тех из них, ктообитал в районе ручья Гончарка.
В настоящее время по различным источникам,в том числе по результатам собственных разведок,нами учтено около 70 памятников осиповскойкультуры. Ареал их распространения растянулсяпочти на 550 км с севера на юг вдоль долин Амураи Уссури: от памятников в Эвороно-Горинском гео-археологическом районе на северо-востоке Ниж-него Приамурья до стоянки Сяонаньшань у г. Жа-охэ (КНР) в низовьях р. Уссури [Хэйлунцзян Жа-охэ Сяонаньшань…] (рис. 29). Его широтное про-стирание определяется, вероятно, границамиамурской долины и может составлять не менеедвухсот километров.
Разумеется, в действительности ареал осипов-ской культуры мог быть значительно большим.Так, по мнению В.Е. Медведева, он совпадал с гра-ницами всей Среднеамурской низменности (Сань-цзяна) [1995: 231]. Другие специалисты комплек-сы осиповской культуры (или – традиции) выде-ляют в долине Амура западнее Малого Хингана[Петров, Сапунов 1999] и на Сахалине [Василевс-кий 2008: 184-186]. Однако из-за отсутствия ре-зультатов подробной сравнительно-корреляцион-
ной аналитики все эти наблюдения корректнеепринимать пока только как рабочую гипотезу.
В целом хотелось бы отметить, что делать окон-чательные суждения относительно осиповскогоареала пока преждевременно. Значительные поплощади территории Среднего и Нижнего Приаму-рья изучены явно недостаточно. Это относится кбассейну р. Уссури и особенно к участку амурскойдолины от ее устья до Малого Хингана, где осипов-ские памятники вообще неизвестны, а также к тер-ритории китайской провинции Хэйлунцзян, ин-формация о которой еще и труднодоступна из-заязыкового барьера.
В основном осиповские памятники сосредото-чены в центральной части своего ареала – от устьяУссури вниз по Амуру до района современного с.Сикачи-Алян, т.е. на сравнительно небольшомучастке общей протяженностью около 90 км [Шев-комуд 2002 б; 2005 б]. Они занимают высокие тер-расовидные поверхности главным образом право-го берега этих рек. Данную ситуацию вряд ли мож-но считать случайной. По-видимому, она былаобусловлена теми природными условиями, кото-рые сложились на этом участке амурской долиныв финале неоплейстоцена.
Согласно современным данным, Среднеамурс-кая низменность представляет собой верхнечетвер-тичную полигенетическую аккумулятивную рав-нину, сформированную на месте крупных текто-нических структур, испытывавших длительноеопускание [Махинов 2006: 38]. В конце межлед-никовья и во время последнего оледенения (от 30-25 до 15-12 тыс. лет назад) долина Амура непре-рывно заполнялась аллювиальными наносами. Вконце этого периода на территории Среднеамурс-кой низменности отмечался максимальный уро-вень аккумуляции за всю историю амурской доли-ны. Уровень Амура и Уссури был выше современ-ного примерно на 10 м и площадь водной поверх-ности была значительно большей (рис. 29). Этофиксируется, в частности, по гипсометрическимуровням пойменных поверхностей позднеплейсто-ценового возраста (до 10 м над современным уров-нем Амура), а также по комплексу других данных.
На этих весьма обширных пространствах былишироко представлены значительные по размерамподпрудные палеоозера, значительно превышаю-щие по площади крупнейшее современное озероБолонь. В настоящее время ложбины и реликтыозер данного типа хорошо прослеживаются в ре-льефе. В устьях крупных притоков Амура (Анюй,Гур, Уссури, Тунгуска и др.) развивались большиепо площади (размерами до 40х50 км) конусы вы-носов. Аналогичные морфообразования, но мень-шего масштаба, формировались в устьевых зонахнебольших горных рек. Их отложения вместе сошлейфами склоновых отложений составляют зна-
Рис. 29. Палеогеографическая ситуация и геоархеологическое районированиев районе слияния Амура и Уссури в финале неоплейстоцена.
I – Хехцирский геоархеологический район (a – хехцирский субрайон, b – хабаровский субрайон),II – Малышево-Сакачи-Алянский геоархеологический район.
1-4 – Сакачи-Алян, Госян, Гася, Малышево-2 («У кладбища»); 5-8 – Осиповка-1-3, Амур-2; 9-11 – Богдановка,Амурский Санаторий, Мясокомбинат; 12 – Рыбный Порт; 13 – Казачья Гора; 14 – «У собачьего питомника»;
15 – Дабанда-2; 16 – Дарга-1; 17 – Джермень; 18 – Энтузиаст; 19 – Корсаково-4; 20-41 – Осиновая Речка-1-2, 4-12, 16-17, 19, 23-25, 27-31; 42-54 – Гончарка-1,3; Новотроицкое-1, 3, 4, 6, 8, 10, 13-16; 55-57 – Бычиха-1, 4, 7;
58 – Казакевичево-7; 59 – Казакевичево-5; 60 – Лесное, 61 – Бархатная, 62 – стоянка на р. Кие
61
чительную часть современных высоких террасо-видных поверхностей на периферии Среднеамур-ской низменности. Соответственно, ныне в пре-делах последней не выделяются аллювиальныетеррасы Амура, поскольку все они оказались пе-рекрыты позднеплейстоценовыми отложениямиаллювиально-аккумулятивного чехла [Махинов2006].
Площади с гипсометрическами уровнями выше15-20 м (террасовидные поверхности и мелкосо-почники), расположенные по берегам Амура и Ус-сури в районе их слияния, были ограничены круп-ными водными объектами (припойменными озе-рами, болотами) и имели вид островов или полу-островов, на правобережье соединенных с предго-рьями Сихотэ-Алиня небольшими водоразделами.
В центральной части осиповского ареала вы-деляются два основных геоархеологических рай-она, которые в то время могли занимать такое ост-ровное или полуостровное положение: Хехцирс-кий и Малышевско-Сикачи-Алянский (рис. 29).Наибольшая концентрация стоянок отмечается впервом из них. С ним и его ближайшей перифери-ей связано не менее 56 осиповских памятников. Впределах этого района выделяются два субрайона:собственно хехцирский и хабаровский [Шевкомуд2002 б; 2005 б].
Первый и основной по численности памятниковвключает хребты Большой и Малый Хехцир с ок-ружающей их высокой террасовидной поверхнос-тью, ныне ограниченной низинными долинами рекЧирки и Хор на юге, Сита и Обор на востоке, Амури Уссури на западе и севере. С «материком» – пред-горьями Сихотэ-Алиня – территория хехцирско-го субрайона, возможно, соединялась водоразде-лом рек Сита и Чирки на юго-востоке. Ориентиро-вочные размеры обозначенной территории 64х28км (простирание широтное). Памятники обнару-жены в основном на северо-западном краю данно-го района, по правому берегу протоки Амурской.
Косвенным свидетельством островного или по-луостровного положения хехцирского субрайона вфинале плейстоцена можно считать факт обнару-жения осиповских артефактов на высоких гипсо-метрических уровнях его северо-восточного фаса,что важно, вдали от современных водных объектов.
О концентрации осиповских стоянок в преде-лах хехцирского субрайона можно судить по па-мятникам новотроицкой и осиновореченскойгрупп. Вдоль участков берега Амура, не затрону-тых современным антропогенным разрушением,выявляется до 10 и более памятников на 1 км, т.е.они располагаются практически на всех имеющих-ся в рельефе высоких мысовидных выступах. Дан-ную концентрацию вряд ли можно считать случай-ной, т.к. хехцирский субрайон в палеогеографи-ческом контексте выглядит наиболее крупнымучастком суши в центральной части Среднеамурс-
кой низменности, пригодным для обитания в кон-це неоплейстоцена.
Севернее к нему примыкает хабаровский суб-район с группой памятников, расположенных покраю высокой террасовидной поверхности вдольправого берега Амура в пределах черты г. Хабаров-ска до северной оконечности сопок Воронежских.На юге он отделялся от хехцирского субрайонадолинами небольших рек Мал. Сита, Красная идр., на востоке ограничивался широкой низиной сдолиной реки Сита и оз. Петропавловским.
Именно в хабаровском субрайоне расположенпамятник Осиповка-1 – эпонимный для осиповс-кой культуры, а также группа других, открытыхв основном М.М. Герасимовым и А.П. Окладнико-вым. Всего их известно не менее десяти, но необ-ходимо учитывать, что часть памятников моглабыть уничтожена при застройке г. Хабаровска иостаться неизвестной. Размеры хабаровского «па-леоострова» примерно 22х9 км с долготным про-стиранием. Его мы включаем в Хехцирский гео-археологический район из-за близкого расположе-ния к хехцирскому – основному – субрайону.
Третий крупный «палеоостров» четко выделя-ется на карте в районе с. Малышево и Сакачи-Алян, где расположены известные памятникиГася, Госян, Сикачи-Алян (нижний пункт) и др.(рис. 29) На западе и северо-западе он ограниченАмуром и оз. Петропавловским, на юге и юго-вос-токе – низинными долинами рек Сита, Обор и Нем-та, которые, вероятнее всего, представляли собойв конце плейстоцена одно крупное припойменноеозеро. Предположительно, размеры данного «па-леоострова» могли составлять 51х15 км. Он болееудален от Хехцирского геоархеологического рай-она и поэтому рассматривается нами в качествеотдельного геоархеологического района.
Таким образом, реконструкция палеогеографи-ческой ситуации в центральной части осиповско-го ареала позволяет предполагать, что основноеместо обитания носителей осиповской культурыпредставляло собой своего рода архипелаг, распо-ложенный в окружении крупных водных объектов.Аналогичная ситуация может быть реконструиро-вана и для других участков Нижнего Приамурьявплоть до Комсомольско-Киселевского сужения(т.е. в пределах Среднеамурской низменности).
Что касается более отдаленных предгорныхрайонов побережья Амура по обрамлению Средне-амурской низменности, то подступы к ним моглибыть ограничены болотами, что делало их мало-пригодными для обитания. Скорее всего, древнеенаселение могло проникать в предгорные районыСихотэ-Алиня только по долинам крупных прито-ков, но данных об этом пока немного.
Топография памятников осиповской культурыв пределах Среднеамурской низменности принци-пиально сходна. Все они занимают мысовидные
62
выступы террасовидных поверхностей, а такжеприбрежные выступы мелких сопок. Данные оконцентрации осиповских памятников, приведен-ные выше, позволяют предполагать, что практи-чески каждый такой выступ на берегу Амура былобитаем в осиповское время, по крайней мере, впределах Хехцирского геоархеологического рай-она. Территории памятников обычно разделеныглубокими оврагами, долинами ручьев и мелкихречек. Высота расположения стоянок – от 15-22 м(Гончарка-1) до примерно 40 м (стоянки Амур-2,Осиповка-1 и др.). Сходную ситуацию имеют и па-мятники Малышевско-Сикачи-Алянского «палео-острова», также расположенные в основном на вы-соких гипсометрических уровнях.
Следует добавить, что кроме крупных «палео-островов» в амурской долине имелись, по-видимо-му, и мелкие, из отложений, причлененных к оди-ноким сопкам, размерами в несколько сотен мет-ров. Они также могли использоваться для одиноч-ных осиповских стоянок. Таков, например, неболь-шой островной памятник у зал. Джермень, распо-ложенный на левом берегу Амура в долине одногоиз его притоков – реки Тунгуски. Он занимает уча-сток, ныне окруженный низкой поймой.
Таким образом, мест, пригодных для обитанияв пределах Среднеамурской низменности в позднемнеоплейстоцене, было относительно немного. Темне менее близость к Амуру, Уссури и припоймен-ным крупным палеоозерам с их биоресурсами, ви-димо, стала определяющим фактором при устрой-стве осиповских поселений и стоянок.
Другим важным фактором, скорее всего, былоналичие больших запасов легкодоступного лито-сырья. Этот фактор нельзя недооценивать. Прак-тика полевых исследований убеждает, что, несмот-ря на всю протяженность Амура и огромные объе-мы полезных биоресурсов на всех участках его гид-росистемы, памятники каменного века обнаружи-ваются прежде всего там, где нет проблем с кам-нем, подходящим для изготовления орудий.
Вне территории Среднеамурской низменности,в периферийных районах северо-востока Нижне-го Приамурья картина была иной, что можно уви-деть при анализе комплексов осиповского обликаЭвороно-Горинского геоархеологического райо-на – в поселениях Кондон-Почта, Кондон-Школаи др. [Медведев 2001; 2005]. Данные памятникинаходятся на высоте всего 3-4 м над уровнем р. Де-вятки, на берегах которой они расположены. Ве-роятно, в финале неоплейстоцена ситуация былапримерно такой же, что может объясняться инойисторией развития Эвороно-Чукчагирской низ-менности, где данные памятники обнаружены.
Заключение
Суммируя данные стратиграфического, радио-углеродного и палинологического изучения Гон-чарки-1, прежде всего необходимо отметить, что
их результаты хорошо согласуются между собой.Они объективно и достаточно полно отражают хро-нологию разновременных археологических комп-лексов памятника.
На их основании мы можем сегодня уверенноотнести осиповскую культуру с ее керамикой и ужевполне неолитическим каменным инвентарем кфиналу неоплейстоцена. Самый древний осиповс-кий горизонт Гончарки-1, каменные артефакты икерамика из которого «законсервированы» в за-полнении криогенных клиньев, не может бытьмоложе аллереда (12000 л.н.). Наиболее вероят-ный временной диапазон его формирования: ран-ний дриас – переход к аллереду. Осиповские ком-плексы из горизонта 3Б довольно уверенно соот-носятся с поздним дриасом – последним похоло-данием неоплейстоцена (11000-10000 л.н.)
Отложения на границе горизонтов 3Б и 3А явносвязаны с потеплением климата в начале голоце-на и климатическим оптимумом атлантика. Архе-ологически это ранний и средний неолит, запол-няющие интервал 10000-5000 л.н. Однако опреде-лимых культурных остатков данных периодов впамятнике не обнаружено, что в данном случае яв-ляется его несомненным достоинством.
Верхний уровень горизонта 3А, как мы предпо-лагаем, относится к суббореалу с его вторым кли-матическим оптимумом, а археологически корре-лируется с малогаванскими комплексами поздне-го неолита [Шевкомуд 2004 а]. Его календарныйвозраст определяется концом 3-го – первой четв.2-го тыс. до н.э. Слой 2 с остатками культуры па-леометалла в календарном исчислении относитсяпримерно к рубежу эр – первой четверти 1-го тыс.н.э., а в палеогеографическом отношении соответ-ствует субатлантическому периоду.
Данные палеогеографии в сочетании с общиминаблюдениями относительно локализации осипов-ских стоянок позволяют сделать вывод, что Гон-чарка-1 располагалась в центральной части оси-повского ареала, наиболее насыщенной памятни-ками. Островной или полуостровной характер ос-новных мест обитания, богатство био- и литоресур-сов не только привлекали сюда осиповское насе-ление, но и могли стать определяющими фактора-ми его ранней неолитизации.
Результаты геоархеологического изучения Гон-чарки-1 в настоящее время являются первыми та-кого рода данными по памятнику, отложения ко-торого формировались с преобладанием естествен-ной седиментации, в отличие от нижнеамурскихмногослойников (например, поселения Гася) с до-минированием антропогенного фактора при фор-мировании отложений, где палинологические ис-следования почти бесполезны, а радиоуглерод-ные – весьма сложны. Естественно, что изложен-ные данные по культурной хронологии Гончарки-1 применимы при исследовании других памятни-ков осиповской и иных культур Приамурья.
А.В. Чернюк
Результаты палинологического анализа голоце-новых отложениий стоянки Гончарка-1, располо-женной в 3 км к востоку от курорта Бычиха Хаба-ровского района Хабаровского края.
В шурфе стоянки Гончарка-1 в 1999 г. вскры-ты слои:
Возраст слоя 3Б на глубине 0,4-0,7 м около10000 л.н.
На палинологический анализ обработано 10проб сепарационным методом, отобранных сплошьпо разрезу с интервалами по 10 см от 0 до 100 см.Микроскопическое обследование показало доста-точную насыщенность спорово-пыльцевым мате-риалом для выявления количественных соотноше-ний и палеогеографических реконструкций. В про-бах из верхней части разреза определено и подсчи-тано 650-1276 компонентов на пробу. Вглубь раз-реза насыщенность уменьшилась, поэтому в сред-ней части разреза определено и подсчитано от 303до 436 компонентов в пробе, а на глубине 0,9-1,0 м – 211-263 компонента. Результаты спорово-пыльцевого анализа представлены в таблице .
Анализ палинологических материалов дает воз-можность разделить разрез на несколько частейуже по соотношениям групп общего состава. На гл.0,9-1,0 м (AP – 30%, NAP – 50%, SP – 20%) обна-руживается спектр лесостепного типа. На гл. 0,8-0,9 м (AP – 14%, NAP – 58%, SP – 28%) характе-рен переходный тип спектра от лесостепей к хвой-но-широколиственным или лиственничным: силь-норазреженным, осветленным лесам. На гл. 0,3-0,8 м (слои 3А, 3Б и 4) спорово-пыльцевые спект-ры по общему составу близки к зоне хвойно-ши-роколиственных лесов, однако отличаются от суб-фоссильных значительно более высоким процен-том суммы пыльцы травянистых растений (40-55%). В целом для этих спектров характерно зна-чительное количество спор (34-39%), котороеиногда превышает сумму пыльцы трав и кустар-ничков (35-55%). Лесной тип спектра (AP – 52%,SP – 34%, NAP – 14%) выявлен на гл. 0,2-0,3 м(слой 3А). В пробах из верхней части разреза на гл.0-0,2 м (дерн и слой 2) обнаружены спектры зоныхвойно-широколиственных лесов.
Более детальный анализ состава компонентови их количественных соотношений позволяет вне-сти коррективы в эту общую картину и выявитьосновные фазы (этапы) в изменениях растительно-го покрова и ландшафтов в регионе стоянки Гон-чарка-1 от позднего вюрма до наших дней.
1. В пробе из подошвы разреза шурфа на гл. 0,9-1,0 м спорово-пыльцевой спектр отличается следу-ющими соотношениями компонентов, половина изкоторых (50%) представлена пыльцой травянис-тых растений. В группе пыльцы древесных пород(30%) преобладает пыльца берез (21%, в том чис-ле Betula ermanii до 14%) древесных и берез кус-тарниковых (19%). Очень много пыльцы кустар-ников бересклетовых (19%) и смородины (8,5%Ribes cf. alpinum), похожей на альпийскую. Частовстречается пыльца лиственницы (5%) и ивы (5%),реже – кедрового стланика, ольхи, ольховника,липы, вяза, и еще реже – других кустарников(Daphne, Cornus, Rosaceae).
Такой состав спектра свидетельствует о расти-тельном покрове холодной тундро-лесостепи, вданном случае лиственничной и березовой. В наи-более благоприятных убежищах речных долин,где не было мерзлоты, встречались широколи-ственные породы – вяз и липа, а также кустарни-ки, характерные для подлеска. На больших пло-щадях были лиственничные мари и кустарнико-вые тундры.
Среди травянистых растений господствуетпыльца полыней (27%), гвоздичных (13%), лебе-довых (7%), злаков (7%), лютиковых (9%, в томчисле василистника 7%). Часто встречается пыль-ца осок, сложноцветных, амброзиевых, бобовых,первоцветных, розоцветных и реже – других пред-ставителей разнотравья (сумма разнотравья со-ставляет 49%). Пыльца водных растений состав-ляет 6%.
В составе спор преобладают зеленые мхи (33%)и папоротники (39%, в том числе Pteridium). Спо-ры сфагнума дают первый максимум (12%). При-сутствует большое количество спор плаунка сибир-ского (12%), встречены споры Botrichium cf.boreale и Lycopodium selago. Таким образом, в со-ставе пыльцы травянистых растений и спор так-же отражается существование холодных тундро-лесостепей со злаково-полынными и полынно-раз-нотравными ассоциациями, сфагновыми болота-ми, светлыми березовыми и лиственничными ле-сами и кустарниковыми зарослями, как в тундрахи лесотундрах.
2. Спорово-пыльцевой спектр с гл. 0,8-0,9 м(верхи слоя 5) отличается увеличением суммы спордо 28% и суммы пыльцы травянистых растений до58% и уменьшением пыльцы древесных пород до
ПРИЛОЖЕНИЕ
64
14%. Пыльца древесных пород здесь представле-на главным образом пыльцой костатных берез(41,5%), в том числе березы Эрмана (25%). Второеместо по количеству (по 14%) занимает пыльцаPopulus (осины и тополя) и смородины (возмож-но, также альпийской), а третье место (по 8-8,5%) – пыльца кустарниковой березы, лещины ивяза. Кроме того, встречена пыльца лиственницы(3%) и дафны (3%). Среди пыльцы травянистыхрастений здесь преобладают злаки (22,5%), полы-ни (26%) и разнотравье (36,5%). Отмечен макси-мум пыльцы осок (10%) и сложноцветных (11%),высокий процент лебедовых (5%), гвоздичных(6,5%), василистника (6%). Комплекс видов полы-ней, лебедовых, астровых, амброзиевых, гвоздич-ных и валериановых может быть отображениемхолодных ксерофитных условий континентально-го климата.
В группе спор господствуют зеленые мхи (63%),много папоротников (18%), довольно велико учас-тие сфагнума (7%) и орляка (7%), отмечаются спо-ры адиантума, плауна-баранца (3%) и Botrichiumcf. boreale. Таким образом, в спектре отражаютсяландшафты холодной лесостепи с участками (кол-ками) березовых и осиново-березовых лесов, с ли-ственничными марями и, возможно, небольшимиучастками разреженных лиственничных лесов.
3. Спорово-пыльцевой спектр из слоя суглинкана гл. 0,7-0,8 м (слой 3В) характеризуется увели-чением количества спор (36%) и пыльцы древес-ных пород (24%) и уменьшением суммы пыльцытравянистых растений до 40%. Среди пыльцы дре-весных пород возрастает участие пыльцы Larix(7%), появляется пыльца Picea (1%) и Pinus s/gHaploxylon (7%), уменьшается процент господ-ствующей пыльцы берез (31%, в том числе 10%берёзы Эрмана), увеличивается процент пыльцылещины (16%) и уменьшается – вяза (3,5%), по-является пыльца дуба монгольского, ореха мань-чжурского, липы, кленов, ясеня, несколько умень-шается процент смородины (9%), встречаетсяпыльца розовых и бересклетов. Сумма пыльцы ши-роколиственных пород возрастает до 27,5 %, чтосвидетельствует о резком потеплении в конце вюр-ма и начале голоцена (возможно, в аллереде).
В группе пыльцы трав и кустарничков сохра-няются соотношения главных компонентов такиеже, как в пробе с гл. 0,8-0,9 м (злаки+полыни+разнотравье), хотя уменьшается процент лебедо-вых (1,5%), а в составе пыльцы разнотравья умень-шается количество сложноцветных, амброзиевыхи гречишных, и возрастает роль пыльцы бобовых,лилейных, лютиковых, гвоздичных (7%), васили-стника (12%), мытника (5%), норичниковых.
В группе спор сохраняется господство зеленыхмхов (60%), уменьшается количество сфагнума(5%), возрастает процент папоротников (30%),уменьшается процент орляка (1,5%). Появляют-ся споры Osmunda и плауна пильчатого, свидетель-
ствующие о существовании участков хвойно-ши-роколиственных лесов в составе природных ланд-шафтов.
4. В спектре из глубины 0,6-0,7 м (слой 3Б) от-мечается минимум пыльцы древесных пород(11%) за счет возрастания суммы пыльцы трав икустарничков до 55% при сохранении высокогопроцента спор (34%). Главными компонентамигруппы пыльцы древесных пород являются березыиз секции костатных (34%, в том числе береза Эр-мана около 11 %), осиновые (20%); увеличиваетсяколичество пыльцы ели (4%) и кедра (13%) и умень-шается – лиственницы (2%) и широколиственныхпород (10%, в том числе Corylus – 4%, Ulmus – 2%,Araliaceae и Phellodendron – по 2%). Количествопыльцы кустарниковых берез падает до 4%.
Среди пыльцы травянистых растений доминан-том становится пыльца полыней (52,5%), суммапыльцы разнотравья несколько уменьшается(34%), а процент злаков падает до минимума (6%),пыльца осок и лебедовых составляет по 3%. Пыль-ца разнотравья представлена 16 семействами и 4родами наземных растений. Попадаются пыльце-вые зерна водных растений.
Доминантом группы спор являются зеленыемхи (75%), наряду с которыми определены спорыпапоротников (17%), сфагнума (4%) и плауна (воз-можно, пильчатого) и хвоща (2%).
По-видимому, за счет «засорения» спектрапыльцой полыней, что типично для культурныхслоев археологических стоянок, получился завы-шенный процент суммы пыльцы травянистых ра-стений в общем составе. Антропогенное влияние,возможно, привело к сведению коренных широко-лиственных лесов и замене их осиново-березовы-ми, хотя в большей мере можно отметить похоло-дание (пребореала) и возрастание роли хвойныхпород (ели и кедра). Присутствие значительногоколичества пыльцы василистников и лесных ви-дов полыни, характерных для подлеска хвойныхлесов, подтверждает версию некоторого похолода-ния и увлажнения климата, в связи с чем возрос-ла роль хвойных лесов (елово-кедровых и листвен-ничных).
5. В спектре из средней части слоя 3Б на гл. 0,5-0,6 м несколько возрастает процент суммы пыль-цы деревьев (17%) и уменьшается количествопыльцы трав (45%). В группе пыльцы деревьев икустарников из хвойных пород встречена толькопыльца лиственницы (3%), доминирует пыльцаберез (37% древесных и 13% кустарниковых), ве-лико участие пыльцы лещины (16%) и осиновых(13%), кроме которых встречена пыльца волчея-годника и смородины. Таким образом, спектр даетпредставление лишь о главных фрагментах древес-ного и кустарникового яруса лесов (березовых, оси-новых, лиственничных).
Среди пыльцы травянистых растений преобла-дает разнотравье (32%), а количество пыльцы по-
65
лыней уменьшается до 17% при значительном уча-стии злаков (9%), лебедовых (6%), осок (5%). Сре-ди разнотравья преобладает пыльца лилейных(18%), луковых (7%), гвоздичных (6%), лютико-вых (7%), василистника (4,5%).
Группа спор представлена пятью видами зеле-ных мхов (78%), папоротниками (14%), спорамихвоща (5%) и сфагнума (3%).
По составу спектра можно сделать вывод о даль-нейшем похолодании и увеличении сухости и кон-тинентальности климата, исчезновении широко-лиственных и хвойных пород (остался лишь кус-тарниковый ярус) и распространении участковосиново-березовых и лиственничных лесов и ма-рей, остепненных лугов и лугово-степных ассоци-аций. Возможно, определяющая роль такого«обедненного» по составу компонентов спектрапринадлежит антропогенному фактору.
6. В верхней части слоя 3Б на гл. 0,5-0,4 м в об-щем составе спорово-пыльцевого спектра преобла-дают споры (39%), сумма пыльцы трав уменьша-ется до 35%, а деревьев и кустарников возрастаетдо 26%. Среди пыльцы древесных пород здесь от-мечена пыльца лиственницы (3%), кедра (9%),осины (4%), берез (38%), кустарниковой березы(7%), ольхи (10,5%), лещины (18%), липы (8%),клена (2,5 %).
Споры представлены зелеными мхами (50%) ипапоротниками (41,5%) при участии хвоща (5%)и сфагнума (3,5%).
В группе пыльцы трав и кустарничков опятьгосподствует (40%) пыльца полыней (нескольковидов, в том числе лесных). Значительно количе-ство пыльцы злаков (10%) и осок (7,5%), меньше –лебедовых (4%). Разнотравье (38%) представленопыльцой гвоздичных (8,5%), лилейных (6,5%),лютиковых (5,5%), василистника (5,5%), луко-вых (3,5%), гречишных, щавеля (3%), бобовых,сложноцветных, розоцветных, валериановых.
Спектр отражает светлые разреженные берёзо-во-лиственничные и кедрово-широколиственныелеса с участками марей, болот, лугов, приречныхлесов и кустарников (потепление в бореале).
7. В спектре слоя 3А стоянки на глубине 0,3-0,4 м (нижняя часть слоя желто-бурого суглинка)в общем составе чуть-чуть возрастает процент сум-мы пыльцы травянистых растений (40%). Средипыльцы древесных пород несколько возрастаетроль лиственницы (4,5%) и кедра (12%), появля-ется пыльца ели (1%), несколько уменьшаетсяпроцент преобладающей пыльцы берез древесных(30%) и кустарниковых (4,5%), снижается про-цент пыльцы ольхи (6,5%), увеличивается до мак-симума (33%) сумма пыльцы широколиственныхпород – лещины (20%), вяза 3(%), дуба (3%), липы(3%), кленов (2%), ясеня (1%), аралиевых (1%).
В группе пыльцы травянистых растений в мак-симальных количествах отмечена пыльца пятивидов полыней (66,5%, в том числе лесных). Пыль-
ца злаков составляет 8%, осок – 4%, лебедовых –1,5%, разнотравья – 20%. Среди спор господствопереходит к папоротниковым (50%), а зеленыемхи отодвигаются на второе место (38%). Частовстречаются споры сфагнума (4,5%), хвоща (2%),плаунов трех видов (3,5%), редко – гроздовника(1,5%).
По-видимому, здесь отразилась растительностьхвойно-широколиственных и березово-широко-лиственных лесов атлантического теплого време-ни голоцена.
8. В спектре из верхней части слоя 3А стоянки(глубина 0,2-0,3 м) господствует пыльца деревьеви кустарников (52%), среди которой преобладаетпыльца кедра (25%), древесных берез (35%) ишироколиственных пород (22,3%). Из хвойныхпород здесь встречается пыльца ели (5,5%), пих-ты, сосны, лиственницы, из широколиственных –лещины (11%), липы (4%), дуба (3%), маньчжур-ского ореха (2%), вяза, бархата амурского, арали-евых, клена, сирени. Кроме того, отмечена пыль-ца ольхи и ольховника, розовых, бересклетов, смо-родины.
В группе пыльцы трав и кустарничков продол-жается господство полыней, однако их количествоуменьшается (40%) и возрастает процент разнотра-вья (38%) и злаков (14%); встречено одно пыльце-вое зерно Cerealia. Количество пыльцы лебедовыхувеличивается (5,5%), а осок уменьшается. Из раз-нотравья отмечается много «антропогенных инди-каторов»: Cichoriaceae, Caryophyllaceae (4%),Malva, Brassicaceae, Sanguisorba, Apiaceae.
В группе спор исключительно высок процентпапоротниковых (83,5%), среди которых господ-ствуют однолучевые споры без периспориев (80%).Увеличивается роль сфагнума (8%), часто встре-чаются споры плаунов (3%) и осмунды (два вида),зелёных мхов (3%), реже – гроздовника.
Такой состав спектра указывает на господствохвойно-широколиственных лесов и вторичныыхберезняков во второй половине атлантика и суб-бореале (скорее в суббореале).
В спектре слоя 2 стоянки на глубине 0,05-0,2 мгосподствует группа спор (45%). А пыльца дере-вьев (29%) несколько превышает по количествусумму пыльцы трав и кустарничков (26%). Средипыльцы древесных пород абсолютным доминан-том становится пыльца берез (67,5%). Пыльцашироколиственных пород (23,5%) представленапыльцой лещины (9%), ореха маньчжурского(1,5%), вязов (4,5%), дуба монгольского (1,5%),ясеня (4%), сирени, бархата. Из хвойных встрече-ны пыльцевые зерна пихты (1,5%), ели (1,5%),кедра (3%).
В группе трав и кустарничков господствуетпыльца полыней (57%), увеличивается до 17%количество пыльцы злаков, уменьшается процентразнотравья (24%), среди которого преобладаетпыльца василистника (8%), исчезает пыльца осок
66
и резко уменьшается процент пыльцы лебедовых(1,5%). Среди спор наряду с папоротниками (50%),доминируют зеленые мхи (43%). Кроме того,встречены споры сфагнума (4%), орляка (1%),плауна (1%), осмунды (2%).
Во время формирования данного спектра былираспространены вторичные березняки и березово-широколиственные осветленные леса субатланти-ка и исторического периода.
10. В слое дерна на гл. 0-0,05 м представлен спо-рово-пыльцевой спектр, в котором отражается со-временный или близкий к современному расти-тельный покров зоны хвойно-широколиственныхлесов Среднеамурской равнины. В общем составездесь господствуют споры (44%), а количествопыльцы древесных пород (28%) почти равно сум-ме пыльцы трав и кустарничков (29%). Посколькув субфоссильных спектрах, как правило, процентпыльцы деревьев несколько выше, то можно гово-рить о сокращении плащади лесов в средние века,или в новейшее историческое время (18-20 вв.).
Среди пыльцы древесных пород в этом спектрепреобладает пыльца кедра (29%), широколиствен-ных пород (29%), берез (29%), кроме того, выяв-лена пыльца ели, лиственницы и пихты (1-3%),ольхи и ольховника, смородины, розоцветных(0,5-1,5%). Из широколиственных пород преобла-дает пыльца дуба монгольского (8%), лещины(12%), лип маньчжурской и амурской (4%), наря-ду с которыми встречены пыльцевые зёрна орехаманьчжурского, вяза, сирени амурской, жасмина,бархата, аралиевых. В группе пыльцы трав и кус-тарничков пыльца полыней достигает своего мак-симума (67%). Отмечается максимум пыльцы ле-бедовых (9,5%) и минимум разнотравья (16%).Пыльца злаков составляет 7,5%. Среди спор на-блюдается второй максимум папоротников (77%),второй минимум зеленых мхов (3%) и максимумсфагновых мхов (13%). Количество спор плауновтакже максимально для данного разреза (5%).
В спектре отражаются кедрово-широколиствен-ные леса, вторичные березняки на террасах, ли-ственничные мари и болота, луга и сельскохозяй-ственные угодья с сорными и рудеральными вида-ми полыней, лебедовых, цикориевых, зонтичных,гвоздичных, сложноцветных, бобовых, розоцвет-ных, кипрейных.
На основании вышеизложенного анализа соста-ва и соотношений компонентов спорово-пыльцевыхспектров разреза Гончарки-1 намечаются основныефазы (этапы) развития растительности и измененияландшафтов Среднеамурской низменности в Хаба-ровском районе. Следует отметить, что слои отло-жений, вероятно, накопились позже, чем археоло-гические артефакты, погребенные ими, поэтомувозраст отложений разреза и спорово-пыльцевыхспектров, соответственно, может оказаться моло-же, чем археологические остатки.
1. Фаза холодных тундро-лесостепей со злако-
во-полынными и полынно-разнотравными лугово-степными ассоциациями, сфагновыми болотами,кустарниково-тундровыми ассоциациями, светлы-ми березовыми и лиственничными лесами. Такаярастительность соответствует континентальномукрио-ксерофитному похолоданию (в горах – оле-денению) верхнего вюрма (суглинок на глубине0,9-1,0 м).
2. Фаза характеризуется ландшафтами холод-ной лесостепи с березовыми и осиново-березовы-ми лесами (колками), с лиственничными марямии небольшими участками разреженных листвен-ничников. В долинах рек, там где не было мерзло-ты, в составе лесов принимали участие широколи-ственные породы (вяз и лещина – в фазу 2, а в фазу1 – вяз и липа). Климат стал теплее, чем в фазу 1,уменьшилась площадь заболоченных и кустарни-ково-тундровых ландшафтов.
3. Фаза осветленных березовых и лиственнич-ных лесов с участками хвойно-широколиственныхлесов на местообитаниях, где не было мерзлоты.Площадь болот и марей несколько уменьшалась.Фаза соответствует значительному потеплению вконце вюрма (аллеред) или начале голоцена (пре-бореал) (суглинок на гл. 0,7-0,8 м).
4. Фаза хвойно-березовых и осиново-березовыхлесостепей с участками лиственничных и елово-кедровых лесов, болот, марей и лугов. Из широко-лиственных элементов встречался вяз и кустарни-ки, из подлеска – лещина, аралиевые. Возможно,что в окрестностях стоянки первичные широколи-ственные леса в результате антропогенного влия-ния сменились вторичными осиново-березовыми,а на более высоких абсолютных высотах, в связи спохолоданием и увлажнением климата, возрослароль елово-кедровых и лиственничных лесов, а наместе широколиственных лесов – кустарниковыхзарослей и лугов. Эта фаза может соответствоватьфинальному похолоданию вюрма и началу голоце-на (пребореал) (суглинок на гл. 0,6-0,7 м).
5. Фаза лиственничных и осиново-березовыхлесостепей с кустарниковыми зарослями на местешироколиственных лесов, вторичными березняка-ми на месте хвойных лесов, со значительной пло-щадью марей и болот, а также остепненных лугови лугово-степных ассоциаций. Распространениеуказанных ландшафтов можно объяснить даль-нейшим похолоданием и увеличением сухости иконтинентальности климата, что привело к исчез-новению широколиственных и хвойных пород, атакже антропогенными факторами. Фаза соответ-ствует, возможно, похолоданию в пребореале – на-чале бореала (суглинок на гл. 0,5-0,6 м).
6. Фаза светлых разреженных березово-ли-ственничных и кедрово-широколиственных лесовс участками марей, болот, лугов, приречных пой-менных лесов и кустарниковых зарослей соответ-ствует значительному потеплению в бореале (суг-линок на гл. 0,4-0,5 м – верхи слоя 3Б).
67
7. Фаза хвойно-широколиственных и березово-широколиственных лесов с участками марей, бо-лот, лугов свидетельствует о значительном потеп-лении климата в атлантический период голоцена(суглинок на гл.0,3-0,4 м – нижняя часть слоя 3А).
8. Фаза господства хвойно-широколиственныхлесов со вторичными березняками на террасах.Преобладали кедрово-широколиственные леса.Климат стал более влажным, чем в фазу 7, с болееоптимальным соотношением тепла и влаги. Уве-личилась площадь болот и марей. Наличие пыль-цы многих «антропогенных индикаторов» свиде-тельствует о земледелии и появлении распаханныхтерриторий. Фаза может соответствовать второйполовине атлантического периода и суббореалу(суглинок на гл. 0,3-0,2 м – верхи слоя 3А.);
9. Фаза вторичных березняков и березово-ши-роколиственных осветленных лесов.
10. Фаза соответствует субатлантику и свиде-тельствует об антропогенном сведении первичныхкедрово-широколиственных и лиственных лесов всубатлантическое время (суглинок на гл. 0,2-0,05 м – слой 2).
11. Фаза растительности, близкой к современ-ной: кедрово-широколиственные леса, вторичныеберезняки на террасах, лиственничные мари и бо-лота, луга и сельскохозяйственные угодья. Фазасвидетельствует о сокращении площади лесов висторическое время (15–19 вв.) по сравнению сфазой 9 и с современным периодом (20 в.).
В настоящее время в Среднеамурской депрессиипреобладает лесная и луговая растительность. Нарелках высотой 15-20 м и склонах гор до 100 м абс.выс. произрастают широколиственные леса мань-чжурского типа и кустарники с участием березы,кедра корейского и ели. На уровне от 100 до 300-400 м абс. выс. тянется пояс кедрово-широколи-ственных лесов, а выше 400 м – пояс пихтово-ело-вых лесов. Обширная пойма Амура и низкие тер-расы заняты осоково-разнотравно-вейниковымилугами, болотами и кустарниковыми зарослями.
Следует отметить, что преобладание пыльцытрав и кустарничков в культурных слоях стоянкиможно сравнить с субфоссильными спектрами по-
чвенных и пойменных проб, отобранных в окрест-ностях населенных пунктов, где есть поля, огоро-ды и много лугов. Облесенность Хабаровского рай-она составляет 67%, однако в пределах долиныАмура 55% территории занимают болота и забо-лоченные земли, где из древесных пород встреча-ется в основном лиственница.
О климатических условиях можно сказать сле-дующее. В конце Q4 среднегодовая температурабыла ниже современной на 5-6°С, в начале голо-цена на 3-4°С ниже современной, в пребореале –на 1-2°С ниже, в бореале – близкая к современной,в атлантике – на 2-3°С выше современной, во вре-мя потепления в суббореале на 2-3°С выше, а в су-батлантике на 0,5-1°С выше современных, а вовремя похолоданий отличалась от современной на+/– 0,5°С.
Современные климатические показатели ГМСХабаровска: среднегодовое количество осадковоколо 600 мм, средние температуры января -23,1°С, июля +20,2°С, среднегодовая +0,9°С; безмо-розный период длится 162 дня, сумма температурвыше 10°С около 2300 С. В фазу 1 средние темпе-ратуры были ниже современных на 5-6°С;
в фазу 2 – на 3-4°С холоднее;в фазу 3 – на 1°С холоднее современных;в фазу 4 – на 2°С холоднее;в фазу 5 – на 3°С холоднее;в фазу 6 – на 1°С ниже современных;в фазу 7 – на 2-3°С выше современных;в фазу 8 – на 1-2°С выше;в фазу 9 – близки современным или на 1°С ниже;в фазу 10 – на 1°С выше современных.
Количество осадков в фазы 1 и 2 было меньшена 200-300 мм;
в фазу 3 – на 50-100 мм меньше;в фазу 4 – на 50-100 мм больше современного;в фазу 5 – на 100-200 мм меньше;в фазу 6 – близко к современному;в фазу 7 – на 50-100 мм больше;в фазу 8 – на 100-200 мм больше современного;в фазу 9 – на 50-100 мм меньше;в фазу 10 – на 100-50 мм больше современного.
ГЛАВА 3
КАМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ
Коллекция каменных артефактов поселенияГончарка-1 представляет, как это было показанов главе 1, три культурно-хронологических комп-лекса: осиповский, вознесеновский позднего нео-лита и польцевский эпохи палеометалла. Наибо-
лее многочисленный из них связан с осиповскойкультурой, ему и посвящена настоящая глава.Однако предварительно необходимо рассмотретьнаходки, относящиеся к позднему неолиту и па-леометаллу.
АРТЕФАКТЫ ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА И ПАЛЕОМЕТАЛЛА
Артефакты, относящиеся к позднему неолитуи палеометаллу, были обнаружены в основном вверхней части отложений Гончарки – в слое 2 игоризонте 3А. Всего найдено 11 изделий из камняи керамики, от осиповских они отличаются как посырьевому составу (для каменных орудий исполь-зовались главным образом кремнистые изотроп-ные1 породы различных расцветок), так и типоло-гически. Кроме того, они имеют прямые аналогиив хорошо изученных памятниках Приамурья. Всевместе это позволяет атрибутировать их вполне до-стоверно. Для описания этих артефактов использо-ваны подходы и типология, отработанные для ком-плексов позднего неолита и эпохи палеометаллаПриамурья [Деревянко 1976; Шевкомуд 2004 а].
Наконечников стрел обнаружено 4 экз., всемелкие, на отщепах.
Удиненно-треугольные с прямой базой – 2 экз.Один изготовлен из светло-коричневой кремнис-той породы, оформлен сплошной двусторонней ре-тушью (Р/9, пл.1)2 (рис. 45, 7), его размеры2,5х1,5х0,3 см. Второй из прозрачного халцедонаи обработан краевой ретушью (З/8, сл.2), его раз-меры 2х1х0,1 см (рис. 43, 5).
Удлиненно-подтреугольный со слабовогнутойбазой – 1 экз. (И/10). Имеет укороченные пропор-ции. Острие с симметричными углами по краям(вероятно, результат вторичной подработки послеслома жала). Обработан двусторонней сплошнойретушью, изготовлен из красной кремнистой по-роды. Размеры 1,7х1,5х0,2 см (рис. 43, 6).
Подтреугольный со слабоокруглой базой – 1экз. (К/10, сл.2). База отделена от тела наконеч-ника уступами-шипами. Жало обломано. Изготов-лен из красно-коричневой кремнистой породы дву-сторонней сплошной ретушью. Размеры обломка1,5х1,9х0,4 см, реконструированная длина 2,9 см.
1 Под изотропной здесь понимается однородная струк-тура камня, близкая к стекловидной.
2 Здесь и далее в скобках дается ссылка на квадрат, слой1 или 2, пласты 1–3 неолитического слоя 3 или пласты 4–8заполнения криогенных клиньев.
Скребок клювовидный концевой – 1 экз. (М/10,сл.2). С выделенными плечиками, узким рабочимкраем и расширенным насадом. Оформлен на от-щепе коричневой кремнистой породы дорсальнойкраевой ретушью по лезвию. Насад подработанслабо. Размеры 2,2х1,5х0,6 см.
Вкладыш прямоугольный – 1 экз. (З’/9, пл.2).Представлен в обломке концевого сегмента. Изго-товлен из кремнистой породы, обожженной до бе-лого цвета, и оформлен двусторонней сплошнойретушью. Размеры обломка 2,8х1,1х0,3 см.
Резец продольно-поперечный двугранный – 1экз. (М/10, сл.2). Многофасеточный, на удлинен-ном отщепе из бордовой кремнистой породы. Ос-новная длинная продольная грань оформлена че-тырьмя сколами, поперечная – тремя. Имеетсяретушь по краю, противоположному длинной рез-цовой грани. Размеры 3,7х1,6х0,6 см.
Рубящие орудия – 2 экз.Тесло подтрапециевидное в плане, прямоуголь-
ное в сечении – 1 экз. (Ж/8, сл.2). Мелкоразмер-ное. Изготовлено из светло-серого алевролита ско-лами с последующей пришлифовкой всей поверх-ности. Обушок скошен и обломан. На слабоокруг-лом лезвии имеется узкая фаска краевой подточ-ки с лицевого фаса, а также сколы сработки. Раз-меры обломка 5,4х3,8х0,9 см (рис. 43, 7).
Тесло подтрапециевидное в плане со скошен-ным обушком – 1 экз. (С/4, сл.2). Среднеразмер-ное. Сечение неясно, поскольку орудие расслои-лось по плоскости, вероятно, подпрямоугольное.
72
Обработано сколами и пришлифовкой, из светло-серого рассланцованного алевролита. Размеры об-ломка 6,6х4,7х0,7 см.
Кроме того, в коллекции имеется небольшой об-ломок бокового сегмента трудноопределимогошлифованного изделия из среднезернистого пес-чаника. Возможно, это также рубящее орудие илиабразив (Н/8, сл. 2).
Из керамических изделий представлены толь-ко два сильно выветренных обломка одного стер-жневидного грузила (Т/7, сл. 2). Оно удлиненно-подпрямоугольное в плане, с овальным сечением,среднеразмерное [Шевкомуд 2004 а: 103]. В формо-вочной массе грузила имеются пластинчатые пус-
тоты от примесей толченой раковины. Длина облом-ков 5,1 и 4 см, ширина 2,3 см, толщина 1,6 см.
Из перечисленных выше артефактов рубящиеорудия имеют аналогии в памятниках польцевс-кой культуры эпохи палеометалла. Ретуширован-ные орудия и стержневидное керамическое грузи-ло соотносятся с комплексами вознесеновской тра-диции позднего неолита.
Что касается дебитажа, найденного в слое 2 игоризонте 3А, то его можно уверенно связать с оси-повским комплексом. Немногочисленность позднихизделий позволяет считать, что площадь памятни-ка использовалась их носителями эпизодически ине для изготовления орудий.
ОСИПОВСКАЯ КАМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ
Принципы описанияи общий состав коллекции
Осиповская индустрия рассмотрена ниже подвум основным ее сегментам. Первый представля-ет первичное расщепление и включает дериваты,во-первых, микропластинчатой техники, во-вто-рых, техники параллельного плоскостного илибессистемного (аморфного) расщепления, направ-ленного на получение отщепов небольших разме-ров (средних и мелких) из твердых и изотропныхпород. Второй сегмент составляют орудия, инст-рументарий (орудия для производства орудий),предметы неутилитарного назначения, которыехарактеризуются различными видами вторичнойобработки (фасиальная оббивка и ретуширование,пикетаж, абразивные технологии).
Следует специально отметить, что оба сегментавыглядят независимыми друг от друга. Заготовки,полученные при первичном расщеплении нуклеу-сов и разнообразных нуклевидностей (микропла-стины, небольшие отщепы и сколы), имели, веро-ятно, узкое, если не специфическое, применение.Ретушированные изделия среди них единичны.Это мелкие орудия на отщепах и сколах с краевойретушью. Основная же масса орудий была изготов-лена из другого сырья и отличалась сравнительнойкрупноразмерностью, а также доминированиемфасиальной обработки (бифасы и унифасы).
Каменная индустрия представлена отдельно подвум стратиграфическим комплексам. Первыйкомплекс – артефакты из горизонта 3Б (к нему от-несены и перемещенные предметы из горизонта 3Аи слоя 2), второй – артефакты из криогенных де-формаций. Это разделение сделано по двум причи-нам. Во-первых, потому что артефакты из криоген-ных деформаций представляют наиболее древнийкультурный горизонт, и ни один скептик не смо-жет оспорить их плейстоценовый возраст. Соответ-ственно, важно получить их технико-типологичес-кие характеристики для сравнительного анализа
с комплексом горизонта 3Б. Во-вторых, данноеразделение позволяет более объективно предста-вить общее и особенное двух различных в хроно-логическом отношении комплексов.
Всего осиповскую индустрию Гончарки-1 в ма-териалах 1995-1996 гг. представляют 6149 камен-ных артефактов. Из них в сегменте первичногорасщепления рассмотрено 182 предмета. Это нук-леусы, нуклевидные изделия, гальки со сколами,технические сколы, микропластины и т.п.1 Из них170 экз. (93,5%) из горизонта 3Б и только 12 экз.(6,5%) обнаружено в криогенных деформациях. Всегменте орудий, инструментария и предметов не-утилитарного назначения рассмотрено 560 арте-фактов: 508 экз. (91%) из слоя 3Б, остальные 52экз. (9%) из криогенных клиньев. Кроме того, вколлекции представлен дебитаж – отщепы, сколы,осколки и т.п. Всего их найдено 5407 экз., из ко-торых 4922 экз. (91%) из горизота 3Б, а остальные485 экз. (около 9%) из криогенных деформаций.
Сырьевой состави анализ дебитажа
Основная масса каменного сырья осиповскогокомплекса добывалась в отложениях, из которыхпреимущественно сложена высокая террасовиднаяповерхность правого берега Амура в пределах Хех-цирского геоархеологического района. В них со-держатся галька и валунник разной степени ока-танности [Рухин 1961: 84-86], в основном незна-чительной, а также и глыбовник. При этом сырье,судя по многим признакам, добывалось в ближай-ших окрестностях или даже на месте расположе-ния памятника. И прежде всего это относится ккамню, безусловно доминирующему в осиповских
1 Отщепы среднего и мелкого размерного ранга из цвет-ных кремнистых пород и туфов, которые связаны с сегмен-том первичного расщепления, рассмотрены в общей кате-гории дебитажа, т.к. морфологически они не отличаютсяот тех, что получены при изготовлении орудий.
73
комплексах, – ороговикованному алевролиту се-рого цвета1.
Другим характерным видом литосырья явля-лась средняя и крупная (чуть более 5 см) хорошоокатанная галька окремнелых туфов риолита свет-ло-коричневого, светло-серого и красного цвета.
Третий вид сырья – кремнистые изотропные по-роды различных расцветок (халцедоны, сердолик,яшмоиды и т.п.), также представленные преиму-щественно в виде среднего галечника.
Наконец, кроме перечисленных основных, внебольшом количестве использовались андезит,различные базальты, алевролиты, песчаники, гра-нитоиды и др.
Все вышеперечисленные породы являются ме-стными. Однако имеются и явные исключения.Так, к редким видам сырья относится обсидиан(представлен одним отщепом). Геохимические ис-следования показали, что он может происходитьиз междуречья рек Самарги, Светлой и Коппи вос-точных районов среднего Сихотэ-Алиня [Попов идр. 2006]. Имеются артефакты из других редкихдля устьевой зоны Уссури кремнистых пород, о ко-торых упоминается специально ниже по тексту.
Использование трех главных видов сырья былодовольно четко дифференцировано. Для основно-го орудийного набора более всего характерен серыйороговикованный алевролит, а для сегмента пер-вичного расщепления (микронуклеусы и их дери-ваты) – окремнелые туфы риолита и кремнистыеизотропные породы различных расцветок.
Орудия, инструментарий и предметы неутили-тарного назначения, найденные в слоях 2-3 и от-несенные к осиповской культуре, как было указа-но выше, всего составляют 508 экз. Их них 379артефактов (74,5%) изготовлено из серого орого-викованного алевролита. Прежде всего, это изде-лия с би- и унифасиальной обработкой, орудия наотщепах, пластинчатых снятиях и т.п. Те же из-делия в меньшей части изготавливались из окрем-нелых туфов риолита – 48 экз. (9,5%), а такжекремнистых пород различных расцветок – 31 экз.(6%). Различные алевролиты, гранитоиды, песча-ники, базальты, андезит и др. породы представле-ны 50 экз. (10%).
Аналогичная ситуация наблюдается в сырьевомсоставе орудий, обнаруженных в криогенных де-формациях. Всего их 52 экз. Из ороговикованногоалевролита серого цвета изготовлено 41 изделие(79%), из изотропных кремнистых пород различ-ных расцветок – 2 (4%), из окремнелых туфов – 4(8%), прочих пород – 5 (9%).
Соотношение пород камня в группах нуклеусов,нуклевидных галек со сколами и прочих дерива-тов первичного расщепления совершенно другое.В слоях 2-3 кремнистые разноцветные породы иокремнелые туфы представляют соответственно84 экз. (49,5%) и 80 экз. (47%), а серый орогови-кованный алевролит – 6 экз. (3,5%). Другие по-
1 В ходе раскопок 2001 г. было обращено внимание надовольно большое количество расколотых галек, рассеян-ных на поверхности материкового слоя. Они отличалисьвнутренней трещинноватостью, наличием каверн. Следынамеренного раскалывания на них диагностировалисьочень неуверенно. Не исключено, что эти расколотые галь-ки были оставлены осиповскими культуроносителями вовремя поисков подходящего сырья. Аналогичное явлениепрослежено нами и на других осиповских памятниках.
роды отсутствуют. В криогенных морфострукту-рах артефактов, связанных с первичным расщеп-лением, немного – 12 экз., 9 изготовлено из крем-нистых пород различных расцветок, 3 – из окрем-нелых туфов.
Указанная дифференциация связана со специ-фикой технологического блока первичного рас-щепления, ориентированного главным образом наполучение микропластин и мелких отщепов с ост-рыми режущими краями из более изотропного ипрочного сырья.
Данные по дебитажу близки тем, что полученыдля орудий. Из общего количества отщепов и ско-лов 4526 экз. (84%) из ороговикованного алевро-лита серого цвета, 250 экз. (4,6%) – из окремне-лых туфов риолита, 448 экз. (8,3%) – из кремнис-тых пород различных расцветок, 183 экз. (3,1%) –из прочих пород.
Представлены отщепы трех размерных рангов:крупные – более 6 см (95 экз.), средние – от 2 до 6см (2605 экз.), мелкие – менее 2 см (2707 экз.). Приэтом в группе средних отщепов более всего тех, чьиразмеры не превышают 4 см. Отщепы из галек ту-фов и цветных кремнистых пород могут относить-ся как к сегменту первичного расщепления, так ик орудийному. Они имеют только мелкие или сред-ние размеры и были получены в основном при из-готовлении орудий, в меньшей степени при рас-щеплении соответствующих микронуклеусов.
Что касается отщепов в группе серого орогови-кованного алевролита, явно полученных при из-готовлении различных фасиальных орудий, то ихпревалирование хорошо иллюстрирует тот факт,что на раскопанной площади памятника произво-дилось только окончательное оформление такихорудий. Первичная обработка данного сырья про-исходила, вероятно, в местах его добычи.
Об этом же свидетельствует малое количествокрупных, а также первичных отщепов. Всего 144экз. сохраняют участки естественной поверхнос-ти , т.е. только 3% от общего числа отщепов из дан-ного сырья. При этом собственно первичных, сохра-нивших естественную поверхность хотя бы набольшей части дорсала, очень немного. Эти фак-ты, а также большое количество готовых орудий вобщем числе каменных артефактов, свидетель-ствуют о том, что Гончарку вряд ли можно отно-сить к стоянкам-мастерским.
74
КАМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ ГОРИЗОНТА 3Б
Первичное расщепление
Первичное расщепление в материалах Гончар-ки-1 представлено в первую очередь микроплас-тинчатым комплексом, а также галечными нукле-усами субпараллельного принципа скалывания,предназначенными для получения отщепов. С мик-ропластинчатым комплексом соотносятся, во-пер-вых, дериваты расщепления клиновидных нукле-усов на бифасах, во-вторых, торцовые микронукле-
усы на гальках величиной 4-6 см, различные тех-нические сколы с них и прочее (рис. 74, 1-13) .
Дериваты расщепления клиновидных нуклеу-сов на бифасах. Нуклеусов на бифасах в раскопах1995-1996 гг. не обнаружено. Возможно, это свя-зано с тем, что основным сырьем для бифасов, какуказано выше, являлся ороговикованный алевро-лит серого цвета, не очень подходящий для полу-чения микропластин из-за зернистости и вязкос-
Особенностиархеологизации артефактов
Важной особенностью осиповского комплексаГончарки-1 является наличие каменных артефак-тов с признаками воздействия экзогенных факто-ров, что в археологической литературе обычно свя-зывается с древностью комплекса [см., напр.: Дья-ков 2000: 170-171].
Так, часть орудий из коллекции имеет на повер-хности мелкие пятна бурого железистого налета,появление которых, вероятно, обусловлено особен-ностями химического состава вмещающего грун-та. Они вполне могут быть приняты за признак, от-ражающий возраст каменных изделий, и даже ча-сти керамических фрагментов, тем более что на ар-тефактах из двух поздних комплексов Гончаркиих нет. Наличие пятен бурого налета, на нашвзгляд, особенно важно в тех случаях, когда тре-буется дополнительное обоснование осиповскойпринадлежности каких-либо предметов из коллек-ции, имеющих «поздний» облик.
Другая часть осиповских артефактов из Гончар-ки имеет в разной степени эродированную поверх-ность. Следует отметить, что эрозии подвергалисьв основном орудия из серого ороговикованногоалевролита или близких ему по структуре пород.Изделия из твердых пород камня (окремнелых ту-фов или кремнистых изотропных пород различ-ных расцветок) следов выветривания не имеют.
В слоях 2-3 представлено около 14% орудий,поверхность которых разрушена процессами фи-зико-химического выветривания до такой степе-ни, что на них с трудом угадываются фасетки ско-лов и ретуши. Кроме того, некоторое количествоартефактов из этих слоев имеет следы незначи-тельного выветривания. В коллекции из криоген-ных клиньев орудия со следами сильного вывет-ривания составляют 8%. Среди дебитажа в слоях2-3 представлено 219 таких отщепов (4%), а в кри-огенных деформациях – 50 экз. (около 1%). Нук-леусы, нуклевидные гальки со сколами и дерива-ты их расщепления здесь не учтены, да и следоввыветривания они не имеют, поскольку для нихиспользовались твердые породы камня.
Можно заключить, что изделия с признаками
воздействия экзогенных факторов представлены вкомплексе Гончарки-1 (да и в других осиповскихпамятниках), и они достаточно многочисленны.
Первоначально в отношении артефактов дан-ной группы высказывалось предположение, что наних присутствуют следы окатанности, а не вывет-ривания [Шевкомуд 1998]. Визуально четко раз-личить физико-химическое выветривание и ока-танность на данном материале действительно невсегда возможно. Однако окатанность присутство-вала бы в том числе и на изделиях из упомянутыхвыше твердых пород камня.
Связывать группу эродированных артефактовс внутренней хронологией комплексов Гончарки-1, как это предполагалось ранее [Там же], такжене представляется возможным. Во-первых, пото-му что такие артефакты присутствуют как в слое3, так и в криогенных морфоструктурах. Во-вто-рых, эродированные изделия были обнаруженывместе с хорошо сохранившимися в закрытом ком-плексе памятника – погребении.
Следует отметить тот факт, что следы сильногофизико-химического выветривания имеет лишьнебольшая часть артефактов из ороговикованно-го алевролита серого цвета. Это можно объяснить,во-первых, особенностями археологизации каждо-го конкретного артефакта, во-вторых, особеннос-тями состава конкретных отдельностей сырья, ис-пользовавшихся для изготовления орудий. Пет-рографический анализ сырья проводился толькодля единичных изделий из ороговикованного алев-ролита серого цвета и с целью самого общего опре-деления породы. Но даже визуально в данном сы-рье прослеживаются некоторые вариации в струк-туре, плотности и других параметрах, которые имогли отражаться на сохранности артефактов.
Таким образом, наличие пятен бурого налетаможно считать признаком более древнего возрас-та каменных изделий осиповского комплекса присравнении их с орудиями поздних периодов. Чтокасается выветренной (эродированной) поверхнос-ти, то данный признак также является показате-лем значительной древности осиповских артефак-тов, но рассматривать его как хронологический ин-дикатор для внутреннего разделения осиповскогокомплекса на достоверном уровне невозможно.
75
1 Для данных нуклеусов последовательно указаны вы-сота по фронту, ширина по фронту и длина по латерали.
ти. Поэтому клиновидные нуклеусы на бифасахмогли не получить распространения. Однако не-многочисленные дериваты расщепления все же до-кументируют использование микронуклеусов набифасах из данного сырья.
Удлиненные продольные сколы с бифасов, поморфологии близкие лыжевидным техническимсколам подправки площадок клиновидных мик-ронуклеусов – 2 экз. Отличие их от классическихлыжевидных сколов состоит в том, что на их тор-цах имеются негативы мелких снятий с вентрала,возможно, образующие скребковый рабочий край.Изготовлены из серого ороговикованного алевро-лита. Размеры сколов 5,5х1,4х0,8 и 6,4х1,1х1 см(рис. 36, 6; 56, 2).
Фронтальный скол с нуклеуса на бифасе с нега-тивами снятых микропластин – 1 экз. Его размеры2,2х0,5х0,4 см (рис. 66, 7).
Торцовые микронуклеусы на гальках и дерива-ты их расщепления. Для галечных нуклеусов Гон-чарки-1 предпочтительнее использовать более об-щее понятие «торцовый», а не «клиновидный»,хотя среди них имеются клиновидные образцы. Ноони объединяются с остальными ядрищами в однутехнико-типологическую серию, имеющую некото-рые вариации. И основным объединяющим призна-ком данной серии является торцовый принцип ска-лывания. При этом лишь небольшая часть арте-фактов имеет оформленный киль и латерали, аостальные такого оформления не имеют или ониоформлены нечетко. Причиной этому является ка-чество сырья, представленного хорошо окатанны-ми гальками размерами не более 5-6 см из окрем-нелых туфов и кремнистых пород различных рас-цветок, из которых технически сложно подготовитьморфологически правильный клиновидный нукле-ус. Ороговикованный алевролит среди них не встре-чается. Тот факт, что нуклеусы данной серии обна-ружены в разной степени подготовки и редукции,только подкрепляет версию о единстве технологи-ческих приемов их оформления и расщепления исвидетельствует о том, что полная технологическаяцепочка соблюдалась далеко не во всех случаях.
Можно говорить о следующих разновидностяхизделий данной категории.
Нуклеусы с высоким фронтом и оформленнымконтрфронтом – 5 экз. (в том числе два мелкихплощадочных сегмента с негативами снятых мик-ропластин) (рис. 36, 3; 66, 6). Для них отмечаетсяузкая скошенная площадка, высокий фронт, при-тупленное основание. Контрфронт и латералиоформлены поперечными сколами. Размеры от3,6х1,1х1,1 см до 4,1х1,1х1,1 см1.
Нуклеусы с высоким фронтом, двустороннейобработкой латералей и приостренным килем –4 экз. По форме клиновидные. Площадки скоше-ны, оформлены либо одним сколом с фронта(2 экз.), либо серией мелких снятий (2 экз.). Раз-меры от 2,8х1,1х2 до 4,6х1,8х2 см (рис. 36, 5).
Нуклеусы с низким фронтом – 22 экз. (в томчисле обломок основания нуклеуса с негативамиснятых микропластин). В целом, данная группавыглядит аморфной. Выделяются два варианта из-делий. Один из них представлен нуклеусами с дву-сторонним оформлением ретушью латералей иприостренного киля – 10 экз. Из них пять отнесе-но к заготовкам, остальные имеют негативы пол-ных снятий серий микропластин. Второй вариантдокументирован нуклеусами без обработки латера-лей и киля или с незначительной их подработкой –12 экз. Из них только один с негативами полныхснятий серии микропластин, остальные – заготов-ки или изделия с негативами единичных снятий,по большей части неудачных. Их форма соответ-ствует использованной гальке, поэтому большин-ство из них (7 экз.) утолщены по ширине фронта.У 18 экз. площадка оформлена одним или несколь-кими сколами, нанесенными со стороны фронта,у 4 экз. площадка вообще не имеет сколов подго-товки (рис. 35, 3; 36, 1; 44, 5; 56, 1, 3, 4; 70, 6). Раз-меры от 1,7х1,7х2,3 до 2,9х2,1х4,5 см.
С торцовыми галечными нуклеусами связанывсе остальные дериваты микропластинчатого рас-щепления, доступные определению (табл. 4) (рис.35, 5-9; 44, 7-12).
С точки зрения характеристики микропластин-чатого расщепления Гончарки, представляет ин-терес продольный скол оформления площадки, поназначению аналогичный ладьевидным сколам снуклеусов на бифасах, но с галечной поверхностьюна дорсале (рис. 65, 3).
Дериваты техники плоскостного субпараллель-ного расщепления. В сегменте первичного рас-щепления слоя 3Б представлена группа нуклевид-ных изделий на гальках среднего размерного ран-га (от 2,5 до 5-6 см по длинной стороне) с негати-вами снятых отщепов и сколов. Сырье в даннойгруппе то же, что и среди артефактов микроплас-тинчатого комплекса – преимущественно окремне-лый туф и кремнистые породы различных расцве-ток. На ряде изделий имеются признаки к о н т р у -д а р н о г о р а с щ е п л е н и я в виде забитостии негативов сколов на основании.
Возможно, что контрударная техника исполь-зовалась как основная для данных артефактов.Следует заметить, что из-за малого размера, хоро-шей окатанности, а также прочности породы длятакого рода ядрищ трудно изобрести более рацио-нальный способ расщепления. О назначении полу-чавшихся заготовок – мелких отщепов – можносудить только предположительно. Возможно, оникак раз и были востребованы из-за большей твер-дости и изотропности породы (рис. 56, 7-10).
Среди данных нуклеусов, нуклевидных изде-лий и их дериватов выделены следующие их виды.
76
1 Для данных нуклеусов последовательно указаны вы-сота по фронту, ширина по фронту, толщина.
Нуклеусы однофронтальные одноплощадоч-ные – 22 экз. Площадка скошенная, могла бытьоформлена одним или более сколами или неоформлялась совсем, сохраняя естественную га-лечную поверхность. Для всех характерно нали-чие одного или нескольких негативов снятий с уп-лощенного фронта. Размеры от 2х3х1,8 до5х5,3х3,2 см1 (рис. 35, 1, 4; 36, 2, 4; 56, 5-6) .
Нуклеусы аморфные – 20 экз. Технологическиблизки одноплощадочным однофронтальным. Ча-сто они имеют негативы сколов оформления пло-щадок, но из-за качества сырья, как правило тре-щинноватого, попытки ее оформить и получитьнужные фронтальные снятия оказывались неудач-ными, редукция нуклеуса продолжалась с любойподходящей естественной площадки. Размеры от2х2,5х1,8 до 3,4х7,5х2,7 см (рис. 35, 2; 44, 2-3).
Гальки со сколами и расколотые гальки – 16 экз.Гальки со сколами имеют один-два негатива сня-тий, чаще с разных сторон. Размеры от 2,8х2,3х2,1до 6х4,6х1,8 см (рис. 70, 4).
Сколы с нуклеусов массивные – 2 экз. Размеры2,7х3,5х1,5 см и 4,9х3,2х1,4 см.
В коллекции представлены также гальки туфа
и кремнистых пород среднего размера без следовраскалывания, вероятно манупорты, – 5 экз.
Проблемы типологиии классификации
Теоретические основы подхода к формирова-нию технико-типологической модели индустрииГончарки, которыми мы руководствовались в дан-ном исследовании, изложены в большом количе-стве работ. Их подробный анализ и довольно про-дуктивная попытка синтеза объединены в моно-графическом исследовании проблем археологичес-кой типологии Л.С. Клейна, безусловно, оченьполезном для практической археологии [1991].
Прежде всего следует отметить, что типологи-ческая классификация каменной индустрии оси-повской культуры пока не разработана. Поэтомупредставленный ниже технико-типологическийанализ целого комплекса является фактическипервым шагом в данном направлении. Но следуетучитывать, что наше исследование имеет опреде-
77
В индустрии Гончарки-1 довольно четко выде-ляются три технико-технологических к л а с с аорудий: 1) фасиальные (бифасы и унифасы); 2) наотщепах с краевой ретушью; 3) изготовленные сприменением абразивной техники. Наличие клас-сов орудий целесообразно учитывать и в дальней-шем при анализе осиповской индустрии.
Также довольно четко артефакты разделяютсяна к а т е г о р и и по признаку функциональногоиспользования (например, скребков, наконечни-ков стрел, рубящих орудий и др.). При этом пря-мой корреляции между технологией изготовленияорудий и их функцией (классами и категориями)нет. Соответственно, некоторые категории орудиймогут фиксироваться в двух или даже всех трехклассах (например, имеются наконечники стрелбифасиальные и шлифованные, скребки фасиаль-ные и на отщепах с краевой ретушью).
Особо необходимо отметить присутствие в кол-лекции большого числа орудий, отличающихсяразнообразием морфо-типологических признаков,что уже отмечалось выше. Практические каждоеиз данных орудий неповторимо. Они объединенынами в полиморфные группы на основании ихпредположительного функционального назначе-ния (например, группа ножевидно-скребловидныхизделий на асимметричных бифасах).
Внутри категорий выделяются группы орудий,отличающиеся многочисленностью, четкими мор-фо-типологическими признаками и встречающие-ся на других осиповских памятниках. На их осно-вании в коллекции можно выделять устоявшиесятипы изделий. Однако в большинстве случаев при-ходится все-таки использовать понятия «вид» и«разновидность», действующие на уровне типа, нопредставляющие группы артефактов с менее ус-тойчивым сочетанием сходных признаков, т.е. то,что мы именуем полиморфностью.
И виды, и разновидности могут выделяться каккак внутри категорий, так и внутри полиморфныхгрупп. Вид включает в себя подвиды или вариан-ты как звенья более низкого уровня. К единичнымизделиям, очень четко оформленным морфологи-чески, применялось понятие «модификация». Вдальнейшем их можно определить как редкие
типы, особенно в тех случаях, когда есть основанияполагать особый характер их применения (напри-мер, кинжаловидный бифас-наконечник ритуаль-ного назначения) или известно, что они встреча-ются в материалах других осиповских памятников(например, шлифованные иволистные наконечни-ки стрел).
Понятно, что впоследствии, при изучении ма-териалов других памятников осиповской культу-ры предложенная ниже разработка будет коррек-тироваться и дополняться.
Мы стремились к тому, чтобы предложеннаятипология, пусть даже предварительная, была бымаксимально пригодна для практического исполь-зования в дальнейших исследованиях. Оченьсложными для работы, как правило, являютсячрезмерно дробные и разветвленные классифика-ции с большим количеством выделенных таксо-нов. Поэтому мы придерживались «объединитель-ной» тактики во всех тех случаях, когда это быловозможно.
Таким образом, предлагаемое ниже описаниеартефактов сделано по трем технико-технологи-ческим классам, среди которых безусловно доми-нирует класс фасиальных орудий. Вторым описандовольно многочисленный класс орудий на отще-пах с краевой ретушью. Третьим представлен классизделий, изготовленных с применением абразив-ной технологии. Присутствие их в каменной ин-дустрии финально-плейстоценового памятникаявляется очень важным «неолитическим» призна-ком. В рамках данного класса также представле-ны орудия различных категорий и типов. Анало-гии им среди ретушированного и оббитого инвен-таря каждый раз будут указываться в тексте.
Отдельно рассмотрены немногочисленные пред-меты инструментария, использовавшиеся для из-готовления орудий (отбойники и т.п.).
Наконец, специфическую группу составляютпредметы неутилитарного назначения: плоско-стные ретушированные изображения, культовыеизделия и портативные петроглифы. Среди нихимеются изделия еще одного технико-технологи-ческого класса – изготовленные пикетажем.
Внутри выделенных типов, видов или разно-видностей орудия в случае необходимости разде-лены на три размерных ранга: крупные, средние имелкие. К крупным отнесены артефакты, имею-щие длину более 9-10 см, к средним – от 5-6 до 9-10 см, к мелким – менее 5-6 см. Следует отметить,что основную часть осиповского комплекса состав-ляют крупно- и среднеразмерные изделия, что за-метно отличает их от более мелких орудий после-дующих этапов неолита Приамурья.
При описании изделий в основу положеныпризнаки симметрии/асимметрии по продольнойоси. В дальнейшем использована общепринятаятерминология, адаптированная к имеющемуся ма-териалу и отраженная, в частности, в палеолито-
ленные ограничения. И, прежде всего, в том, чтоздесь предлагается анализ комплекса только одно-го поселения, а не группы памятников и культу-ры в целом. Кроме того, индустрия Гончарки об-наруживает значительную полиморфность, формымногих орудий либо неопределенны, либо, наобо-рот, имеют очень яркие признаки, но представле-ны единичными артефактами. По этим причинаммы не стремились к какому-то окончательному ре-зультату, к жесткой и четко выстроенной типоло-гической конструкции, к обязательному выделе-нию типов, подтипов, вариантов и т.п., и во мно-гих случаях ограничивались более нейтральнымиопределениями.
78
ведческих изданиях [см., напр.: Деревянко и др.1994]. В описании формы изделий в плане поми-мо терминов геометрического характера (оваль-ный, треугольный и т.п.) использованы определе-ния «листовидный», «лавролистный», «иволист-ный», «миндалевидный» и др.
При характеристике конкретных орудий «лис-товидными»назывались те из них, у которых одинконец был приострен, а другой закруглен, в обоб-щающих же частях работы данное определение ис-пользовалось для всех изделий «флористических»форм. Миндалевидные орудия имеют либо заова-ленные концы, один из которых более широкий1 ,либо один конец приостренный, а другой заовален-ный; в тексте каждый раз нюансы этой формы от-мечаются нами отдельно (например, тесла удли-ненно-миндалевидные с приостренным обушком).Лавролистные орудия имеют два дугообразныхкрая, сходящихся под острым углом, т.е. они при-остренные на концах. Иволистные аналогичны поформе лавролистным, но отличаются более узки-ми и удлиненными пропорциями.
При описании орудий на отщепах и сколах ис-пользовалась смешанная терминология, заимство-ванная из практики различных школ. В опреде-ленной части это понятия, предложенные иркутс-кими археологами («дорсальный и вентральныйфасы орудий» – кратко «дорсал», «вентрал») [Опи-сание и анализ… ]. Применены также термины,предложенные археологами других школ: новоси-бирской, петербургской. Например, для описаниитесел использованы понятия «спинка», «брюшко»и др. Рабочий край скребков, ножей, тесел в дан-ной работе иногда именуется «лезвием», основа-ние орудия в равной степени – «насадом» или «ба-зой» (например, для наконечников стрел). В опи-сании различных ножевидно-скребловидных изде-лий на отщепах, пластинчатых снятиях хорошоподходит терминология, заимствованная из палео-литоведения (например, «продольные» или «угло-ватые» ножевидно-скребловидные орудия).
Вся данная терминология адаптирована к кон-кретной исследовательской практике. Расшифров-ку каждого использованного термина приводитьнет смысла, поскольку они известны специалис-там по культурам эпохи камня.
Фасиальные орудия
Класс фасиальных орудий, как указано выше,включает артефакты со сплошной обработкой од-ной или двух поверхностей сколами и ретушью.Некоторые отклонения от этого правила встреча-ются, но они редки и оговорены в тексте.
Наконечникиметательных орудий
Прежде всего здесь рассмотрены бифасы, сим-метричные в плане. В сечении (поперечный разрез)и профиле (продольном сечении) они линзовид-
ные, тонкие, симметричные. Возможно, что частькрупных и средних орудий использовалась в ка-честве ножей, скребков и др. [см., напр.: Волков1999]. Однако каких-либо следов использования,кроме поперечных сломов, на них не отмечается,что более свидетельствует в пользу версии об их ис-пользовании в качестве наконечников.
Наконечники копий и дротиков. К данной ка-тегории метательных орудий можно отнести сле-дующие типы изделий (рис. 74, 22-25).
Бифасы лавролистные – 56 экз. Отношениедлины к ширине как 1 к 0,3-0,4. В основном офор-млены ударной обработкой. Отжим использовал-ся для утончающей «доводки» и в небольшой час-ти случаев. Характерна сплошная обработка фа-сов. Исключение составляет только один бифас,изготовленный на пластинчатом отщепе с приме-нением краевой и полузахватывающей ретуши. Поразмеру выделяются крупные и средние бифасы,мелкие отнесены к категории наконечников стрел.
Бифасы крупные – 14 экз. (в том числе 3 конце-вых и 5 срединных сегментов). Размеры целыхизделий от 10,5х3х0,8 см до 14,3х4х0,8 см. По тол-щине варьируют от 0,8 до 1,5 см (рис. 31, 1; 59, 1).
Бифасы средние – 42 экз. (в том числе 28 кон-цевых сегментов и 4 срединных). Размеры целыхизделий от 6,5х2,6х0,8 см до 9,8х2,7х1,2 см. Потолщине варьируют от 0,7 до 1,2 см (рис. 31, 5; 47,1; 57, 13; 66, 2; 68, 2).
Обломки отнесены к бифасам лавролистноготипа условно на основании сходства по форме, раз-мерам и характеру обработки (рис. 70, 2).
Бифасы листовидные – 6 экз. (в том числе 5 вобломках). В профиле симметрично-линзовидные,на их основании не имеется следов использованияили обработки, характерных для скребков илитонких тесловидно-скребловидных орудий. Толь-ко один предмет целый, его размеры 7,3х2,6х0,9см. Обработан сплошной ударной ретушью на од-ном фасе, краевой ретушью на другом. Размерныйранг орудий определяется как средний. В облом-ках представлены только заоваленные базовые сег-менты.
Бифас иволистный с закругленным основани-ем – 1 экз. Представляет собой редкую модифика-цию. Обработан сплошной двусторонней ретушью.Имеет ретушь утончения у основания, вероятнодля использования в древке. Отличается большейтолщиной и массивностью. Размеры 9,4х2х1 см(рис. 66, 3).
В коллекции имеется также два обломка базо-вых сегментов крупных бифасов с выделеннымчерешком (рукоятью-?). Они сложны в определе-нии, т.к. нет целых форм.
Наконечники стрел. Большую группу изделийсоставляют наконечники стрел. Их размеры и мор-
1 Точнее данную форму можно назвать «овоидной», ноданное определение применительно к каменным артефак-там редко встречается в археологической литературе.
79
фология в основной массе позволяют уверенно су-дить об их функции. Почти все они имеют бифаси-альную обработку, в том числе и тщательную от-жимную ретушь. Среди них можно довольно уве-ренно выделить три типа наконечников: лавроли-стные, листовидные и иволистные. Черешковыепредставляют пока полиморфную группу. Имеют-ся также редкие модификации (рис. 74, 26-42).
Наконечники лавролистные – 27 экз. По фор-ме аналогичны лавролистным бифасам. Отноше-ние длины к ширине как 1 к 0,28-0,43 (в среднем 1к 0,3-0,4). Размеры целых изделий от 3,3х1,4х0,3см до 5,7х1,6х0,5 см. Только один предмет изго-товлен на отщепе с краевой обработкой (рис. 31,3), остальные обработаны сплошной и полузахва-тывающей ретушью (рис. 31, 2, 4; 32, 1-2; 38, 2;45, 4,6; 57, 3, 11-12; 58, 5; 59, 4; 68, 3-4; 74, 26-27).Имеются наконечники данного типа с одной боко-вой выемкой у основания, вероятно для закрепле-ния в древке (3 экз.).
Наконечники листовидные – 41 экз. (в том чис-ле 17 обломков и изделий, сильно разрушенныхэрозией). Отличаются от вышеописанных болееширокими пропорциями, разнообразием форм вплане и довольно грубым оформлением. Отношениедлины к ширине как 1 к 0,37-0,6 (в части случаевдо 0,75) (рис. 74, 30-32). Размеры от 3,3х2х0,7 м до6,5х2,8х0,8 см. Целые орудия имеют либо два при-остренных конца (5 экз.), либо закругленное осно-вание и приостренное жало (9 экз.), либо заовален-ное основание и жало (10 экз.) Данные разновидно-сти можно предварительно рассматривать на уров-не вариантов (рис. 38, 6; 44, 13; 58, 8-9; 68, 6).
Наконечники изготовлены на отщепах, обрабо-таны ретушью разных видов – от краевой (3 экз.)до сплошной. В трех случаях на одном фасе фик-сировалась краевая ретушь, а на другом сплошная.У шести наконечников у основания имеются боко-вые, оформленные ретушью выемки (рис. 32, 3), уодного из них – две такие выемки.
Наконечники иволистные – 7 экз. (в том числеодин обломок). Изделия узкие и длинные. Отно-шение длины к ширине как 1 к 0,22-0,261 (рис. 74,28-29). Для данного типа характерна очень тща-тельная отделка, в том числе параллельной захва-тывающей струйчатой ретушью. Среди них такжеимеются изделия с боковой, оформленной рету-шью выемкой у основания (2 экз.). Размеры от5,1х1,3х0,4 см до 6,8х1,5х0,7 см (рис. 45, 3; 57, 4;58, 6; 59, 3, 6).
Наконечники черешковые – 22 экз. Составля-ют довольно многообразную группу. По форме ипропорциям в плане можно определить несколь-ко их основных вариантов (рис. 74, 33-39).
1) Листовидные с подтреугольным короткимчерешком – 11 экз. Наиболее многочисленная иполиморфная разновидность наконечников стрел,внутри которой они варьируют по двум не связан-ным взаимно признакам. Во-первых, по наличию
или отсутствию выступов-шипов, отделяющихтело от черешка, выделяются наконечники с ши-пами (5 экз.) и без шипов, т.е. с плавным перехо-дом от тела к черешку (6 экз.) Во-вторых, по соот-ношению длины к ширине выделяются широкие(1 к 0,42) и средние (1 к 0,32) наконечники. Раз-меры от 3,6х1,5х0,7 см до 5,6х1,9х0,7 см (рис. 32,5; 57, 5, 9-10; 74, 33-35).
2) Иволистные с коротким черешком, отделен-ным от тела уступами-шипами – 4 экз. (все в об-ломках). Соотношение длины к ширине как 1 к0,25-0,2 (рис. 57, 6; 74, 36). Характерна тщатель-ная обработка сторон параллельной захватываю-щей струйчатой ретушью. Размеры (даются по ре-конструированным образцам, у которых отсутству-ет только жало) варьируют от 6,3х1,3х0,5 см до8х1,8х0,7 см. Данные наконечники вполне возмож-но рассматривать на уровне устоявшегося типа.
3) Листовидные с асимметричным черешком –6 экз. По пропорциям аналогичны варианту 1.Асимметричность черешка связана, вероятно, сособенностью крепежа. Характерна довольно гру-бая обработка двусторонней ретушью. Размеры от4,2х1,5х0,5 см до 5,3х2,1х0,6 см (рис. 32, 4, 6; 59,5; 74 37).
4) Листовидный с длинным черешком без выс-тупов-шипов – 1 экз. Отношение общей длины идлины черешка как 1 к 0,55. Морфологически чет-ко оформленная, но редко встречающаяся модифи-кация. Размеры 4,5х1,3х0,6 см (рис. 59, 7; 74, 38).
Имеется также несколько наконечников еди-ничных по морфологии, которые необходимо рас-сматривать на уровне модификаций.
Усеченно-листовидный с угловатым основани-ем – 1 экз. Обработан тщательной отжимной рету-шью. Размеры 2,8х1,5х0,5 см (рис. 57, 7; 74, 39).
Усеченно-листовидный с прямым основанием –1 экз. Изготовлен из ороговикованного алевроли-та серого цвета, покрыт патиной зеленовато-серо-го оттенка. Обработан двусторонней ретушью, приэтом его основание намеренно утончено ретушью иимеет борозды от стирания при крепеже в костянойили деревянной основе. Размеры 3,1х1,8х0,5 см(рис. 57, 8; 74, 40).
Данный наконечник имеет довольно «поздний»облик. Однако он обнаружен у материка в раскопе3 (кв. И’/5) и имеет характерную патинированнуюповерхность, что позволяет уверенно соотноситьего с осиповским комплексом. Дополнительнымаргументом в пользу этого являются находки на-конечников с прямой базой на других памятникахначального неолита, в частности, на поселенииНовотроицкое-10 [Naganuma et al. 2005: 121].
Удлиненно-треугольный с закругленным осно-ванием, отделенным от тела орудия шипами –1 экз. Изготовлен из светло-серого алевролита, об-
1 В случае слома наконечников пропорции вычислялисьна основе их графической реконструкции.
80
работан бифасиальной ретушью. Размеры 5,7х2,5х0,7 см (рис. 74, 41).
Удлиненно-треугольный с закругленным осно-ванием и наружными выступами у основания –1 экз. Немного асимметричен. Изготовлен на от-щепе, обработанном грубой двусторонней краевойретушью. Насад утончен односторонней ретушью.Размеры 5,8х2,3х0,6 см (рис. 75, 42).
Ножевидно-скребловидныеорудия
Весьма полиморфная категория, в пределахкоторой орудия различаются как по форме, так ипо размерам. В функциональном отношении ско-рее всего представляют собой ножи и скребки(скребла), возможно использование части из нихв качестве перфораторов и скобелей. Орудия насимметричных и асимметричных бифасах состав-ляют две группы (рис. 74, 14-21).
Ножевидно-скребловидные орудия на симмет-ричных бифасах – 4 экз. Представлены следующиеизделия.
1. Бифасы овальные, широкие, массивные –3 экз. Пока их можно характеризовать на уровневида. Обработаны ударной ретушью по периметру.По степени обработки их можно отнести к заготов-кам. Размеры средние, варьируют от 5,5х 4,5х1,5см до 8,6х6,1х1,6 см.
2. Бифас усеченно-листовидный, широкий, сзаоваленным концом и прямым основанием –1 экз. В сечении края его имеют слабый винтооб-разный изгиб. Основание утончено ретушью. Из-делие крупное, размеры 11,1х5,2х1,5 см. Пред-ставляет собой редкую модификацию. Прямыханалогов нет не только в Гончарке, но и в другихосиповских памятниках (рис. 37, 2; 74, 14).
Ножевидно-скребловидные орудия на асиммет-ричных бифасах – 23 экз. Составляют более мно-гочисленную и очень полиморфную группу: лис-товидные, подтреугольные, миндалевидные поформе в плане, массивные и тонкие, обушковыебифасы (более толстые и массивные на один про-дольный край). Условно данная группа изделийразделена по размерам на крупные, средние и мел-кие орудия.
Крупные орудия редки. К ним относятся асим-метрично-листовидные бифасы – 3 экз. Один це-лый, размеры 10,7х3,8х1 см (рис. 58, 3), второй вобломке длиной 8,3 см (рис. 45, 9), третий пред-ставлен массивной, грубо оббитой заготовкой, раз-меры 10,1х5,7х2,7 см.
Бифасы среднего размерного ранга более мно-гочисленные. Их размеры от 6 до 9 см в длину. Име-ются следующие виды орудий.
1. Бифасы полулунные – 3 экз. Один тонкий, собломанным краем и следами эрозии, размеры9х3,6х1 см (рис. 38, 4). Имеет негативы сколов бо-лее поздней доработки по эродированной поверх-ности. Другое изделие представляет собой грубо
оббитую заготовку, его размеры 8,5х 4,5х 1,9 см(рис. 38, 1). Несколько обособленно выглядит нож-скребок со слабовыделенным острием на одномконце и крутой ретушью по одному краю, его раз-меры 8,2х3,4х1 см. Другой конец изделия усеченпо диагонали и имеет негативы длинных тонкихторцевых снятий (рис. 58, 4).
2. Бифасы асимметрично-миндалевидные ши-рокие, обушковые, с заоваленными концами идлинным выпуклым лезвием – 2 экз. Размеры6,3х3,5х1,7 и 6,8х3,7х1,4 см (рис. 38, 5; 62, 5).
3. Бифас асимметрично-листовидный узкий,обушковый – 1 экз. Размеры 6,9х2,7х0,9 см.
4. Бифас подтреугольный с заоваленными кон-цами и длинным выпуклым рабочим краем, тон-кий – 1 экз. Изготовлен на отщепе с краевой дву-сторонней обработкой. Размеры 6,6х 4х1 см.
5. Бифас асимметрично-миндалевидный, удли-ненный, изогнутый на узком конце – 1 экз. Разме-ры 7,1х3,3х1 см.
В коллекции представлены также трудноопре-делимые обломки рукояточного бифаса (базовыйсегмент), двух листовидных широких заготовокбифасов и широкого асимметричного бифаса.
Бифасы малого размерного ранга изготовленыв основном на отщепах грубой двусторонней удар-ной ретушью, в ряде случаев ретушь краевая. Раз-меры от 4 до 6 см в длину.
1. Бифасы асимметрично-листовидные широ-кие – 8 экз. (в том числе 6 обушковых). Размерыизделий варьируют от 4,8х3,1х0,8 до 5,6х 3,3х1,3см (рис. 38, 3; 62, 2).
2. Бифасы асимметрично-листовидные узкие,с заоваленными концами – 4 экз. (в том числе одинобушковый). Размеры от 4,4х1,8х0,8 до 5,7х2,3х0,6 см (рис. 39, 3).
Тесловидно-скребловидныеорудия
Тесловидно-скребловидные орудия широко из-вестны в литературе по каменному веку российс-кого Дальнего Востока [Окладников, Деревянко1977; Волков 1987 а]. В комплексе Гончарки-1 онипредставлены двумя основными видами – массив-ными и тонкими, они различаются по толщине,весу, форме в целом и форме рабочего края (рис.74, 43-44).
Массивные орудия – 16 экз. (в том числе 5 заго-товок с грубой оббивкой). В целом для них харак-терна ударная бифасиальная сплошная и доволь-но грубая обработка (14 экз.), редко встречаютсяунифасы с подтеской или без нее. Форма в плане восновном миндалевидная (10 экз.) или овальная(6 экз.) Сечение линзовидное. Лезвие в плане зак-ругленное, симметричное (13 экз.). В части случа-ев профиль линии лезвия имеет плавный изгиб кбрюшку (7 экз.) В других случаях профиль лезвияпрямой. Размеры данных орудий от 5,2х3,6х1,8 смдо 13,7х 6,3х4,9 см (рис. 48). В среднем длина их
81
7-8 см, ширина 4-5 см, толщина 2-3 см (рис. 30,34, 3; 48-49; 57, 1; 68, 1, 7).
Тонкие орудия – 7 экз. Все они удлиненно-миндалевидные в плане, с округлым лезвием. На-сад приострен (4 экз.) или округлен (2 экз.) В сече-нии и профиле линзовидные. Изогнутое в профи-ле лезвие имеют два орудия, в остальных случаяхпрофильный изгиб лезвия отсутствует. У шести из-делий тщательная сплошная обработка, как у би-фасов-наконечников метательных орудий. Седь-мое отличается наличием лишь частичной обра-ботки на одном фасе. Размеры от 6х3,4х1 см до 9,7х4,4х1,4 см. В основном длина их 8-9 см, ширина3,5-4 см, толщина 1-1,5 см (рис. 49, 2; 61, 2).
Скребки
Данная категория весьма многочисленна и хо-рошо выдержана с морфотипологических пози-ций. Все скребки концевые. Они разделены по ли-нии рабочего края (закругленный или прямой), поформе в плане и характеру обработки (бифасы илиунифасы) на три группы (рис. 74, 44-48).
Орудия с закругленным рабочим краем – 23 экз.Выделяются следующие виды изделий.
1. Скребки-унифасы миндалевидные – 12 экз.Насад приострен и только в одном случае заовален.Сечение односторонне-выпуклое. Изготовлены наотщепах и сколах. Рабочий край оформлен крутойретушью. В девяти случаях дорсальный фас обра-ботан сплошной ретушью. В трех случаях ретушьзахватывает большую часть дорсального фаса.Вентральный фас не имеет следов обработки у че-тырех орудий, у остальных имеется незначительнаяподтеска у лезвия и/или насада. Размеры от 4х2,9х1см до 6,3х3,4х1,1 см (рис. 33, 1-3; 60, 3; 69, 6).
2. Скребки-бифасы миндалевидные – 11 экз.Все с приостренным насадом. Изготовлены на от-щепах и сколах. Сечение линзовидное. Лезвийнаячасть уплощенная, линзовидная в профиле (7 экз.)Характерна сплошная двусторонняя обработка(только в одном случае обработана лишь половинавентрального фаса). Размеры от 4,5х2,8х1,2 см до7х3,5х1,4 см (рис. 33, 5-6; 60, 2, 4).
Орудия с прямым рабочим краем – 35 экз. Вы-деляется три вида изделий.
1. Скребки-унифасы подтреугольные – 28 экз.В основном имеют удлиненно-треугольную формус приостренным насадом. В сечении односторон-не-выпуклые. Изготовлены на отщепах и сколах.Почти все обработаны сплошной ретушью на дор-сальном фасе (кроме двух изделий). Лезвия офор-млены крутой ретушью, кроме четырех орудий суплощенным лезвием. Вентральная подтеска от-сутствует у 15 скребков, на остальных она выра-жена в разной степени. У трех изделий имеютсяшипы на рабочем крае. Шесть скребков имеют сла-бовогнутый рабочий край. Скребки высокой фор-мы единичны (рис. 46, 3; 57, 2; 60, 5-8; 69, 1-4).
Размеры орудий варьируют от мелких с шири-
ной лезвия от 2,2 до 3 см, до средних с ширинойлезвия от 3,2 до 4,1 см (12 и 16 экз. соответствен-но). Такое разделение условно, т.к. четких границмежду отмеченными группами нет. Размеры мел-ких скребков от 4,4х2,2х0,8 см до 6х2,7х1 см (подлине варьируют от 3,5 до 6 см). Размеры среднихскребков от 3,9х3,6х0,9 см до 7,3х4,2х1,4 см (подлине варьируют от 3,9 до 7,6 см).
2. Скребки подтреугольные на уплощенныхгальках – 3 экз. Фактически представляют собойподвид скребков предыдущего вида. В сечении ониподтрапециевидные. Изготовлены на гальках свет-ло-коричневого туфа, подобранных по форме.Оформлены крутой скребковой ретушью по рабо-чему краю. Насад обработан односторонней крае-вой ретушью участками, вероятно по мере необхо-димости. Редкие сколы брюшковой подтески име-ются у двух орудий. Размеры от 4,2х3,9х0,8 см до7,1х4,3х1,1 см (рис. 33, 4, 7; 34, 2).
3. Скребки-бифасы удлиненно-подтреуголь-ные – 4 экз. Имеют приостренный насад, в сечениилинзовидные. В трех случаях профиль рабочегокрая плавно изогнут к брюшку. Изготовлены наотщепах, сколах и, вероятно, на специальных за-готовках (крупные экземпляры). Характернасплошная бифасиальная обработка ретушью. Востальном аналогичны подтреугольным скребкам-унифасам. Размеры от 5,1х2,5х0,8 см до 8х4,6х1,4см (рис. 60, 1).
Орудия неопределенной формы – 10 экз. В дан-ную группу объединены скребки, не имеющие вплане четкой формы и характеризующиеся неяс-ным расположеним рабочего края в сочетании с не-брежностью обработки. Они изготовлены на отще-пах и сколах. Форма в плане может быть удлинен-но-миндалевидной (4 экз., один из них с выделен-ным черешком), неправильно-овальной (6 экз., изних один с высоким рабочим краем). Бифасиаль-ная сплошная обработка имеется у шести скреб-ков, остальные – унифасы с подтеской или без нее.Размеры средние от 4,1х2,1х0,7 см до 4,5х3,7х1,9см (рис. 69, 5).
Отдельно необходимо рассмотреть скребок-пер-форатор на массивном отщепе. Его форма близ-ка к овальной. На одном конце крутой дорсальнойретушью оформлено скребковое округлое лезвие,на другом также дорсальной ретушью выделеноострие. Размеры 3,1х4х1,2 см.
Кроме того, в коллекции имеется группа труд-но определимых обломков скребков – 11 экз. В ос-новном, это обломки насадов, и нельзя исключить,что они могли принадлежать другим орудиям с би-фасиальной обработкой (тесловидно-скребловид-ным, рубящим, наконечникам).
Скребловидные орудия
В данной группе можно выделить две разновид-ности орудий.
Обушковые, массивные, полулунной формы, с
82
выпуклым рабочим краем – 3 экз. Изготовлены наплитчатых отдельностях. В сечении клиновидные.Обушковая грань плоская. Рабочий край оформ-лен грубой двусторонней оббивкой. На одном ору-дии ретушь скребковая, крутая, с подтеской, одинконец выделен как острие. Размеры от 10,4х 3,7х2,1 см до 15,1х3,8х1,9 см (рис. 37, 1; 40, 1).
Орудия на крупных миндалевидных в планесколах – 2 экз. На одном из них два выпуклыхдлинных рабочих края, сходящихся на конце иоформленых вентральной ретушью с дорсальнойподтеской. На конце орудия имеется крутая дор-сальная скребковая ретушь. Размеры 8,7х5,4х1,7см. Другое орудие с краевой вентральной ретушью.Размеры 8,6х5,9х1,6 см.
Рубящие орудия
Рубящие орудия, обработанные оббивкой и ре-тушью, довольно четко объединяются в однуфункциональную категорию орудий и представ-ляют собой тесла. Они варьируют по форме в пла-не и сечении и на основании этих параметров мо-гут быть разделены на следующие виды орудий(рис. 74, 54-56).
Удлиненно-миндалевидные острообушныеорудия – 3 экз. (в том числе заготовка с участкомгалечной поверхности на одном фасе). В сечениилинзовидные. Все бифасы. Лезвия округлые. Потолщине выделяются орудия массивные (2 экз.)и тонкие (1 экз.) Следов сработки нет. Размеры от12,4х 4,7х2 см до 15,1х6,2х3 см (рис. 58, 1-2, 7).
Удлиненно-овальные, слабозауженные к обуш-ку – 3 экз. (в том числе одна заготовка). Лезвийныеи обушковые части орудий закруглены. В сечениилинзовидные (односторонне-выпуклые). Все бифа-сы, из них два изготовлены на гальках (на одномфасе сохранились участки галечной поверхности).Заготовка грубо оббита с двух сторон. Размеры от7,6х3,6х1,8 см до 13,2х7,1х3,9 см (рис. 44, 1).
Удлиненно-миндалевидное орудие высокой фор-мы – 1 экз. В литературе по археологии ДальнегоВостока такие орудия именуются горбатыми тес-лами. Односторонне-выпуклое в сечении, массив-ное. Лезвие прямое. Изготовлено на расколотойгальке с сохранением галечной поверхности наспинке. Лезвие оформлено сколами, имеется не-значительная подправка по краям. Сохранилисьследы сработки. Размеры 8,5х4,1х2,7 см.
Удлиненно-треугольное орудие – 1 экз. Упло-щенно-треугольное в сечении, с прямым лезвием.Бифас. Размеры 7,1х3,7х1,6 см.
Перфораторы
Данная категория немногочисленна и очень по-лиморфна. В нее включены предположительно про-колки, провертки, сверла. Основой для их разделе-ния является форма в плане и сечении. Среди нихимеются следующие разновидности (рис. 74, 50-53).
Провертка иволистная – 1 экз. На одном кон-це изделия выделено тонкое острие, оно имело сле-ды залощенности от использования. Возможно,что другой конец – более толстый – также служилострием. Изготовлена на массивном утолщенномв сечении бифасе из темно-коричневой (почти чер-ной) кремнистой породы. Размеры 5х1,2х1 см(рис. 32, 10).
Провертки с выделенным уплощенным остри-ем подтреугольной формы и одним плечиком –2 экз. В сечении линзовидные. Изготовлены на би-фасах, обработаны сплошной ретушью. Одно ору-дие узкое, размером 4,3х1,7х0,8 см, другое широ-кое, его размеры 6х3,4х1,1 см (рис. 32, 7).
Провертка с выделенным острием и двумя пле-чиками – 1 экз. Изготовлена на тонком линзовид-ном в сечении бифасе, насад обломан. Размеры4,1х2,5х0,5 см (рис. 63, 3).
Провертка-сверло черешковое – 1 экз. В сече-нии изделие утолщенно-овальное. Острие треу-гольное в плане. Выделены плечики. Черешок мас-сивный, заоваленный на конце. Орудие изготовле-но сплошной бифасиальной обработкой. Размеры6,1х 2,3х1,1 см.
Провертка фигурная неправильно-иволистнойформы – 1 экз. Имеет удлиненно-треугольное ос-трие и два одностронних выступа у закругленно-го насада. Изготовлена из красной кремнистой по-роды, имеет сплошную бифасиальную ретушь иутолщенное сечение. Выступы могли служить длязакрепления в рукояти. Размеры 3,8х1,3х0,5 см.
Перфораторы (проколки или провертки)трехгранные – 3 экз. Изготовлены на удлиненно-приостренных массивных сколах с треугольнымсечением, по граням обработаны ретушью. Разме-ры от 5,3х1,9х0,8 см до 5,7х1,8х1 см (рис. 32, 8).
Заготовки орудий
Среди заготовок орудий большая часть морфо-логически определима и рассмотрена в составе со-ответствующих групп и категорий артефактов.Здесь указаны артефакты, которые соотнести сданными группами и категориями сложно.
Лодковидная заготовка – 1 экз. Унифас на мас-сивном сколе, удлиненно-овальный в плане, полу-лунный в профиле, односторонне-выпуклый в се-чении. Обработан грубыми сколами. Размеры10,2х3,9х2,7 см (рис. 40, 2).
Галька уплощенная, овальная в плане с унифа-сиальными грубыми сколами по двум краям – 1экз. Размеры 5,7х3,6х2,1 см (рис. 41, 2).
Клиновидная заготовка – 1 экз. Удлиненно-овальная в плане, асимметричная, лодковидная впрофиле, клиновидная в сечении. Верх заготовкиоформлен в виде площадки встречными сколами сдвух краев. Обе стороны заготовки имеют следыбифасиальной оббивки. С одного торца снят удли-ненный скол. Артефакт имеет сильно эродирован-
83
ную поверхность. Представляет собой заготовкунуклеуса или своеобразное долотовидное (?) ору-дие. Размеры 8,7х3,8х3,2 см.
Заготовки трудноопределимые с грубыми ско-лами – 8 экз. Остроугольные (3 экз.) и галечные (5экз.). Размеры от 6 до 13 см.
Орудия на отщепахс краевой ретушью
Значительная часть орудий данного класса от-личается довольно устойчивыми и своеобразнымиморфо-типологическими признаками. Их отлича-ет обработка с применением краевой ретуши (пре-имущественно дорсальной) или, что гораздо реже,с иными приемами краевого оформления, напри-мер, резцовым сколом. Среди них представленыорудия следующих категорий: ножевидно-скреб-ловидные изделия на отщепах и пластинчатыхснятиях, скребки, перфораторы, резчики и резцы,а также полиморфная и выделяемая пока предва-рительно группа артефактов на отщепах с изломом(рис. 74, 57-75).
Ножевидно-скребловидныеорудия на отщепах
Ножевидно-сребловидные орудия составляютсамую многочисленную группу среди орудий наотщепах. Представлены они следующими видамиартефактов.
Орудия с угловатым лезвием – 22 экз. Близкив плане к угловатым скреблам, но тонкие, ноже-видные. Изготовлены в основном на широких от-щепах. Можно выделить два их варианта.
1. Угловатые орудия – 11 экз. Изготовлены нашироких (9 экз.) и узких (2 экз.), как асимметрич-ные острия, отщепах. Характерны краевая дор-сальная ретушь, вентральная встречается в видеподтески и редко, а также сочетание выпуклого ивогнутого лезвий, сходящихся на угол, не совпа-дающий с осью заготовки. Размеры от 3,3х4,2х0,9см до 6,7х7,6х0,9 см (рис. 62, 6; 64, 1, 3-4; 66, 5).
2. Орудия с выделенным подтреугольным (уг-ловатым) шипом – 7 экз. Использовалась есте-ственная форма отщепов широких пропорций.Рабочий край у большей части орудий ретуширо-вался весьма экономно. В пяти случаях ретушьдорсальная, мелкая, краевая, в двух двусторон-няя, также мелкая краевая. У четырех орудий кра-евая ретушь имеется не только на рабочем крае,но и на других сторонах. Размеры орудий от5,2х4,8х0,8 см до 7,3х6х1,5 см. Ширина шипа восновании от 2,2 до 3 см, длина – от 1 до 2 см. Утрех изделий количество шипов от 2 до 4, междушипами у них выемчатые, редко прямые лезвия.У одного орудия выделенное острие (вероятно, оноиспользовалось как перфоратор). В целом, данныеартефакты выглядят полифункциональными, онимогли служить не только в качестве ножевидно-
скребловидных орудий, но также перфораторами,скобелями, резчиками (рис. 64, 5; 65, 1; 73, 1-2).
Орудия продольные с выделенными ретушьюзаоваленными углами – 4 экз. Изготовлены накрупных пластинчатых отщепах. Ось данных ору-дий совпадает с осью заготовки. Края и углы офор-млены дорсальной ретушью. Имеются простые (1экз.) и двойные (3 экз.) продольные орудия.
1. Простое продольное орудие на отщепе удли-ненно-подтрапециевидной формы. Ретушированопо правому краю, на котором оформлено вогнутоелезвие, а также по смежному углу на дистальномконце отщепа. Другой край отщепа без обработки,притупленный (обушковый -?). Размеры 6,4х4 см.
2. Двойное продольное орудие удлиненно-мин-далевидной в плане формы с расширением на дис-тальном конце, изогнуто в профиле. Ударный бу-горок не снят. Оба края обработаны дорсальной кра-евой и полузахватывающей ретушью. На дисталь-ном конце по обеим сторонам оформлено два угло-вых выступа. Размеры 7,7х4,1х0,7 см (рис. 62, 1).
3. Двойное продольное орудие с двумя ретуши-рованными углами по левому краю. Изготовленона подпрямоугольном в плане отщепе. Продольныерабочие края вогнутые, оформлены краевой мел-кой ретушью. По правому краю углы тонкие и ос-трые, без обработки. Размеры 7,1х4,4х0,5 см.
4. Двойное продольное орудие с выпуклымирабочими краями и заоваленным углом по левомукраю. Изделие оформлено краевой ретушью. Надистальном конце имеется диагональный излом.Размеры: 7,9х4,5х1,2 см (рис. 73, 3).
Отщепы с разнофасеточной краевой мелкойретушью, оформляющей выпуклый или прямойрабочий край – 7 экз. Имеют разные формы. Ис-пользовались, вероятно, как ножи, скребки. Ушести изделий лезвия продольные, у одного попе-речное. В двух случаях ретушь на двух краях. Раз-меры от 4,6х3,4 см до 8,4х3,2 см (рис. 39, 5; 39, 2).
Отщепы с вогнутыми рабочими краями – 3 экз.Имеют от одного до четырех рабочих краев, офор-мленных мелкой дорсальной ретушью, разнооб-разны по форме. Размеры от 5,6х2,3 до 6,5х4,5 см.
Остроконечники листовидные – 3 экз. Исполь-зовались, возможно, как ножи, скребки или пер-фораторы.
1. Асимметрично-листовидные остроконечни-ки на крупных широких отщепах – 2 экз. Рабочиекрая выпуклые, с разнофасеточной краевой рету-шью. Использована естественная форма заготов-ки. Из светло-серой породы типа дацита. Размеры7,3х4,2х0,9 см и 8,6х4,5х1,3 см (рис. 65, 2).
2. Ножевидный остроконечник листовидный вплане, мелкий – 1 экз. Оформлен двустороннейкраевой ретушью по двум выпуклым краям. Осно-вание орудия утолщено, на нем сохранился учас-ток галечной поверхности. Из светло-серой крем-нистой породы. Размеры 3х2,2х0,8 см.
84
Ножевидно-скребловидныеорудия на пластинчатых снятиях
Под пластинчатыми снятиями в нашем иссле-довании понимаются заготовки, близкие по мор-фологии к крупным пластинам. Но после изуче-ния всех материалов изделия, выполненные наданных заготовках, включены в класс орудий наотщепах, поскольку они не являются индикато-рами пластинчатой техники и с технологическойточки зрения являются теми же отщепами. Круп-нопластинчатые технологии в комплексе Гончар-ки-1 не проявляются. Во-первых, нет соответству-ющих нуклеусов. Во-вторых, собственно орудий напластинчатых снятиях мало, в дебитаже такиеснятия единичны, и получались они, видимо, слу-чайно. Для орудий на пластинчатых снятияхфиксируется использование не галечного, а пли-точного и глыбового сырья (в основном из того жеороговикованного алевролита серого цвета), по-зволяющего получать удлиненные заготовки (рис.74, 66-67).
Группа орудий на пластинчатых снятиях до-вольно полиморфна. В ней представлено семь из-делий и каждое из них практически индивидуаль-но по морфологии.
Асимметрично-листовидный узкий остроко-нечник с усеченным насадом, утонченным рету-шью (нож-?) – 1 экз. Обработан сплошной ретушьюна дорсале и краевой локальной на вентрале. Из-готовлен из желтовато-белой кремнистой породы.Размеры 6,6х1,9х0,7 см (рис. 47, 5).
Продольные орудия с выделенным асимметрич-ным острием на дистальном конце (ножи-скреб-ки-перфораторы-?) – 3 экз. Оформлены в основномкраевой локальной ретушью, одно- или двусторон-ней. Размеры от 6,8х2,3х0,9 до 10х2,7х0,7 см. Удвух имеется пологая регулярная ретушь вдольодного длинного края, оформляющая лезвие. Уодного орудия на дистальном конце имеются диа-гональные сколы типа резцовых. В двух случаяхна дорсале сохранилась естественная глыбоваяповерхность (рис. 39, 4; 44, 14).
Продольные двойные орудия массивные – 2 экз.Ретушь краевая, дорсальная, крутая по обоим кра-ям. У одного орудия конец обломан (возможно,был приостренным), его размеры 5х2,4х1,1 см.Один край его выпуклый, другой прямой. Другоеорудие имеет прямые рабочие края, его размеры7,3х2,9х1 см (рис. 39, 1) .
Продольное двойное орудие тонкое – 1 экз. Ре-тушь краевая дорсальная, пологая по обоим кра-ям. По левому краю лезвие выемчатое. Орудие из-готовлено из белой кремнистой породы. Размеры5х2,1х0,5 см (рис. 70, 5) .
Среди ножевидно-скребловидных артефактовтакже представлено простое продольное выпуклоеорудие на тонкой плитке – 1 экз. Оно подтрапе-циевидной формы (концы обломаны) с краевой
двусторонней ретушью по одному краю. Изготов-лено из красной яшмовидной породы. Размеры5х3,7х0,4 см (рис. 62, 4).
Скребки
Среди скребков на отщепах присутствует толь-ко один типологически хорошо выраженный вид,схожий с миндалевидными концевыми скребкамифасиального комплекса, имеющими закругленноелезвие.
Скребки концевые с закругленным рабочим кра-ем – 11 экз. Форма в плане в основном неправиль-ная миндалевидная, зауженная к насаду (10 экз.).Тщательное краевое оформление ретушью присут-ствует только на лезвии. Насад обычно не имеетподработки. Лишь в единичных случаях имеетсяслабая подработка его краевой дорсальной рету-шью. Вентральный фас не ретуширован. Одинскребок имеет выделенный шип на рабочем крае.Представлены крупные скребки (2 экз.) с разме-рами 10,1х5,1х1,7 см и 10,5х6,3х1,7 см (рис. 34,1; 60, 1), а также средние и мелкие, размеры пос-ледних от 4,2х 4,5х 1,6 см до 6,3х 3,8х 0,9 см.
Перфораторы
Немногочисленная группа изделий, представ-лена следующими разновидностями.
Провертка плечиковая на отщепе – 1 экз. Ос-трие узкое, выделено краевой ретушью. Плечикивыделены четко, как и насад, оформлены краевойиррегулярной ретушью. Размеры 3,9х2х0,4 см(рис. 32, 9).
Перфораторы на отщепах разные – 3 экз. От-личаются выделенным ретушью острием. Ретушьдорсальная, с подтеской. В одном случае остриеклювовидное. Размеры от 3,3х1,4х0,4 см до8х3,3х1,4 см (рис. 70, 1, 3).
Резчики и резцы
Малочисленны и разнообразны по форме. Пред-ставлены следующие разновидности орудий.
Резчики иволистные трехгранные – 2 экз. Из-готовлены на массивных удлиненно-приострен-ных сколах треугольного сечения. Грани подправ-лены локальной ретушью. Отличаются наличиеммелких сколов сработки на конце. Размеры от6,9х2х1,5 до 7,2х1,7х1,1 см (рис. 63, 1).
Пилка-резчик – 1 экз. Подтреугольной формыс зубчатым лезвием на одном крае, оформленнымдорсальной ретушью В профиле зубчатое лезвиедугообразное. Изготовлено из отщепа светло-ко-ричневого туфа. Противоположный острый конецотщепа имеет сколы, оформляющие острие, а так-же следы выкрошенности и слом, вероятно от сра-ботки. Размеры 3х1,9х0,5 см (рис. 51, 4).
Резец диагональный – 1 экз. Изготовлен на пер-вичном пластинчатом отщепе светло-коричневоготуфа с негативом продольного скола, оформляю-щего одну грань. Смежная грань оформлена тре-
85
мя резцовыми сколами. Острие имеет следы сра-ботки. Размеры 4,7х2,1х0,6 см (рис. 64, 2).
Имеются еще резцевидные и резчиковидныеартефакты на отщепах, но они рассмотрены ниже,среди орудий на отщепах с изломом.
Орудия на отщепах с изломом
Предположительно изделия на отщепах с изло-мом использовались для резки твердых материа-лов (резцы и/или резчики), реже – для проделы-ванием отверстий (перфораторы). Для уточненияих функций необходим трасологический анализ.В то же время надо отметить, что иных резцов ирезчиков в комплексе Гончарки-1 немного, поэто-му версия об использовании отщепов с изломом вкачестве таких инструментов представляетсявполне реальной. Данная группа многочисленна,но сложна в определении, т.к. часть отщепов мог-ла быть сломана случайно, в процессе иного ис-пользования. Имеются следующие разновидности.
Отщепы с ретушью и изломом на конце или покраю – 37 экз. Угол между изломом и ретуширо-ванным краем по облику близок резцовым. Ретушькраевая, в основном дорсальная, по одному илидвум краям, локальная и/или продолжительная.Излом, как предполагается, намеренный. Уголмежду ретушированным краем и гранью излома вбольшинстве случаев острый. На части артефак-тов у рабочей грани прослеживаются фасетки идругие следы сработанности, часть имеет резцевид-ные грани из-за сколов, нанесенных со стороны из-лома. Размеры от 2х2,1 см до 9,4х2,9 см. Длинаих варьирует от 2 до 9,4 см, ширина – от 1,2 до 5,2см (рис. 51, 1, 5-6).
Отщепы с изломом, от которого на смежныйкрай нанесены сколы типа резцовых – 8 экз. Че-тыре отщепа имеют прямой или близкий к прямо-му «резцовый» угол, у четырех других «резцовый»угол острый. У одного предмета скол нанесен с ес-тественной прямой площадки. Один отщеп имеетвыемчатый ретушный край, противоположный«резцовому» лезвию. У двух изделий – мелкая ре-тушь по двум смежным краям, у одного – допол-нительная подправка насада. На четырех артефак-тах имеются следы, которые можно интерпрети-ровать как следы сработки. Данные орудия прин-ципиально сходны с боковыми (4 экз.) и диагональ-ными (4 экз.) резцами. Размеры от 2,1х1,4х0,4 смдо 3,2х4,4х0,9 см (рис. 51, 2-3; 65, 4).
Остроконечники с треугольным (трехгран-ным) сечением и ретушью по одному краю – 2 экз.Изготовлены на отщепах с изломом. Предположи-тельно использовались как резчики или проверт-ки. Размеры 4,3х1,9х0,9 см и 5,8х1,7х1,5 см.
Кроме того, в коллекции горизонта 3Б имеется26 экз. трудноопределимых отщепов, обломковотщепов и/или орудий с ретушью, в основном ир-регулярной (рис. 32, 11; 62, 3; 63, 4; 70, 7).
Шлифованный инвентарь
Шлифованные орудия по морфологическим ха-рактеристикам и функциональному назначению восновном повторяют ретушированные изделия.Здесь выделяются группы наконечников метатель-ных орудий, рубящих орудий и перфораторов. Аб-разивная обработка представлена в различной сте-пени. На одних имеются только локальные участ-ки со шлифовкой, на других отмечается сплошнаяи тщательная заполировка (рис. 74, 76-81).
Наконечник копья – 1 экз. Крупный лавролис-тный бифас с локальным участком шлифовки наодном фасе. Абразивная обработка использова-лась, вероятно, для снятия образовавшегося выс-тупа-плато [Уиттакер 2004: 174]. Изготовлен изсеро-зеленой окремнелой породы. Найден в кв. М/7, 2 пл. Размеры 13,6х4,3х1,6 см (рис. 45, 2).
Наконечники стрел – 5 экз. Изготовлены изалевролита серого и светло-серого цвета. Их связьс осиповским комплексом можно предполагатьдовольно уверенно. Один из них обнаружен в кров-ле горизонта 3Б и покрыт интенсивными пятнамибурого налета. Еще один найден при разборке слоя2, однако он также имеет пятна бурого налета наповерхности. Два других обнаружены в горизонте3Б, один из них – в раскопе 3, где отсутствуют на-ходки более поздних комплексов. Каждый из нихпрактически индивидуален и может рассматри-ваться на уровне модификаций (рис. 74, 79-81).
Листовидный черешковый, ромбовидный в се-чении. Полностью зашлифован. Черешок обло-ман. На поверхности имеются интенсивные пятнатемно-бурого налета. Размеры 3,8х1,5х0,5 см.Найден в кв. П/9, 2 пл. (рис. 45, 10).
Иволистный, с плоскими сторонами, по краямсточены крутые узкие двусторонние фаски, офор-мляющие острый край. В сечении шестигранный.Полностью зашлифован. На поверхности имеютсяпятна темно-бурого налета. Размеры 3,8х1,5х0,5см. Найден в кв. Ж’/7, 2 пл.(рис. 63, 5).
Иволистный, с плоскими сторонами и пологи-ми двусторонними фасками по краям, шестигран-ный в сечении. Один конец обломан. Имеются пят-на бурого налета на одном фасе. Размеры обломка3,6 х1,2х0,3 см. Реконструированная длина око-ло 5,5 см. Найден в кв. М/8, 2 пл. (рис. 50, 2).
Иволистный с продольным ребром по центру(обломок срединного сегмента), с прямыми края-ми, уплощенно-ромбовидный в сечении. На его по-верхности имеются пятна бурого налета. Размеры2,9х1х0,3 см. Найден в кв. Д/6, слой 2 (рис. 42, 2).
Иволистный, трехгранный (треугольный) в се-чении, изготовлен из серого ороговикованногоалевролита. Полностью зашлифован. Концы обло-маны. Размеры 9,6х1,1х0,9 см. Реконструирован-ная длина около 12 см. Наибольшая ширина на-блюдается ближе к базовой части, на расстоянии
86
примерно 1/4 длины изделия. Найден в двух об-ломках кв. В’/7, 1 пл. и Г’/6, 2 пл. (рис. 63, 2).
Подобные трехгранные наконечники, но обра-ботанные ретушью, отмечены в комплексах пери-ода Insipient Jomon Японии, в частности в пещереКосегасава [Nakamura 1960]1. В то же время ору-дие сходно по форме с осиповскими трехгранны-ми в сечении перфораторами на сколах, обработан-ных ретушью, и не исключено, что оно относитсяк данной категории. Аналогий ему ни в осиповс-кой, ни в других более поздних культурах Приаму-рья не прослежено.
Перфоратор – 1 экз. Одно из шлифованныхизделий представляет собой провертку на приост-ренном обломке отщепа из серого ороговикован-ного алевролита с ретушью по одному краю. Одинострый конец зашлифован, имеет округлое сече-ние и следы залощенности от использования. Раз-меры 2,9х1х0,3 см. Найден в кв. В/5, 2 пл.
Рубящие орудия – 7 экз. Почти все изделия об-наружены в отложениях горизонта 3Б, поэтому ихможно уверенно соотносить с осиповским комп-лексом. Все они, как и оббитые орудия, являлисьтеслами. Представлено три их вида.
Тесла крупные, удлиненно-миндалевидные вплане, острообушные, со слабоокруглым лезвием –4 экз. (в том числе мелкий обломок). Аналогичныпо форме теслам первой группы из числа обрабо-танных сколами и ретушью.
Одно из тесел имело овальное сечение, изготов-лено на гальке, приостренной на обушке (исполь-зована естественная форма заготовки). В профилеудлиненно-овальное, лезвие скошено к брюшку.Края оббиты с двух сторон. Лезвие пришлифова-но с двух сторон, имеет сколы и выбоины от сра-ботки. Вторично использовалось, вероятно, как на-коваленка: на брюшковом фасе имеется локальныйучасток точечной забитости. Найдено в кв. И/8, 2пл. Размеры 16,7х6,7х2,5 см. (рис. 42, 1).
Второе тесло линзовидное в сечении (брюшкоплоское, спинка выпуклая), почти полностью итщательно зашлифованное по обеим сторонам.Только на брюшке по краям имеются негативывыравнивающих сколов. На лезвии сохранилисьявные следы сработки в виде залощенности, мел-ких выбоин и поперечных лезвию трас. Обушокобломан. Размеры 9,5х5,7х1,4 см. В реконструи-рованном виде длина орудия составляет около13 см. Найдено в кв. Л/7, 2 пл.
Третье орудие состоит из двух обломков (обуш-ковый и лезвийный сегменты). Выполнено из глы-бовой отдельности. Имеет подтрапециевидное се-чение и плоские грани (одна грань с естественнойглыбовой поверхностью, другая пришлифована).Оба фаса полностью зашлифованы. На лезвии от-мечаются сколы сработки, переходящие на брюш-ко. Размеры 12,6х5,6х1,6 см. Длина реконструи-рована графически, реальная длина обломков 5 и7,4 см. Найдено в кв. О/8 и П/7, 2 пл (рис. 50, 3).
Последнее орудие данной группы представленообломком лезвийной части. Вероятно, оно имелолинзовидное сечение. Возможно определить толь-ко его ширину – 5,3 см. Найдено в кв. Е/13, 1 пл.
Тесла высокой формы («горбатые») – 2 экз.Одно из них удлиненно-миндалевидное в пла-
не, острообушное, целое, со слабоокруглым лезви-ем и односторонне-выпуклым сечением. Лезвие впрофиле скошено к брюшку. Изготовлено на мас-сивном сколе черно-серой полосчатой кремнистойпороды. Боковые стороны оформлены грубымисколами. Лезвийная часть пришлифована с брюш-ка и спинки. На лезвии – сколы и выбоины от сра-ботки. Размеры 8,2х3,7х3 см. Найдено в кв. П/6,2 пл. (рис. 46, 1).
Второе орудие представлено лезвийным сегмен-том подтреугольного в сечении тесла с прямымикраями и закругленным лезвием. Обработано ско-лами с последующей пришлифовкой. Лезвие с не-гативами сколов и следами сработки. На поверх-ности имеются пятна бурого налета. Размеры об-ломка 6х3,4х2 см. Найдено в кв. Г’/2, 2 пл.
Кроме того, имеется одно тесло мелкое, удли-ненно-миндалевидное, острообушное, подтрапеци-евидное в сечении, со слабоокруглым лезвием, наотщепе. Зашлифовано с двух сторон в лезвийнойполовине, а также по одной прямой грани. Име-ются пятна бурого налета. Размеры 5,5х2,6х0,8 см.Найдено в кв. С/5, 2 пл. (рис. 50, 1).
Долотовидное орудие – 1 экз.Одно из орудий (обушковый сегмент) имело в
плане удлиненную слабозауженную форму, зак-ругленный обушок. В сечении овальное, стороныплоские. Обработано грубой шлифовкой по всейповерхности. На поверхности имеются пятна чер-ного налета. Размеры обломка 6,4х2,3х0,9 см.Найдено в кв. Д/14, 2 пл. (рис. 67, 1).
Имеется также мелкий отслоившийся обломокфасиальной части шлифованного рубящего ору-дия. Найден в кв. З’/8, 2 пл.
Инструментарий
Отбойники – 2 экз. Для них использованы хо-рошо окатанные гальки твердых и плотных пород.Один из них мелкий, изготовлен из овальной вплане гальки красного полупрозрачного сердоли-ка, округлый в сечении, имеет следы точечной за-битости на двух концах. Размеры 4,4х3х3,2 см(рис. 50, 4). Второй отбойник изготовлен на оваль-ной в плане уплощенной гальке окварцованнойпороды, имеет следы точечной забитости в двухзонах, расположенных на длинных краях изде-лия. Размеры 10,3х5,6х3,2 см.
Калибратор для древков стрел – 1 экз. Подпря-моугольный в плане, подтрапециевидный в сече-нии, изготовлен из среднезернистого песчаника.
1 Один из авторов имел возможность ознакомиться сколлекцией памятника Косегасава в 2004 г.
87
На одном фасе крест-накрест проточены два желоб-ка полукруглого сечения, на другом – еще один же-лобок. Ширина желобков 1,1-1,3 см. Размеры пред-мета 5,3х5,2х3,2 см (рис. 67, 2). Найден калибра-тор в кв. Д/13 при снятии 1-го пласта, поэтому неисключено, что он относится к комплексу вознесе-новской культуры позднего неолита. Однако надоотметить, что в памятниках этой культуры анало-гичных предметов до сих пор не зафиксировано[Шевкомуд 2004 а], нет их и в памятниках палео-металла [Деревянко 1973; 1976].
Абразив – 1 экз. К таковым может быть отнесе-на плоская, неправильно-миндалевидная в планегалька из среднезернистой светло-коричневой по-роды, на одной ее стороне прослеживаются слабыеследы шлифования. Размеры 12,6х8,7х2 см.
Предметынеутилитарного назначения
Данная группа предметов в коллекции Гончар-ки довольно многочисленна. Сюда входят плоско-стные ретушированные изображения, предметы,предположительно имеющие культово-ритуаль-ный характер, а также портативные петроглифы(рис. 74, 83-89) .
Бифас кинжаловидный – 1 экз. Изделие удли-ненных пропорций с ровными длинными краями,плавно суженными к острию, и закругленным ос-нованием. Обработка тщательная, утончающая,различными видами ретуши, в том числе отжим-ной. Данный вид бифаса можно уверенно отнестик редким. На его возможное ритуальное назначе-ние указывают как его необычная форма, так и тотфакт, что его обломки найдены прямо над погре-бением № 1. Размеры 9,4х2,6-1,8х0,7 см. Найденв кв. Д/15, 3 пл. и В/15, 2 пл. (рис. 66, 1).
Плоскостные ретушированные изображения изколлекции горизонта 3Б Гончарки воспроизводятобразы животных, птиц, рыб. Во избежании оши-бок при выделении изделий данной группы намибыли применены следующие основные принципы:1) общая схожесть в плане с представителями фа-уны; 2) наличие регулярной обработки ретушью,особенно той, которая оформляет мелкие деталиобраза; 3) морфотипологическая «необычность»артефакта, когда его сложно связать с какой-либовыделенной категорией орудий; 4) неясность какего общего утилитарного назначения, так и функ-ции деталей изделия; 5) отсутствие следов сработ-ки при утилитарном использовании. Однако надоотметить, что и при соблюдении перечисленныхпринципов достоверность определения тех илииных артефактов как художественных изображе-ний может оставаться под вопросом.
Ихтиоморфные изображения – 4 экз.Изображение лососевой (?) рыбы на пластинча-
том снятии из молочно-белого опала. Оформленодорсальной регулярной краевой ретушью. Выде-лены голова, хвост, два брюшных плавника. Рот
намечен мелкой вентральной фасеткой. Размеры8,3х2,2х0,9 см (рис. 43, 4).
Изображение лососевой (?) рыбы на отщепе,обработанном бифасиальной ретушью. Выделеныголова, брюшные плавники. Хвостовая часть обло-мана. Выполнено из ороговикованного алевролитасерого цвета. Размеры 4,6х2,1х0,8 см (рис. 43, 2).
Изображение рыбы, вероятно, карася или саза-на, с широким изогнутым в плане телом. Обработа-но сплошной бифасиальной ретушью. Выделеныголова, спинной и брюшной плавники, отогнутыйкнизу хвост. Линии жабер подчеркнуты с обеих сто-рон светлыми линиями естественной текстуры кам-ня. Выполнено из ороговикованного алевролитасерого цвета. Размеры 3,6х1,9х0,7 см (рис. 43, 3).
Изображение рыбы, вероятно, осетровой поро-ды. Изготовлено на удлиненной массивной заго-товке (или сколе) из ороговикованного алевроли-та серого цвета. Выделены голова, брюшной плав-ник, длинный узкий хвост (хвост на самом концеобломан). Размеры 10х2,4х1,4 см (рис. 66, 4).
Птериоморфное изображение – 1 экз. Изделие,по-видимому, передает образ боровой птицы (глу-харя или т.п.). Изготовлено на отщепе из орогови-кованного алевролита серого цвета краевой двусто-ронней ретушью по периметру. Четко выделеныголова с клювом, тело и хвост. Размеры 6,7х2,7х0,7 см (рис. 43, 1).
Зооморфные изображения – 2 экз.Изображение головы оленя или лося. Изготов-
лено на отщепе светло-коричневой полупрозрач-ной кремнистой породы. Выделены уши, подборо-дочный выступ. Носовая часть и шея отломаны.Размеры 2,6х1,9х0,9 см.
Изображение сидящего суслика-евражки. Вы-делена голова с ушками, лапки, прижатые к гру-ди, спина. На необычный характер предмета ука-зывает не только его форма, но и оформление егопопеременной ретушью, что редко встречается наорудиях. Размеры 4,9х2,7х0,8 см.
В раскопах 2 и 4 было обнаружено два комплек-са культового назначения. Как предполагается,как минимум, один из них связан с погребением.Каждый состоит из пары У-образных предметов иуплощенного валуна с лунками. У-образные изоб-ражения морфологически несколько различаютсямежду комплексами. Внутри же комплексов онисходны по облику, технике изготовления и мате-риалу, но различны по размерам. Их семантика,вероятно, имеет полиэйконический характер[Шевкомуд 1996 а; Медведев 2001].
У-образные предметы из раскопа 2 были изго-товлены из базальта серого цвета. Оформлены онитщательным вытачиванием и шлифовкой. Разме-ры одного из них 27х9,1х4 см. Длина его основа-ния 15,7 см, сечение округлое, диаметр 3,5-3,7 см,высота наклонного выступа до 15,5 см, сечениетакже округлое, диаметр до 4,1 см (рис. 53). Наторцовой стороне имеются два небольших округ-
88
лых выступа, расположенные один под другим.Второй предмет меньшего размера 24,2х9,3х3,8см. Длина его основания 16,2 см, диаметр 3,2 см,сечение уплощенное-овальное, наклонный выступизогнут в виде рога, его высота 12,1 см, диаметр3,1-4,3 см, сечение уплощенно-овальное. На тор-цовой части, как и у первого предмета, оформленаличина, но более отчетливая: двумя округлымивыступами обозначены «глаза», далее овальнымивыступами – «нос», «рот», «подбородок». Высоталичины 12 см, ширина 3,7 см (рис. 52). Контур«лица» отмечен симметричными рельефными ли-ниями на боковых плоскостях предмета, напоми-нает очертания усеченно-миндалевидной маски.Возможно, наклонный изогнутый в виде рога вы-ступ изображает высокий головной убор.
Культовые предметы из погребения в раскопе4 также изготовлены из базальта серого цвета.Форма их несколько отличается от аналогичныхизделий из раскопа 2 (рис. 71-72). В сечении ониокруглые или овальные. Размеры одного из них24,2х9,5х6,4 см, другого – 18,1х5,7х3,5 см. Пред-мет большего размера изготовлено техникой пи-кетажа, меньшего – пикетажем и шлифовкой.
Портативный петроглиф из раскопа 2 пред-
ставляет собой уплощенный расколотоый пополамвалун светло-коричневой породы типа базальта.Форму его в плане можно назвать усеченно-оваль-ной, поперечное сечение овальное. На изломе сдвух сторон фиксируются негативы встречных вы-равнивающих сколов. На одном из фасов валуна(верхнем, с точки зрения его залегания в комплек-се) имеются две небольших глубоких лунки раз-мерами 0,4 см, они расположены на расстоянии4 см друг от друга, предположительно, это глазаличины. К сожалению, трудно сказать, намерен-но ли были сделаны лунки или они естественногопроисхождения. Размеры валуна 19,2х18х8,1 см(рис. 54, 1).
Портативный петроглиф из погребения вы-бит также на уплощенном валуне светло-корич-невой породы типа базальта, он имеет неправиль-но-миндалевидную в плане форму. На его верхнейповерхности имеется три точечных выбоины, вы-полненные пикетажем, размеры которых варьиру-ют от 0,5 до 0,8 см в диаметре. Расстояние междувыбоинами от 6 до 6,7 см. Расположены они в видеравнобедренного треугольника и, вероятно, изоб-ражают глаза и рот личины. Размеры валуна30,7х23,2х9,2 см (рис. 54, 2).
Первичное расщепление
Артефакты из криогенных деформаций, отно-сящиеся к первичному расщеплению, немногочис-ленны и представлены дериватами микропластин-чатого комплекса, а также галечными нуклеуса-ми субпараллельного принципа расщепления,предназначенными для получения отщепов. Посырьевым и технико-типологическим признакамэти изделия не отличаются от тех, что обнаруже-ны в слое 3Б.
Микропластинчатый комплекс представленнуклеусом, техническим сколом и двумя микро-пластинами (рис. 44, 6). Нуклеус торцовый высо-кой формы с маленькой скошенной площадкой,подработанным контрфронтом и негативами сня-тых правильных микропластин с фронта. Изготов-лен из сердолика охристого красного цвета. Раз-меры 3,3х1х1,2 см (рис. 44, 4). Технический сколпредставляет собой первичный фронтальный сколс микронуклеуса. На дорсале имеются короткиенегативы предшествующих пробных снятий. Раз-меры 3х1х0,4 см.
Нуклеусы и нуклевидные изделия, предназна-ченные для получения отщепов, представлены сле-дующими артефактами.
Нуклеусы галечные плоскостного принципарасщепления – 2 экз. Размеры 4х2,7х2,3 см и3,1х2,5х1,6 см.
Нуклеусы аморфные – 2 экз. Размеры близкиобнаруженным в слое 3Б (рис. 44, 1).
Гальки со сколами – 3 экз. Размерные парамет-ры близки обнаруженным в слое 3Б.
Трудноопределимый нуклевидный галечныйобломок – 1 экз.
Орудия и инструментарий
В целом инвентарь из криогенных клиньев, каки артефакты из блока первичного расщепления, неотличается от найденного в слое 3Б, и к нему впол-не применим аналогичный подход. Следует, одна-ко, заметить, что полнота коллекций при этом су-щественно различается, что необходимо учиты-вать при их сравнительном анализе.
Наконечникикопий и дротиков
К данной группе могут быть отнесены два би-фаса (оба обломки) средних размеров с листовид-ными очертаниями. Один из них с обломаннымострием, изготовлен из светло-серой кремнистойпороды. Размеры 5,4х3,4х1,2 см, реконструиро-ванная длина 8 см. Найден в кв. Н/9, 7 пл. Другойиз кв. О/7, 4 пл. имеет боковую выемку у основа-ния, возможно черешок (рис. 45, 8).
Возможно, к данной категории относятся ещевосемь орудий, представленных концевыми илисрединными сегментов бифасов.
КАМЕННАЯ ИНДУСТРИЯИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ КРИОГЕННЫХ МОРФОСТРУКТУР
89
Наконечники стрел
В категории наконечников стрел имеется 15артефактов. Все бифасы. Представлены следую-щие виды и модификации.
Лавролистные наконечники – 8 экз. (в том чис-ле два обломка). Четыре предмета с эродированнойповерхностью. Размеры от 3,3х1,1х0,4 см до4,8х1,3х0,4 см (рис. 59, 2).
Листовидные наконечники – 3 экз. (в том чис-ле два в обломках). Целое орудие имеет заовален-ные концы, его размеры 3,6х2,1х0,7 см. Найденооно в кв. Н/5, 4 пл. (рис. 47, 6). Два обломка – на-конечники с одним приостренным концом.
Черешковые наконечники – 2 экз. Первый лис-товидный в плане, имеет выделенные уступы иудлиненный подтреугольный черешок. Размеры3,5х1,4х0,5 см. Найден в кв. М/7, 6 пл. Второйнаконечник представлен в обломке. По-видимому,аналогичен по форме предыдущему изделию. Най-ден в кв. О/7,4 пл.
Усеченно-листовидный наконечник с углова-тым основанием – 1 экз. Размеры 3х1,5х0,4 см.Найден в кв. Н/8, 7 пл. (рис. 45, 5).
Листовидный наконечник с двумя боковымивыступами-шипами у основания – 1 экз. Разме-ры 3,5х2х0,4 см. Найден в кв. П/6, 4 пл.
Ножевидно-скребловидныеорудия на бифасах
В данной категории, как и в материалах гори-зонта 3Б, выделяются симметричные и асиммет-ричные изделия крупного и среднего размерногоранга. Крупных орудий пять. Среди них имеютсяследующие виды изделий.
Бифасы асимметрично-листовидные – 2 экз.Один целый, крупный, широкий. Имеет неболь-шую асимметрию по длинной оси. Найден в кв.Д’/3, 5 пл. Размеры 11,9х5,1х1,1 см. (рис. 55, 1).
Бифасы асимметрично-лавролистные, широ-кие – 3 экз. Один из красной кремнистой породы,размеры 11х4х1,6 см, найден в кв. Н/9, 5 пл. (рис.45, 1). Другой из серого ороговикованного алевро-лита, выпуклый край имеет выемку ближе к ос-нованию, размеры 10,3х4,9х1,4 см, найден в кв.K’/10, 4 пл. Третий из серого роговика, повреж-ден по краям. Размеры реконструированы графи-чески 12,7х 5,8х1,7 см. Найден в кв. Ф/6, 5 пл.
Имеется также сегмент закругленного насадакрупного листовидного бифаса. Найден в кв. Ф/7,4 пл. Ширина изделия 5,8 см, толщина 1 см.
Орудия среднего размера представлены грубооформленной заготовкой полулунной в плане фор-мы с выделенной массивной рукоятью. Размеры8х2,9х1,7 см. Найден в кв. Н/8, 8 пл. (рис. 47, 2).
Перфораторы
К перфораторам в коллекции из криогенных
клиньев может быть отнесено одно орудие. Этопровертка трехгранная, асимметрично-иволист-ная в плане, массивная, изготовлена на сколе. Всетри грани обработаны ретушью. На вентральномфасе скола ретушь подтески с одного края. Разме-ры 5,6х1,5х1 см. Найдена в кв. Н/8, 4 пл. (рис. 47,3). Аналогичные трехгранные перфораторы есть ив материалах горизонта 3Б.
Тесловидно-скребловидныеорудия
В категории тесловидно-скребловидных орудийпредставлены следующие виды.
Массивные орудия – 2 экз. Миндалевидные вплане и линзовидные в сечении они имели округ-лое лезвие и приостренный обушок. В обоих слу-чаях применена бифасиальная обработка. Первоеорудие изготовлено из светло-серой кремнистойпороды, на его лезвии имеется залощенность отсработки. Его размеры 8,3х4,9х1,5 см, найдено вкв. Ж’/10, 4 пл. Второе изготовлено из темно-се-рого алевролита, имеет размеры 8х3,6х2,2 см, най-дено в кв. Н/9, 5 пл.
Тонкое орудие – 1 экз. Миндалевидное в плане,линзовидное в сечении изделие-бифас с округлымлезвием и приостренным обушком. Поверхностьсильно эродирована. Размеры 8,3х4х1,1 см. Най-дено в кв. Л/7, 4 пл. (рис. 46, 4).
Скребки
Скребки с фасиальной обработкой представле-ны одной разновидностью.
Скребок миндалевидный высокой формы – 1экз. Небольшой унифас на массивном сколе с вен-тральной подтеской. Изготовлен из светло-корич-невой кремнистой породы. Размер 3,7х 2,3х 1,3 см.Найден в кв. Н/8, 5 пл. (рис. 47, 4).
Рубящие орудия
К категории рубящих орудий могут быть отне-сены три изделия. Они имеют некоторые различияв сырье и в характере обработки (оббитая на кон-цах галька и бифас). Представлены двумя видами,аналогичными оббитым теслам горизонта 3Б. Сле-дов эрозии на них нет.
Удлиненно-миндалевидные острообушные тес-ла – 2 экз. Первое односторонне-выпуклое в сече-нии, с округлым лезвием, обушок приострен. Из-готовлено на гальке с обработкой только лезвий-ной части двусторонними сколами. На лезвии име-ются мелкие сколы от сработки, на обушке – ско-лы сработки с двух сторон. На брюшковом фасеимеется зона точечной забитости от использова-ния, вероятно в качестве наковаленки. Размеры13х5,7х3 см. Найден в кв. Н-8/5 пл. (рис. 55, 2).
Второе тесло со скошенным приостреннымобушком и линзовидным массивным сечением.Лезвие округлое. Представляет собой бифас,
90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Относительно каменных изделий позднего нео-лита и палеометалла, обнаруженных в Гончарке,можно утверждать, что они, во-первых, очень не-многочисленны в сравнении с осиповскими (всего11 орудий), а во-вторых, типологически четко вы-деляются на фоне последних и диагностируютсябез каких-либо трудностей. Поэтому состав оси-повской коллекции памятника не вызывает ника-ких сомнений, за исключением нескольких огово-ренных в описании случаев. Уверенность в этомосновывается, с одной стороны, на достаточно вы-сокой степени изученности сегодня как вознесенов-ских, так и польцевских комплексов Приамурья, ас другой, на том факте, что аналогичные «поздние»материалы были получены в памятниках, располо-женных в непосредственной близости к устью руч.Гончарка, особенно на поселении Новотроицкое-12.Кроме того, необходимо учитывать и то важное об-стоятельство, что имеющиеся к настоящему време-ни коллекции осиповской индустрии весьма мно-гочисленны и получены из целой серии памятни-ков Хехцирского геоархеологического района, оси-повские артефакты типологически выдержаны ибез труда узнаваемы специалистами.
Результаты анализа осиповской индустрии Гон-чарки-1 позволяют определить ее характерныепризнаки, сделать заключение о степени ее гомо-генности и ее возможных изменениях во времени.Это необходимо для последующего сравнения ма-териалов Гончарки-1 с коллекциями других оси-повских памятников, а затем и для общего рас-
смотрения их на фоне комплексов позднего плей-стоцена – раннего голоцена Приамурья и сопре-дельных территорий.
Результаты анализа сырьевого состава являют-ся важнейшим аргументом в пользу единства всейосиповской индустрии Гончарки-1. Это прослеже-но как между артефактами из криогенных дефор-маций и горизонта 3Б, так и в отношении много-численной коллекции собственно горизонта 3Б.Сырьевой состав можно считать весьма выдержан-ным. Как указано выше, в него входят три основ-ных вида сырья: серый ороговикованный алевро-лит, туфы риолита и кремнистые породы типа хал-цедонов и яшмоидов. Все они добывались в бли-жайших окрестностях в виде галечных и остро-угольных отдельностей. Присутствуют также ан-дезит, алевролиты, песчаники, обсидиан и другиепороды, но их роль невелика.
При этом относительно крупноразмерный глы-бовник и валунник из ороговикованного алевро-лита серого цвета и других сходных пород обраба-тывался, вероятно, в местах его добычи. На тер-ритории памятника происходило только оконча-тельное фасиальное оформление орудий. Мелкиеи средние гальки (до 5-6 см) цветных туфов рио-лита, кремнистых и яшмовидных пород приноси-лись на стоянку и полностью обрабатывались наее территории. Все это документируется как соста-вом и признаками дебитажа и артефактов, так ивыявленными скоплениями отщепов, микропла-стин, нуклеусов и т.п.
оформленный грубыми сколами по всей поверхно-сти (заготовка-?). Более мелкие сколы имеютсятолько на лезвии. Размеры 10,5х5,1х3,4 см. Най-ден в кв. В/16, 4 пл. (рис. 68, 1).
Удлиненно-овальное тесло – 1 экз. Линзовид-ное в сечении, массивное. Лезвие округлое, обушокзаовален сколами. Представляет собой бифас,оформленный грубыми сколами по всей поверхно-сти, кроме участка спинки, где сохранилась галеч-ная корка. На лезвии – мелкие сколы и следы за-битости от сработки. Размеры 7,6х5,6х2,7 см. Най-дено в кв. В/16, 4 пл. (рис. 68, 7).
Орудия на отщепахс краевой ретушью
К данной группе могут быть отнесены следую-щие разновидности изделий.
Ножевидно-скребловидное орудие с выделен-ным шипом – 1 экз. Имеет неправильную удлинен-ную форму в плане и вентральную краевую ретушьпо одному длинному краю, оформляющую углова-тое лезвие. Изготовлен из светло-коричневого ок-ремнелого туфа. Размеры 6х2,1х0,8 см. Найден вкв. Ж’/10, 4 пл.
Скребки на отщепах с полукруглым рабочим
краем – 2 экз. Миндалевидные в плане, насад зак-руглен. Обработка дорсальная краевая, по всемупериметру. Размеры средние. Первый имеет асим-метричный в плане рабочий край и подтеску с вен-трального фаса, размеры 5,2х3,6х1,1 см, найден вкв. М/7, 4 пл. (рис. 46, 2). У второго рабочий крайс центральным овальным шипом, его размеры 5,2х3,4х 0,9 см, найден в кв. Н/7,6 пл. (рис. 46, 5).
Скребок на шестиугольном в плане отщепе –1 экз. Рабочий край занимает три стороны, осталь-ные стороны представляют собой насад. Оформленкраевой дорсальной ретушью с сохранением пли-точной поверхности на дорсальном фасе. Формаочень редкая и, возможно, случайная. Размеры4,5х 4,9х0,9 см. Найден в кв. Г’/10,5 пл.
Отщепы различных форм с локальной краевойодносторонней ретушью, оформляющей выпук-лый (5 экз.) или вогнутый (2 экз.) рабочий край.Могли использоваться как ножи, скребки.
Из других артефактов следует отметить круп-ную слабоокатанную гальку угловатой формы снегативами грубых, беспорядочных сколов. Воз-можно, представляет собой заготовку бифаса наначальной стадии оформления. Размеры 14,4х10,4х7,1 см. Найден в кв. И’/10, 4 пл.
91
При этом отмечаем, что столь существенноепреобладание серого ороговикованного алевроли-та в орудийном наборе (более 75%) характернотолько для осиповской культуры, носители кото-рой умели использовать это сырье для изготовле-ния орудий, в том числе применяя для их обработ-ки сложные приемы тонкой отжимной ретуши. Вболее поздних культурах неолита Нижнего При-амурья данный вид сырья имел гораздо более уз-кое применение – в основным для получения шли-фованных деревообрабатывающих инструментов,т.к. он хорошо поддается абразивной обработке.
Характерной чертой осиповской индустрииГончарки-1 является довольно четкая дифферен-циация сырья по сферам применения. Для изго-товления большинства орудий и для первичногомикрорасщепления осиповцами использовалосьразное сырье. Данный признак тоже может бытькультурным индикатором. В целом, отмеченныехарактеристики сырьевого состава типичны длябольшинства осиповских памятников Хехцирско-го геоархеологического района и, вероятно, длявсей культуры в целом.
Относительно сегмента первичного расщепле-ния Гончарки-1 отметим, что, помимо устойчиво-го сырьевого состава, для него характерна сериядругих индикативных признаков. Техника полу-чения крупных пластин и даже пластинок длиной4-7 см отсутствует. Нуклеусы четко отражают ори-ентацию на микрорасщепление. Для этого исполь-зовались нуклеусы, объединенные торцовымпринципом скалывания. Техника подготовкипризматических или подпризматических ядрищне прослеживается, а имеющиеся единичные мик-ронуклеусы подпризматического облика техноло-гически являются сработанными торцовыми.
В рамках торцового принципа скалывания су-ществуют две основные разновидности нуклеусов:клиновидные на бифасах и торцовые галечные.Последние плавно варьируют от клиновидных соформленными латералями, килем и площадкойдо образцов с очень слабым оформлением латера-лей и площадки, или даже без такого оформления.
Слабая представленность клиновидных нуклеу-сов на бифасах (обнаружены только техническиесколы) объясняется, по-нашему мнению, недоста-точно хорошим качеством каменного сырья – се-рого ороговикованного алевролита, – из которогоизготавливались исходные бифасы. Тем не менееобнаруженные артефакты не оставляют сомненийв том, что древние обитатели владели технология-ми, которые ныне классифицированы в пределах«метода юбецу» [Sato, Tsutsumi 2007].
И самое важное, объяснить все эти различия врамках торцовой микропластинчатой техникихронологическими причинами на доказательномуровне трудно. В криогенных деформациях Гон-чарки-1 артефакты, связанные с первичным рас-щеплением, единичны. Потому можно только
предполагать, что нуклеусы на бифасах являютсянаиболее ранним вариантом реализации торцово-го принципа скалывания, а галечные торцовыенуклеусы являются более поздним и «регрессив-ным» явлением. Иллюстрацией к этому можетбыть появление в Гончарке-1 галечных торцовыхмикронуклеусов без оформления латералей и пло-щадки. Но это может быть также связано с особен-ностями сырья, сложного в раскалывании. Не ис-ключено, что данные ядрища являлись «неудач-ными» и попали в коллекцию после того, как быливыброшены после первых же попыток оформленияплощадки и фронта.
В целом сегмент первичного расщепления пред-ставлен незначительно на фоне всей индустрии.Вероятно, микропластины имели ограниченноеприменение. Прямая необходимость в них как вовкладышах для составных орудий метательного ирежущего назначения в хозяйственной сфере невполне понятна на фоне широкой представленнос-ти соответствующих бифасов и орудий на отщепах.
Вызывает интерес группа мелких галечныхнуклеусов для получения отщепов. Их присут-ствие нельзя считать оригинальным признакомматериалов Гончарки, т.к. они встречаются и вдругих осиповских памятниках, в том числе в Оси-повке-1 [Табарев 1992]. Для чего были необходи-мы такие мелкие отщепы не вполне ясно. Ихпреимущество может заключаться только в нали-чии у них более прочных режущих краев, по срав-нению с изделиями из алевролита. Возможно, чтоони использовались для вкладышевых (состав-ных) орудий, о назначении которых без проведе-ния трасологических исследований можно толькодогадываться.
Единство технико-типологических признаковосиповской индустрии Гончарки-1 очевидно и в ееорудийном наборе. Это проявляется в наличиипредставительных серий метательных, тесловид-но-скребловидных, рубящих орудий, скребков идаже орудий на отщепах, для значительной частикоторых характерно более или менее стандартноеисполнение. Имеющиеся полиморфные группывключают изделия, которые также невозможнорассматривать вне осиповского комплекса. Поли-мофность их можно объяснить тем, что для ноже-видно-скребловидных орудий, перфораторов необ-ходимой является только форма рабочего края, ане форма изделия в целом. Кроме того, для значи-тельной доли изделий можно уверенно предпола-гать полифункциональность.
Кроме очевидных признаков стандартизации,можно говорить и о довольно развитой типологииорудий Гончарки-1. Так, обращает на себя внима-ние разнообразие наконечников стрел, особенночерешковых. Кроме хорошо представленных ко-личественно, имеются также редкие, но весьмахарактерные и узнаваемые их модификации (на-пример, мелкие усеченно-листовидные наконеч-
92
ники с угловатым основанием). Из редких срединаконечников копий и дротиков имеется кинжа-ловидный бифас, вероятно, специфического назна-чения (ритуального и/или престижного).
Многообразны асимметричные бифасы, перфо-раторы. Тесловидно-скребловидные орудия пред-ставлены в двух устойчивых видах. Для скребковхарактерны многочисленные и постоянные серииминдалевидных и треугольных в плане орудий,основой для различения которых является формарабочего края. Среди рубящих орудий выделеныострообушные линзовидные, овальные в сечении,а также односторонне-выпуклые («горбатые») и др.Даже среди предметов неутилитарного назначениявыделяются сходные по функции, но различныепо морфологии изделия. Это хорошо иллюстриру-ется на примере двух пар У-образных предметов.Они явно имеют сходную семантику и назначение,но по облику и технике обработки различаются.
Таким образом, можно сформулировать некоеобщее правило: один и тот же результат (орудие оп-ределенного назначения) носители осиповскойкультуры могли получить разными способами и суспехом этим пользовались.
В отношении осиповских тесловидно-скребло-видных орудий и макроформ скребков (особенноунифасиальных) обозначается проблема их функ-циональной интерпретации. Во-первых, в литера-туре макроскребки рассматриваются в категориитесловидно-скребловидных орудий. Во-вторых,П.В. Волковым был проведен функционально-мор-фологический анализ последних (в том числе имакроскребков), результатом которого стал выводо довольно разнообразном и широком примененииих как скребковых орудий, мясных ножей, тесели долот [1999: 51-58].
В связи с этим отметим, что в коллекции Гон-чарки-1 нас интересовали прежде всего технико-типологические признаки тесловидно-скребловид-ных орудий и скребков. С этих позиций они и былиразделены нами на две разные категории, внутрикоторых также удалось выделить несколько ихвидов. Мы не исключаем, что после трасологичес-кого анализа артефакты, объединенные нами в ка-тегорию скребков, могут получить иное функцио-нальное определение. Однако отметим, что нашесобственное изучение следов износа на скребках изколлекции Гончарки-1 пока подтверждает их ти-пологическое и функциональное определение.
К ярким технологическим признакам осиповс-ких орудий относится распространенность сплош-ной фасиальной обработки. Это отражено, преждевсего, в бифасах различных типов и размеров, ко-торые представлены метательными, ножевидно-скребловидными, тесловидно-скребловидными ирубящими орудиями. В категории скребков харак-терна также унифасиальная сплошная обработкаспинки орудий с локальными участками брюшко-вой подтески или без нее. Би- и унифасиальные
изделия в основном определяют типологическийи культурный облик индустрии Гончарки-1. Мор-фологические признаки дебитажа в основном так-же представляют фасиальный компонент индуст-рии: в ней редки удлиненные отщепы, а также не-велико количество отщепов крупнее 6 см, которыемогли бы использоваться как заготовки орудий.Отщепы в основном документируют фасиальнуюобработку орудий.
Но фасиальная обработка присутствует не вовсех группах артефактов. Доминирование дорсаль-ной краевой ретуши прослеживается в орудиях наотщепах. В прежних описаниях осиповской куль-туры на них обращали мало внимания. Но их ко-личественная представленность, типология и ха-рактер обработки также индикативны, особенно вотношении угловатых и продольных ножевидно-скребловидных орудий.
Несколько странно выглядит малочисленностьрезцовых орудий и слабая представленность самойтехники резцового скола. Имеющиеся в коллек-ции Гончарки орудия данного назначения скорееможно именовать резцевидными артефактами,чем резцами. Количество таковых увеличится,если подтвердится наше отнесение к ним изделийна отщепах с изломом. Но это пока сделано толькопредварительно, т.к. для этих артефактов необхо-димо проведение трасологических исследований сцелью уточнения их функции и вообще того фак-та, являются ли они орудиями или просто сломан-ными ретушированными отщепами.
Яркой чертой индустрии Гончарки, безусловно,следует считать наличие серии шлифованных ору-дий, особенно тесел и наконечников стрел. Вышеуказывалось, что они по стратиграфическим при-знакам, наличию пятен бурого налета уверенно со-относятся с осиповским комплексом. Важно ещераз подчеркнуть, что их типы имеют аналогии вретушированном инвентаре.
Абразивная технология искусно использова-лась и для изготовления У-образных предметов.На них прослеживается не просто шлифовка, аскульптурное вытачивание, что представляет со-бой гораздо более высокий уровень владения абра-зивной технологией, нежели просто шлифовка иполировка каменных орудий. Очень важны в дан-ном контексте находки абразивов. При исследова-ниях горизонта 3Б в раскопе 5 в 2001 г. был обна-ружен крупный шлифовальный камень с восемьювышлифованными желобами для обработки рубя-щих орудий.
Представляет интерес шлифованный трехгран-ный наконечник (или перфоратор -?), не имеющийаналогий в поздних памятниках. Его отнесение косиповскому комплексу, конечно, может вызы-вать сомнения. Но следует учитывать, что другиешлифованные изделия осиповского комплексатакже представлены вариантами, которые трудноназвать примитивными (например, иволистные
93
наконечники стрел с ровными приостряющимифасками по краям). Кроме того, сама идея трех-гранного орудия прослеживается и в других оси-повских изделиях – удлиненных сколах треуголь-ного сечения, которые интерпретированы намикак резчики и перфораторы. Важно также напом-нить, что уже отмечалось нами в тексте главы, чтотрехгранные наконечники стрел обнаружены вдревнейших японских комплексах с керамикой.
Вызывает интерес и калибратор древков стрел.Он найден в кровле горизонта 3Б, т.е. его стратиг-рафическое положение не позволяет уверенно го-ворить о его культурной принадлежности. Но мыпредположительно связываем его с осиповскимкомплексом по двум косвенным основаниям. Во-первых, на фоне весьма широкой представленнос-ти в Гончарке-1 наконечников стрел востребован-ность данного вида инструментов выглядит впол-не очевидной. Во-вторых, аналогичные калибра-торы неизвестны в комплексах позднего неолитаи палеометалла Нижнего Приамурья. В-третьих,данный вид артефактов хорошо представлен в па-мятниках периода Insipient Jomon на Японскомархипелаге [Beginning of the Jomon…]
Обращает на себя внимание довольно большаягруппа каменных артефактов, отнесенных к груп-пе предметов неутилитарного назначения. Можноговорить о реальности портативных петроглифовс точечными изображениями личин, посколькуони обнаружены в одном контексте с У-образны-ми предметами. Что касается группы плоскостныхретушированных изображений, то, как указыва-лось в описании, несмотря на их внешнее сходствос представителями фауны, определенные сомне-ния в правомерности их интерпретации как неути-литарных предметов неизбежно остаются. Тем неменее аналогичные изображения были найдены ив памятниках нижнеамурского неолита, в том чис-ле и достоверные со всей очевидностью [Окладни-ков 1971 б; Шевкомуд 2004 а: 102]. Поэтому выде-ление нами данной группы, несмотря на все ого-ворки, вполне правомерно.
С группой предметов неутилитарного назначе-ния связана еще одна техника камнеобработки –пикетаж (точечная ретушь). В данной техникеоформлены У-образные предметы из погребения,а также лунки, оформляющие антропоморфныеличины одного из портативных петроглифов.
Индустрия Гончарки-1, таким образом, отража-ет как черты архаики, представленные в извест-ных комплексах позднего палеолита востокаАзии, так и очевидные неолитические инновации.С позднепалеолитическими комплексами ее в ос-новном связывают бифасы различных очертаний,клиновидные микронуклеусы, ножевидно-скреб-ловидные орудия на пластинчатых отщепах,оформленные приемами краевой дорсальной рету-ши. Перечень неолитических признаков гораздоболее внушителен.
Обращает на себя внимание большое количе-ство, разнообразие и высокое техническое каче-ство обработки наконечников стрел: лавролист-ных, иволистных, черешковых и др. Важное мес-то занимают тесловидно-скребловидные массив-ные орудия и концевые скребки, они отличаютсяв основном крупноразмерностью, но в целом име-ют неолитический облик. По морфологии и обра-ботке они близки к лезвиям макроскребков с дву-ручной рукоятью, использовавшихся для грубойобработки шкур крупных животных [Волков 1999:24]. Такие орудия известны из этнографии корен-ных народов Северо-Восточной Азии [Богораз1991: 151, 153]1 . Орудия Гончарки могли иметьаналогичное назначение. Весьма представительнасерия рубящих орудий. Возможно, к ним относят-ся также тесловидно-скребловидные орудия тон-кого типа, но это сложно установить на имеющем-ся материале.
Особое место как неолитический индикатор за-нимают шлифованные изделия, а также предме-ты, оформленные в технике пикетажа. Абразив-ная и пикетажная техники широко распростране-ны в голоценовом неолите Нижнего Приамурья.
Таким образом, на вопрос о том, с какой эпо-хой ассоциируется каменная индустрия памятни-ка Гончарка-1, можно со всей уверенностью отве-чать: с неолитической.
Другая проблема – определение хозяйственнойориентации древних обитателей Гончарки-1. Вданном вопросе прежде всего важно учитыватьтакие факты, как массовость наконечников мета-тельных орудий, в т.ч. стрел, крупных и среднихскребков, а также их развитый ассортимент. Мак-роскребки и массивные тесловидно-скребловид-ные орудия наиболее вероятно предназначены дляобработки шкур крупных животных. Кроме того,обращает внимание обилие ножевидно-скребло-видных орудий. Все эти орудия со всей очевиднос-тью свидетельствуют о большой роли охоты в жиз-ни осиповского населения. С ней можно связыватьтакже скребловидные орудия, перфораторы и дру-гие изделия. Контраргумент в данном вопросе –неопределенность в части резцовых орудий, новряд ли он может быть определяющим.
Данные о значении рыболовства гораздо скром-нее. При раскопках 1995-1996 гг. не обнаруженоизделий, которые бы явно свидетельствовали о за-нятиях этим промыслом. Для памятников Приаму-рья такими артефактами, как правило, являютсягрузила. При переработке рыбы, безусловно, мог-ла использоваться и часть режущих орудий. В тра-сологических исследованиях П.В. Волкова приво-
1 Совершенно аналогичные каменные макроскребки вдеревянных двуручных рукоятях, принадлежавшие коря-кам и чукчам, известны авторам по коллекциям Камчат-сткого областного краеведческого музея.
94
дятся данные о коленчатых ножах для разделкирыбы в осиповской культуре [Волков 1999: 49-51].Близкие им по форме ножевидно-скребловидныеорудия на отщепах с дорсальной краевой ретушью,обнаружены в Гончарке-1 в ходе полевых работ2001 г. [Shewkomud et al. 2003: 77]. Рубящие ору-дия, хорошо представленные в коллекции, моглииспользоваться для строительства различных пе-регораживающих ловушек в местах нереста [Ва-сильевский и др. 1997: 45]. Но все это можно при-знать лишь косвенными данными.
Большую роль рыболовства в хозяйстве древ-нейших обитателей Гончарки могут отражать на-ходки ихтиоморфных изображений, представлен-ных довольно разнообразной серией.
Таким образом, при анализе каменной индуст-рии Гончарки-1 пока можно получить только кос-венные данные о занятиях рыболовством. Опреде-ленную ясность в данном вопросе могли бы внестирезультаты трасологического анализа орудий, но,во-первых, таковой пока не проводился, а во-вто-рых, он в значительной мере будет затруднен тем,что многие артефакты памятника имеют в различ-ной степени эродированную поверхность.
Набор рубящих орудий свидетельствует о раз-витии деревообработки и использования дерева вбыту и хозяйстве. Применение не жердей, а ужедовольно толстых стволов при строительстве жи-
лищ и навесов (до 15-20 см в диаметре) могут фик-сировать столбовые ямы горизонта 3Б.
Широкий ассортимент рубящих орудий, а так-же переход к их оформлению в абразивной техни-ке, как было указано выше, – явные признаки нео-литизации. В работах по неолиту он, кроме того,рассматривается как маркеры перехода к оседлос-ти [Там же: 45-48]. Вместе с данными, изложенны-ми в главе 1, о возможности наличия на памятникевсесезонных жилищ с довольно длительным пери-одом эксплуатации, это подкрепляет гипотезу о воз-можном существовании в Приамурье ранних формоседлости в период 10000-11000 л.н.
Таким образом, анализ каменной индустрииГончарки-1 с полной очевидностью указывает наважную роль охоты в жизни осиповского населе-ния. Причем можно утверждать, что охоты имен-но на крупных животных. О рыболовстве в мате-риалах поселения свидетельствуют лишь косвен-ные данные, для выяснения его роли необходимопривлекать материалы других осиповских памят-ников. Можно предполагать наличие у осиповско-го населения ранних форм оседлости. И, наконец,наиболее важный вывод: результаты анализа оси-повской индустрии Гончарки явно указывают наее неолитический характер, хотя и с некоторымисохранившимися признаками предшествующейпалеолитической эпохи.
Рис. 30. Гончарка-1. Раскоп 1.Тесловидно-скребловидные орудия массивные.
1 – кв. А/5, 3 пл.; 2 – кв. И/7, 2 пл.; 3 – кв. Г/5, 2 пл.
2
3
1
Рис. 31. Гончарка-1. Раскоп 1.Наконечники метательных орудий.
1 – кв. А/7, 3 пл.; 2 – кв. З/9, 2 пл.; 3 – кв. И/1, 2 пл.;4 – кв. К/10, 2 пл.; 5 – кв. Д/8, 3 пл.
1
2
3
45
1 2 3
45
6
7
8
9 10 11
Рис. 32. Гончарка-1. Раскоп 1.Наконечники стрел (1-6), перфораторы (7-10), резцевидное изделие на отщепе (11).
1 – кв. В/4, 2 пл.; 2 – кв. Ж/7, 3 пл.; 3 – кв. Б/4, 2 пл.; 4 – кв. Г/1, 2 пл.; 5 – кв. И/1, 3 пл.; 6 – кв. В/6, 2 пл.;7 – кв. Д/8, 3 пл.; 8 – кв. В/3, 2 пл.; 9 – кв. Б/3, 3 пл.; 10 – кв. Д/9, 3 пл.; 11 – кв. И/4, 2 пл.
Рис. 33. Гончарка-1. Раскоп 1.Скребки.
1 – кв. Г/6, 3 пл.; 2 – кв. В/4, 2 пл.;3 – кв. А/8, 2 пл.; 4 – кв. Е/7, 2 пл.;5 – кв. И/9, 2 пл.; 6 – кв. И/8, 2 пл.;
7 – кв. В/10, 2 пл.
12
34
5
6
7
Рис. 34. Гончарка-1. Раскоп 1.Скребки (1-2), тесловидно-скребловидное орудие (3).1 – кв. Е/9, 2 пл.; 2 – кв. Б/6, 2 пл.; 3 – кв. Г/4, 3 пл.
2
3
1
Рис. 35. Гончарка-1. Раскоп 1.Нуклеусы (1-4), микропластины (5-8), пластинчатое снятие (9).
1 – кв. А/6, 2 пл.; 2 – шурф 1, 3 пл.; 3 – кв. Д/2, 2 пл.; 4 – кв. Ж/9, 2 пл.;5-6 – кв. К/10, 2 пл.; 7 – кв. И/10, 2 пл.; 8 – кв. З/8, 2 пл.; 9 – кв. Б/3, 2 пл.
1
2
3
4
5 6 7 8
9
Рис. 36. Гончарка-1. Раскоп 1. Микронуклеусы (1-5), технический скол (6).
1 – кв. К/9, 2 пл.; 2 – кв. И/6, 2 пл.; 3 – кв. К/10, 2 пл.;4 – кв. Д/7; 2 пл.; 5 – кв. К/10, 2 пл.; 6 – кв. Г/6, 3 пл.
1
23
4
5
6
1
2
Рис. 37. Гончарка-1. Раскоп 1.Скребловидное (1) и ножевидно-скребловидное (2) орудия.
1 – кв. Ж/5, 2 пл.; 2 – кв. Б/5, 2 пл.
Рис. 38. Гончарка-1. Раскоп 1. Ножевидно-скребловидное орудие-заготовка (1),наконечник стрелы (2), ножевидно-скребловидные орудия на бифасах (3-6).
1 – кв. А/7, 2 пл.; 2 – кв. В/4, 3 пл.; 3 – кв. А/8, 2 пл.; 4 – кв. З/7, 2 пл.; 5 – кв. И/6, 2 пл.; 6 – кв. И/8, 2 пл.
1
2
34
56
Рис. 39. Гончарка-1. Раскоп 1.Ножевидно-скребловидные орудия на пластинчатых снятиях (1, 4) и отщепах (2, 5), наконечник стрелы (3).
1 – кв. Б/4, 2 пл.; 2 – кв. И/10, 2 пл.; 3 – кв. Е/6, 3 пл.; 4 – кв. Б/9, 3 пл. (в очаге); 5 – кв. И/5, 1 пл.
1
2
3
4
5
Рис. 40. Гончарка-1. Раскоп 1.Скребловидное орудие (1) и лодковидная заготовка (2).
1 – сектор 4; 2 – кв. Е/1, 2 пл.
1
2
Рис. 42. Гончарка-1. Раскоп 1.Рубящее орудие (1) и наконечник стрелы (2).
1 – кв. И/8, 2 пл.; 2 – кв. Д/6, сл. 2
1
2
Рис. 43. Гончарка-1. Раскоп 1.Плоскостные ретушированные изображения (1-4), наконечники стрел (5-6), рубящее орудие (7).
1 – кв. З/7, 2 пл.; 2 – кв. В/8, 3 пл.; 3 – кв. З/8, 3 пл.; 4 – кв. Е/6, 2 пл.;5 – З/8, сл. 2; 6 – кв. И/10, 1 пл.; 7 – кв. Ж/8, сл. 2
1
2
3
4
5 6
7
Рис. 44. Гончарка-1. Раскоп 2.Микронуклеусы (1-5), микропластины (6-12), заготовка наконечника стрелы (13),
ножевидно-скребловидное орудие на пластинчатом снятии (14)1 – кв. Ф/6, 5 пл.; 2 – кв. Л/9, 2 пл.; 3 – кв. Л/7, 3 пл.; 4 – кв. Т/5, 5 пл.; 5 – кв. Л/8, 2 пл.;
6 – кв. Н/9, 7 пл.; 7 – кв. Л/10, 2 пл.; 8 – кв. Л/10, 2 пл. ; 9 – кв. Л/10, 2 пл.; 10 – кв. Н/7, 3 пл.;11 – кв. О/8, сл. 2; 12 – кв. П/2, 2 пл.; 13 – кв. Р/1, сл. 2; 14 – кв. М/1, 2 пл.
1
2
3
4
5
6
7
89
10
12
11
1314
1
2
3 4
5 6
7
10
8 9
Рис. 45. Гончарка-1. Раскоп 2. Ножевидно-скребловидные орудия на бифасах (1, 8, 9), наконечник метательного орудия с пришлифовкой (2), наконечники стрел (3-7, 10).
1 – кв. Н/9, 5 пл.; 2 – кв. М/8, 2 пл.; 3-4 – кв. У/1, 2 пл.; 5 – кв. Н/8, 7 пл. ; 6 – кв. Р/9, 1 пл.;7 – кв. Р/9, 1 пл.; 8 – кв. О/7, 4 пл.; 9 – кв. М/3, 3 пл.; 10 – кв. П/9, 2 пл.
1
2
3
4 5
Рис. 46. Гончарка-1. Раскоп 2.Тесло (1), скребки (2, 3, 5), тесловидно-скребловидное орудие (4).
1 – кв. П/6, 2 пл.; 2 – кв. М/7, 4 пл.; 3 – кв. Л/7, 3 пл.; 4 – кв. Л/7, 4 пл.; 5 – кв. Н/7, 6 пл.
12
3
4
5
Рис. 47. Гончарка-1. Раскоп 2.Наконечники метательного орудия (1) и стрелы (6),
ножевидно-скребловидные орудия на бифасе (2)и пластинчатом снятии (5), перфоратор (3), скребок (4).1 – кв. Н/1, 2 пл.; 2 – кв. Н/8, 8 пл.; 3 – кв. Н/8, 4 пл.; 4 – кв. Н/8, 5 пл.; 5 – кв. У/5, 2 пл.; 6 – кв. Н/5, 4 пл.
6
1
2
Рис. 49. Гончарка-1. Раскоп 2.Тесловидно-сребловидные орудия.1 – кв. Н/7, 5 пл.; 2 – кв. С/2, 3 пл.
1
2
3
4
Рис. 50. Гончарка-1. Раскоп 2.Тесла (1, 3), наконечник стрелы (2), отбойник (4).
1 – кв. С/5, 2 пл.; 2 – кв. М/8, 2 пл.; 3 – кв. О/8, 2 пл.; 4 – кв. Р/4, 2 пл.
5
6
1
2
3
4
Рис. 51. Гончарка-1. Раскопы 2 и 4.Отщепы с ретушью и изломом (1, 5-6),
резцевидные отщепы с изломом (2-3), пилка-резчик на отщепе (4).1 – кв. М/6, 2 пл.; 2 – кв. Н/8, 3 пл.; 3 – кв. У/6, 3 пл.;
4 – кв. Д/13, 1 пл.; 5 – кв. Д/14, 1 пл.; 6 – кв. Б/14, 3 пл.
Ри
с. 5
2.
Гон
чар
ка-
1.
Рас
коп
2.
У-о
браз
ны
й п
ред
мет
с а
нтр
опом
орф
ны
м и
зобр
ажен
ием
из
ри
туал
ьно-
ку
льт
овог
о к
омп
лек
са в
кв.
Р/9
Ри
с. 5
3.
Гон
чар
ка-
1.
Рас
коп
2.
У-о
браз
ны
й п
ред
мет
из
ри
туал
ьно-
ку
льт
овог
о к
омп
лек
са в
кв.
Р/9
Рис. 54. Гончарка-1.Валуны с лунками из ритуально-культового комплекса в раскопе 2 (1)
и погребения в раскопе 4 (2)
1
2
Ри
с. 5
5.
Гон
чар
ка-
1.
Рас
коп
ы 2
и 3
. З
апол
нен
ие
кр
иог
енн
ого
кл
ин
а.1
– н
ожев
ид
но-
скр
ебл
ови
дн
ое о
ру
ди
е н
а би
фас
е (к
в. Д
’/3
, 5
пл
.);
2 –
ру
бящ
ее о
ру
ди
е (к
в. Н
/8,
5 п
л.
)
1
2
Рис. 56. Гончарка-1. Раскоп 3. Микронуклеусы (1, 3-6), технический скол (2),дериваты расщепления микронуклеусов уплощающего параллельного принципа скалывания (7-10).
1 – кв. З’/8, 2 пл.; 2 – кв. Ж’/5, 2 пл.; 3 – кв. К’/4, 2 пл.; 4 – кв. К’/10, 2 пл.;5 – кв. З’/3, 2 пл., 6 – кв. И’/3, 2 пл.; 7-10 – кв. Е’/3, 3 пл.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
Рис. 57. Гончарка-1. Раскоп 3. Тесловидно-скребловидное орудие (1),скребок (2), наконечник метательного орудия (13) и наконечники стрел (3-12).
1 – кв. В’/4, 2 пл.; 2 – кв. Ж’/2, 3 пл.; 3 – кв. Е’/2, 2 пл.; 4 – кв. В’/2, 3 пл.; 5 – кв. Г’/6, 2 пл.;6 – кв. К’/5, 2 пл.; 7 – кв. Б’/4, 2 пл.; 8 – кв. И’/5, 3 пл.; 9 – кв. Ж’/7, 2 пл.;
10 – кв. Г’/10, 3 пл.; 11 – кв. З’/4, 2 пл.; 12-13 – кв. Е’/6, 3 пл.
1
2
3
45
6
7
8
9 10
11 12
13
Рис. 58. Гончарка-1. Раскоп 3.Рубящие орудия (1-2, 7), ножевидно-
скребловидные орудия на бифасах (3-4),наконечники стрел (5-6, 8-9).
1 – кв. Е’/2, 3 пл.; 2 – кв. И’/5, 3 пл.;3 – кв. Д’/6, 2 пл.; 4 – кв. Б’/2, 2 пл.;5 – кв. Д’/6, 3 пл.; 6 – кв. К’/2, 2 пл.;7 – кв. Е’/4, 3 пл.; 8 – кв. Г’/4, 2 пл.;
9 – кв. И’/10, 2 пл.
1
2
3
4
5
6
7
8 9
Рис. 59. Гончарка-1. Раскоп 3.Наконечники метательных орудий (1) и стрел (2-7).
1 – кв. Г’/5, 2 пл.; 2 – кв. А’/10, 4 пл.; 3 – кв. Д’/3, 2 пл.; 4 – кв. И’/3, 2 пл.;5 – кв. Е’/4, 3 пл., 6 – кв. И’/4, 3 пл.; 7 – кв. Г’/3, 2 пл.
1
2
3
4
7
5 6
Рис. 60. Гончарка-1. Раскоп 3. Скребки.1 – кв. Г’/6, 1 пл.; 2 – кв. Д’/4, 3 пл.; 3 – кв. Ж’/7, 2 пл.; 4 – кв. Д’/5, 3 пл.;5 – кв. З’/2, 2 пл., 6 – кв. Ж’/5, 3 пл.; 7 – кв. Е’/4, 3 пл.; 8 – кв. Г’/2, 2 пл.
1 2
34
7
8
5 6
1
2
Рис. 61. Гончарка-1. Раскоп 3.Макроскребок (1) и тесловидно-скребловидное орудие (2).
1 – кв. Ж’/1, 2 пл.; 2 – кв. Е’/4, 3 пл.
Рис. 62. Гончарка-1. Раскоп 3.Ножевидно-скребловидные орудия на отщепах (1, 3, 6), плитке (4) и бифасах (2, 5).
1 – кв. Е’/3, 3 пл.; 2 – кв. Б’/5, 3 пл.; 3 – кв. Е’/3, 3 пл.;4 – кв. И’/5, 3 пл.; 5 – кв. Ж’/4, 3 пл.; 6 – кв. В’/5, 2 пл.
1
2
34
5
6
Рис. 63. Гончарка-1. Раскоп 3.Резчик (1), наконечники стрел (2, 5), перфоратор (3), скол с выемчатым лезвием (4).
1 – кв. Г’/3, 2 пл.; 2 – кв. Д’/6, 2 пл., В’/7, 1 пл.; 3 – кв. И’/2, 2 пл.;4 – кв. К’/5, 3 пл.; 5 – кв. Ж’/7, 2 пл.
2
3 4
5
1
Рис. 64. Гончарка-1. Раскоп 3.Ножевидно-скребловидные орудия на отщепах с угловатым лезвием, широкое (1) и узкие (3-4),
резец (2), ножевидно-скребловидное орудие на отщепе с угловатым шипом (5).1 – кв. Д’/3, 2 пл.; 2 – кв. И’/10, 2 пл.; 3 – кв. Д’/4, 3 пл.;
4 – кв. З’/5, 3 пл.; 5 – кв. Г’/5, 3 пл.
2
3 4
5
1
2
3
4
1
Рис. 65. Гончарка-1. Раскоп 3.Ножевидно-скребловидное орудие на отщепе с угловатыми шипами (1),
остроконечник асимметрично-листовидный на отщепе (2),продольный скол оформления площадки микронуклеуса (3), резцевидное орудие на отщепе (4).
1 – кв. В’/5, 3 пл.; 2 – кв. Е’/1, 3 пл.; 3 – кв. Ж’/3, 2 пл.; 4 – кв. Д’/5, 3 пл.
1
2
3
4
5
6 7
Рис. 66. Гончарка-1. Раскоп 4.Кинжаловидный бифас (1), наконечники метательных орудий (2, 3), ихтиоморфноеретушированное изображение (4), ножевидно-скребловидное орудие на отщепе (5),
нуклеус (6), фронтальный скол с нуклеуса (7).1 – кв. В/15, 2 пл., Д/15, 3 пл.; 2 – кв. В/15, 2 пл.; 3 – кв. Е/13, 2 пл.;
4 – кв. Ж/11, 2 пл.; 5 – кв. Д/12, 2 пл.; 6 – кв. К/11, 2 пл.; 7 – кв. З/16, 3 пл.
Рис. 67. Гончарка-1. Раскоп 4. Долотовидное орудие (1), калибратор для древков стрел (2).
1 – кв. Д/14, 2 пл.; 2 – Д/13, 2 пл.
1
2
1
2
3
4 5 6
7
Рис. 68. Гончарка-1. Раскоп 4.Погребение. Тесла (1,7), наконечник метательного
орудия (2) и наконечники стрел (3-6).1 – № 15; 2 – № 18; 3 – № 21;
4 – № 20; 5 – № 19; 6 – № 9; 7 – № 4
1
2
3
4
5
6
Рис. 69. Гончарка-1. Раскоп 4.Погребение. Скребки.
1 – № 16; 2 – № 14; 3 – № 3;4 – № 6; 5 – № 17; 6 – № 8
Рис. 70. Гончарка-1. Раскоп 4. Погребение.Обломок бифаса (2), перфораторы (1, 3), расколотая галька сердолика (4),
ножевидно-скребловидные орудия на отщепах (5, 7), нуклеус (6), орудие на гальке (8).1 – № 7; 2 – № 10; 3 – № 13; 4 – № 5; 5 – № 1; 6 – № 11; 7 – кв. Б/16,3 пл.; 8 – № 2
1
2
3 4
5
6
78
Рис. 73. Гончарка-1. Раскоп 4.Ножевидно-скребловидные орудия на отщепах с угловатыми шипами (1-2)
и продольное с выпуклыми краями (3).1 – кв. З-16, 3 пл.; 2 – кв. Г/12, 1 пл.; 3 – кв. Ж/14, 2 пл.
1
2
3
Рис. 74. Гончарка-1. Типологический облик каменной индустрии осиповской культуры.1-2 – ладьевидные сколы; 3 – фронтальный скол с микронуклеуса; 4-8 – микропластинчатые нуклеусы на гальках;
9-11 – микропластины; 12-13 – галечные микронуклеусы для получения мелких отщепов; 14-21 – ножевидно-скребловидные орудия; 22-25 – наконечники копий и дротиков;
26-42 – наконечники стрел; 43-44 – тесловидно-скребловидные орудия; 44 а-48 – скребки;49 – скребловидное орудие; 50-53 – проколки и провертки; 54-56 – рубящие орудия
Рис. 74 (продолжение).Гончарка-1. Типологический облик каменной индустрии осиповской культуры.
57-63 – ножевидно-скребловидные орудия; 64 – отщепы с ретушью; 65 – остроконечники; 66-67 – орудия на пластинчатых снятиях; 68 – ножевидное орудие на плитке; 69 – пилка-резчик;
70-71 – перфораторы; 72 – скребок; 73 – резец; 74-75 – резцевидные изделия на отщепах с изломом;76-77 – рубящие орудия; 78 – долотовидное орудие; 79-80 – наконечники стрел; 81 – наконечник стрелы
(перфоратор-?); 82 – калибратор древков стрел; 83 – кинжаловидный бифас; 84-86 – плоскостныеретушированные изображения; 87 – портативный петроглиф; 88-89 – У-образные предметы
ГЛАВА 4
ОСИПОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Прежде чем приступить к описанию и анализуосиповской керамики Гончарки, необходимовкратце остановиться на характеристике керами-ческой посуды, относящейся к двум поздним ком-плексам памятника.
Керамика эпохи палеометалла
Коллекция польцевской керамики насчитыва-ет чуть более 2000 фрагментов. Все они залегали вверхней части культурных отложений памятни-ка – в слое серого пылеватого суглинка (2). Подав-ляющее их большинство найдено в разрозненномсостоянии. Наиболее сохранные и многочислен-ные находки сделаны в северно-восточном секто-ре раскопа 2, в том числе здесь обнаружены дваскопления – в кв. П/1 и У/1 (рис. 10). Далее на юг,запад и юго-запад количество польцевской кера-мики резко сокращается:
Польцевская посуда отличается высокой проч-ностью, имеет плотное, хорошо промешанное тес-то и обильную равномерно распределенную мине-ральную примесь. Цвет сосудов, как правило,красновато-коричневый. Толщина стенок варьи-рует и может составлять 0,5-0,6 см или 0,8-1,1 смв зависимости от размеров сосудов.
Петрографический анализ восьми фрагментовдал следующие результаты. Цемент существенногидрослюдистый, содержит алевритистую примесь(кварц, полевые шпаты, слюда), доля которой непревышает 10%, и искуственно введенный песок(амфибол-биотитовый гранит, кварц, кислый пла-гиоклаз, ортоклаз, щелочной полевой шпат, био-
тит, единичные включения циркона, амфибола,сфена, рудного минерала). Удельный вес пескаобычно составляет около 30%, в одном случае – 10-15%. Переход от алевритистой фракции к песча-ной резкий. Преимущественный размер зерен пес-ка в одних шлифах 0,5-1 мм, в других – 0,3-0,5 мм.Зерна песка не окатаны. Во всех шлифах зафик-сированы единичные вкрапления непрозрачныхстяжений, по-видимому рудных минералов, и ку-сочков шамота идентичного состава.
Формы и орнамент польцевской посуды хоро-шо узнаваемы. Большая часть сосудов имела вы-сокие вертикальные или почти вертикальные гор-ловины и, по-видимому, вытянутое тулово. Стен-ки их были сплошь покрыты техническими оттис-ками – ложнотекстильными или веревочными. Накромке венчика, в основании горловин, а также насамом тулове у этих сосудов располагались широ-кие плоские валики (рис. 75, 1). Другая часть со-судов имела воронковидно расширяющиеся горло-вины обычно средней высоты и сильно раздутое ту-лово, вероятно, округлых очертаний. Такие сосу-ды не имели технического декора и украшалиськак по тулову, так и по горловине разнообразны-ми горизонтально-поясковыми композициями изгребенчатых и/или прочерченных узоров (рис. 75,2, 4-6). Некоторые из них могли иметь желобчато-валиковую орнаментацию горловин.
Керамика позднего неолита
Керамический комплекс позднего неолитапредставлен гораздо беднее польцевского, но онтакже имеет очень яркие и показательные черты.В общей сложности к нему относится около 70фрагментов керамики. Все они были сосредоточе-ны в северо-западной части раскопа 2 на уровне го-ризонта 3А (рис. 11). Здесь же зафиксированы че-тыре небольших развала вознесеновских сосудов –в кв. У/7, У/5, У/3-7 и Р/9.
Общей отличительной чертой керамики поздне-
КЕРАМИКА ПОЗДНЕГО НЕОЛИТА И ПАЛЕОМЕТАЛЛА
143
го неолита является ее плохая сохранность. Изго-тавливалась она из глины с добавками ракушки,что визуально устанавливается достаточно простопо характерным кавернам на поверхности и в из-ломах. Цвет керамики темный, коричневато-се-рых оттенков. Толщина стенок 0,5-0,8 см.
Формы и орнамент реконструируются фрагмен-тарно. У сосудов из развалов в кв. У/7 и У/5 сохра-нились только широкие плоские донья. Сосуд изразвала в кв. У/3-7 имел слабопрофилированнуюформу, венчик его отогнут наружу и оформлен под-треугольным валиком, дно плоское. Орнаментиро-ван этот сосуд вертикальным зигзагом, нанесен-ным зубчатым колесиком. На обломке венчика изкв. Р/9 зафиксирован узор в виде прочерченногомеандра.
В целом вознесеновская посуда визуально рез-ко отличалась от осиповской, но сам факт ее при-сутствия в материалах Гончарки заставляет насболее подробно остановиться на проблеме диффе-ренциации вознесеновского и осиповского керами-ческих комплексов, т.к. для каждого из них былихарактерны узоры в виде зигзага, выполненногопрокатом зубчатого колесика. У многих вполнеестественно могут возникнуть вопросы об обосно-ванности именно осиповской атрибуции тех илииных сосудов с гребенчатым зигзагом.
Во-первых, одним из основных аргументов вданном случае для нас служили конкретные обсто-ятельства обнаружения находок. Вся вознесенов-ская керамика, как уже неоднократно подчерки-валось, была локализована в пределах северной ча-сти раскопа 2 на уровне горизонта 3А. Осиповскиеартефакты залегали ниже – в горизонте 3Б. Кро-ме того, на этом участке памятника их концентра-ция была наименьшей по сравнению с другими.
Во-вторых, основная масса осиповской керами-ки с вертикальным зигзагом была найдена в общемконтексте с другими артефактами осиповскогокомплекса, что исключает какие-либо ошибки вее интерпретации.
В-третьих, вознесеновские и осиповские сосу-ды очень сильно различаются между собой по тех-нико-типологическим показателям. В первую оче-редь их различает состав теста: примесь ракушкив первом случае и минеральный отощитель, шамоти трава во втором. Кроме того, осиповская посудаимеет целый ряд других специфических призна-ков, которые легко фиксируются при визуальномосмотре ее обломков: это характерная землистаяпатина на внутренних поверхностях, красный ан-гоб или обмазка наружных стенок, техническийдекор в виде параллельных бороздок, сквозныеотверстия под венчиками и др.
Тем не менее в ряде случаев некоторые сомне-ния у нас все-таки возникали. Так, в верхней час-ти слоя 3Б в кв. У/7, т.е. на том же участке раско-па 2, где чуть выше в слое 3А залегали развалы
вознесеновских сосудов, было найдено несколькофрагментов керамики характерного бордового цве-та, украшенных зигзагообразным гребенчатымузором. Условия обнаружения, а также общие ха-рактеристики орнамента не исключали возможно-сти соотнесения этих черепков как с осиповским,так и с вознесеновским комплексами. На облом-ках отсутствовали следы технического декора, атакже явные признаки ракушечных включений.
Петрографический анализ одного из этих об-ломков (образец 105) показал присутствие в немпомимо небольшой (2-3%) фракции алевритистойпримеси единичных зерен сланца и шамота, а так-же пластинчатых пустот от выгоревшей органи-ческой примеси. Общий объем последних состав-лял около 20%, размер пор 0,2-0,5 мм, ориента-ция субпараллельная стенкам черепка. Общий аб-рис пор, их размеры, количество и ориентацияпозволяют сделать уверенное заключение о том,что они оставлены дробленой ракушкой [ср. Жу-щиховская 1991: 38-39, рис. 1; Zhushchikhovskaya2001: 40-41, fig. 9 с, d]. Судя по всему, данный со-суд относится к вознесеновскому поздненеолити-ческому комплексу.
Еще один спорный фрагмент был найден на томже участке раскопа 2 в кв. У/4 в верхней части слоя3Б (рис. 98). Помимо условий обнаружения сомне-ния в его осиповской атрибуции вызывал такжеузор в виде вертикального зигзага, звенья которо-го имели слегка дугообразные очертания, что весь-ма типично для вознесеновских орнаментов. Но покачеству это типичнейший обломок осиповскогососуда: толстостенный, окатанный, без видимыхпримесей, за исключением отдельных крупных ча-стиц красного шамота, наружная его поверхностькрасная, излом темно-серый, внутренняя вся по-крыта характерной рыхлой патиной землистогоцвета. Мы склоняемся к осиповской атрибуцииданного черепка, потому что контраст его техно-логических характеристик с вознесеновской кера-микой слишком очевидный.
Следующий обломок совсем небольшой, ноочень интересный. Он отличался ярким бордовымцветом глины, как и в случае с черепками из кв.У/7, а также более тонкими по сравнению с оси-повской керамикой стенками (0,6 см). На его по-верхности имелся прочерченный узор из двух со-единенных дугообразных линий, направленныхвыпуклыми сторонами вверх и вниз. Этот обломокбыл найден в кв. И/6 в раскопе 1 в верхней частислоя 3Б. Поскольку никаких реальных аргумен-тов для определения его культурной принадлеж-ности у нас нет, этот обломок исключен из описа-ния осиповской керамической коллекции.
В целом же надо отметить, что осиповская ке-рамика имеет вполне надежную атрибуцию и неможет быть спутана с керамикой других культур-но-хронологических комплексов памятника.
144
ПРОБЛЕМЫ МИКРОХРОНОЛОГИИ ОСИПОВСКОГО КОМПЛЕКСА
Приступая к описанию осиповской керамики,необходимо отметить, что уже исходя из особен-ностей стратиграфии и данных радиоуглеродногодатирования следует, что осиповское населениеселилось на месте стоянки Гончарка-1 как мини-мум дважды. Самые ранние ее обитатели, как от-мечалось выше, представлены находками из за-полнения криогенных клиньев, а более поздние –находками из горизонта 3Б. Анализ особенностейархеологизации, планиграфии и технологии кера-мики из горизонта 3Б дает дополнительные осно-вания для данного вывода, а также свидетельству-ет о том, что и в этом горизонте, по-видимому, от-ложились хронологически дискретные комплек-сы. В связи с этим в первую очередь нужно обра-тить внимание на различную степень сохраннос-ти керамики из горизонта 3Б.
Часть ее залегала в разрозненном состоянии«пятнами» – от двух-трех до десяти-пятнадцатикусочков в каждом. Обломки из «пятен», как пра-вило, имели очень маленькие размеры и принад-лежали одному сосуду, правда, склеить их обыч-но не удавалось. Данная группа находок горизон-та 3Б по степени сохранности полностью повторя-ет особенности керамики из заполнения криоген-ных клиньев. Другая часть керамики, причем кол-личественно она преобладала в коллекции, зале-гала, напротив, развалами и скоплениями. Сохран-ность черепков здесь была намного лучшей, чтопроявлялось в размерах обломков и их количестве.Кроме того, фрагменты из скоплений часто под-клеивались друг к другу.
Такие явные отличия в сохранности черепков,безусловно, должны иметь объяснение. Скорее все-го, они являются следствием их разновременнос-ти. Разрозненные фрагменты , по крайней мере ка-кая-то их часть, имеют, по-видимому, более ран-ний возраст и могут быть синхронны керамике измерзлотных клиньев. Ведь очевидно, что при вы-таивании грунта в заполнение последних не мог-ли сползти абсолютно все артефакты, залегавшиек тому моменту на поверхности. В этом отношенииособенно интересна ситуация в раскопе 2, где оси-повской керамики было найдено очень мало, оназалегала здесь только в разрозненном состоянии иотличалась некоторыми специфичными чертами,близкими к керамике из криогенных клиньев.
Cледует также отметить, что общий анализ пла-ниграфии свидетельствует об отсутствии каких-либо оснований для соотнесения между собой раз-розненной керамики и керамики из скоплений.Такие основания могли бы дать, например, на-блюдения об их связи с одним сооружением, оча-гом, скоплением находок или какие-либо специ-фические черты технологии и морфологии сосудов.В этом случае у нас появилась бы возможность го-
ворить об их единовременном отложении. Но, к со-жалению, скорее мы можем говорить об обратном.
Далее обращает на себя внимание и тот факт,что скопления керамики из горизонта 3Б при ихсопоставлении друг с другом также обнаружива-ют некоторые отличия. Наш анализ показывает,что они разбиваются на две группы.
Первая (кв. А-Б/5-6, Ж/5, В/9) включает круп-ные скопления, которые залегали в стороне от уча-стков с повышенной концентрацией каменныхартефактов, в первую очередь дебитажа. В един-ственном случае развал сосуда четко зафиксиро-ван в очаге. Рядом с сосудами из этих скопленийвсегда залегали крупные камни.
Вторая группа скоплений (кв. Д’/4-5 и З/16),напротив, располагалась прямо в центре участковс повышенной концентрацией находок каменныхорудий, среди большого скопления дебитажа, пря-мо в очагах или около них, рядом с этими скопле-ниями отсутствовали камни.
Интересно, что все скопления первой группыбыли расположены в раскопе 1 на незначительномудалении друг от друга, тогда как скопления вто-рой группы – в раскопах 3 и 4, т.е. на совершенноразных участках памятника. Скопления первой ивторой групп, кроме того, отличались и по степе-ни сохранности. В первом случае, как правило,сосуды не собирались в целые или хотя бы относи-тельно целые формы, у них отсутствовали венчи-ки и донышки. Скопления второй группы пред-ставляли собой фактически раздавленные сосуды,обломки их подклеивались, а формы собиралисьот дна до венчика. Надо также отметить, что и потехнико-типологическим характеристикам посу-да из скоплений сильно различалась. Скопленияпервой группы ближе друг к другу в этом отноше-нии, а скопления второй группы, напротив, каж-дое в значительной мере индивидуально.
Из всего сказанного можно заключить, что ке-рамика из скоплений горизонта 3Б представляет,по-видимому, три эпизода обитания осиповскогонаселения на территории памятника. Различаю-щиеся радиоуглеродные датировки скоплений израскопов 1 и 3 заставляют также полагать, что какминимум два из них разновременны.
Таким образом, приступая к описанию и ана-лизу осиповской керамики поселения Гончарка-1,мы должны четко осознавать, что имеем дело схронологически дискретной коллекцией. Однакоточно определить состав материалов каждой из еевременных групп, как и их общее количество,практически невозможно. Все это создавало боль-шие трудности при работе с коллекцией и в конеч-ном счете предопределило организацию материа-ла в данной главе. Сначала будет дано раздельноеописание керамики из криогенных клиньев и го-
145
ризонта 3Б, а в составе последнего – разрозненнойкерамики и керамики из скоплений и комплексов.Затем будет предложен общий анализ осиповско-
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описание осиповской посуды будет построенопо уже ставшему традиционным в отечественнойархеологии принципу – с учетом не только ее мор-фологических показателей, но и всех технологи-ческих аспектов ее изготовления: подбор сырья,формовка, обжиг. При этом надо понимать, чтоимеющиеся у нас материалы весьма фрагментар-ны и пока не позволяют дать исчерпывающую вэтом отношении характеристику, хотя мы, безус-ловно, стремились к максимально полной рекон-струкции. Результаты наших изысканий следуетрассматривать как первый опыт такого анализаосиповской керамики вообще и поселения Гончар-ка-1 в частности. Многие наши наблюдения ещенуждаются в дальнейшем осмыслении, а выводы –в обсуждении специалистами.
Для реконструкции особенностей сырьевогосостава посуды использовались методы биноку-лярной микроскопии и петрографии. Полученныеданные взаимно дополняли друг друга, позволяяполучить более полную и достоверную картину. Спомощью бинокуляра была просмотрена вся кера-мическая коллекция. Для петрографии были ото-браны образцы 26 сосудов, с которых было сдела-но 37 шлифов. При отборе учитывались данныепредварительного осмотра керамики с тем, чтобыв исследовании вся коллекция была отражена мак-симально полно.
Петрографическая методика уже широко апро-бирована в практике археологических исследова-ний как в России, так и за рубежом. Многолетнийопыт их проведения служил нам ориентиром в воп-росах, возникавших при интерпретации получен-ных результатов [Сайко 1960; Круг 1965; Жущи-ховская, Залищак 1986; Ламина и др. 1995; Мыль-никова 1999; Глушков 1996; Глушков и др. 1999;Гельман 1999; Внуков 2006; Физико-химическоеисследование…; Shepard 1956; Rye 1981; Sinopoly1991 и др.].
Петрографические определения керамики споселения Гончарка-1 проводились на базе Даль-невосточного геологического института ДВО РАНБ.Л. Залищаком, специалистом, чье имя связанос разработкой методики петрографического изуче-ния археологическое керамики и на чьем счетууже тысячи определений [Жущиховская, Зали-щак 1986; 1990; Неолит юга…; Андреева и др.1986; Гельман 1999 и др].
Надо отметить, что общей особенностью осипов-ской керамики стало крайне низкое качество шли-фов. Для их изготовления требовалось особое мас-терство, т.к. керамика при этом очень сильно кро-
шилась и ломалась. Многие шлифы оказались врезультате расползшимися, большая их часть име-ла дырки выкрашивания, что, безусловно, сказы-валось на определениях.
Формовочные массы осиповской керамики со-стояли из собственно глинистого сырья и неплас-тичных добавок, которые вслед за петрографамимы будем называть соответственно цементом и пес-ком. К последнему отнесены все зерна пород и ми-нералов, а также шамот. Петрографические опре-деления размеров песка опирались на следующуюшкалу: 0,1-1 мм – мелкие, 1-2 мм – средние, 2-5мм – крупные, > 5 – очень крупные.
При корреляции данных петрографии и бино-кулярной микроскопии выяснилось, что они не-редко не совпадают друг с другом. Главным обра-зом это касалось расчетов по гранулометрическо-му составу и удельному весу песчаной фракции.Часто возникало ощущение, что петрография за-нижает эти показатели. Можно предположить, чтоэто могло стать результатом нескольких причин.
Во-первых, определение удельного веса пескавообще является одним из слабых мест в петрог-рафии археологической керамики [Глушков 1989;1996: 25-32; Глушков и др. 1999: 155-156]. Дан-ные петрографии имеют в этом случае довольнобольшую ошибку, особенно при неравномерномзамесе и небольшом удельном весе песка, а имен-но с этими двумя факторами мы и столкнулись прианализе осиповской посуды.
Во-вторых, при визуальном осмотре керамикиколичество песка в составе черепков определялосьпо привычке «на глаз», в расчете на личный опыт.Петрографические же данные основывались наточном подсчете зерен песка в каждом шлифе впроцентном соотношении к общей площади пос-леднего. По-видимому, существует некоторая про-блема корреляции обычного зрительного воспри-ятия того или иного объема песчаных добавок кглине и его инструментальных определений. Да-леко не у всех исследователей есть опыт, позволя-ющий соотнести объем отощителя, например в30%, с тем, как это будет выглядеть непосредствен-но в археологическом образце керамики.
В-третьих, надо иметь в виду, что из-за общейслабоспеченности осиповской керамики какая-точасть крупных и очень крупных зерен песка приизготовлении шлифов просто выпадала из цемен-та и не попадала в шлиф. По этой причине толькона основании данных петрографического анализаточно определить объем и размер крупных зеренпеска для каждого исследуемого образца оказалось
го керамического комплекса с точки зрения выяв-ления его общих и особенных технико-типологи-ческих характеристик.
146
практически невозможно. В этом отношении бо-лее точные результаты получались при бинокуляр-ном осмотре.
Песок в составе осиповской посуды был пред-ставлен обломками горных пород и шамотом. Вслучае с породными обломками помимо определе-ний их конкретного минералогического состававажнейшую роль для нас играл поиск ответа навопрос об искусственном или естественном их про-исхождении. Решение его, как известно, имеет оп-ределенные методические сложности.
В петрографических исследованиях наиболееважным аргументом в этом деле оказывается ха-рактер перехода алевритистой фракции в песча-ную, в случае с искусственным песком он долженбыть резким [Жущиховская, Залищак 1986 ]. Приэтом достоверность выводов здесь зависит от удель-ного веса песчаной фракции: чем он больше, тембольше вероятность правильного заключения пет-рографа. Среди других признаков искусственногопеска называют также неравномерность его рас-пределения в шлифе, крупный размер зерен (неменее 0,4 мм), наличие преобладающей фракциис размером зерен не менее 0,2-0,5 мм и ее окатан-ность, отличие песка по минеральному составу оталевритистой примеси [Бобринский 1978; Лами-на и др. 1995: 29; Глушков 1996: 31-32; Внуков1999: 145-147]. При принятии решения обычноучитывают не какой-то один из показателей, а сра-зу несколько.
Несколько слов нужно сказать о проблемах сидентификацией шамота. Факт его присутствияподтвержден как бинокулярными, так и петрог-рафическими определениями, но вопросы с пони-манием того, какой конкретно вид шамотных до-бавок использовали осиповские мастера, остались.
При бинокулярном изучении присутствие ша-мота фиксировалось в двух видах. Первый пред-ставляли плотные комочки глины красновато-ко-ричневатого цвета, неправильной формы с окатан-ными ограничениями. Они были хорошо заметны,т.к. выступали из теста черепков как в изломах,так и на поверхностях – либо в виде редких еди-ничных включений крупного или очень крупногоразмера, либо в виде более многочисленной фрак-ции, при этом они существенно варьировали пообъему и размеру.
Атрибуция шамотных добавок первого видавызывает некоторые вопросы, т.к. окатанные ог-раничения в сочетании с аморфными очертания-ми зерен могла иметь как обожженная при низкихтемпературах, так и сухая глина [Бобринский1978: 108; Глушков 1996: 28].
А.А. Бобринский отмечает, что комочки сухойглины при механическом воздействии обнаружи-вают значительную твердость [1978: 108]. В нашемслучае показатели твердости основной массы че-репка и шамотных добавок при воздействии на нихметаллической иглой были примерно одинаковы-
ми или даже последние оказывались чуть мягче.Поэтому мы склоняемся в сторону низкотемпера-турной глины, однако точная диагностика здесь,видимо, возможна только при условии проведенияэкспериментальных работ.
Второй вид шамотных добавок представлен восиповской керамике мелкими или средними час-тицами округленной неправильной формы. Онимогли иметь светло-желтый, красноватый, крас-новато-бурый, стальной цвет и отличались значи-тельной рыхлостью. В черепках они фиксирова-лись скорее в виде пятен или каверн, заполненныхсухим веществом, чем в виде зерен, причем обыч-но таких добавок в тесте было много. Отмеченыслучаи, когда они фиксировались только на от-дельных участках сосудов.
Идентификация этого вида шамотных добавоквызывает еще больше сложностей. Судя по всему,они имели разное происхождение. Какая-то ихчасть вполне могла представлять собой сильно из-мельченную, а потому и более рыхлую фракциюшамотных добавок первого вида. В других случа-ях, можно предположить, что мы имеем дело с ос-татками охристых включений. По крайней мере,так могут быть истолкованы мелкие красновато-бу-рые пятна на красных поверхностях сосудов. Час-тицы стального цвета, как показал петрографичес-кий анализ, являются остатками разложившейсядо состояния глины базальтовой породы.
Следует отметить, что использование вулкани-ческих пород в качестве сырья для получения ото-щающей примеси фиксируется на всех осиповскихпамятниках. При этом осиповские мастера моглииспользовать как совсем рыхлые разложившиесябазальты, которые в черепке выглядят как шамотспецифического стального цвета, так и более твер-дые породы. Некоторые из них определены петрог-рафически как андезито-дациты, некоторые име-ют характерную пористую структуру и похожи накусочки пемзы. Частое использование пород вул-канического происхождения, по-видимому, следу-ет считать одной из отличительных особенностейосиповской сырьевой практики.
Петрографически шамот был представлен так-же в нескольких вариантах, это могли быть какклассические зерна шамота, так и трудные длядиагностики полупрозрачные и непрозрачные ча-стицы. В шлифах они имели вид стяжений непра-вильной формы, в одних случаях более угловатые,в других более округленные, размеры их варьиро-вали от десятых долей до пяти миллиметров. Цветчаще всего отличался от основной массы и мог бытьболее светлым или более темным. Состав шамотав тех случаях, когда удавалось его определить, могбыть либо идентичным основному составу, либорезко отличаться от него. Частицы шамота оченьчасто были оконтурены тонкими трещинками.
Отдельного комментария требует определениенами в качестве шамота непрозрачных частиц, т.к.
147
точная их диагностика петрографическими мето-дами в принципе невозможна. Теоретически этомогли быть как зерна шамота, так и зерна рудныхминералов типа гематита, магнетита, охры илиглинистых сланцев. Однако при внимательномизучении оказалось, что непрозрачные частицы вшлифах были представлены двумя видами.
В одном случае это были выделения неправиль-ной округленной формы с размерами не более 0,1-0,3 мм, в шлифах их количество обычно составля-ло 1-3%. В другом случае это были выделения,которые по своим основным характеристикамповторяли достоверные зерна шамота и имели не-правильные угловатые или округленные очерта-ния и размер от 0,5 до 2-3 мм. Особенно заметныбыли эти различия, если они фиксировались в од-ном шлифе. В этом случае они определенно не мог-ли быть случайными. Поэтому нами было приня-то решение считать непрозрачные частицы сред-него и крупного размера, а также угловатой фор-мы шамотом.
К сожалению, соотнести между собой «пет-рографический» и «бинокулярный» шамот у насне получилось, хотя это могло бы иметь большоеметодическое значение. Так, нам не удалось най-ти в литературе четкие петрографические харак-теристики для сухой и низкотемпературной гли-ны, а также данные о том, почему в некоторых слу-чаях шамот становится непрозрачным в шлифах.Исходя из общих знаний можно предположить,что это может быть результатом большой насы-щенности шамота железом или органикой или осо-бенностей его предварительной температурнойобработки. Для ответа на все эти вопросы необхо-димо проведение серии специальных работ по экс-периментальной петрографии.
Помимо породных обломков и шамота в осипов-ской керамике отмечались также включения тра-вы. Чаще всего ее удавалось фиксировать только спомощью бинокулярного микроскопа, следы отнее в виде единичных пустот встречались в изло-мах или на поверхностях отдельных черепков.Петрографически ее присутствие удалось подтвер-дить. Она фиксировалась в шлифах в виде пластин-чатых или игольчатых пустот, иногда заполнен-ных углефицированным веществом. Скореллиро-вать данные петрографии и бинокулярной микро-скопии оказалось практически невозможно, т.к.чаще всего следы травы встречались в шлифах ине встречались в самих образцах при их визуаль-ном осмотре, и наоборот.
Анализ способов и методов формовки опирал-ся прежде всего на изучение следов, сохранивших-ся на исследуемой керамике и их сопоставлении симеющейся в литературе информацией по вопро-су их возможной интерпретации. Собственные эк-сперименты мы не проводили, т.к. нам не удалосьвыявить какие-либо отчетливые и устойчивыепризнаки формовочных операций, которые мож-
но было бы проверить путем экспериментальногомоделирования. Осиповская керамика оказаласьс этой точки зрения практически «немой».
Для определения температурного режима об-жига керамики нами использовались результатырентгенофазового анализа. Обычно он показыва-ет минералогический состав керамики, однако внекоторых случаях позволяет делать заключенияи относительно температуры ее обжига [Rye 1981;Ламина и др. 1995; Глушков 1996; Физико-хими-ческое…]. В основе этого метода лежит свойствонеобратимости температурных превращений гли-нистых минералов.
Наиболее точные определения возможны дляпосуды, обожженной при достаточно высоких тем-пературах, когда глинистые минералы начинаютпревращаться в уже новые кристаллические обра-зования. Но иногда успешными оказываются ирезультаты определений низкотемпературной ке-рамики [Ламина и др. 1995; Cooper, Raghavan1989]. Такие возможности возникают в тех случа-ях, когда в рентгенограммах удается зафиксиро-вать отражения не до конца разложившихся гли-нистых минералов при условии проведения по-вторной тепловой обработки образцов с последу-ющим снятием рентгенограмм после каждой тем-пературной отметки. Исчезновение рефлексов бу-дет означать, что обжиг проводился при заведомоболее низкой температуре [Ламина и др. 1995].
Рентгенофазовый анализ осиповской керамикипроводился сотрудниками лаборатории рентгено-вских методов Дальневосточного геологическогоинститута ДВО РАН А.А. Карабцовым и Т.Б. Афа-насьевой1. Рентгенограммы снимались с шести об-разцов, для каждого – с обеих поверхностей и из-ломов. Далее три образца были подвергнуты по-вторному обжигу. В течение двух часов каждый изних обжигался при температурах 450, 550 и 650 °С.После каждой отметки с каждого образца и такжес трех участков снимались повторные рентгено-граммы. Для подтверждения полученных резуль-татов аналогичным образом были исследованы об-разцы глин, собранные в окрестностях поселенияГончарка-1 и показавшие сходный минералогичес-кий состав.
1Анализ проб С-113, С-114, К-18-1-5, К-18-2-32, К-21-16, К-22-80 проводился на рентгеновском дифрактометреДРОН 3.0 на монохромотизированном медном излучении,напряжении 25 kV и токе 20 mA со скоростью счетчика 1град/мин в интервале углов 4-40 градусов 2 тэта. Из этихпроб выделили фракцию 1-2 µ и из этой фракции готови-лись ориентированные препараты методом капли. Каждыйобразец снимался 3 раза: воздушно-сухой, насыщенныйэтиленгликолем и прокаленный.
148
Помимо горных пород в его составе зафиксирова-но 3-5% шамота. Размер породных обломков до1 мм, преобладающей фракции – 0,2-0,3 мм, от-дельные зерна имели размер около 3 мм, форманеокатанно-угловатая. Шамот представлен округ-ленными зернами неправильных очертаний. Со-став аналогичен основной массе черепка. Любо-пытно, что размер зерен шамота повторяет размер-ные характеристики породных обломков, т.е. пре-обладающая фракция 0,2-0,3 мм, но не более 1 мм.Происхождение породных обломков в составе тес-та точно установить не удалось. Скорее всего, мыимеем дело с запесоченной глиной, в которую былдобавлен шамот и, возможно, крупная фракцияпородных обломков.
Аналогичные фрагменты с «прилипшим»,правда, в гораздо меньшем количестве грунтомбыли найдены и по соседству в кв. Н/6 на уровне4-го пласта. Они отличались крайней неравномер-ностью толщины стенок – от 0,4 до 0,7 см, неров-ными поверхностями, темно-серыми изломами иочень тонкой текстурой. На изломах фиксирова-лись белесые почти пылевидные частицы, но яв-лялись ли они примесью в составе теста, устано-вить не удалось. Все 27 фрагментов из этого квад-рата принадлежали одному сосуду, на отдельныхчерепках фиксировались типичные для этого па-мятника гребенчатые трасы.
В кв. Н/7 на уровне 7-го пласта был найденкрупный и очень интересный фрагмент толстостен-ного сосуда. Он имел ровную наружную поверх-ность, покрытую толстым слоем светлой желтова-то-коричневой обмазки. Здесь же прямо поверх об-мазки пятизубой гребенкой были нанесены путемпротаскивания параллельные бороздки, образую-щие горизонтальный зигзаг (рис. 76). Было ли этоузором или такой рисунок получился случайно,неясно. Внутренняя стенка была покрыта харак-терной рыхлой патиной землистого цвета, котораянеоднократно фиксировалась на фрагментах оси-повской керамики во всех раскопах и слоях.
В центральной части фрагмента наружный слойобмазки был стерт, и на этом участке хорошо про-сматривался состав теста. В первую очередь броса-лись в глаза обильные рыхлые и аморфные по очер-таниям вкрапления желтовато-белесого и светло-го стального цвета. Первые были интерпретирова-ны нами как шамотные добавки второго вида, а
КЕРАМИКА ИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ КРИОГЕННЫХ КЛИНЬЕВ
В общей сложности в 1995-1996 гг. на поселе-нии Гончарка-1 было найдено около 2200 фрагмен-тов осиповской керамики, в заполнении мерзлот-ных клиньев – немногим более 100, что составля-ет около 6% от общего ее количества1:
Сохранность керамики, найденной в криоген-ных клиньях, была очень плохой, нередко она рас-сыпалась в руках. За редкими исключениями здесьвстречались только очень мелкие фрагменты, ред-ко превышающие 1,5-2 см; обломки венчиков, до-нышек буквально единичны. Залегали они пре-имущественно в виде разрозненной россыпи или«пятнами» по несколько фрагментов в каждом.Единственный развал сосуда найден в кв. Д/8, носохранился он настолько плохо, что трудно дажеточно сосчитать количество его обломков, такиеони мелкие.
Больше всего керамики из заполнения криоген-ных клиньев было найдено в раскопе 2. Для пет-рографического анализа был отобран только одинфрагмент из этого раскопа. При расчистке кв. Н/7в 5-м пласте было найдено несколько крупныхаморфных кусков грубозернистой глины, первона-чально принятых за фрагменты обмазки. Однакопри внимательном изучении в камеральных усло-виях было установлено, что это куски грунта, за-полнявшего криогенные клинья, которые оказа-лись в силу каких-то причин плотно сцементиро-ваны вместе с фрагментами керамики. Полностьюудалить с последних налет грунта так и не удалось,поэтому дать визуальное описание этих черепковневозможно.
Один из них и был отдан на петрографическийанализ (071)2. Он был изготовлен из глины, содер-жащей 5-10%алевритистой примеси и 20-30%пес-ка. Переход от алевритистой фракции к песчанойпостепенный. Состав кварц-кремнистый, приме-си – сланцы, полевые шпаты, рудные минералы.
1Точное количество фрагментов не определяется ввидучрезвычайно плохой сохранности и мелкофрагментирован-ности коллекции. По этой причине могут возникать и не-которые разночтения между приводимыми здесь подсче-тами и данными полевых отчетов: какая-то часть коллек-ции была передана для проведения различных анализов,какие-то фрагменты рассыпались или не были учтены намииз-за очень маленьких размеров.
2 Здесь и далее номера шлифов.
149
вторые – как кусочки разложившейся до состоя-ния глины базальтовой породы. В этом же фраг-менте встречались единичные зерна красного ша-мота первого вида, обломки горных пород не за-фиксированы. Очевидно, данный сосуд был изго-товлен из глины с добавками шамота.
Из фрагментов, найденных в заполнении крио-генных клиньев в раскопе 2, следует также отме-тить обломки из кв. Н/5. В общей сложности ихбыло найдено 12, в том числе очень маленький об-ломок венчика, типичный для памятника в целоми единственный в раскопах 1995-1996 гг. Он имелплоский обрез, украшенный округлым вдавлени-ем, которое, вероятно, было нанесено пальцем.Чуть ниже располагалось сквозное отверстие диа-метром не более 3 мм. Оно было проколото со сто-роны наружной поверхности, а изнутри на его ме-сте образовалась «жемчужинка». Наружная по-верхность венчика красно-коричневая, внутрен-няя и излом темно-серые, толщина 0,6 см. В этомже квадрате найден небольшой обломок с желто-вато-коричневым слоем обмазки на наружнойповерхности, сквозь которую проступали отдель-ные зерна кварца размером 1-2 мм. Внутренняя по-верхность и излом были темно-серыми. Фрагментимел сквозное отверстие конической формы, про-сверленное с одной стороны уже после высыханияили обжига сосуда. Толщина стенки 0,6 см.
В кв. О/7 найдено несколько очень маленькихобломков сосуда с серо-коричневыми поверхнос-тями, сохранившими более или менее заметныеследы трас на одной из них. Изломы этого сосудатемно-серые, толщина стенки 0,7 см. Примесь втесте не заметна. Один из наиболее крупных фраг-ментов, сохранивший следы трас, представлял со-бой обломок подвенечной части сосуда и имел вцентре сквозное отверстие. На поверхности безтрас, очевидно, наружной, неровной и плохо со-хранившейся, был отчетливо заметен оттиск стеб-ля травы длиной не более 1,5 см, заполненный ос-татками углистого вещества (рис. 77).
В раскопе 1 керамика из криогенных клиньевсохранилась очень плохо, в основном это очень-очень мелкие и невыразительные кусочки. Исклю-чение составляет развал нижней части сосуда изкв. Д/8. При его расчистке было видно, что он за-легал кверху дном, дно его было плоским, диамет-ром 12-15 см. При извлечении из земли сохранитьего не удалось. Сосуд рассыпался на мельчайшиеосколки, которые при камеральной обработке по-добрать друг к другу не получилось.
Сохранившиеся фрагменты очень хрупкие,сильно крошатся, толщина стенок 0,5-0,7 см, по-верхности шероховатые и неровные, как будто необработаны. Цвет черепков серовато-бурый, иног-да внутри изломов заметна серовато-зеленая поло-са. На одном обломке стенки, на такой же шеро-ховатой и неровной поверхности сохранились сла-бые отпечатки травы. При изучении фрагментов спомощью бинокулярного микроскопа в тесте былизамечены коричневые глинистые комочки, пред-положительно шамотные добавки второго вида.
По данным петрографии этот сосуд (009) был из-готовлен из глины, содержащей 5-10% алеврити-стой примеси и 5-10%песка. Песок представлензернами кварца, полевых шпатов, слюдистыхсланцев, кварцитов, измененных порфиритов,рудных минералов, а также шамота. Размер их ва-рьирует от 0,1 до 2-3 мм, форма угловатая и хоро-шо окатанная. В шлифе отмечен резкий размер-ный переход между зернами мелкой и крупнойфракций, крупных зерен мало. Происхождение
породных обломков однозначно неустановлено. Шлиф отличается до-вольно высокой пористостью (5-10%) и наличием на одном из учас-тков следов обмазочного слоя ввиде полоски глины толщиной 0,1-0,2 мм, отличающейся цветом отосновной массы.
Таким образом, состав теста дан-ного сосуда был достаточно слож-ным, помимо глины в нем представ-лены обломки горных пород, ша-мот и трава. Общее количество ото-щающих компонентов невелико, а
Рис. 76. Гончарка-1. Раскоп 2.Фрагмент керамики из кв. Н/7, 7 пл.
Рис. 77. Гончарка-1. Раскоп 2.Фрагмент венчика из кв. О/7, 4 пл.
150
КЕРАМИКА ИЗ ГОРИЗОНТА 3Б
Сосуды из скоплений
С к о п л е н и е в к в . В / 9 . Всего здесь най-дено около 150 фрагментов. Все они представлялисобой обломки тулова одного сосуда. Из них 34крупных фрагмента, размеры которых превыша-ют 5-7 см, а остальные мелкие и очень мелкие. Тол-щина стенок 0,8-1,1 см. Два фрагмента, возмож-но, являлись обломками венчика. Если это так, товенчик был прямым, практически никак не обра-ботанным, с уплощенным обрезом, толщина его неотличалась от нижележащего участка стенок.
Наружная поверхность ровная, яркая, покры-та толстым – около 0,1-0,2 см – слоем красновато-оранжевой глины, что хорошо видно в изломе,внутренняя крайне неровная, темно-серая, имеетмного вмятин, как от пальцев. На отдельных фраг-ментах подобные неровности прослеживаются и свнешней стороны. Изломы двухцветные, со сторо-ны наружной поверхности красновато-оранжевые,изнутри серые, граница очень ровная.
На поверхностях керамики с разной степеньюотчетливости фиксируются следы в виде парал-
лельных друг другу бороздок, нанесенных гребен-чатым инструментом (рис. 78, 1). Определить ихориентацию относительно вертикальной оси сосу-да не получилось. Подавляющее большинство об-ломков имели такие следы только снаружи, изред-ка они встречались и на внутренней стороне череп-ков или на обеих сразу, были также и стенки безкаких-либо желобков на поверхностях (из числакрупных фрагментов – 21 : 2 : 3 : 8). Интересно,что поверхности, покрытые желобками, были ров-ными, тогда как поверхности без желобков частобыли сплошь покрыты вмятинами.
Примесь на поверхностях и в изломах практи-чески не заметна. В сером слое слабо различимымелкие или средние по размерам аморфные рых-лые включения глины темного стального цвета. Вкрасном слое встречались пятна красновато-мали-нового цвета, очевидно, охристые включения, при-дававшие наружному покрытию характерныйкрасноватый цвет.
Фрагменты данного сосуда были отданы на пет-рографический анализ (014-016, 050, 050 А) (рис.78, 4). Согласно определениям, он был изготовлен
точное их соотношение установить не удалось.Трава отмечена только в виде эпизодичных вклю-чений при бинокулярном обследовании. Крометого, согласно данным петрографии, поверхностиданного сосуда были покрыты ангобом.
В раскопе 3 вся керамика из криогенных кли-ньев была представлена разрозненными и невыра-зительными обломками. В кв. Д’/4 найдены ко-мочки глины, мало похожие на обломки стенок ке-рамической посуды. Это были скорее окатанныеаморфные кусочки обожженной глины светло-ко-ричневого цвета с очень мелкой минеральной при-месью. Один из них был отобран для петрографи-ческого анализа (087). В его шлифах отмечено око-ло 10% алевритистой примеси и около 10% пес-ка. Переход алевритистой фракции в песчаную по-степенный. Песок представлен обломками горныхпород и единичными зернами шамота. Состав по-родных обломков кварц-полевошпатовый, приме-си – биотит, слюдистые сланцы, кремни, эпидот,турмалин, рудные минералы. Размеры зерен неболее 0,5 мм, преобладающая фракция 0,1-0,3 мм.Форма угловатая. Шамот зафиксирован в виде зе-рен округленной формы, цвет и состав его анало-гичен основной массе черепка, размеры зерен 1-2мм. По заключению петрографа, происхождениепородных обломков в глине естественное.
В кв. Ж’/10 было найдено два очень маленькихобломка одного сосуда. Наружная поверхность ихбыла светлой, желтовато-коричневой, внутренняятакже светлая, серовато-коричневая. Излом рых-лый, серый, ближе к поверхностям светлый, жел-
товато- или серовато-коричневый. По качеству онбыл похож на фрагмент из кв. Н/7 с обильной при-месью шамота и разложившегося базальта. Он имелмягкий черепок, примесь в нем была практическинезаметна, толщина стенки 1 см. Петрографичес-кий анализ показал, что этот сосуд (107) был изго-товлен из глины, содержащей около 10% алеври-тистой примеси и примерно 10-15% песка. Песокпредставлен шамотом и единичными зернамикварца, полевых шпатов и сланцев. Шамота неменее 10%, размеры зерен от 0,1 до 2 мм, преиму-щественно 0,5-1 мм. Таким образом, основным ото-щающим компонентом глиняной массы в данномобразце выступал именно шамот.
Итак, мы видим, что данные по керамике из за-полнения криогенных клиньев у нас довольноскудные. Создается впечатление, что она представ-лена фрагментами двух типов. Первый – толстыестенки, толстый слой ярко окрашенного ангоба(или обмазки), шамот (или разложившийся ба-зальт) в качестве отощающей примеси, гребенча-тые трасы (кв. Н/7, Ж’/10). Второй – стенки сред-ней толщины, тонкотекстурное тесто с естествен-ной примесью породных обломков и небольшойфракцией шамота и, возможно, крупных зеренгорных пород, окрашены в блеклые серовато-коричневатые тона, могут иметь обмазку, гребен-чатые трасы, сквозные конические отверстия настенках. Венчики уплощенные со сквозными про-колотыми отверстиями и овальными оттисками пообрезу. Донышки плоские, широкие (кв. О/7; Д/8).Способы формовки не восстанавливаются.
Рис. 78. Гончарка-1. Раскоп 1.Фрагменты керамики из скоплений
в кв. В/9 (1) и Ж/5 (5-7) и их шлифы (3-5).
2 – шлиф № 011; 3 – шлиф № 012;4 – шлиф № 014
4
5 6
2
1
3
7
152
из глины разложившихся до состояния охры ба-зальтов с добавками около 30% песка, представ-ленного также базальтами, разложившимися илиокисленными, с вкраплениями пироксена. Проис-хождение песка для разных шлифов определенопо-разному. В одних случаях эта была естествен-ная его фракция с постепенным переходом от алев-ритистой составляющей, размеры зерен непра-вильной и угловатой формы достигали 2 мм, со-ставляя в среднем 0,3-0,5 мм. В других фиксиро-вался резкий переход между алевритистой приме-сью и песком, размеры последнего от 0,5 до 1 мм,форма зерен угловатая или округленная. В шли-фах хорошо видна пористая структура базальтов,поры круглые, от мельчайших до 0,3 мм. Особен-но отчетливо пористость видна в шлифах, где пе-сок определен как отощитель. В двух шлифах за-фиксированы единичные обломки шамота, отли-чающегося по составу, размеры округленных зе-рен которого составляли 0,5-1 мм.
Очевидно, для изготовления сосуда из кв. В/9была взята глина, образовавшаяся из выветренно-го базальта, в которой оставались естественныевключения недоразложившихся или окисленныхчастиц базальта. Эта же глина, высушенная и, воз-можно, подвергнутая низкотемпературной обра-ботке, была добавлена в тесто при замесе, нерав-номерность которого и привела к такой существен-ной разнице в шлифах.
С одной или обеих сторон данного сосуда в шли-фах был зафиксирован слой ангоба, изготовлен-ный из глины резко отличного состава (рис. 78, 4).Это была обычная каолинит-гидрослюдистая гли-на с повышенным – до 30% – содержанием алев-ритистой примеси и полным отсутствием песка.Толщина ангоба достигала в шлифах 1 мм.
Следует также отметить, что в шлифах этого со-суда помимо обычной для археологической кера-мики щелевидной пористости, занимавшей 1-3%их площади, в цементе были зафиксированы круг-лые поры – пузыри, аналогичные тем, которыевозникают при высокотемпературной обработкеглины. Однако, судя по характеру минеральныхвключений в цементе, температура обжига этогососуда не превышала 800 °С и не могла вызвать воз-никновение пузырей. Объяснить данный фактпока не получается. Можно предположить, чтокруглые поры в цементе стали результатом исполь-зовования легкоплавких глин или некоторых вул-канических пород.
С к о п л е н и е в к в . Ж / 5 . Здесь было най-дено более 200 обломков керамики, в основноммелких, крупных, размеры которых от 3 до 7 см,не более 20. Несколько фрагментов были отданына петрографический анализ (010-012, 101). Со-гласно определениям, в данном скоплении залега-ли обломки двух сосудов, хотя по внешним при-знакам они были неразличимы. Черепки мягкие,рыхлые, толщина их 0,7-0,9 см, поверхности и
изломы яркого желтовато-оранжевого цвета, стен-ки ровные, покрыты тонким плохо сохранившим-ся слоем желтоватой обмазки. Примесь в тесте по-чти не заметна, иногда просматриваются мелкие исредние включения минеральных частиц или ша-мота, эпизодически встречаются очень крупные –до 1 см – зерна породных обломков (рис. 78, 2-3).
Три фрагмента, скорее всего, являются венчи-ками. Один из них прямой, имеет уплощенный искошенный внутрь обрез, стенки в приустьевойчасти неровные, с вмятинами на поверхностях,как у сосуда из кв. В/9 (рис. 78, 5). Два другихочень маленькие, один прямой с уплощенным об-резом, второй чуть отогнут наружу с плоским об-резом, оба без каких-либо следов обработки. Ещетри фрагмента представляют собой, по-видимому,обломки донышек, контур их не восстанавливает-ся, следы обработки в виде гребенчатых прочесовтакже отсутствуют (рис. 79). Остальные фрагмен-ты – обломки тулова.
Первый сосуд (011, 101) изготовлен из глины,содержащей около 20% алевритистой примеси, вкоторую было добавлено около 10% шамота. Ша-мот представлен зернами аналогичного основноймассе состава или непрозрачными частицами, рас-пределены они неравномерно, форма угловатая,размеры преимущественно 0,5-1 мм, единичныезерна 1,5-2 мм. Породные обломки в составе пескаотсутствуют. В одном из шлифов зафиксированслой обмазки из глины аналогичного состава, от-личающейся отсутствием крупных зерен и болеесветлым тоном.
Второй сосуд изготовлен из глины (010, 012),содержащей около 20% алевритистой примеси иоколо 10% песка. Песок представлен кварцем,кремнем, кварцитами, примеси – полевой шпат,рудные минералы, шамот. Размер зерен песка от0,1 до 2-3 мм, преимущественно 0,3-0,5 мм, круп-ные зерна единичны, в их числе шамот. Переходот алевритистой фракции к песчаной постепен-ный, между преимущественной фракцией пескаи крупными зернами резкий. Происхождение ос-новной массы песка, по определению петрографа,естественное. По совокупности данных петрогра-фического и визуального осмотра можно предпо-ложить, что в тесто была добавлена крупная фрак-ция песка, в состав которого входили породныеобломки и немного шамота. В одном шлифе на од-
Рис. 79. Гончарка-1. Раскоп 1.Профили донышек (?) от сосудов
из скопления в кв. Ж/5, 3 пл.
153
ной из поверхностей зафиксированслой обмазки из глины аналогично-го состава.
В подавляющем большинствеслучаев на обломках сосудов из дан-ного скопления видны бороздки, на-несенные гребенчатым инструмен-том. Чаще всего они фиксируются навнутренних поверхностях, здесь ониболее отчетливые, на внешних встречаются как ис-ключение, причем видны они здесь плохо, как пра-вило, лишь при косом освещении. Ориентация бо-роздок горизонтальная или наклонная либо не вос-станавливается, по отдельным фрагментам видно,что на внешних и внутренних поверхностях онамогла быть различной.
На трех фрагментах зафиксированы несквоз-ные отверстия, нанесенные еще по сырой глине, удвух из них они располагались на внутренней по-верхности, у одного – на внешней, диаметр отвер-стий 0,5 мм. Расположение отверстий на стенкахтулова, в том числе на внутренней поверхности,заставляет думать, что они служили решению тех-нических задач, возможно, снимали напряжениев глине во время ее сушки и/или обжига.
Среди обломков из данного скопления есть не-сколько фрагментов со следами спая отдельныхконструктивных элементов. У одного из них в го-ризонтальном изломе по всей длине последнегоотчетливо фиксировался «валик» (рис. 78, 6), ка-кие обычно образуются на нижнем жгуте при егокреплении к верхнему «встык» [Глушков 1996:рис. 47, 8]. У второго фрагмента такой «валик» тя-нулся не по всей длине горизонтального излома, авозвышался над ним своего рода «холмиком» (рис.78, 7). Пару к нему составляет третий фрагмент, унего в горизонтальном изломе прослеживался же-лобок, какие обычно остаются на верхнем жгутепри креплении его встык к нижнему [Бобринский
1978: рис. 70, 1, 3]. Интересно, что желобок этоттакже тянулся не вдоль всего излома, а занималлишь центральную его часть, постепенно сходя нанет к краям.
С к о п л е н и е в к в . А - Б / 5 - 6 . В общейсложности здесь было найдено около 150 облом-ков. Большая их часть принадлежала, по-видимо-му, двум сосудам одинакового качества. Черепкиих были мелко фрагментированы и сильно разру-шены эрозией, толщина стенок 0,8 см. Цвет тем-но-серый, на наружной поверхности остатки ко-ричневой обмазки, в основном полностью отслоив-шейся. На поверхностях и в изломах обильно про-ступала примесь мелкого, среднего и крупного раз-мера, в том числе зерна красного шамота 1-го вида.Часть фрагментов имела с внутренней стороны па-раллельные друг другу желобки, нанесенные гре-бенчатым инструментом. Сохранилось три венчи-ка. Все они прямые, с уплощенными обрезами, не-значительно утолщенными с наружной стороны.
У двух венчиков, принадлежавших одному со-суду, чуть ниже обреза располагался желобок ши-риной 0,5 см, в котором еще по сырой глине былипроколоты сквозные отверстия диаметром 0,3-0,5см (рис. 80; 82, 5). Под микроскопом отчетливовидно, что желобок был выполнен путем протас-кивания твердым инструментом, на его ложе и побокам сохранились узкие царапины, параллель-ные желобку. Орнамент на наружной поверхнос-ти отсутствовал, а на внутренней сохранились,
правда плохо, характерные желоб-ки, нанесенные гребенчатым инст-рументом почти параллельнокромке венчика. По обрезу распо-лагались чуть наклонные оваль-ные вдавления, выполненные, по-видимому, пальцем.
Третий венчик был оформлен втой же манере, однако желобок, вкотором было проколото отверстие,здесь был лишь слегка намечен.Кроме того, внутренняя поверх-
Рис. 81. Гончарка-1. Раскоп 1.Фрагмент венчика из скопленияв кв. А-Б/5-6, 3 пл.
Рис. 80. Гончарка-1. Раскоп 1.Фрагмент венчика из скопления
в кв. А-Б/5-6, 3 пл.
Рис. 82. Гончарка-1. Раскоп 1.Фрагменты венчиков (1, 5) и их шлифы (2-4)
от сосудов из скопления в кв. А-Б/5-6
2
1
3 4
5
155
ность этого обломка была полностью лишена ка-ких-либо следов обработки. На внешней поверх-ности, гладкой и ровной, сохранились отчетливыеоттиски гребенчатого узора в виде вертикальногозигзага, выполненного в технике проката под на-клоном к вертикальной оси сосуда (рис. 81; 82, 1).
Оттиски гребенки подпрямоугольные с нечет-кими краями, ориентированы длинной сторонойпо линии узора. На использование техники про-ката указывает характерное сочленение линийзигзага. Всего сохранилось три его звена, и в каж-дом фиксируется одна и та же картина: раздваи-вание линии начинается не с самого крайнего от-тиска, а с третьего или четвертого, при этом самыекрайние угловые оттиски заметно меньше по раз-мерам и не такие отчетливые.
К этим же двум сосудам относятся два очень ма-леньких обломка стенок, на которых сохранилисьобрывки гребенчатого узора, мотив его не опреде-ляется. На одном из них «встретились» несколькогребенчатых оттисков, выстроенных в одну ли-нию, и несколько едва заметных гребенчатых же-лобков, сохранившихся от технической обработ-ки. Это единственный случай такого сочетания длявсей коллекции поселения Гончарка-1.
Около 20 фрагментов из данного скопления су-щественно выделялись на фоне основной массычерепков. Это были крупные – 3-7 см – и сравни-тельно прочные обломки тулова одного сосуда столщиной стенок не менее 1 см. Наружная поверх-ность у них ровная, покрыта толстым слоем яркойрозовато-желтой обмазки. На некоторых фрагмен-тах она полностью или частично утрачена. Внут-ренняя поверхность фрагментов неровная, по-ви-димому необработанная, имеет, как и излом, свет-ло-серый цвет, участками с красноватым оттен-ком. Обломки данного сосуда найдены также в со-седнем квадрате А/4.
Черепки данного сосуда на ощупь мелко запе-сочены, хотя и не обильно, что резко отличает ихот фрагментов двух предудущих сосудов. Заметнытакже включения породных обломков и красногошамота среднего и очень редко крупного размера.На наружной поверхности двух обломков зафик-сированы оттиски стеблей травы, уходящих поднаружный слой глины (рис. 83, 1а, 2б). В изломахприсутствие травы отмечается лишь в единичныхслучаях, причем ее следы располагались на участ-ках спая двух пластов глины так, как если бы тра-ву накладывали между ними (рис. 83, 3).
На наружной поверхности сохранились борозд-ки, оставшиеся от технической обработки стенок.Они несколько отличались от гребенчатых проче-сов, характерных для остальной осиповской кера-мики поселения Гончарка-1 (рис. 83, 1-2). Во-пер-вых, длинные края бороздок имели не вполне от-четливые очертания, на отдельных участках какбудто извилистые. Во-вторых, на фрагментах это-
го сосуда бороздки чаще, чем обычно, оказывалисьразнонаправленными. Возможно, они были ос-тавлены веревочным инструментом и выполня-лись в какой-то иной технике (прокат – ? прессо-вание –?). В целом надо отметить, что рисунокбороздок не достаточно четкий для окончательныхвыводов. Важно также упомянуть, что в изломахэтого сосуда зафиксированы следы спая двух пла-стов глины (рис. 83, 1, 3-4).
Среди рассматриваемого скопления керамикинаходилось также некоторое количество мелкихокатанных обломков стенок почти черного цветас довольно обильными разнозернистыми добавка-ми красного шамота 1-го вида и коричневого ша-мота 2-го вида, изломы имели характерную ком-коватую структуру. Все они принадлежали одно-му сосуду, но никакие иные его характеристикине восстанавливаются.
Завершая характеристику осиповской посудыиз скоплений раскопа 1, хотелось бы обратить вни-мание на следующее.
Материалы всех скоплений близки между со-бой с точки зрения их внешних характеристик. Ихобъединяют толстостенные ярко окрашенные со-суды, изготовленные в основном из мелкотекстур-ного теста с малочисленными добавками крупнойфракции зерен. В двух скоплениях такие сосудыимели, по-видимому, необработанные венчики суплощенным обрезом без сквозных отверстий, ещев двух – техническую обработку только на внешнихповерхностях, что встречается только в материалахраскопа 1, а в третьем – на обеих поверхностях.Особенности планиграфического залегания скоп-лений позволяют предполагать их единовременноеотложение. Не противоречит этому и детальная ха-рактеристика самой керамики из скоплений.
В то же время нельзя не заметить, что сосудыиз скоплений раскопа 1 значительно отличаютсядруг от друга по рецептурам и минералогическо-му составу формовочных масс. Более того, такаяже мозаичность наблюдается и внутри данныхскоплений. В одном из них залегали два различ-ных по рецептуре сосуда, в другом – три. Далее бу-дет показано, что подобное многообразие сырье-вой практики является одной из особенностей оси-повского гончарства в целом.
С к о п л е н и е в к в . Д ’ / 4 - 5 (развал сосуда№ 4 в полевой документации). В данном скопле-нии было найдено около 50 обломков одного сосу-да (рис. 85-86). Сохранилось несколько крупныхфрагментов, позволяющих реконструировать по-чти полный его профиль, остальные – мелкие об-ломки. Наружная поверхность черепков имеет до-вольно тусклый коричневато-серый цвет, местамиболее яркий с красноватым оттенком, внутренняяи изломы темно-серые. Внутренняя поверхность,кроме того, сильно разрушена эрозией. На ней про-ступает обильная крупная примесь породных об-
157
ломков преимущественно остроугольной формы(рис. 86, 2), на наружной они частично скрыты подостатками обмазки. Встречаются и отпечатки тра-вы. С внешней стороны они заметны отчетливее,они здесь длинные, вытянуты вдоль поверхностии располагаются сразу под слоем обмазки (рис. 86,1в). На отдельных участках они даже проступаютна поверхность и нарушают линии узора. Следытехнической обработки сохранились очень плохо итолько на внутренней поверхности. Они имеют видузких ориентированных горизонтально бороздок.
Петрографический анализ одного обломка (079)показал, что сосуд из данного скопления был сде-лан из глины, содержащей около 10% алевритис-той примеси и около 20% песка. В составе после-днего кремни, кварциты, кварц, слюдистые слан-цы, единичные зерна рудных минералов. Переходалевритистой фракции в песчаную очень резкий.Преимущественный размер породных обломков0,5-2 мм, отдельных зерен – 5 мм. По данным би-нокулярной микроскопии их размер мог достигать1 см. Форма зерен угловатая и окатанная. Проис-хождение песка определено однозначно как ис-кусственное. Рудные минералы представлены не-прозрачными частицами, они единичны, окатаныи имеют размер около 0,1 мм. Шамот и трава в шли-фе не зафиксированы.
Венчик сосуда уплощен и чуть скошен внутрь.Толщина стенки в приустьевой части чуть мень-ше, чем в придонной, и варьирует в пределах 0,9-1,1 см. По обрезу идут наклонные узкие оттиски,выполненные гребенкой (рис. 86, 1б). Чуть нижеобреза вдоль устья в один ряд расположены сквоз-ные отверстия диаметром 3-4 мм. Они были про-колоты снаружи еще в сырой глине. С внутреннейстороны около отверстий и прямо в них фиксиру-ются остатки нагара. Форма сосуда была доволь-но необычной. Высота его составляла не более 11-12 см, диаметр устья 22 см. Стенки почти верти-кальные, дно плоское. По имеющимся обломкамможно говорить, что контур сочленения дна с ту-ловом имел вид плавной дуги (рис. 84). В целом со-суд имел вид низкой широкой чаши (рис. 85).
На наружной поверхности сохранился гребен-
чатый узор в виде двух полос плотного горизон-тального зигзага. Верхняя полоса видна отчетли-во и начинается сразу у кромки устья, нижняя ча-стично затерта. На отдельных участках можно раз-глядеть, как поверх оттисков горизонтального зиг-зага тем же инструментом нанесены оттиски вер-тикального зигзага. Выполнен узор прокатом (рис.86, 1а). Хорошо заметно, что звенья зигзага име-ют легкую изогнутость. Инструмент, судя по очер-таниям зубчиков, аналогичен тому, которым былнанесен зигзаг на один из сосудов из скопления вкв. А-Б/5-6 (ср. рис. 86, 1а и рис. 82, 1).
Среди фрагментов данного сосуда выделяетсяодин со следами спая, различимыми как в верти-кальном изломе, так и на наружной поверхности(рис. 87, 3). По-видимому, сосуд собирался, покрайней мере на этом участке, путем наложениядруг на друга плохо расформованных жгутов[Глушков 1996: рис 30].
Н е п о д а л е к у в кв. Д’/5 было обнаруженоеще одно скопление керамики, состоящее из 70фрагментов одного сосуда (развал сосуда № 2 в по-левой документации). Они отличались очень пло-хой сохранностью. Поверхности у них не сохрани-лись совсем. Цвет керамики коричневатый со сто-роны наружной поверхности и темно-серый со сто-роны внутренней. В тесте обильная очень грубаяостроугольная примесь породных обломков (рис.87, 5а) и эпизодические включения травы. Не-сколько обломков подклеились в крупный фраг-мент верхней части данного сосуда (рис. 87, 5). Повнешним признакам эти черепки сильно напоми-нали предыдущий сосуд. Он имел абсолютно пря-мые стенки и три расположенных в ряд сквозныхотверстия чуть ниже венчика. Отверстия прокалы-
Рис. 85. Гончарка-1. Раскоп 3.Реконструкция сосуда из скопления в кв. Д’ /4-5, 3 пл.
Рис. 84. Гончарка-1. Раскоп 3.Фрагменты дна от сосуда из кв. Д’ /4-5
160
вались еще в сырой глине, диаметр их 0,3см. В подвенечной части сохранился ма-ленький участок поверхности с довольнообильным нагаром, причем под нагаромпросматриваются остатки красновато-ко-ричневого наружного слоя обмазки.
Многие фрагменты расслаивалисьвдоль изломов. На одном из них внутрина месте расслоения видны отпечаткидлинных стеблей травы, ориентирован-ные вдоль стенок (рис. 87, 2). На этом жефрагменте с внешней стороны слабо про-сматриваются следы гребенчатых оттис-ков. Один из фрагментов имеет следыспая в изломе (рис. 87, 1).
Отметим также, что чуть более 20 мел-ких фрагментов аналогичного качества были най-дены и в кв. Д’/4 на уровне контакта горизонта 3Бс кровлей заполнения криогенного клина. Один изних был отдан на петрографический анализ (110).Его результаты полностью совпадали с результа-тами анализа сосуда из скопления в кв. Д’/4-5.
Таким образом, мы видим, что в пределах кв.Д’/4-5 были рассеяны несколькими скоплениямиразличной сохранности обломки одного или двухсосудов абсолютно идентичного качества, на чтоуказывают и данные их визуального осмотра, иданные петрографии.
Н е б о л ь ш о е с к о п л е н и е разрознен-ной керамики было найдено в кв. Г’/5 (развал со-суда № 1 в полевой документации). Оно интереснодля нас тем, что по условиям залегания мы можемсоотнести его с сосудами из кв. Д’/4-5. Оно состоя-ло примерно из 20 фрагментов стенок.
Большая их часть принадлежала сосуду или со-судам с обильной разнозернистой примесью дрес-вы из кв. Д’/4-5. Фрагменты мелкие, сильно раз-рушены эрозией, очень неровные, изредка в тестевстречаются отпечатки травы. Один из них при-мечателен тем, что в средней части излома у негоотчетливо фиксировались отпечатки длинныхстеблей травы, расположенных параллельно стен-кам и разделявших собой два пласта глины (рис.87, 4). Несколько обломков принадлежали друго-
му сосуду с ровными, хорошо сохранившимисяповерхностями (рис. 88-89). Цвет его серый. При-месь в тесте малозаметная, на отдельных участкахпросматриваются разноразмерные включениякрасного шамота 1-го вида и единичные крупныезерна породных обломков. Одна из стенок имелахарактерный перегиб, свидетельствующий о чутьзакрытой форме сосуда (рис. 88). Обе поверхностисохранили следы гребенчатой обработки. Борозд-ки были ориентированы горизонтально, на наруж-ной поверхности на одном из участков они былинанесены по волнистой траектории (рис. 89). Об-ломок этого сосуда найден также в кв. Е’/3.
С к о п л е н и е в к в . И ’ / 2 состояло из 40фрагментов одного сосуда (развал сосуда № 3 в по-левой документации). Сохранность их плохая. По-верхности сильно разрушены. Наружная имееткрасноватый оттенок, основной цвет коричневато-серый. В тесте видна очень крупная примесь по-родных обломков и эпизодические включениякрасноватого шамота. В одних фрагментах ее мно-го, в других видны только отдельные зерна. У од-ного обломка в средней части черепка зафиксиро-ваны пустоты от какой-то мелковолокнистой орга-ники, локализованные на ограниченном участке.На внутренней поверхности черепков иногда сла-бо заметны следы от параллельных трас-желобков.Среди обломков есть также очень маленький фраг-мент венчика с уплощенным обрезом и сквознымотверстием чуть ниже кромки (рис. 90, 1, 2).
Фрагменты данного сосуда взяты на петрогра-фический анализ (083-07, 083-08). Определенияполучились разные. В одном шлифе фиксирова-лось около 1-3% алевритистой примеси и 5-10%песка, в другом соответственно – 10% и 20-30%(рис. 90, 3). Это может свидетельствовать и о пло-хом промесе формовочной массы, и об использо-вании неоднородной глины. Но надо также иметьв виду, что второй шлиф получился сильно рас-ползшимся и в него попали сразу два очень круп-ных зерна кварцита с размером 8-10 мм, что и по-влияло на итоговую цифру. Реальный объем при-меси, по-видимому, был меньше.
Рис. 88. Гончарка-1. Раскоп 3.Фрагмент сосуда из кв. Г’ /5
Рис. 89. Гончарка-1. Раскоп 3.Фрагмент сосуда из кв. Г’ /5
1
3
2
5
Рис. 90. Гончарка-1. Раскоп 3 и 4.Фрагменты керамики из скоплений
в кв. И’ /2 (1-2) и З/16 (6-7) и их шлифы (3-5).
3 – шлиф № 083; 4 – шлиф № 072;5 – шлиф № 073
4
6
7
162
Песок в шлифах представлен кварцитами,кремнями, роговиками, в примесях слюдистыйсланец, кварц, шамот. В шлифах фиксировалисьдва резко выраженных текстурных перехода пес-чаной примеси, сначала от алевритистой фракциик мелкой, а затем от мелкой к крупной или оченькрупной. Преимущественные размеры мелкойфракции песка 0,5-1 мм, зерна неправильные, уг-ловатые и окатанные, крупной – около 2-3 мм водном шлифе и 8-10 мм в другом. В первом шлифепреобладает мелкая фракция, во втором – круп-ная. Происхождение песка искусственное, причемкак в крупной, так и в мелкой фракциях, что сви-детельствует о двойной сортировке отощителя.Шамота в шлифе 1-3%, зерна его имели округлен-ные очертания и преимущественный размер 0,5-1 мм, что соответствует мелкой фракции. В одномиз шлифов зафиксированы пластинчатые и иголь-чатые пустоты от растительной органики и еди-ничные круглые поры-«пузыри».
Таким образом, мы видим, что в скопленияхраскопа 3 оказалась представлена в целом однотип-ная керамика, ее основные особенности – грубыйи достаточно обильный минеральный отощительс эпизодическими включениями травы и шамота.Обращает на себя внимание небольшое скоплениев кв. Г’/5, в котором вместе залегали фрагментыкак груботекстурного, так и мелкотекстурного со-судов. Нельзя также не заметить, что сохранность
груботекстурных сосудов, в отличие от сосуда смелкой текстурой, была очень плохой, они быливсе сильно разрушены эрозией.
С к о п л е н и е в к в . З / 1 6 представляло со-бой развал одного сосуда. Сохранилось чуть болеедвухсот в основном очень мелких его обломков.После извлечения из слоя собрать сосуд, к сожа-лению, не удалось. Он был изготовлен из теста сочень обильной минеральной примесью мелкого исреднего размера, крупных частиц практически небыло. Фрагменты по изломам сильно крошились,поверхности от обильной примеси были сильношершавыми, каких-либо следов обмазки на них невыявлено. Внутрення поверхность сохраниласьлучше. Цвет сосуда в изломе и со стороны наруж-ной поверхности серовато-коричневый, на внут-ренней – более серый и темный. Толщина стенок0,8-1,2 см (рис. 90, 6-7; 91).
Два обломка данного сосуда взяты на петрогра-фический анализ (072-073) (рис. 90, 4-5). Соглас-но определениям, он был изготовлен из глины, со-держащей около 10% алевритистой примеси, с до-бавками около 30%песка. Последний представленпородными обломками гранитного состава, размерзерен 0,2-2 мм, преобладающая фракция для об-разца 072 – 0,3-0,5 мм, для образца 073 – 0,5-1 мм,форма угловатая. Некоторая разница в размерахпреобладающей фракции свидетельствует о нерав-номерности замеса. Переход алевритистой фрак-
Рис. 91. Гончарка-1. Раскоп 4.Реконструкция сосуда из скопления в кв. З/16
163
ции в песчаную резкий. По мнению петрографа,происхождение песка искусственное.
Помимо этого в шлифе зафиксированы единич-ные рудные минералы с размером зерен до 0,1 мм,а также единичные игольчатые и пластинчатыепустоты от растительных остатков. Шамот отсут-ствовал, но при бинокулярном обследовании в со-ставе отдельных обломков фиксировались включе-ния желтовато-коричневого шамота 2-го вида. Кро-ме того, следует отметить наличие в цементе немно-гочисленных круглых пор-«пузырей».
На внутренних поверхностях тулова сосуда от-четливо заметны характерные следы заглажива-ния поверхности гребенчатым инструментом. Ин-тересно, что на обломках донышка они менялисвой облик и становились больше похожими наследы от протаскивания неровной щепкой или де-ревянной гребенкой с полностью стертыми зубца-ми. Ориентация трас горизонтальная.
Форма сосуда реконструируется очень прибли-зительно (рис. 91). Венчик прямой, с внешней сто-роны имеет довольно заметное утолщение, обрезсодран, поэтому точная конфигурация его неизве-стна. Дно плоское, ровное, переход стенок к днуоформлен в виде четкого уступа, толщина стенкибольше толщины дна. На линию соединения дна истенки как раз пришелся разлом сосуда. Диаметрдна 14 см, диаметр устья и высота неизвестны.Угол сочленения дна и тулова позволяет предпо-ложить, что в нижней части стенки сосуда расши-рялись конусообразно. Сохранялся ли такой кон-тур вплоть до устья, по мелким фрагментам не ска-жешь, поэтому реконструированная форма этогососуда гипотетична.
Сосуд был орнаментирован, но узор сохранил-ся плохо. Он представлял собой чередование оттис-ков стэка, нанесенных под углом к поверхности со-суда, и фигурного штампа в виде вертикально ори-ентированного заоваленного ромба (рис. 90, 6-7).Начинался узор сразу у венчика – на его обломкевидна полоса из двух горизонтальных рядов тра-пециевидных оттисков, расположенных в шахмат-ном порядке, а далее шла композиция из ромбо-видных оттисков, спускающихся вниз «фестона-ми». Сохранились оттиски трапециевидной фор-мы и у дна, ими был оформлен стык дна и тулова.
Обломки, по-видимому, двух сосудов были рас-сеяны в с е в е р н о й ч а с т и раскопа 4 нескольковыше по уровню залегания от скопления в кв. З/16. В кв. З/15 их было найдено около 40, в сосед-них кв. З/11-13, Ж/13, И/15, Д/14 и др. – еще бо-лее сотни. Все фрагменты сильно разрушены эро-зией, поверхности их почти не сохранились, на нихпроступала разнозернистая примесь породных об-ломков и красного шамота 1-го вида, иногда встре-чались рыхлые включения шамота 2-го вида,имевшие коричневато-белесый оттенок. У одногоиз сосудов на внешней поверхности сохранилисьследы гребентатых прочесов, у другого – на внут-
ренней, при этом в составе теста первого сосудапреобладали шамотные добавки, у второго – об-ломки горных пород (рис. 92).
Два фрагмента из этого скопления были взятыдля петрографического исследования (111 и 112).Согласно определениям, они были изготовлены изглины, содержащей от 10 до 20% алевритистойпримеси, и небольшого – около 5% – количествапеска. Последний представлен шамотом и зерна-ми сланцев, кремней, кварцитов, кварца, полевыхшпатов. Этот сосуд является прекрасным приме-ром несовпадения данных петрографии и биноку-лярной микроскопии. Визуально его обломки былизначительно более насыщены непластичными до-бавками, чем это следует из петрографических опи-саний. Их объем можно определить в пределах 10-20% со ссылкой на экспериментальную таблицуА.А. Бобринского [1978: 107, рис. 37].
В одном из шлифов шамот был представлен еди-ничными обломками округленных очертаний сразмерами зерен от 0,5 до 1 мм, обломки горныхпород варьировали по размерам более существен-но – от 0,1 до 3 мм. В другом шлифе единичнымибыли зерна минералов, размеры их достигали2 мм, а шамот был представлен либо частицами,резко отличающимся по составу от основной мас-сы, либо непрозрачными стяжениями, размер ихдостигал 2 мм. Визуально и породные обломки, ишамот могли достигать в размерах 5 мм и более.Происхождение породных обломков установитьсложно. Крупная их фракция, по-видимому, быладобавлена в тесто вместе с шамотом, а мелкая мог-ла быть естественной примесью в глине.
Надо также добавить, что в одном из шлифовна одной поверхности выявлены остатки ангобатолщиной 0,3 мм, состав его отличался от основ-ной массы повышенным содержанием алевритис-той фракции и более светлым цветом.
В тех же квадратах среди рассеянных фрагмен-тов было выявлено еще около 20 обломков стенок,
Рис. 92. Гончарка-1. Раскоп 4.Фрагменты керамики из кв. З/15
164
принадлежащих другому сосуду. Наиболее круп-ные из них н а й д е н ы в к в . Е / 1 5 . Этот сосудотличался тонкозернистой текстурой, имел темно-серый цвет излома и толстый слой ангоба яркогокрасновато-оранжевого цвета, который сохранил-ся в большинстве случаев только в виде пятен илишь на нескольких черепках – по всей поверхно-сти. Примесь из-за темного цвета теста не инден-тифицирована. На сохранившихся участках анго-ба отчетливо заметны следы характерных гребен-чатых трас (рис. 93).
Один фрагмент этого сосуда взят для петрогра-фического изучения (102). Согласно определени-ям, он был изготовлен из глины, содержащей око-ло 10% алевритистой примеси, и 5-10%песка.Последний представлен породными обломками ишамотом, количество их примерно равно, но из-за малочисленности песчаной фракции точно не ус-танавливается. Породные обломки – кварц, руд-ные минералы, полевой шпат, единичный амфи-бол, они очень мелкие, от 0,1 до 0,3 мм. Шамот ок-ругленных очертаний размером не более 1 мм, пре-обладают зерна 0,3-0,5 мм. В шлифе фиксируют-ся также игольчатые поры предположительно отрастительной органики.
Таким образом, для изготовления этого сосуда,по-видимому, была взята чуть запесоченная гли-на, в которую было добавлено небольшое количе-ство мелкого шамота и, возможно, травы.
П о г р е б е н и е . Керамики в составе погребе-ния найдено мало, всего около 10 фрагментов, всеони очень мелкие, размером не более 1,5-2 см. По-видимому, они принадлежали одному сосуду. Цветнаружного слоя серовато-белесый, участками скрасноватым оттенком, внутреннего – темно-се-рый, граница между ними резкая, ровная, толщи-на слоев одинаковая, общая толщина стенок сосу-да 0,8-0,9 см. Формовочная масса отличалась тон-козернистостью, примесь в ней практически не за-метна. Под микроскопом отчетливо видны рыхлыекомочки серого цвета, как у сосуда из скопления в
кв. В/9, только очень мелких, а также шамота 2-го вида коричневато-желтоватого и очень редкокрасного цвета. На одном из обломков видны ти-пичные желобки-трасы, другой представлял собойочень маленький, но типичный обломок венчика –с плоским обрезом, украшенным овальными от-тисками.
Один фрагмент взят на петрографический ана-лиз (082). Согласно определениям, сосуд был из-готовлен из чистой глины, содержание алеврити-стой примеси не более 5%, песка – 3-5%. В соста-ве последнего базальт, кварц, полевой шпат и ша-мот, размер зерен от 0,3 до 1 мм, форма неправиль-ная, окатанная и угловатая для породных облом-ков, округленная для шамота. Зерна базальта име-ют характерную пузырчатую структуру, они болеекрупные, от 0,5 до 1 мм. По-видимому, данный со-суд был изготовлен из глины с незначительными до-бавками шамота и, возможно, в том числе из гли-ны, образовавшейся из выветренных базальтов.
В отношении материалов из раскопа 4 можноотметить, что сосуд, украшенный ромбовиднымиоттисками, был асинхронен обломкам двух илитрех сосудов, рассеянным в непосредственной бли-зости от него. Они залегали несколько выше и от-личались заметно худшей сохранностью, а вотсами эти обломки, по-видимому, отложились еди-новременно.
Разрозненная керамика
Анализ разрозненной керамики удобнее начатьс характеристики отдельных групп, которые вы-деляются в ней по технико-типологическим при-знакам. Наиболее уверенно можно говорить о груп-пе фрагментов, представляющих т р и с о с у д а ,у к р а ш е н н ы х в а л и к а м и .
Обломок венчика первого сосуда найден в кв. Н/8. Диаметр его устья составлял не менее 25 см. Вен-чик в профиле прямой, с чуть скошенным внутрьобрезом. В 1,5 см ниже кромки расположен поясокиз четырех узких валиков, шириной 0,3 см, с мел-
Рис. 93. Гончарка-1. Раскоп 4.Фрагмент сосуда из кв. Е/15
165
кими наклонными насечками, расстояние междуваликами не превышало 0,5 см, в поперечном се-чении они имели подтреугольную форму. Поверх-ность сосуда изнутри была покрыта характернойземлистой патиной, а снаружи – коричневым сло-ем ангоба, который сильно потрескался. Излом по-чти черный, примесь в тесте не видна. Толщинастенки 0,7-0,8 см (рис. 94).
От второго сосуда из кв. К/11 сохранилосьнесколько фрагментов, в том числе венчик. Всеони были найдены рядом друг с другом. Диаметрсосуда не реконструируется, как и форма, но поконтуру стенки можно говорить, что сосуд имелслегка вогнутые очертания тулова (рис. 95). Вен-чик его чуть отклонен внутрь, обрез плоский, ско-шеннный внутрь, гладкий. Валики располагалисьв 2 см ниже обреза, расстояние между ними состав-ляло 2 см, ширина валиков 0,4-0,5 см, сечение под-треугольное. Нижний валик сохранился частично.Сосуд имел грязно-коричневый цвет, изломы тем-но-серые, поверхности его, особенно внешняя,сильно повреждены эрозией. В составе теста вид-ны эпизодические включения измельченной тра-вы, немногочисленные примеси породных облом-ков разного размера, в том числе и очень крупных.В целом тесто выглядело достаточно грубым.
От третьего сосуда из кв. И/11 сохранилисьтолько обломки стенок, на одном из них видны дваналепных подтреугольных в сечении валика, рас-положенных в 1,5 см друг от друга, ширина вали-ков 0,5 см (рис. 96). На них заметны плохо сохра-нившиеся округленные оттиски. Нижний валикчастично отвалился. Под ним отчетливо просмат-ривается глубокий желобок, в который собствен-но и вставлялся налепной жгутик. По качествуэтот сосуд был похож на предыдущий, но выгля-дел он более тонкотекстурным, возможно, за счетхорошо сохранившихся поверхностей. На внеш-ней видны остатки красноватого тонкого покры-тия. Эпизодически в тесте встречались включенияпородных обломков и измельченной травы.
Обломок данного сосуда был взят для проведе-ния петрографического анализа (077) (рис. 96, 2).Результаты получились очень интересными. Об-щий объем алевритистой фракции составлял 5-10%, песка – 20-30%. В гранулометрическом со-ставе последнего фиксировались два резко выра-женных текстурных перехода, сначала от алеври-тистой фракции к мелкой, а затем от мелкой ккрупной. Минералогический состав двух размер-ных фракций песка был разным: мелкой – кварц-полевошпатовый, а крупные зерна были представ-лены сланцем, кремнем, кварцитом. Кроме того,по уверенному заключению петрографа, проис-хождение обеих фракций песка искусственное.
Преимущественные размеры мелкой фракции0,2-0,3 мм, зерна угловатые и окатанные, круп-ной – около 2 мм, зерна неправильной формы с ока-танными ограничениями, объем крупной фрак-
ции – не более 30% от общего объема песчанойпримеси. К данным определениям следует доба-вить, что при бинокулярном исследовании в соста-ве теста зафиксированы также крупные и оченькрупные частицы, поэтому в целом можно сказать,что размеры зерен крупной фракции песка варьи-ровали в довольно широких пределах.
Шамот в шлифах диагностирован предположи-тельно, это были непрозрачные, угловатые или не-правильной формы стяжения размером 1-2 мм.Они резко контрастировали с мелкими – не более0,3 мм – и округленными частицами рудных ми-нералов. Шамота было не более 3%.
Таким образом, мы видим весьма любопытнуюкартину. Если определения петрографа относи-тельно происхождения мелкой фракции песка вер-ны, это значит, что для изготовления сосуда с ва-ликами из кв. И/11 отощающие добавки не толь-ко сортировались по размеру с целью получениямелкой и крупной фракций, но и отбирались изразных сырьевых источников. Если все-таки мел-кая фракция была естественной, что более соот-ветствует наблюдениям специалистов и здравомусыслу [см.: Глушков 1996: 27; Физико-химичес-кое…: 78], то тогда этот сосуд был изготовлен изглины с отощителем разнозернистой текстуры.
Рис. 94. Гончарка-1. Раскоп 2.Фрагмент керамики из кв. Н/8
Рис. 95. Гончарка-1. Раскоп 4.Фрагмент керамики из кв. К/11
166
К сказанному следует также добавить следу-ющее. Всего во время работ на Гончарке было най-дено пять частично сохранившихся сосудов с ва-ликами. При бинокулярном осмотре все они былиочень похожи на сосуд из кв. И/11: мелкотекстур-ная примесь, отдельные включения крупных иочень крупных обломков горных пород, особеннозаметных на окатанных поверхностях, а такжередкие отпечатки травы в тесте. Любопытно, чтои петрографические их характеристики оказалисьочень схожими. Для анализа были отобраны фраг-менты еще двух сосудов с валиками из раскопок2001 г., и все они показали абсолютно одинаковуюпетрографическую картину: две размерные фрак-ции песка различного минералогического состава,шамот в виде единичных непрозрачных стяжений.По-видимому, технологические навыки изготов-ления сосудов с валиками были достаточно стан-дартизированы.
Присутствие сосудов с валиками в коллекциигоризонта 3Б имеет, как будет показано ниже, ис-ключительно большое значение, поэтому оченьважно еще раз остановиться на вопросах, связан-ных с их культурной атрибуцией.
С одной стороны, эта группа сосудов несколькоотличается от большинства других осиповских,найденных в Гончарке. В этом отношении обраща-ет на себя внимание отсутствие гребенчатых трасна их поверхностях, налепная техника узоров, не-орнаментированные обрезы, некоторая специфи-ка и устойчивость технологии составления формо-вочных масс.
С другой стороны, ряд признаков, напротив,объединяет эти сосуды с осиповскими. Это усло-вия обнаружения, не противоречащие тем, в кото-рых была найдена основная часть осиповской ке-рамики, характерная землистая патина на внут-ренних поверхностях, ангоб, низкая температураобжига, одновременное присутствие в тесте травы,шамота и минерального отощителя, причем пос-ледний имел весьма специфичный для осиповскойтрадиции состав – кремни, сланцы.
Далее следует иметь в виду, что ни с одним изизвестных культурно-хронологических комплек-сов Приамурья, для которых было характерно ук-рашение посуды налепной техникой, спутать оси-повские сосуды с валиками невозможно. Последниеотличаются присутствием травы в тесте, низкимтемпературным режимом обжига, патиной на по-верхности, композиционными особенностями де-кора и т.п. Прием инкрустации валиков в прочер-ченные желобки не может вводить исследователейв заблуждение, т.к. его очень раннее появление наДальнем Востоке было недавно подтверждено ис-следованиями одного из новопетровских памятни-ков – Новопетровки-3 [Деревянко и др. 2004: 51].
Следующую группу разрозненных обломковобъединяет орнамент, выполненный о т т и с к а -м и г р е б е н ч а т о г о и н с т р у м е н т а .
В кв. В/6 найден обломок венчика, он абсолют-но прямой в профиле, с плоским обрезом, украшен-ным двумя наклонными овальными оттисками,толщина стенки 0,5 см. Чуть ниже кромки начи-нался узор, состоящий из трех расположенныхдруг под другом звеньев вертикального зигзага, на-несенных прокатом гребенки. Этот узор под накло-ном пересекали две «пунктирные» линии, выпол-ненные также гребенчатыми инструментом, но сочень узкими зубчиками. Сосуд был тонкотекстур-ным, примесь в нем незаметна. На наружной по-верхности у него сохранился коричневато-крас-ный толстый слой обмазки, на внутренней – чутьнаклонные трасы (рис. 97, 13).
Обрывки гребенчатого загзага сохранились так-же на нескольких обломках стенок. Четыре из нихнайдены в кв. Г/1, Б/8, Е/4, один – в кв. Ж’/8, ещеодин – в кв. Л/2 (рис. 97, 1, 4, 6-7, 9, 12). Во всехслучаях узор выполнялся прокатом зубчатого ин-струмента. Форма зубчиков квадратная или под-прямоугольная,размер разный, но в основном до-вольно мелкий. Линии зигзага прямые или слег-ка изогнутые. Все фрагменты близки и по техно-логическим характеристикам. Поверхности у нихснаружи сохраняют остатки тонкой коричневатой
Рис. 96. Гончарка-1. Раскоп 4.Фрагмент керамики из
кв. И/11 (1) и его шлиф (2)
Рис. 97. Гончарка-1. Раскопы 1-4.Фрагменты керамики с гребенчатыми оттисками.
1 – кв. Б/8; 2 – кв. Б/6; 3, 10, 13 – кв. В/6; 4, 12 – кв. Г/1;5 – кв. В’/8; 6 – Е/4; 7 – кв. Ж’/8; 8 – кв. Б/14;
9 – кв. Л/2; 11 – кв. У/10; 12 – кв. Г/1; 13 – кв. В/6
1
3
2
6
54
7 8
10
9
1112
13
168
или красноватой обмазки, внутри – следы гребен-чатой обработки в виде параллельных трас-желоб-ков. В тесте минеральная примесь и шамот крас-ного или коричневато-белесого цвета. Толщинастенок 0,8-1 см. Не исключено, что фрагмент изкв. Б/8 принадлежит сосуду из кв. А-Б/5-6.
В кв. У/4 найден обломок стенки с двумя зве-ньями зигзага. Узор сохранился очень плохо. Вы-полнен, по-видимому, прокатом гребенчатого ин-струмента с мелкими зубчиками, линии зигзагаизогнутые (рис. 98). Толщина стенок 0,9 см. На-ружная поверхность покрыта толстым слоем крас-новатой обмазки, внутренняя – с землистой пати-ной. Примесь практически не ощущается, визуаль-но заметно лишь несколько крупных зерен ярко-красного шамота 1-го вида и породных обломков.Излом темно-серый с зеленоватыми оттенками. Вэтом же квадрате и по соседству было найдено ещенесколько неорнаментированных обломков того жесосуда. Два из них взяты для петрографическогоанализа (089-07, 089-08).
Первый образец был изготовлен из глины, со-держащей около 10% алевритистой примеси ипримерно 10-15% песка. В двух шлифах этого об-разца отмечен очень резкий переход алевритис-той фракции в песчаную, размер зерен последнейварьирует от 0,2 до 5 мм, преобладающая фракция0,5-1 мм, форма зерен угловатая и округленная. Всоставе песка кварц, кремни, слюдистые сланцы,полевые шпаты, шамот и рудные минералы. Ша-мот представлен полупрозрачными или непрозрач-ными зернами округленных очертаний, количе-ство в шлифе не более 3%. По текстурным харак-теристикам шамот и породные обломки не отли-чаются. Рудные минералы единичны, размер ок-ругленных зерен до 0,3 мм. По уверенному заклю-чению петрографа, примесь песка искуственная.На обеих поверхностях данного сосуда в шлифахзафиксированы остатки ангоба из глины с повы-шенным содержанием алеврита (рис. 98). С однойстороны его толщина 0,1-0,3 мм, с другой – сохра-нились только его реликты.
Второй образец был изготовлен из глины, со-держащей 5-10% алевритистой примеси. В одномшлифе зафиксировано присутствие около 5% пес-ка, в другом – 5-10%. Переход алевритистой фрак-ции в песчаную резкий. Песок представлен пород-ными обломками, шамотом и рудными минерала-ми. Среди первых идентифицированы кварцит,кварц, слюдистые сланцы. Форма их преимуще-ственно угловатая, размер от 0,5 до 1,5 мм, преоб-ладают зерна с размером 1-1,5 мм. Шамот пред-ставлен непрозрачными или полупрозрачнымиокругленными зернами того же текстурного стан-дарта, его объем – около трети от общего объемапесчаной фракции. Рудные минералы единичныес размером округленных зерен до 0,3 мм. Проис-хождение песка предположительно определенокак искуственное.
Как видно, два образца отличаются друг от дру-га главным образом показателями удельного весанепластичной фракции, а также ее текстурнымихарактеристиками, чуть различается и соотноше-ние породных обломков и шамота. По-видимому,можно предположить, что тесто было неравномер-но промешано. В то же время следует помнить, чторазница в определениях может быть связана с ихнеточностью, вызванной маленьким объемом пес-ка в целом.
На остальных обломках этой группы зафикси-рованы гребенчатые оттиски, сгруппированные водну или две линии.
Венчик сосуда из кв. В/6 представлен неболь-шим обломком, в профиле прямой, обрез плоский,скошен внутрь, снаружи небольшой наплыв, в 0,5-0,6 см ниже кромки сквозное отверстие диамет-ром 0,4 см, проколото снаружи, чуть ниже отвер-стия четкие отпечатки трех подпрямоугольныхзубчиков гребенки, вытянутых в одну наклоннуюлинию, толщина стенки 0,6 см (рис. 97, 3).
От венчика из кв. В’/8 сохранился небольшойобломок, в профиле прямой, обрез плоский, чутьскошен внутрь, снаружи небольшой наплыв, пообрезу нанесены близко расположенные глубокие
Рис. 98. Гончарка-1. Раскоп 2.Фрагмент керамики от сосуда
из кв.У/4 (1) и его шлиф (2)1
2
169
округленные оттиски, в 1 см ниже кромки – сквоз-ное отверстие, проколотое снаружи, чуть ниже рас-положены едва различимые отпечатки гребенки,скорее их следы, вытянутые в одну слабо накло-ненную линию, форма их точно не восстанавлива-ется, толщина стенки 0,7 см (рис. 97, 5).
На фрагменте тулова из кв. Б/14 сохранилисьдовольно четкие подквадратные отпечатки, кото-рые были вытянуты в две, по-видимому, параллель-ные линии, отстоящие друг от друга на 2-2,5 см.Ориентация этих линий относительно горизон-тальной оси сосуда была предположительно на-клонной. Толщина стенки 1 см (рис. 97, 8).
Несколько совсем маленьких обломков былонайдено в кв. Ж/6, 10, Б/6, Г/1, В/3, 6, Ж’/8, В/13. Они ничем не отличаются от предыдущих,только меньше по размерам. Следует остановить-ся только на фрагменте из кв. Б/6. Он интересентем, что на нем помимо нескольких гребенчатыхоттисков, выстроенных в одну линию, на соседнемучастке были зафиксированы следы идущих поднаклоном к этой линии гребенчатых трас. Это един-ственный образец, сочетающий на поверхности де-коративный орнамент и остатки технической об-работки.
Особенность всех перечисленных обломков втом, что узор на них был выполнен твердым гре-бенчатым инструментом. В тех случаях, когда этоопределялось достоверно, его зубцы были подпря-моугольными. Композиции и мотивы узоров в дан-ном случае не реконструируются. Не исключено,что они представляют собой обрывки вертикаль-ного зигзага. С этой точки зрения показательно,что, во-первых, все они по особенностям узораблизки к фрагментам с вертикальным зигзагом, аво-вторых, большая их часть найдена в пределахраскопа 1, т.е. там же, где и большая часть облом-ков с вертикальным зигзагом.
Следующая группа разрозненных обломков ха-рактеризуется наличием на поверхностях оттис-ков, которые, скорее всего, были нанесены в е р е -в о ч н ы м и н с т р у м е н т о м . На это, с нашейточки зрения, указывает несколько признаков. Во-первых, общий характер рисунка определенно сви-детельствует об использовании зубчатого орудия.Во-вторых, оттиски «зубчиков» ориентированыдлинной стороной поперек рабочего края инстру-мента. Это значит, что орудие имело достаточноширокий торец (не менее 0,5), что не совсем типич-но для гребенчатых инструментов. В-третьих, мно-гие из отпечатков имели мягкий подовальный аб-рис и некоторую нечеткость краев, короткие сто-роны их вообще могли не пропечатываться. Всевместе наводит на мысль, что в данном случае вкачестве инструмента могла использоваться неклассическая твердая гребенка (ее зубцы оставля-ли бы оттиски с более резкими и четкими грани-цами), а стэк, обмотанный веревкой.
Кроме того, надо заметить, что почти во всех
случаях с таким узором в рисунке отсутствует ком-позиционная ясность. Как правило, на поверхно-сти фиксируются остатки нескольких близко рас-положенных рядов оттисков, иногда они даже на-кладываются друг на друга.
На одном из фрагментов дна из кв. Б/7, найден-ного у самого материка, на внешней стороне отчет-ливо просматривается участок с таким рисунком,состоящим из трех параллельных и вплотную другк другу примыкающих рядов удлиненно-овальныхоттисков (рис. 99, 5). На остальной части поверх-ности их нет, но при определенном повороте осве-щения и там просматриваются аналогичные отпе-чатки отдельных оттисков. Абсолютно такой жерисунок сохранился на еще одном маленьком об-ломке этого же дна. Здесь также не очень отчетли-во и только на одном участке видны три ряда уд-линенно-овальных отпечатков – по несколько вкаждом. Надо отметить, что первоначально былосделано предположение, что на фрагментах дна изкв. Б/7 сохранились оттиски плетения. Но при де-тальном их изучении, в том числе с помощью мик-роскопа, выяснилось, что никаких специфичныхпризнаков именно плетения, для которого харак-терны определенная повторяемость, регулярностьрисунка или признаки пересечения отдельных егоэлементов, на них нет.
Здесь же должны быть отмечены несколькофрагментов стенок от сосуда из кв. З/8. На одномиз них у самого края виден один ряд из шести ха-рактерных отпечатков. На другом под разнымиуглами освещения виден разный рисунок. Ниж-ний слой составляют плохо сохранившиеся остат-ки зигзагообразного рисунка, похожего на оттис-ки какой-то рельефной фактуры (рис. 99, 2). Пря-мо поверх него при повороте фрагмента отчетливоразличим ряд удлиненно-овальных отпечатков. Содного края просматриваются остатки типичныхдля комплекса гребенчатых трас. На остальных об-ломках этого сосуда заметна характерная неров-ность наружной поверхность как-будто от затер-того тисненого узора. Сам сосуд по качеству оченьблизок сосуду из скопления в кв. Ж/5. Он мелко-текстурный, оранжевато-желтого цвета, толщинастенок 0,6-0,7 см, видимых следов обмазки нет.
Серия фрагментов, принадлежащих одному со-суду, была найдена в кв. В’/5, 3. От него сохрани-лось два венчика, две орнаментированные стенкии несколько гладких стенок. Профиль венчика наодном обломке прямой, обрез слегка скошенвнутрь, по нему нанесены оттиски пальцев, в 2 смниже кромки – сквозное отверстие диаметром0,5 см. Никакого узора на стенках на нем не было.На другом обломке венчик в профиле чуть отогнутнаружу, уплощен, на обрезе оттиск пальца, чутьниже кромки – едва различимые удлиненно-оваль-ные отпечатки, вытянутые в две наклонные ли-нии, отстоящие друг от друга на 2 см (рис. 99, 1).
Показателен узор на одном из обломков туло-
Рис. 99. Гончарка-1.Фрагменты керамики с веревочными (?) оттисками.
1 – кв. В’/5, 3; 2 – кв. З/8; 3 – кв. У/1; 4 – кв. Т/5; 5 – кв. Б/7;6-7 – кв. О/12, заполнение криогенных клиньев (раскопки 2001 г.)
1
3
2
6
54
7
171
ва. Здесь сохранились две наклонные и почти па-раллельные линии удлиненно-овальных оттисков.Последние отличались друг от друга длиной и об-щим контуром: в одном ряду сначала располага-лись два одинаковых коротких оттиска, затем двадлинных, расстояния между ними при этом былиразными, во втором ряду оттиски были короче, чемв первом. Эти наблюдения подтверждают нашепредположение о веревочном характере инструмен-та, т.к. объясняют такие вариации в размерах от-тисков и расстоянии между ними. Абрис наиболеедлинных оттисков позволяет также сделать пред-положение, что на при изготовлении этого сосудаинструмент не только придавливали к поверхнос-ти, но и чуть протягивали по ней.
Толщина стенок данного сосуда 0,7 см, цветпреимущественно серый, обмазка на поверхностяхсохранилась только частично в виде тонкого ко-ричневато-красноватого слоя, примесь необиль-ная, видны минеральные включения, а также зер-на красного шамота, в том числе крупные.
Серия обломков с оттисками веревочного инст-румента найдена в раскопе 2. Наиболее интересныобломки одного сосуда из кв. Т/5. Он отличалсятемными тонами, обе его поверхности темно-ко-ричневые, излом темно-серый, примесь не обиль-ная. На одном из обломков на плохо сохранившей-ся внутренней поверхности зафиксированы отпе-чатки травы. Толщина стенок 0,6-0,7 см.
Сохранился венчик этого сосуда, он прямой впрофиле, с плоским обрезом (рис. 99, 4). Чуть нижекромки располагались два отверстия, одно сквоз-ное. Вся наружная поверхность фрагмента покры-та неясными отпечатками, причем по их располо-жению, «обтекающему» отверстия, можно предпо-ложить, что они наносились уже после прокалы-вания последних. Несмотря на общую аморфностьоттисков на отдельных участках среди них про-сматривались разнонаправленные ряды, состоя-щие из двух-трех или нескольких близко располо-женных удлиненных оттисков, ориентированныхпоперек рабочего края инструмента. На одном изучастков отчетливо видно, как наиболее ясные от-тиски располагались прямо поверх других, совсемневнятных.
Интересны оттиски на обрезе венчика. Какобычно, здесь располагались крупные наклонныеовальные вдавления, а сверху тем же инструмен-том, которым оформлялась наружная поверхностьсосуда, были нанесены короткие протаскивания.Внутри овальных вдавлений отпечатки инстру-мента были очень отчетливые и хорошо заметна ихвнутренняя структура в виде мелких овальныхячеек, оставшихся от перевитой веревки.
Фрагменты тулова еще одного сосуда были най-дены в кв. У/1 . Он отличался равномерным серымцветом, чуть более темным внутри, толщина егостенок не более 0,6-0,7 см. Определить, какая изповерхностей внутренняя, какая наружная, невоз-
можно. Обе неровные, со следами невнятных плот-ных оттисков, большей частью затертых, среди ко-торых иногда просматриваются удлиненные отпе-чатки (рис. 99, 3). На одном из обломков рисунокболее отчетливый. На одной его поверхности рас-полагались двумя колонками типичные для этогопамятника гребенчатые трасы, они были нанесе-ны по дугообразной траектории. На другой сохра-нились два слегка наклонных ряда удлиненных от-тисков, похожих на следы коротких протаскива-ний, для них были также характерны неодинако-вый абрис и разная длина.
Один из фрагментов этого сосуда был взят дляпетрографического анализа (085). Внешне примесьв нем фиксировалась только в виде эпизодическихвключений, в том числе были заметны и отдель-ные зерна красного шамота средних размеров.Согласно петрографическим определениям, онимеет в своем составе около 10% алевритистойпримеси и лишь 5% песка. В шлифе отмечаетсярезкий размерный переход от алевритистой фрак-ции к песчаной. Размер породных обломков варьи-рует в пределах 0,5-1 мм, форма их неправильная,с округленными ограничениями, состав – кремни,слюдистые сланцы. Шамот представлен единич-ными зернами неправильной формы с округленны-ми ограничениями, размеры их 2-3 мм. Помимоэтого в шлифе видны единичные частицы рудныхминералов и немногочисленные углефицирован-ные растительные остатки.
По заключению петрографа, песок имеет пред-положительно искусственное происхождение. Ис-ходя из общих соображений, касающихся разме-ра шамота и породных обломков, качественного со-става последних, можно сказать, что сосуд этотбыл изготовлен из глины с небольшим количе-ством отощителя, состоявшего из шамота, травыи, скорее всего, породных обломков.
Несколько фрагментов из коллекции Гончаркиневозможно отнести к какой-либо группе, декорих представлен единичными обломками.
Один из них найден в кв. У/10. Он серого цве-та, с минеральной примесью, в основном среднегоразмера. На его наружной поверхности видны от-печатки растительных волокон, перекрывающиеоттиски узора в виде плотных рядов квадратныхгребенчатых отпечатков (рис. 97, 11).
Еще один обломок найден в кв. В’/5. Состав те-ста грубый, среди примесей фиксируется разнораз-мерный шамот красновато-коричневого цвета.Внутренняя поверхность не сохранилась, наруж-ная ровная, со следами обмазки или ангоба. В из-ломе на одном участке прослеживается уходящийвглубь оттиск полосчатой структуры – травы. Узорпредставлял собой «шагающие» оттиски гладко-го инструмента с округлым (дугообразным) рабо-чим краем. Наши эксперименты показали, чтотолько такой инструмент при «шагании» оставля-ет четкие угловые оттиски и не оставляет совсем
172
следов в средней части «шага», т.е. именно те при-знаки, которые характеризуют узор на данном об-ломке (рис.100).
Следующий фрагмент происходит из кв. Е/12.Это обломок тулова с остатками красноватой об-мазки на наружной поверхности, сам черепок тем-но-серый, тонкотекстурный. Узор сохранилсяфрагментарно. Видны плотные ряды удлиненныхоттисков, ориентированных поперек рабочегокрая инструмента. В некоторых довольно отчетли-во просматривается по три узких овальных ячей-ки – от скрученной веревки.
Разрозненные фрагменты, не имеющие декора,можно систематизировать только по некоторымобщим характеристикам, таким, как состав сырья,цвет, толщина стенок, обработка поверхности ит.п. И здесь надо сказать, что они повторяют ос-новные особенности керамики из скоплений.Часть их по внешним показателям может бытьсоотнесена с сосудами из скоплений в кв. В/9 иЖ/5. Для них типичны толстые – 0,9-1,1 см – стен-ки, незаметная в изломах и на поверхностях при-месь, мягкий черепок, отдельные крупные вклю-чения шамота, толстый красноватый слой ангобана наружной поверхности, отсутствие декора, тра-сы. Они встречаются во всех раскопах, но чащевсего в раскопах 1-2. Два обломка такого типа изчисла разрозненных находок были проанализиро-ваны с помощью петрографического метода.
Один из них происходит из кв. Л/7 (104), внеш-не он был очень похож на на керамику из скопле-ния в кв. Ж/5, но отличался отсутствием трас икрасноватым цветом наружной поверхности. При-месь в нем мелкая. На наружной поверхности мно-го мелких пятен красновато-малинового цвета,возможно, это остатки красящего охристого пиг-мента. По данным петрографии, сосуд был изго-товлен из глины, содержащей около 10% алеври-тистой примеси и примерно 30% песка. Песок вшлифе распределен равномерно, размер зерен пре-обладающей фракции 0,5 мм, отдельные доходи-ли до 3 мм. Состав песка – кварцит, роговики,кремни. Помимо породных обломков в шлифе за-фиксированы до 3% рудных минералов в виде ок-ругленных частиц с размерами до 0,3 мм, а такженеидентифицированные удлиненно-линзовидныевключения размером 1-2 мм, похожие на остаткиуглефицированной органики неясного происхож-
дения. По уверенному заключению петрографа,происхождение песка искусственное.
Еще один образец найден в кв. В’/2 (086), он от-личался красновато-оранжевым цветом, на внут-ренней поверхности имел налет землистого цвета,примеси визуально не фиксировались.
В одном из шлифов помимо 10% алевритистойпримеси присутствовал также песок, но объем егоне превышал 5%. Среди его зерен, размеры кото-рых 0,1-0,3 мм, зафиксированы единичные облом-ки кварца, а остальной его объем занимали непроз-рачные частицы. Среди последних выделяются дверазмерные фракции: мелкая, с размером зерен до0,3 мм, и крупная, с размером зерен около 2 мм.Форма частиц также различалась: мелкие имелиокругленные очертания, крупные – неправиль-ные, с окатанными ограничениями. Предположи-тельно крупные зерна являются кусочками шамо-та, количественно они уступают мелкой фракции,которую можно соотнести с рудными минералами.Единичные зерна классического шамота также за-фиксированы в шлифе, они резко отличаются отосновной массы по цвету и составу.
В другом шлифе количество песка было чутьбольшим – около 10%. Все остальные показателисовпадают. На одной поверхности черепка в шли-фе зафиксирована тонкая полоска ангоба, изготов-ленного из глины, резко отличающейся от основ-ной массы по цвету и составу цемента, ее особен-ность – повышенное содержание алевритистойпримеси (не менее 30%) и полное остутствие пес-ка. Ширина слоя ангоба 1 мм. По совокупному зак-лючению, данный образец принадлежит сосуду,изготовленному из чистой глины с незначительны-ми добавками шамота.
Близок по характеристикам фрагмент из в кв.Н/6 (106). Его отличительная черта – двухслой-ность с резкой границей между слоями. Один слойчуть толще, примерно 0,5-0,6 см, серый, другойтоньше, около 0,3-0,4 см, темно-серый, почти чер-ный. В шлифе определено около 10% алевритис-той примеси и 15-20% песка, представленного об-ломками кварца, кремня, кварцита, реже встре-чаются полевые шпаты, граниты, сланцы, турма-лин, рудные минералы. Преимущественный размерзерен 0,2-0,3 мм, единичных зерен – около 3 мм.Переход от алевритистой фракции к мелкой фрак-ции песка постепенный, между последней и круп-ными зернами – очень резкий. Шамот отсутству-ет. По заключению петрографа, сосуд изготовлениз естественно-запесоченной глины, происхожде-ние крупных зерен не устанавливается. Надо от-метить, что обломки этого или абсолютно идентич-ного ему сосуда, были найдены в том же квадрате взаполнении криогенного клина. Очевидно, этот об-разец представляет ранний осиповский комплекс,остатки которого сползли в мерзлотный клин приего вытаивании.
Вторая группа неорнаментированных разрозне-
Рис. 100. Гончарка-1. Раскоп 3.Фрагмент керамики из кв. В’/5
173
ных обломков повторяет характеристики сосуда изразвала в кв. Д’/4-5, т.е. имеет очень обильную раз-нозернистую примесь, в том числе очень крупную.В основном такие черепки найдены в пределах рас-копов 3 и 4, отдельные фрагменты – в раскопе 1. Вцелом можно отметить, что для данной группыобразцов типична очень плохая сохранность по-верхностей, а также среди них намного чаще встре-чаются отпечатки растительной органики, но воз-можно, это лишь результат плохой сохранностиобмазки на поверхностях.
Последняя группа разрозненных обломков по-вторяет специфичные черты керамики, украшен-ной гребенчатыми и веревочными оттисками. Дляних характерны более тонкие стенки – до 0,8 см,более темные тона коричневато-серой гаммы, тон-кий слой обмазки, как правило, плохой сохранно-сти, наличие в составе немногочисленной приме-си породных обломков и шамота, обычно красно-го цвета. Размеры зерен примеси разные, но в це-лом намного менее грубые, чем в керамике преды-дущей группы.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСИПОВСКОЙ КЕРАМИКИ
Сырье и формовочные массы
Согласно современным представлениям состав-ление формовочных масс является важнейшимзвеном всего технологического процесса по произ-водству керамической посуды. Именно на этой егостадии обеспечивается успешное преодоление всехпоследующих технических трудностей, возника-ющих при формовке изделий, их сушке, обжиге иэксплуатации. Наши материалы говорят о том, чтопервые гончары Приамурья также относились кподготовке формовочных масс с большим внима-нием и придерживались в этой сфере определен-ных стереотипов.
Возможности для реконструкции исходныххарактеристик глин по обожженным образцам ар-хеологической керамики, как известно, довольноограничены [Глушков и др. 1999: 155; Жущиховс-кая, Залищак 1986; Ламина и др. 1995: 51-60;Глушков 1996: 17-20]. Однако даже исходя из име-ющихся данных можно заключить, что осиповски-ми мастерами использовались глины, происходя-щие из разных источников. На это прямо указы-вают данные петрографии. Они позволяют гово-рить как минимум о трех видах глин, использовав-шихся при производстве осиповской посуды.
Во-первых, это полиминеральные глины, изкоторых была изготовлена основная часть осипов-ских сосудов. Скорее всего, эти глины добывалисьиз разных источников, но доказать это возможнотолько путем проведения специальных исследова-ний. В дифрактограммах осиповской керамикификсируются рефлексы не полностью аморфизи-рованных глинистых минералов – смектита, као-линит-хлоритовой структуры и слюды. Абсолютноаналогичную картину показали и образцы глин,взятые нами для анализа из нескольких источни-ков вокруг поселения Гончарка-1, в том числе изнижней части его культурного слоя.
Во-вторых, особую глину, как правило, исполь-зовали осиповские мастера для приготовления ан-гоба. Ее отличительные характеристики – повы-шенное содержание алевритистой примеси, воз-можно, в сочетании с повышенным содержанием
железа. В этой глине, кроме того, полностью от-сутствовал песок, хотя это могло быть результатомнаправленных усилий гончаров.
В-третьих, особым видом сырья были глины,образовавшиеся на коре выветривания из породвулканического происхождения. Один сосуд – изкв. В/9 – был полностью изготовлен из такой гли-ны, в других она неоднократно фиксировалась ввиде шамотной примеси. Следует отметить, что внепосредственной близости от места стоянки Гон-чарка-1 такая глина отсутствует. Ее источники мо-гут находиться только на склонах Хехцирскогохребта. Свойства этой глины как сырья для кера-мического производства неизвестны, объяснить,зачем требовалось регулярно использовать этот до-вольно необычный вид сырья, мы также не можем.Однако подчеркнем, что он встречается в керамикевсех осиповских памятников, исследованных нами.
Одной из отличительных особенностей осипов-ской керамики можно считать почти обязательноеприсутствие в ней различных искусственных до-бавок. Судя по материалам коллекции, эта чертабезусловно доминировала в сырьевой практикеосиповского гончарства. Придерживались посто-янства осиповские мастера и в выборе отощающихдобавок, в их качестве обычно выступали облом-ки горных пород, шамот и трава.
Набор компонетов показывает, что основнойзадачей гончаров при подготовке формовочныхмасс было уменьшение их пластичности и борьбас усадкой и растрескиванием изделий в ходе суш-ки и обжига. Это значит, что сами по себе глины,используемые в осиповском гончарстве, были до-статочно пластичными, как и основная масса глинПриамурья [Жущиховская 2004: 73].
Конкретные рецептуры формовочных масс ре-конструируются с трудом. В этом отношении в оси-повской керамике Гончарки фиксируется доволь-но мозаичная и полиморфная картина: от сосуда ксосуду варьируют и состав компонентов, и их гра-нулометрические характеристики, и их объемноесоотношение. В результате, определить, какие изкомпозиций представляют собой устойчивые ре-цептуры, практически невозможно.
174
В качестве исходного сырья могла браться какчистая глина с содержанием естественных вклю-чений песка не более 5%, так и запесоченная гли-на с содержанием песка в пределах 10-20%. В чис-тую глину могли добавлять от 3-5% (Погр., Е/15)до 10% (Ж’/10, Ж/5, В’/2) в основном мелкотек-стурного шамота или от 5 до 15% смеси обломковгорных пород и небольшого количества шамота(Ф/5, У/4, У/1), представленных двумя размерны-ми фракциями – мелкотекстурной (породные об-ломки) и средне- и крупнотекстурной (породныеобломки и шамот). В запесоченную глину моглидобавлять не более 5% шамота среднего и крупно-го размера (Ж/5, Д’/4, Н/6, Н/7, Д/8). В итоге по-лучались слабоотощенные тонкотекстурные фор-мовочные массы с незначительными добавкамикрупных зерен породных обломков и шамота. В ихсостав могли также вводить небольшое количествоизмельченной травы.
Другая группа сосудов изготавливалась из фор-мовочных масс, в которых объем отощителя со-ставлял уже от 20 до 30%. Основной отощающейдобавкой в данном случае служили обломки гор-ных пород. Возможно, какое-то их количество из-начально присутствовало в глинах, но основнаячасть, по данным петрографии, вводилась наме-ренно. В то же время их текстурные характерис-тики варьировали от сосуда к сосуду. Это моглабыть мелкая фракция с незначительными добав-ками среднегрубых зерен (Л/7), либо могли вво-диться сразу две фракции, одна из которых мел-кая, а другая крупная и очень крупная (Д’/4-5, И’/2, И/11). В состав формовочных масс данного типамогли добавлять траву и шамот, объем их не пре-вышал нескольких процентов площади шлифов,а по данным визуальных наблюдений они былипредставлены единичными включениями.
Таким образом, мы видим, что формовочныемассы осиповских сосудов распадаются на двегруппы – слабо отощенные и хорошо отощенные.По набору компонентов обе группы идентичны, нов первой фиксируется довольно пестрая картина сточки зрения конкретного состава отощителя. Вкачестве основного отощающего компонента здесьмогли использоваться шамот, естественные вклю-чения песка в глине или смесь породных обломкови шамота. В хорошо отощенных формовочных мас-сах роль основной добавки играли специально вве-денные в их состав обломки горных пород. Совпа-дает в двух группах и принцип подготовки отощи-теля, предполагающий присутствие в нем как мел-кой, так и крупной фракции. Но хорошо отощен-ные массы одновременно отличались и заметнобольшей грубостью текстуры.
Большой интерес вызывают слабоотощенныеформовочные массы. Согласно современным пред-ставлениям, наиболее оптимальным удельным ве-сом песка признается цифра в 20-50%. Именно при
таком его объеме достигается максимальный эф-фект [Rye 1981: 49]. В ходе экспериментов по про-изводству посуды из глин южной части ДальнегоВостока наиболее целесообразным был также при-знан объем отощителя в 30-40%. Такое его коли-чество фиксируется здесь и в археологической ке-рамике начиная с периода раннего неолита [Жу-щиховская 2004: 84]. В свете этих данных вполнеестественно возникает вопрос о причинах изготов-ления осиповскими мастерами таких малоэффек-тивных формовочных масс.
С одной стороны, это могло быть следствием ихеще недостаточных знаний о наиболее оптималь-ном количественном соотношении глины и песка.Это вполне вероятно, т.к., судя по всему, отмечен-ная особенность отражает раннюю стадию суще-ствования осиповской керамической традиции(она характерна либо для керамики из заполнениякриогенных жил, либо для разрозненной керами-ки горизонта 3Б). С другой стороны, это могло бытьследствием специфики технических задач, стояв-ших перед осиповскими мастерами. Так, по дан-ным И.Г. Глушкова, малое количество неоргани-ческих добавок (до 10%) вообще не влияет на пла-стические свойства формовочных масс и можетбыть направлено на решение других задач, напри-мер, связанных с усилением огнестойкости изде-лий [1996: 21]. Однако определить точно, какуюконкретно задачу решали осиповские гончары, ис-пользуя слабоотощенные формовочные массы,пока не представляется возможным.
Для понимания особенностей осиповскогогончарства небезынтересно обратить внимание наклиматические условия, в которых проходило егостановление. По имеющимся палеоклиматическимреконструкциям, время существования осиповс-кой культуры хотя и было отмечено общим потеп-лением климата и соответствующими изменения-ми ландшафта и среды в целом, но все же это былеще очень холодный период. Средние температу-ры наиболее жарких месяцев – июля и августа –варьировали между 10 и 15 °С [Короткий 2005].Это, безусловно, оказывало свое влияние, т.к. гли-на и процесс производства керамических сосудовочень чувствительны к климатическим условиям[Arnold 1985].
Согласно экспериментальным данным И.С.Жущиховской, при падении температуры возду-ха ниже 15-16 °С глина теряет свою пластичность,и гончарам приходится прикладывать усилия дляработы с ней [2004]. Понижение температуры так-же оказывает существенное влияние на процесссушки и обжига готовых изделий, увеличиваяриск брака. Таким образом, с точки зрения кли-матических условий осиповское гончарство нахо-дилось, видимо, в довольно экстремальной зоне.
Интересно, что для керамических традиций,существовавших в аналогичных климатических
175
условиях, например на Северо-Востоке Азии илив арктических районах Северной Америки, зафик-сирована такая общая черта, как использованиегрубозернистого минерального отощителя, удель-ный вес которого в составе формовочных массобычно составлял 30-40%. Грубозернистость при-меси, по мнению исследователей, в данном случаеспособствовала оптимизации процесса сушки из-делий, что и ценилось в условиях дождливого и хо-лодного лета [Жущиховская 2004; Понкратова2005; Ponkratova 2005; 2008].
Если сравнивать эти данные с рецептурой оси-повских сосудов, изготовленных из слабоотощен-ных формовочных масс, то становится очевидным,что общего здесь мало. Текстура примеси такихсосудов как раз отличалась обратными характери-стиками, средний размер отощителя 0,5-1,5 мм,более крупные зерна обычно варьировали в преде-лах 2-5 мм, но это была малочисленная фракция.А вот сосуды с большим удельным весом отощите-ля, напротив, отличались грубой текстурой и вэтом отношении сближались с образцами посудысеверных народов.
Все эти данные, по-видимому, свидетельствуюто том, что использование слабоотощенных глин восиповском гончарстве скорее было обусловленоотсутствием четко сформировавшихся представле-ний о наиболее оптимальных способах составленияформовочных масс. И не случайно в наиболее по-здних экземплярах осиповской посуды мы фикси-руем изменения как раз в сторону таких оптималь-ных рецептур. В то же время надо отметить, что,несмотря на отсутствие таких знаний, текстурныехарактеристики отощающих добавок и их возмож-ности осознавались уже на раннем этапе развитияосиповской культуры вполне отчетливо.
Например, такой факт, как обязательное при-сутствие в составе отощающей примеси крупныхчастиц, отражает вполне сознательное стремлениеосиповских гончаров к решению задач, направлен-ных на борьбу с излишней усадкой и растрескива-нием готовых изделий в ходе их сушки и обжига[Глушков 1996: 24]. Размер же основной фракцииотощителя, варьирующий в среднем от 0,5 до 1-1,5-3 мм, также был уже вполне оптимальным. По дан-ным A.O. Shepard, возможные пределы варьирова-ния минерального отощителя в формовочной мас-се для ручной лепки керамической посуды – от 0,2-0,3 до 4-5 мм [1965: 117-121]. По данным И.С. Жу-щиховской, в древнем гончарстве юга ДальнегоВостока России размеры зерен отощителя варьи-ровали в пределах 0,5-3 мм [2004: 87].
Несколько слов хотелось бы сказать в отноше-нии травы и шамота. За исключением отдельныхслучаев, когда шамот служил основным отощаю-щим компонентом, они вводились в состав формо-вочных масс в минимальных количествах и поэто-му могли иметь только какую-то дополнительную
функцию. Техническая целесообразность их вве-дения в глину остается совершенно не ясной.
Трава, как известно, может использоваться вгончарстве как порообразующая или армирую-щая добавка, но данные о том, какое ее количе-ство должно для этого вводиться в формовочнуюмассу, нам не известны. Присутствие травы, как идругих органических добавок, выгорающих в про-цессе обжига, могло способствовать также пони-жению температуры спекания глиняной массы. Ноусловия, при которых мог достигаться подобныйэффект, до конца не понятны, а потому сложно наэтой основе строить какие-то выводы. Например,не ясно, какое количество травы достаточно длядостижения этого эффекта или при какой темпе-ратуре она начинает играть такую свою роль [ср.,напр.: Ламина и др. 1995: 8-16 и Глушков 1996:24]. Кроме того, непонятно, в каждом ли случаеданный эффект осознавался мастерами.
Функции шамота в целом те же, что и у мине-рального отощителя. Исследователи даже счита-ют, что одновременное использование их какфункционально дублирующих добавок указываетна смешение разнокультурных традиций состав-ления формовочных масс [Глушков 1996; Мыль-никова 1999]. На этом фоне добавки небольшойфракции шамота в осиповскую керамику, уже хо-рошо отощенную породными обломками (втораягруппа формовочных масс), вызывают большое не-доумение. Ни о каких смешениях разнокультур-ного населения в данном случае говорить не при-ходится, как и об особом техническом предназна-чении шамотных добавок, которые к тому же былинизкотемпературными и не отличались размера-ми от породных обломков.
Не исключено, что объяснение этому фактуможет быть найдено вне сферы его функциональ-ной обусловленности. В этом отношении небезын-тересны следующие наблюдения. Обычно в осипов-ских рецептурах в качестве основного наполните-ля формовочных масс использовались либо шамот,либо породные обломки, независимо от их проис-хождения. Это говорит о том, что их дублирующиесвойства, по-видимому, уже вполне осознавалисьмастерами. Если же фиксируется смешение двухдобавок, то в этом случае шамот уже всегда пред-ставлен малочисленной и малозначимой с техно-логической точки зрения фракцией.
Если наши выводы относительно микрохроно-логии осиповского комплекса поселения Гончар-ка-1 верны, то тогда получается, что формовочныемассы, хорошо отощенные минеральными приме-сями, приходят на смену слабоотощенным и до-вольно мозаичным по рецептурам, среди которыходна была основана только на использовании ша-мота. В этой связи можно сделать предположение,что в более развитые рецептуры шамот мог войтикак элемент архаики или дань традиции.
176
Рис. 101. Гончарка-1. Контур наружныхи внутренних поверхностей осиповских черепков
Формовка
Все исследователи, которые затрагивали пробле-му реконструкции приемов формовки древнейшейкерамической посуды Дальнего Востока, придер-живались мнения об ее изготовлении путем набив-ки лоскутков глины на шаблон [Жущиховская2004; Медведев 2008 а, б]. Об этом, с их точки зре-ния, свидетельствовали отпечатки плетеных фак-тур на отдельных черепках, отсутствие следов спаялент или жгутов, а также слоистость керамики.
Использование шаблона действительно пред-ставляет собой очень простой и удобный способизготовления сосудов. Считается, что именно сним были связаны древнейшие этапы развития ке-рамического производства. Главное его достоин-ство состоит в том, что он позволяет существенноэкономить время и силы мастеров. В относитель-но холодных климатических условиях это было,по-видимому, особенно актуально [Жущиховская2004; Понкратова 2005; Ponkratova 2005; 2008].Однако надо отметить, что доказать использованиешаблона бывает очень непросто.
В качестве прямых доказательств обычно рас-сматривают отпечатки самого шаблона (или про-кладки) на стенках сосудов, в качестве косвен-ных – признаки лоскутной техники, выбивки ислоистость черепка. Обычно исследователи опира-ются на комплекс признаков, но сложность здесьсостоит в том, что связь косвенных показателейименно с шаблонным способом формовки нестро-гая. Поэтому в каждом случае приходится выст-раивать индивидуальную систему доказательств.
Рассмотрим последовательно все характеристи-ки осиповской посуды, имеющие отношение к ре-конструкции способов ее формовки.
Толщина стенок
Одной из особенностей осиповской посуды мож-но считать ровную толщину стенок. Она варьиро-вала от 0,7 до 1,1 см, но при этом всегда выдержи-валась в строго заданных пределах как вдоль вер-тикальной оси сосудов, так и вдоль их окружнос-ти. Данный признак плохо соотносится с формов-кой сосудов путем набивки лоскутков глины нашаблон [Глушков 1996: 43] и может указывать нато, что в процессе формовки или сразу после неестенки сосудов выравнивались специальными ин-струментами путем перегонки глины с одних уча-стков на другие [Rye 1981: 67].
Лента, жгут, лоскут
Наиболее отчетливо дифференцировать ленту,жгут и лоскут можно при изучении следов рассло-ения сосудов по местам их спая. Но такая возмож-ность выпадает далеко не всегда, и на помощь ар-хеологам приходят косвенные показатели: геомет-рия излома, рельеф поверхности, особенности те-чения глины и т.п. Для получения достоверныхвыводов на основе их анализа необходим, однако,
большой опыт, который приобретается только придлительном и специально направленном изучениикерамической посуды. Ошибиться здесь очень лег-ко, особенно если речь идет о мелкофрагментиро-ванных коллекциях.
Осиповская посуда Гончарки, к сожалению,представляет собой пример, когда все отмеченныесложности представлены сразу вместе. Случаи,когда на ее фрагментах сохранились следы спая,буквально единичны, а их маленький размер, какправило, не позволяет надежно идентифициро-вать, с чем мы в данном случае имеем дело – с лен-тами, жгутами или лоскутами.
Так, на одной из стенок из кв. З/15 сохранил-ся, по-видимому, негатив лоскута. На керамике изкв. Д’-Г’/4-5 зафиксировано несколько случаевкрепления внахлест плохо расформованных жгу-тов или лоскутов (рис. 87, 1, 3, 5). Интересен так-же фрагмент из этих же квадратов с легким пере-гибом контура стенки (рис. 88). В вертикальномизломе на месте перегиба у него фиксировалось не-большое утолщение. На наружной поверхноститакже имелось утолщение шириной около 1,5-2см, оно тянулось вдоль окружности по всей шири-не обломка, свидетельствуя о наложении здесьдвух плохо расформованных жгутов. Это класси-ческий пример соединения сосуда из двух частей[Глушков 1996: 43]. По излому можно предполо-жить, что укрепление стыка осуществлялось в дан-ном случае изнутри сосуда.
Большой удачей для нас стало обнаружение сре-ди скопления керамики в кв. Ж/5 нескольких об-ломков со следами соединения жгутов «встык»(рис. 78, 5-7). В их горизонтальных изломах быливидны характерные«валики», причем в одном слу-чае такой «валик» тянулся не по всей длине изло-ма, как обычно бывает, а выступал «язычком»(рис. 78, 7). Логическую пару к этому последнемуфрагменту составляют два обломка от другого со-суда из скопления в кв. А-Б/5-6. В их горизонталь-ных изломах на отдельных участках, напротив,фиксировались характерные желобки-канавки.Получить такие следы можно, например, присоединении жгутов или лоскутов «встык» с разнойсилой сдавливания.
Таким образом, мы видим, что следы спая наосиповской посуде редки и указывают скорее наформовку сосудов плохо расформованными жгу-тами / лоскутами «встык» и «внахлест». При этом
177
во всех случаях, когда у нас возникало предполо-жение о том, что мы видим следы спая, длина та-ких спаев была короткой – не более 1,5 см.
Хотелось бы также отметить, что ожиданияисследователей увидеть в обломках древнейшейкерамической посуды Дальнего Востока следыклассических приемов формовки – ленточного,жгутового, лоскутного – возможно, слишком за-вышены. В финальном плейстоцене, на этапе за-рождения гончарного производства, они вполнемогли еще не дифференцироваться в сознании ипрактике мастеров. Для оформления их в самосто-ятельные технологические приемы, видимо, тре-бовалось определенное время.
Слоистость
Слоистость – действительно очень яркая чертаосиповской посуды. Однако будет правильнее ска-зать, что для нее характерна не слоистость, а двух-слойность черепка. Фиксируется она на осиповскойпосуде по-разному.
Во-первых, нередко наблюдается неодинако-вый контур внутренней и внешней поверхностейчерепков (рис. 101). Эта черта ярко контрастиру-ет с обычной керамикой дальневосточного неоли-та и наводит на мысль о конструировании сосудовпутем накладывания друг на друга двух отдельныхслоев глины. К сожалению, в литературе приво-дятся различные варианты ее интерпретации.А.А. Бобринский в своей книге приводит иллюст-рации с обломками сосудов, имеющими аналогич-ные черты [1978: 176, рис. 1-3]. С его точки зрения,это показатель расслоения стенки сосуда на отдель-ные лоскуты глины. O.S. Rye считает черепки с та-ким контуром изломов атрибутом спирально-жгу-тового способа формовки [1981: 67, fig. 49 b].
Во-вторых, несколько раз в коллекции были за-фиксированы случаи, когда одна из поверхностейсосуда сохраняла свою целостность, а другая име-ла трещины или даже разломы.
В-третьих, нечасто, но все-таки встречалисьсреди осиповской керамики фрагменты, в изломахкоторых была видна двухслойность. Иногда такиефрагменты распадались по линии соединения двухслоев глины (Н/6, погребение), иногда один из сло-ев отваливался не полностью (А-Б/5-6; Ф/4;З/8).Для всех этих случаев отмечается одна и та же за-кономерность: толщина слоев примерно одинако-ва, а линия разлома идет параллельно стенкам. Внекоторых из них удалось установить, что причи-на расслоения излома была связана с качеством са-мой керамики и условиями ее археологизации,приводившими к разрушению внутренней струк-туры черепка (рис. 87, 2). Но в других случаяхсвязь данной черты с формовкой не вызывала ни-каких сомнений (рис. 83, 3; 87, 4).
К сожалению, в настоящий момент ни собствен-ный опыт, ни исследования других специалистовне позволяют нам однозначно связать двухслой-
ность осиповской посуды с каким-то определен-ным способом формовки. Для шаблонной техни-ки характерна скорее многослойность черепков,чем их двухслойность [Бобринский 1978: 176; Жу-щиховская 1998; Васильева, Салугина 2010]. Ктому же ориентация линии соединения слоев в из-ломах в этом случае напоминает соединение лент,т.е. они длинные и направлены по косой, а на оси-повской керамике они идут параллельно стенкам.Здесь, по-видимому, требуется проведение допол-нительных изысканий.
Техническаяобработка поверхностей
Одной из специфических характеристик оси-повской посуды является сохранение на ней сле-дов технической обработки поверхностей. Онипредставлены двумя видами: во-первых, парал-лельными желобками-бороздками, полностью иличастично покрывающими стенки; во-вторых, хао-тичными оттисками предположительно веревоч-ного инструмента. Для начала рассмотрим первые.Они имели очень устойчивые характеристики.
Ложе бороздок всегда было уплощенным, края,как правило, пологие, ровные, без задиров, пере-мычки чуть уже или равны по ширине самим бо-роздкам, следов намеренного уплощения или за-тирания на них нет. Иногда рельеф поверхностейнапоминал «стиральную доску», иногда был более«плоским». Глубина бороздок не более 1 мм, ши-рина от 1 до 3 мм, чаще всего 2 мм. Оба параметравсегда строго выдерживались: на одном сосуде бо-роздки не меняли ни ширину, ни абрис. Длина бо-роздок, судя по наиболее крупным фрагментам,могла достигать 5-6 см и более.
Общая морфология бороздок и их расположе-ние на поверхностях позволяют достаточно уверен-но говорить о том, что они были оставлены твер-дым инструментом с 4-5 широко расставленнымиуплощенными зубцами [Глушков 1996: 52-62, рис.131, 119, 4]. Кинематика движений этого инстру-мента реконструируется также вполне уверенно –это было протаскивание. В отдельных случаях ономогло осуществляться по дугообразной траекто-рии, но, скорее всего, это были какие-то случай-ные отклонения руки мастера (рис. 89; 99, 3).
Остается понять, с какой целью проводилась об-работка посуды зубчатым инструментом. И.С. Жу-щиховской была высказана мысль о том, что этоделалось для уничтожения на поверхностях сосу-дов отпечатков шаблона или ударно-прессующихинструментов [2004: 46]. Однако согласиться с дан-ным предположением вряд ли возможно.
Широкозубым орудием, каким пользовалисьосиповские мастера, полностью уничтожить сле-ды каких-либо фактур, соприкасавшихся с по-верхностью сосуда, практически невозможно. Темболее если ими проводили по стенкам только од-нократно. И осиповская керамика демонстрирует
178
нам это очень четко – ни на одном из ее обломковнам не удалось выявить такие следы. Конечно,шаблон мог быть гладким, но тогда и обработкасосудов зубчатым орудием должна была служитькаким-то иным целям.
По-мнению И.Г. Глушкова, имеющего большойопыт в экспериментальном изучении сибирскойкерамики, твердые гребенчатые инструменты слу-жили для выравнивания стенок сосудов в ходе ихформовки [1996: 55-61]. Зубчатый край таких ору-дий позволял не срезать глину, а перераспределятьее излишки, пропуская их между зубцами. В под-тверждение этому можно привести сибирскую ке-рамику, у которой гребенками особенно часто об-рабатывались места спая лент, лоскутов, жгутов,т.е. участки, где требовались значительные пере-мещения глины. На осиповской посуде такая за-кономерность не фиксируется.
Рассмотрим, насколько вообще был распростра-нен в осиповском гончарстве обычай техническойобработки посуды зубчатыми орудиями. По нашимподсчетам, из двадцати двух сосудов1 только у че-тырех достоверно отмечается отсутствие гребенча-тых трас (это сосуды, украшенные налепными ва-ликами, а также сосуд из кв. В’/3-5 с узором изоттисков предположительно веревочного инстру-мента). Отсюда, по-видимому, вытекает, что вы-равнивание стенок гребенками было обычнойпрактикой осиповских мастеров.
Из имеющихся материалов следует, что обра-батываться могла вся поверхность сосудов, вклю-чая придонные стенки, само дно и даже обрез вен-чиков. Однако поступали ли так гончары в каж-дом случае, или это всякий раз зависело от каких-то конкретных обстоятельства, нам неизвестно.
Зонами обработки могли выступать как наруж-ная, так и внутренняя поверхности сосудов. Приэтом в большинстве случаев трасы встречалисьтолько на одной из них, и эта поверхность обычнобыла внутренней: здесь они и наблюдались чаще,и сохранялись лучше. Но зафиксированы такжесосуды с двумя обработанными поверхностями (кв.Ж/5, В/9 и др.)
В верхней части осиповские сосуды в 100% слу-чаев обрабатывались только изнутри. Возможно,это объясняется тем, что снаружи на этих сосудах,как правило, располагался декоративный орна-мент. При этом нам ни разу не удалось зафиксиро-вать, чтобы перед нанесением последнего эта частьсосудов предварительно обрабатывалась гребенкойс техническими целями. В противоположность кприустьевой зоне фрагменты центральной частитулова и придонных стенок могли иметь трасы-бороздки на обеих поверхностях сразу или толькона какой-то одной из них.
Расположение трас относительно вертикальнойоси сосудов реконструируется следующим обра-зом. В приустьевой части зафиксированы три ва-рианта: а) широким полем параллельно кромке
венчика; б) сначала узкое поле из наклонных бо-роздок, затем широкое поле бороздок, параллель-ных кромке венчика; в) узким полем параллельнокромке венчика, а далее вниз под наклоном. Вцентральной части тулова чаще отмечалось наклон-ное расположение трас, причем на обеих поверх-ностях. Придонные стенки крайне редки в коллек-ции, но во всех случаях трасы были ориентирова-ны на них горизонтально. Вертикальное располо-жение трас достоверно не зафиксировано ни разу.
На одном из фрагментов видно намеренное рас-положение трас-бороздок в виде горизонтальногозигзага (кв. Н/7). Определить, какую часть сосудапредставлял данный обломок, невозможно, хотяон очень крупный (рис. 76).
Где бы ни располагались трасы на осиповскойпосуде, они никогда не накладывались друг на дру-га. Это одна из самых устойчивых их характерис-тик, и она вполне определенно указывает на одно-кратность движений зубчатого инструмента поповерхности осиповских сосудов. После первогопрочеса рука мастера смещалась, рядом следовалвторой прочес, потом третий и т.д. При этом дви-жения инструмента осуществлялись главным обра-зом в одном и том же направлении, за счет чего исоздавались довольно широкие поля параллельныхдруг другу желобков. В отдельных случаях, как ужеотмечалось, трасы могли быть разнонаправленны-ми, но и здесь поля бороздок никогда не наклады-вались друг на друга.
В связи с реконструкцией приемов формовкиобращает на себя внимание горизонтальная ори-ентация трас на внутренних поверхностях приус-тьевых и придонных стенок сосудов. Аккурат-ность нанесения трас на этих участках позволяетсделать несколько предположений.
Во-первых, обработка внутренней поверхностив приустьевой части сосудов, скорее всего, осуще-ствлялась при расположении сосуда в наклонномположении (в руке, на коленях и т.п), т.к. при вер-тикальном его размещении протаскивать гребен-ку в горизонтальном направлении было бы неудоб-но, требовалось бы напрягать запястье.
Во-вторых, обработка донышек зубчатым инст-рументом, скорее всего, осуществлялся до того,как целиком собиралась вся емкость. В противномслучае было бы сложно аккуратно наносить трасыв глубине сосуда, да еще и строго выдерживать ихгоризонтальное направление. Это является однимиз аргументов в пользу скульптурного метода фор-мовки осиповских сосудов. Правда, надо отметить,что донышки в коллекции редки, а такие, гдевстречаются трасы, вообще единичны.
В-третьих, наклонные и менее аккуратные тра-
1 За единицу в данном случае принимались археологи-ческие целые сосуды, развалы сосудов без сохранившихсявенчиков и донышек, а также сосуды, представленные от-дельными фрагментами.
179
сы в средней части тулова могут означать, что об-работка сосуда на этом участке велась в наименееудобном для нанесения горизонтально ориентиро-ванных трас положении, т.е. в уже собранном видеи/или в вертикальном положении.
Общий анализ трас позволяет сделать еще однозамечание относительно формовки осиповскихсосудов. С этой точки зрения интересны наблюде-ния И.Г. Глушкова, сделанные им в ходе экспе-риментальных работ по моделированию способовформовки сибирской посуды [1996: 55-61].
Говоря об обработке сосудов твердыми гребен-чатыми инструментами, И.Г. Глушков подчерки-вает, что эта операция, связанная с перераспреде-ления глины и выравниванием стенок, по сути, яв-лялась не завершающим этапом отделки уже го-товых сосудов, а приемом, непосредственно уча-ствующим в формовке. Кроме того, в отношенииботайской посуды, для которой, как и для осипов-ской, была характерна обработка внутренних по-верхностей зубчатым орудием, И.Г. Глушков пи-шет: «Единственное, о чем грубая обработка сви-детельствует безусловно, так это о том, что внут-ренняя поверхность не соприкасалась с каким-тоиным предметом (болванкой) во время изготовле-ния сосуда и была доступна мастеру» [Там же: 100].Исходя из этого, видимо, можно сделать предпо-ложение, что если формовка осиповских сосудоввелась все-таки с помощью шаблона, то последниймог использоваться только как модель-емкость, ане как модель-основа, иначе внутренняя поверх-ность была бы недоступна мастеру.
С точки зрения воссоздания всей полноты кар-тины следует добавить, что на одном из сосудов изскопления в кв. А-Б/4-5 на наружных поверхнос-тях зафиксированы трасы, которые, судя по всему,могли быть оставлены веревкой (рис. 83, 1-2). Дос-товерно сделать такое заключение мы не можемввиду общей нечеткости рисунка, который к томуже местами перекрывался отпечатками травы, нонекоторые аргументы для этого имеются. В част-ности, на отдельных участках края бороздок име-ли характерные волнистые неровности. Если онибыли оставлены веревкой, то, судя по отпечаткам,она была толстая и слабо скрученная.
Теперь рассмотрим оттиски, которые мы интер-претировали как отпечатки веревочного инстру-мента. Они присутствуют только на внешних по-верхностях сосудов и отличаются единой морфо-логией, детальное описание которой было дано вразделе, посвященном разрозненной керамике изгоризонта 3Б. Существует несколько вариантоврасположения веревочных оттисков.
Первый зафиксирован в приустьевой части со-судов сразу под венчиком. Оттиски располагалисьдовольно хаотично, без определенной «логики». Вколлекции 1995-1996 гг. есть только один малень-кий обломок венчика с такими отпечатками, на немвидно, что инструмент соприкасался с поверхнос-
тью послойно, нижние оттиски видны совсем пло-хо, верхние – более отчетливо (Т/5) (рис. 99, 4). Бо-лее крупные фрагменты найдены в 2001 г. в запол-нении мерзлотного клина [Shewkomud et al. 2003:79, fig. 8, 2, 4].
На одном из них по расположению оттисковможно заключить, что рука мастера двигаласьвдоль окружности сосуда в горизонтальном направ-лении, держа при этом инструмент вертикально. Врезультате оттиски выстраивались вертикальнымирядами в горизонтальную линию. Каждый такойряд соответствовал однократному соприкоснове-нию орудия с поверхностью (рис. 99, 7). Всего со-хранилось пять рядов оттисков, расстояния меж-ду ними были неодинаковыми, от 0,7 до 2 см. Оче-видно, что эти отпечатки наносилась на сосуд в пос-леднюю очередь, т.к. рядом с ними сохранилисьгораздо менее отчетливые и затертые оттиски.Часть из них, вероятно, составляла еще одну та-кую же линию, которая располагалась чуть выше,но выполнялась по той же схеме.
Микроследы свидетельствуют о том, что нано-сились отпечатки не путем классического прессо-вания, при котором инструмент прикасается и от-рывается от поверхности сосуда в перпендикуляр-ном к ней направлении, а легкими короткими про-таскиваниями. Важно отметить, что на этом сосу-де оттиски веревочного инструмента были нанесе-ны поверх толстого слоя ангоба. Это совершенноисключает возможность интерпретации их какотпечатков шаблона или инструмента, непосред-ственно участвовавшего в процессе формовки.
На фрагментах другого сосуда чуть ниже вен-чика также располагались уже знакомые нам от-печатки (рис. 99, 6). На фоне невнятных оттисков«нижнего слоя» более отчетливо сохранились«верхние». Они были организованы в наклонныеряды, смещенные в разных направлениях относи-тельно друг друга. В данном случае также очевид-но, что мастер наносил их рукой, двигавшейсявдоль устья сосуда, но не по горизонтальной тра-ектории, а по наклонной. Характер соприкоснове-ния инструмента – где-то прессование, где-то боль-ше похоже на короткие протаскивания.
Говоря об этой группе отпечатков, надо подчер-кнуть, что они всегда располагались в приустьевойчасти сосудов, т.е. в зоне, где у других осиповскихсосудов находился декоративный орнамент. Носчитать их таковым вряд ли правомерно, хотя не-которая композиционность – в виде почти ритмич-но повторяющихся рядов оттисков – в них все-таки присутствует. Немаловажно, что на внутрен-ней стороне фрагментов с такими оттисками фик-сируются обычные гребенчатые трасы. Все вместеэто, по-видимому, указывает на вполне осмыслен-ное дифференцированное отношение осиповскихмастеров к обработке внутренних и внешних по-верхностей сосудов.
Второй вариант перекликается с предыдущим.
180
Он представлен обломками верхней части одногососуда, у которого ряды веревочных оттисков спус-кались вниз от венчика в виде параллельных на-клонных линий (В’/3-5) (рис. 99, 1). По смыслуэтот вариант очень близок к гребенчатому орнамен-ту, образцы которого имеются в материалах раско-пок Гончарки-1 в 2001 г., а также в коллекциях дру-гих осиповских памятников – Новотроицкое-10,Осиновая речка-10 [Шевкомуд 2003 б; Naganumaet al. 2005: fig. 7, 10. 15].
Третий вариант расположения веревочных от-тисков зафиксирован на тыльной стороне дна (Б/7)и на внешней поверхности тулова (З/8) двух раз-ных сосудов (рис. 99, 2, 5). В обоих случаях сохра-нилось по несколько небольших обломков. Наруж-ная поверхность каждого из них сохранила следынеровностей, среди которых просматривались сразной степенью отчетливости отпечатки уже из-вестной нам морфологии. Главная особенностьэтих фрагментов – отсутствие всякой ритмики,складывается впечатление, что они покрывалиповерхность сплошным нерасчлененным полем.По крайней мере по имеющимся небольшим об-ломкам увидеть что-то иное не получается.
Интересен обломок из кв. З/8. У него при раз-ном угле освещения на поверхности были видныоттиски разной морфологии (рис. 99, 2). Нижнийих слой составляли плохо сохранившиеся остат-ки зигзагообразного рисунка, похожего на оттис-ки какой-то рельефной фактуры, верхний – ряд от-печатков веревочного инструмента. Это единствен-ный фрагмент в коллекции, сохранивший следы,которые вполне можно принять за оттиски плете-ной фактуры. Однако, учитывая общую нечеткостьрисунка, утверждать это мы бы не решились.
Следует иметь в виду, что все фрагменты с от-печатками веревочного инструмента происходятлибо из заполнения криогенных жил, либо из раз-розненных находок горизонта 3Б. Можно думать,что они связаны с самым древним горизонтом оби-тания осиповцев на памятнике, хотя исключитьвозможность бытования такой керамики и в болеепозднее время, конечно, нельзя. Кроме того, хоте-лось бы подчеркнуть, что интерпретация этих от-тисков как технических оправдана ровно в той жестепени, как и в качестве декоративных, т.к. мывидим, с одной стороны, их явное противопостав-ление гребенчатой обработке, с другой – отсутствиепризнаков, специфичных для орнамента. Хотя,конечно, нужно принимать во внимание имеющи-еся в них зачатки ритмичности, а также тот факт,что располагались они на внешних поверхностяхсосудов, т.е. там же, где и декоративный орнамент.
Ангоб
Формовка осиповских сосудов заканчиваласьпокрытием их поверхностей специально подготов-ленной глиной. По данным петрографии чаще все-
го это была глина особого состава, в отдельных слу-чаях – та же глина, из которой делались сами сосу-ды. Согласно принятой в литературе терминологии,в первом случае мы можем говорить об ангобе, вовтором – об обмазке. Общей особенностью глины,использовавшейся для приготовления ангоба,было повышенное содержание алевритистой фрак-ции (не менее 30%) в сочетании с полным отсут-ствием песка. Кроме того, этот слой чаще всего от-личался особым цветом, сильно контрастирующимс цветом основной массы, визуально – насыщен-ным красновато-розоватым или желтым, в шли-фах – более светлым или черным, абсолютно не-прозрачным (рис. 78, 4; 98).
Являлся ли яркий охристый цвет ангоба резуль-татом специального состава глины или возникалвследствие особенностей обжига, достоверно су-дить можно только после проведения специальныххимических анализов. Но предварительно можносделать заключение в пользу первого предположе-ния. Длительный опыт изучения дальневосточнойкерамики позволяет довольно точно отличать слу-чаи, когда чрезмерно яркий окрас черепков «вы-бивается» из привычной для дальневосточныхглин цветовой картины и может быть объяснентолько следствием повышенного содержания вглиняной массе железистых соединений. Доби-ваться яркой окраски осиповские мастера моглипо-разному. Они могли специально вводить в ан-гоб красители в виде измельченной охры или ис-пользовать глину, обогощенную железом есте-ственным образом. Месторождениями такой гли-ны, как известно, очень богато Приамурье [Жущи-ховская 2004: 74].
К сожалению, мы не можем ответить на вопрос,было ли нанесение ангоба (обмазки) обязательнойпроцедурой. По данным визуального осмотра со-здается впечатление, что это была если не обяза-тельная, то по крайней мере очень распространен-ная практика. Петрографически слой ангоба (об-мазки) зафиксирован на восьми сосудах, это при-мерно половина от общего числа тех, чьи фрагмен-ты были отданы на анализ. Но следует иметь ввиду, что петрография и визуальный осмотр фик-сируют факт присутствия обмазки далеко не вкаждом случае, известны и неоднократные несов-падения в их результатах.
Например, слой красного ангоба определен ви-зуально на фрагментах сосуда из кв. Е/15, в шли-фах он не обнаружен. Аналогичная ситуация за-фиксирована и на фрагментах сосудов из кв. Ж’/10, Л/7, Ф/5 и др. Были и обратные случаи. Сосудиз кв. Д-З/13-14 был представлен фрагментами спрактически полностью разрушенными поверхно-стями, но в шлифах одного из них удалось зафик-сировать остатки обмазочного слоя. Таким обра-зом, хотя мы и не можем это подтвердить досто-верными статистическими выкладками, но, по-ви-
181
димому, ангобирование сосудов составляло оченьхарактерную черту осиповской традиции.
Слой ангоба мог быть достаточно толстым (1-2 мм), в этом случае он отличался особенно ярки-ми красноватыми оттенками и, по-видимому, ре-шал какие-то важные задачи в технологическойцепочке, будучи фактически дополнительным сло-ем глины на стенках сосудов, а мог быть очень тон-ким, такой ангоб имел обычно более тусклые крас-новато-коричневые оттенки и очень плохо сохра-нялся на поверхности. Цветовая граница толстогослоя ангоба в изломах, как правило, достаточнорезкая, а на поверхности он имел всегда очень рав-номерный цвет, без каких-либо пятен, свойствен-ных костровому обжигу. Тонкий ангоб в изломахне заметен, и трудно понять, имел ли он равномер-ный окрас.
Предназначение ангоба (обмазки) в специаль-ной литературе обычно связывается с декоратив-ными функциями, особенно если речь идет имен-но об ангобе, для приготовления которого исполь-зовалась глина особого состава и/или красители,либо с приданием сосуду более высоких потреби-тельских свойств, например уменьшение влагоп-роницаемости стенок [Сайко 1982; Глушков 1996;Мыльникова 1999]. Вполне возможно, что на оси-повской посуде ангоб решал обе эти задачи. С од-ной стороны, он сглаживал шероховатости и не-ровности поверхностей, особенно с проступающи-ми зернами примеси. С другой стороны, особыйцвет ангоба, видимо, преследовал цели, лежащиеза пределами утилитарной сферы. Однако нельзяисключить, что толстый слой ангоба одновремен-ной мог решать и какие-то задачи формовки, на-пример он мог «держать» сосуд, собранный из пло-хо расформованных жгутов или лоскутов.
Одной из интересных особенностей осиповскойкерамики было то, что на поверхностях груботек-стурных сосудов слой ангоба или обмазки сохра-нялся очень плохо. Это можно объяснить тем, чтогрубая текстура этих сосудов увеличивала порис-тость изделий и соответственно их уязвимость ктемпературным и иным факторов, возникающимв процессе археологизации [Reid 1984, цит по:Глушков 1996: 90]. Любопытно, что чаще всегоразрушались только наружные поверхности, ноиногда и обе сразу. По-видимому, это говорит отом, что ангобированию обычно подлежала наруж-ная поверхность сосуда, и только иногда – обе. Этосоответствует и визуальным наблюдениям.
В целом можно отметить, что ангобированиеповерхностей составляло важное звено в техноло-гической цепочке по производству осиповской по-суды. Однако процедура эта отличалась известнойсложностью. Чтобы обеспечить ее успех, осипов-ским гончарам приходилось решать несколькотехнических задач [Мыльникова 1999]. Во-пер-вых, им следовало подбирать специально более
жирную глину с теми же показателями усадки, чтои основная масса. Во-вторых, они должны былизнать, в каком состоянии влажности должен былнаходиться сосуд перед нанесением ангоба. В-тре-тьих, грунтовочная масса должна была быть в до-статочной степени промешана, а ее консистенциядолжна была подбираться опытным путем.
Ангоби техническая обработка
В связи с присутствием ангоба на осиповскихсосудах небезынтересно еще раз вернуться к воп-росу о технологическом смысле операции по обра-ботке их стенок зубчатым орудием. Как мы пом-ним, такой обработке чаще всего подвергалисьвнутренние поверхности, и логично предполо-жить, что в этом случае гребенчатая обработкабыла связана непосредственно с процедурой фор-мовки. В то же время на части сосудов гребенча-тые прочесы встречались на обеих поверхностях,в том числе прямо поверх толстого слоя ангоба.
Показателен сосуд из кв. Е/15. Он был покрытс обеих сторон толстым слоем ярко-красной гли-ны. Почти на всех его фрагментах он оказался раз-рушен полностью или частично, но на одном об-ломке видно, что трасы были нанесены прямо поангобу, а под ним они отсутствовали (рис. 93). Дру-гой пример дают сосуды из кв. Ж/5. Оба они былиобработаны по обеим поверхностям тонким слоемжелтой обмазки, следы трас также встречались наобеих поверхностях, причем поверх обмазочногослоя (рис. 78). Еще один показательный пример –сосуд из развала в кв. В/9 с толстым слоем красно-го ангоба и трасами снаружи, у него, напомним,почти полностью отсутствовала какая-либо обра-ботки внутренней стенки (рис. 78).
В свете этих наблюдений возникает вопрос, за-чем осиповские мастера проводили зубчатую обра-ботку ангобированных поверхностей. Очевидно,что ангоб наносился на сосуды уже после оконча-ния их формовки. Следовательно, техническийсмысл зубчатой обработки не мог в данном случаесводиться к решению каких-то задач, связанныхс формовкой, а состоял в чем-то другом. Чего жедобивались осиповские мастера?
Можно предположить, что гребенкой наклады-вался и выравнивался сам слой ангоба. Однако зуб-чатое орудие представляет собой весьма неподхо-дящий для этих целей инструмент, здесь большеподошел бы шпатель. Кроме того, это предположе-ние плохо согласуется с морфологией трас, свиде-тельствующей, во-первых, об однократном харак-тере движений гребенчатого инструмента, во-вто-рых, об их строгой пространственной ориентациина поверхности сосудов.
Можно сделать предположение, что обработкагребенкой уже ангобированных сосудов осуществ-лялась с целью обеспечения лучшей сцепки анго-
182
ба. То, что такая задача была актуальной для оси-повского гончарства, подтверждается многочис-ленными примерами сосудов с полностью или ча-стично разрушенным поверхностями.
Рифление стенок могло решать и другую техни-ческую задачу. Известно, что рифленая поверх-ность в процессе сушки и обжига оказывается бо-лее устойчивой к растрескиванию, чем гладкая,что объясняется различным напряжением глинына участках ее повышенного и пониженного рель-ефа [Глушков 1996: 71]. Осиповские мастера, рас-черкивая стенки своих сосудов гребенками, мог-ли преследовать и эти цели, причем вполне осоз-нанно. И здесь, кстати, надо заметить, что глуби-на рельефа при обработке сосудов гребенчатымиорудиями была намного большей, чем в случае ихобработки веревочными инструментами.
Если наши рассуждения верны, то получается,что осиповские сосуды могли обрабатываться гре-бенкой с разными целями, точное установление ко-торых на данном этапе вряд ли возможно.
Шаблонили скульптурная лепка
Итак, мы рассмотрели все признаки, которыеобычно используются при реконструкции особен-ностей формовки керамической посуды. К сожа-лению, возможности осиповской посуды в этомотношении, как мы и указывали в начале разде-ла, очень ограничены. Однако некоторые нашинаблюдения представляют с этой точки зренияопределенный интерес.
Во-первых, можно уверенно утверждать, что наповерхностях осиповской посуды поселения Гон-чарка-1 (за исключением единственного фрагмен-та из кв. З/8, оттиски на котором хотя и напоми-нают отпечатки рифленой фактуры, но не позво-ляют дать окончательную их интерпретацию) от-сутствуют отпечатки шаблона в виде тканевых илирастительных прокладок. На внешних поверхно-стях они, конечно, могут быть скрыты под слоемангоба, но на внутренних их, по-видимому, небыло изначально, т.к. зубчатая обработка не мог-ла уничтожить их следы полностью.
Во-вторых, для осиповской посуды нетипичнорасслоение по участкам спая лент, жгутов или лос-кутов, такие случаи буквально единичны и все ониуказывают на соединения встык или внахлест пло-хо расформованных жгутов или лоскутов. Вполневероятно, что в осиповском гончарстве лоскутная,жгутовая и ленточная техники еще не были диф-ференцированы и не оформились как самостоя-тельные способы формовки керамических сосудов.
В-третьих, довольно часто проявляющейся чер-той осиповской керамики следует считать ее двух-слойность, но объяснить данный признак и смоде-лировать способ формовки, который бы приводилк его появлению, пока не получается.
В-четвертых, осиповская посуда имела в целомровные стенки без особых перепадов в толщине каквдоль вертикальной, так и вдоль горизонтальнойоси сосудов. Как правило, отсутствуют на ее по-верхностях и локальные изменения рельефа –утолщения, ложбины, пальцевые вмятины и т.п.
В-пятых, внутренняя поверхность осиповскихсосудов обрабатывалась твердым зубатым инстру-ментом, возможно, в целях перераспределенияизлишков глины. Это значит, что внутренняястенка будущего сосуда была доступна в ходе егоизготовления мастеру. Аккуратность гребенчатыхпрочесов на внутренней поверхности придонныхстенок и их горизонтальная ориентация, возмож-но, свидетельствуют о формовке сосудов отдельны-ми блоками.
В-шестых, поверхности осиповских сосудовпосле окончания формовки грунтовались дополни-тельным слоем глины. Нанесение ангоба не исклю-чает формовку с использованием шаблонов, одна-ко требует от гончаров особых навыков. Нанестидополнительный слой глины на сосуд, подсушен-ный до такого состояния, чтобы его можно былобез ущерба освободить от шаблона, было нетруд-но, но трудно было добиться сохранности этогослоя при сушке и обжиге, особенно при двухсто-роннем грунтовании.
В-седьмых, ангобированные поверхности оси-повских сосудов дополнительно обрабатывалисьзубчатым орудием или орнаментировались. Зубча-тая обработка в данном случае не была связана спроцессом формовки и никак не влияла на него.Скорее всего, усилия мастеров были направленына преодоление негативных последствий сушки иобжига изделий или на улучшение сцепки ангобас поверхностью сосуда.
С учетом всего сказанного, конечно, трудно сде-лать однозначный выбор в пользу шаблонной илискульптурной техники формовки осиповской по-суды. Однако последний вариант, как нам пред-ставляется, в большей степени соотносится с име-ющимися фактами.
Обжиг
Обжиг осиповской керамики в целом можетбыть охарактеризован как низкотемпературный,на это указывают ее мягкость, рыхлость и цвето-вая гамма. Более точную информацию в этом от-ношении продемонстрировали результаты рентге-нографического исследования.
Всего было проанализировано восемь фрагмен-тов. Рентгенограммы снимались с обеих поверхно-стей и с излома каждого черепка. Набор минера-лов получился примерно одинаковым, но на раз-личных участках одного образца обычно фиксиро-вались отклонения по интенсивности или фактуприсутствия /отсутствия отражений минералов
183
групп «слюда», «хлорит-каолинит», «смектит», вредких случаях – «калий-полевой шпат» и «пла-гиоклаз», постоянным было присутствие в боль-шом количестве кварца.
При обработке получившихся данных намибыло обращено внимание на наличие в рентгено-граммах отражений глинистых минералов – смек-тита и хлорит-каолинита, которые могли свиде-тельствовать о незавершенном процессе их амор-физации в ходе обжига керамики.
Для дальнейших исследований в окрестностяхпоселения Гончарка-1 было отобрано три образцаглин. Один из них представлял собой тяжелый суг-линок основания горизонта 3Б поселения Гончар-ка-1. Второй был собран в ручье у подножия тер-расы, где располагалось осиповское поселениеНовотроицкое-10, и представлял собой хорошоотмученную жирную глину серого цвета. Третийобразец – сильно запесоченная белая глина, выхо-ды которой имелись прямо на берегу Амурскойпротоки. Рентгенограммы всех трех образцов по-казали тот же набор минералов, что и фрагментыкерамики. Основным глинистым минералом выс-тупала все та же хлорит-каолинитовая структура,смектит либо отсутствовал, либо фиксировался ввиде следов или очень слабых отражений.
Следующим этапом стал повторный обжиг об-разцов глин и осиповской керамики. Он проводил-ся последовательно при трех температурах 450,550, 650 °С, причем в течение двух часов на каж-дой. Рентгенограммы снимались после каждой тем-пературной отметки, для археологической керами-ки – с тех же точек, что и в исходных образцах.Всего таким исследованиям было подвергнуто триобразца глины и три образца керамики.
После повторного обжига черепков при 450 °Сотражения хлорит-каолинитовой структуры ис-чезли, и при дальнейшем обжиге они уже не фик-сировались. При этом надо отметить, что никакихотклонений от этого правила при съемке с различ-ных участков черепков уже не было. Отражениясмектита при последующем обжиге теряли своюинтенсивность, но сохранялись даже при темпера-туре в 650 °С. Аналогичная ситуация в целом от-мечалась и при повторном обжиге глин. Отраже-ния смектита не исчезли даже при максимальнойтемпературе, а хлорит-каолинитовая структура пе-рестала отражаться в рентгенограммах после двух-часового обжига при температуре 550 °С.
Комментируя полученные результаты, хоте-лось бы обратить внимание на два обстоятельства.
Во-первых, в археологической керамике тем-пература исчезновения хлорит-каолинитовойструктуры оказалась ниже на 100 °С, чем в образ-цах глин. Это, по-видимому, объясняется тем, чтоархеологическая керамика в отличие от последних
уже прошла стадию обжига и глинистый минералуже начал в ней разрушаться. Соответственно, приповторном нагревании понадобилось гораздо мень-ше времени для его полной аморфизации.
Во-вторых, практически во всех образцах кера-мики нами были зафиксированы различия в ин-тенсивности пиков хлорит-каолинита или даже всамом факте его присутствия / отсутствия в рент-генограммах, снятых с различных участков одно-го черепка. В известных нам исследованиях дру-гих авторов такая ситуация не отмечалась, поэто-му интерпретация здесь пока затруднительна.
Возможно, объяснение этого явления кроетсяв том факте, что разложение глинистых минера-лов зависит не только от достижения определен-ных температур во время обжига, но и от временивыдержки. Отсюда можно сделать предположение,что в процессе обжига осиповской посуды в кост-ре могла быть достигнута температура, достаточ-ная для разложения хлорит-каолинитовой струк-туры, но для полной ее аморфизации при этой тем-пературе требовалось больше времени. По-видимо-му, это означает, что поддерживать температуруне менее 550 °С в течении двух часов осиповскиемастера еще не умели, или по каким-то причинамони обжигали посуду меньше этого времени.
Есть еще один важный показатель операцииобжига – это его газовый режим. Информацию онем дает анализ цветовых характеристик посуды.Для осиповской керамики поселения Гончарка-1характерны более светлые охристые оттенки длянаружного слоя или наружной поверхности, и се-рые – для изломов и внутренних поверхностей. Приэтом отмечаются также две закономерности. Во-первых, это отсутствие на осиповской посуде чер-ных углистых оттенков как в изломах, так и на по-верхностях. Цвет ее темных участков скорее мож-но определить как серый или темно-серый. Во-вто-рых, несмотря на мелкофрагментированность кол-лекции, достаточно уверенно можно говорить оботсутствии ярко выраженной пятнистости в окрас-ке осиповских сосудов, характерной для костро-вого обжига.
Обобщая все сказанное, можно смоделироватьследующие условия обжига осиповской посуды.По-видимому, она обжигалась в костре в окисли-тельно-восстановительной среде, при этом восста-новительная среда была локализована только вовнутренней полости сосудов. Для этого их моглиразмещать в костре в перевернутом виде или засы-пать золой или другими материалами, причем та-кими, которые не придавали обожженным изде-лиям углистый оттенок [Глушков 1996]. Темпера-тура в костре достигала как минимум 550°, но под-держивать ее стабильной в течение двух часов оси-повские мастера, по-видимому, еще не умели.
184
МОРФОЛОГИЯ И ДЕКОР
Формы сосудов
Формы осиповской посуды восстанавливаютсялишь отрывочно. Источником для их реконструк-ции служат один археологически целый сосуд, не-сколько частично сохранившихся, а также неко-торые разрозненные обломки стенок, венчиков идонышек. На основании этих материалов мы мо-жем говорить, что общими чертами осиповскихсосудов были плоскодонность, круглое горизон-тальное сечение, а также прямые венчики с упло-щенными, иногда чуть скошенными внутрь обре-зами. Всего выделяется три типа сосудов.
Первый тип представлен археологически це-лым сосудом из кв. Д’/4-5. Он имел необычно низ-кую форму. Высота его составляла примерно 11 см,диаметр устья реконструируется вполне достовер-но в пределах не менее 30 см. В верхней части со-суд имел прямые стенки, но точно сориентироватьих относительно вертикальной оси сосуда невоз-можно. Венчик сосуда плоский, чуть скошенвнутрь. Дно плоское. Но переход его в тулово офор-млен в виде плавной дуги (рис. 84; 85).
Второй тип представлен сосудом из скопленияв кв. З/16. Форма его реконструируется толькогипотетически, т.к. сосуд распался на очень мел-кие кусочки и склеить его не удалось. Диаметрустья и высота неизвестны, диаметр дна 14 см.Угол сочленения дна и тулова позволяет предпо-ложить, что стенки сосуда расширялись от днавверх под углом примерно в 50-55°. Судя по отсут-ствию фрагментов с заметным перегибом стенок,перед нами сосуд высотой не менее 15 см с простойнерасчлененной формой, близкой к усеченно-кони-ческим очертаниям. Возможно, в верхней частиемкости стенки сосуда приобретали вертикальнуюориентацию. Венчик его прямой, с внешней сторо-ны имеет довольно заметное утолщение, обрез со-дран, поэтому точная конфигурация его неизвест-на. Дно плоское, переход оформлен в виде четкогоуступа (рис. 91).
Третий тип представлен в коллекции 1995-1996 гг. лишь отдельными обломками средней ча-сти сосуда из кв. Г’/5 (рис. 88). Особенность этойформы в наличии заметного перегиба контура всредней части тулова, что указывает на общую зак-рытую форму сосуда. Присутствие таких сосудовв коллекции Гончарки, безусловно, обращает насебя внимание, а неслучайность ее появления вкомплексе подтверждается находками 2001 г.
В кв. О/12 в заполнении криогенного клинабыло найдено несколько обломков одного сосуда[Shevkomud et al. 2003: 79, fig. 8, 4]. От него со-хранилась большая часть тулова с резким переги-бом стенок в средней части, дно и венчик отсутство-вали. Это был небольшой сосудик. Удалось восста-
новить его максимальный диаметр, он составлял15 см. Примерно такой же была и его высота, иличуть больше. Это был сосуд с отпечатками веревоч-ного инструмента (рис. 99, 7).
Другой сосуд близкой формы был орнаменти-рован валиками [Shevkomud et al. 2003: 79, fig. 8,3]. Его обломки найдены в кв. Д/19. Сохраниласьтолько большая часть его тулова. Высота сосуда со-ставляла около 12-13 см или чуть более. Макси-мальный диаметр располагался в нижней частисосуда, точный его размер не восстанавливается.Перегиб контура плавный, наиболее заметный науровне максимального диаметра. Венчик, по-ви-димому, был чуть отогнут наружу.
Соотнести с тремя обозначенными выше форма-ми обломочный материал из коллекции Гончаркипрактически невозможно. Поэтому, строго говоря,мы не знаем, насколько широко та или другая изних были представлены в осиповском гончарстве.Кроме того, неизвестно, отражают ли они устой-чивые морфологические стереотипы осиповскихмастеров или какие-то случайные отклонения отних. В этом отношении наиболее выделяется, по-жалуй, только форма третьего типа, т.к. по сово-купности данных получается, что она встречаетсяв коллекции Гончарки как минимум неоднократ-но. Следует также добавить, что аналогичная ейзакрытая форма была зафиксирована на осиповс-кой посуде с поселения Новотроицкое-10[Naganuma et al. 2005: 123, fig. 7, 10].
Декор
Орнамент на осиповской посуде с поселенияГончарка-1 был достаточно частым явлением: из22 сосудов, выделенных по разрозненным матери-алам и скоплениям, только у 11 сохранились дос-таточно крупные обломки венчиков, которые мож-но использовать при изучении декора, и все онибыли орнаментированы.
Зонами нанесения узора служили обрез венчи-ка и тулово сосудов. Достоверно зафиксированыслучаи, когда одновременно были украшены обезоны (6 сосудов) или только тулово (2 сосуда).
На обрезе узор представлял собой всегда оваль-ные или округлые вдавления, скорее всего, нане-сенные пальцами. В единственном случае это былиузкие оттиски гребенки. Оттиски узора на обрезеимели наклонную ориентацию.
На тулове сосудов узор мог начинаться у вен-чика и заканчиваться у самого дна. Так выглядитдекор как минимум двух сосудов, сохранившихсяот венчика до дна. По разрозненным обломкам мыможем говорить только о том, что узор всегда при-сутствовал в приустьевой части емкостей, но какдалеко он спускался вниз, неизвестно. Мотивы и
185
технические приемы исполнения орнамента раз-личны. При этом каждый вариант техническогоисполнения ассоциируется с определенными мо-тивами или мотивом.
Наиболее распространены узоры, выполненныег р е б е н ч а т ы м и н с т р у м е н т о м. Техника ихисполнения – прокат. Мотивы – горизонтальныйи вертикальный (наклонный) зигзаг. Первый за-фиксирован на единственном сосуде, где он зани-мал всю поверхность и был организован в два го-ризонтальных пояса (рис. 85). Второй зафиксиро-ван только в верхней части сосудов или на разроз-ненных обломках тулова (рис. 81; 82, 1; 97). Опре-делить, как далеко он мог спускаться вниз от вен-чика, невозможно, как и восстановить его цельнуюкомпозицию. Известно, что вертикальный (на-клонный) зигзаг был более разреженным, чем го-ризонтальный. Судя по абрису отпечатков, обавида зигзагообразных узоров выполнялись одина-ковыми инструментами с большим количествомзубцов (рис. 86, 1а).
Единственным обломком стенки представлензигзагообразный узор, выполненный гладким ин-струментом (рис. 100). Обломок маленький, компо-зиционные особенности узора неизвестны. Оченьпохоже, что выполнялся орнамент в технике «ша-гания», на что указывают сильно пропечатанные-«угловые» отпечатки, рельеф которых почти пол-ностью сходит на нет в средней части «шага».
Вторую группу узоров представляют сосуды,украшенные в н а л е п н о й т е х н и к е . Во всехслучаях это были узкие налепные валики подтре-угольного поперечного сечения, которые распола-гались пояском в верхней части сосудов. Зафик-
сированное количество валиков в поясках – два-четыре. Сами валики дополнительно оформлялисьмелкими неглубокими оттисками. При выполне-нии этого узора могла использоваться техникаинкрустации, когда отдельно сформованный ва-лик вставлялся в предварительно прочерченныйжелобок. Налепные валики никогда не сочеталисьс узором по обрезу венчика (рис. 94-96).
Единственным сосудом представлены узорытретьей группы, выполненные фигурным штам-пом. Орнамент занимал всю поверхность сосуда. Вверхней части располагались в шахматной поряд-ке ряды подтрапециевидных оттисков, выполнен-ных в накольчатой технике. Далее вниз спускалисьфестоны неопределенной формы, составленные извертикально ориентированных оттисков близкойк ромбу формы. В придонной части повторялисьряды подтрапециевидных накольчатых оттисков,последний из которых шел прямо по линии соеди-нения дна и стенок (рис. 90, 6-7; 91)
Возможно, четвертую группу декоративногоорнамента представляют обломки единственногососуда, у которого в подвенечной части были на-несены две наклонные и почти паралельные другдругу линии оттисков, оставленных инструментомтипа стэка, обмотанного веревкой (рис. 99, 1). Этакомпозиция «по смыслу» очень близка к узору, вы-полненному длинным гребенчатым штампом сподквадратными зубцами, единственный образецкоторого имеется в материалах Гончарки из раско-па 2001 г. Такой вариант гребенчатого узора зафик-сирован также в коллекциях других осиповскихпамятников – Новотроицкое-10, Осиновая речка-10 [Шевкомуд 2003 б; Naganuma et al. 2005].
ОСИПОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
В заключение хотелось бы дать некоторую об-щую характеристику осиповской керамики поселе-ния Гончарка-1, однако сделать это довольно слож-но. С самого начала для нас стала заметна ее явнаяполиморфность. С одной стороны, это как будто со-гласовывалось с очевидной хронологическойдискретностью коллекции. С другой стороны, приболее внимательном ее изучении становилось ясно,что строгого соответствия между предполагаемы-ми хронологическими и технико-морфологичес-кими группами осиповской керамики нет.
Технико-морфологические группы
Строго говоря, даже сам по себе процесс выде-ления технико-морфологических групп наталки-вался на определенные трудности. Часть из нихбыла обусловлена тем, что данные по технологииизготовления керамики плохо коррелировалисьс данными по морфологии и декору. Технологи-ческие характеристики, основанные на петрогра-
фических определениях, было невозможно экст-раполировать на всю коллекцию из-за отсутствиячетких соответствий между последними и данны-ми бинокулярного осмотра. Только после того, какза основу были взяты результаты визуальных оп-ределений, а не петрографического анализа в этомделе наметилась позитивная тенденция.
Другая часть трудностей была связана с тем, чтонамечающиеся технико-морфологические группысостояли либо из одного сосуда, либо из двух-трех.При этом провести строгие границы между груп-пами было почти невозможно, т.к. по отдельнымпараметрам сосуды могли сильно варьировать.Кроме того, сами группы удалось выделить толь-ко по разным основаниям, в одном случае объеди-няющим элементом оказывались одни признаки,в другом – другие.
Первую технико-морфологическую группу, по-видимому, одну из самых многочисленных, соста-вили сосуды с толстыми – 0,8-1,1 см – стенками,
186
мягким черепком и хорошо сохранившимися по-верхностями. С внешней стороны у них, как пра-вило, фиксировался толстый слой яркого красно-ватого или желтовато-оранжевого ангоба. Изломыэтих сосудов обычно двухцветные, с внутреннейстороны серые, реже – темно-серые, с внешней –красновато-оранжевые или желтоватые. Оченьредко черепки этой группы имеют серый цвет по-верхностей и изломов.
Примесь в составе теста либо незаметна вообще,либо мелкая, среди нее визуально и петрографи-чески идентифицируются минеральные включе-ния, шамот и трава. Общей особенностью сосудовэтой группы является отсутствие какого-либо де-кора, за исключением технического. При этомтолько сосуды этой группы имеют техническийдекор на внешней поверхности. Ни одного целогососуда такого типа в коллекции нет, поэтому мыне можем достоверно связать с ними какие-либоопределенные формы венчиков и донышек.
Типичные представители этой технико-морфо-логической группы – сосуды из скоплений кера-мики в кв. В/9 и Ж/5 горизонта 3Б, а также сосудс зигзагообразными трасами из кв. Н/7 из запол-нения криогенных клиньев. Керамика этой груп-пы найдена в основном в раскопе 1, а также в в за-полнении криогенных трещин и в разрозненномсостоянии по всей раскопанной площади.
Вторую группу представляет сосуд из развала вкв. Д’/4-5. Его отличает очень обильная разнозер-нистая и грубая примесь, толстые – 0,8-1 см – стен-ки, серо-коричневая гамма, комковатые изломы.Внешняя его поверхность сохранила остатки крас-новатого ангоба и узор в виде горизонтального зиг-зага, выполненного оттисками гребенки, внутрен-няя почти полностью разрушена, на уцелевшихучастках видны следы типичных для осиповскойкерамики трас. Состав примеси преимущественноминеральный, шамот отсутствует, эпизодическификсируется трава. Сосуд имел уплощенный орна-ментированный узкими оттисками обрез, скошен-ный внутрь, и сквозные отверстия чуть ниже.
Сосудов полностью аналогичных описанномупо форме или декору в коллекции больше нет, ноесть такие, которые имеют схожие текстурныехарактеристики. Например, это скопление сосудав кв. И’/2, сосуд из рассеянного скопления кера-мики с центром в кв. З/15, а также разрозненныечерепки. Они найдены в горизонте 3Б в пределахраскопов 3 и 4, отдельные фрагменты – в раскопе1. Для них типична очень плохая сохранность по-верхностей, особенно наружной, комковатые из-ломы, обильная и грубая разнозернистая примесь,среди которой встречаются обломки горных пород,шамот и эпизодически трава. Следы гребенчатыхтрас фиксируются только на одной из поверхнос-тей. Декора нет, но, возможно, это следствие оченьплохой сохранности поверхностей.
Третью группу представляют сосуды с валика-ми, их главные отличия – орнамент в виде вали-ков, отсутствие гребенчатых трас, декора на обре-зе венчика, а также сквозных отверстий под ним.Как мы помним, эти сосуды имели также однород-ные петрографические характеристики формовоч-ных масс, что выделяло их на фоне большинствадругих найденных на памятнике. Визуально опре-делить текстуру этих фрагментов было сложно. Наобломках с сохранившимися поверхностями ееможно было обозначить как тонкую, но на участ-ках со слезшим покрытием открывалась несколь-ко иная картина – разнозернистая и довольно гру-бая минеральная примесь с эпизодическими вклю-чениям травы, которая очень напоминала сосудывторой группы, может быть, только объем ее гру-бой фракции был несколько меньшим. Поэтому,строго говоря, вторую и третью группу различаетглавным образом орнамент, а кроме того, у сосу-дов с валиками обмазка или ангоб не имели крас-ного оттенка. Эти сосуды происходят из разрознен-ных находок горизонта 3Б в раскопах 2 и 4.
Четвертую группу можно объединить на осно-вании общих технологических характеристик.Эти сосуды отличались сравнительно небольшойтолщиной стенок, не более 0,8 см, темными туск-лыми цветами, преимущественно коричневато-се-рой гаммы, среднегрубой необильной примесью,среди которой и визуально, и петрографическиопределялись породные обломки, шамот и трава.Кроме того, на них либо отсутствовали видимыеследы обмазки или ангоба, либо они фиксирова-лись только в виде остатков очень тонкой пленки.
Декор на сосудах данной группы варьировал.Выделяются два варианта. Первый представляютсосуды, украшенные с наружной стороны верти-кальным гребенчатым зигзагом или обрывкамигребенчатых узоров, с внутренней стороны у них,как правило, фиксируются гребенчатые трасы. Ти-пичным представителем является сосуд с зигзагомиз скопления в кв. А-Б/5-6. Венчики были плос-кие, украшенные вдавлениями пальцев или палоч-ки. Второй вариант представляют собой многочис-ленные разрозненные обломки с оттисками на од-ной из поверхностей предположительно веревоч-ного инструмента, а на другой – следами типич-ных гребенчатых трас. Типичным представителемявляется венчик от сосуда из кв. Т/5. Большаячасть обломков четвертой группы найдена в гори-зонте 3Б в пределах раскопов 1-2.
Наконец, пятую группу представляет сосуд изразвала в кв. З/16, украшенный необычным дляостальной осиповской керамики образом – оттис-ками стэка и фигурного штампа, а также отлича-ющийся другими характеристиками: гранитнымсоставом отощающей примеси, обильной средне-зернистой ее текстурой без наличия выделяющих-ся на фоне основной массы особенно крупных
187
включений, особым профилем венчика – утолщен-ным с внешней стороны, отсутствием сквозныхотверстий в приустьевой части. Других таких со-судов в коллекции нет.
Таким образом, мы видим, что при всей услов-ности проведенной группировки некоторые техни-ко-морфологические варианты осиповской посудыв коллекции Гончарки-1 все-таки выделяются.
Хронологические группы
Корреляция технико-морфологических и пред-полагаемых нами хронологических групп керами-ческой посуды поселения Гончарка-1 показываю-ет следующую картину. В криогенных клиньях об-наружена керамика первой группы и четвертойвторого варианта, среди разрозненных находок го-ризонта 3Б – всех групп, кроме пятой, в скопле-ниях в кв. В/9 и Ж/5 – только первой, в кв. А-Б/5-6 – первой и группы четвертой варианта А, в кв.Д’/4-5 – вторая группа, 3/16 – пятая группа.
Мы видим, что в единовременно отложивших-ся комплексах могут сочетаться только первая ичетвертая группы. Исходя из контекста обнаруже-ния некоторых разрозненных находок, можнопредположить, что с первой группой могла такжесочетаться керамика второй группы. На это ука-зывают находки немногочисленных фрагментовсосуда первой группы (Г’/5) в непосредственнойблизости от развала сосуда второй группы в кв. Д’/4-5, а также присутствие обломков сосудов обеихгрупп среди рассеянного скопления керамики враскопе 4. Они были найдены выше уровня зале-гания сосуда в кв. З/16 и, по-видимому, отложи-лись одновременно.
Эти наблюдения показывают, что полиморф-ность осиповской керамики частично действитель-но проистекает из ее хронологической дискретно-сти, но, кроме того, она была обусловлена и други-ми факторами. Из последних одним из наиболеевероятных можно считать неразвитое или несфор-мированное состояние самой осиповской тради-ции, что вполне объяснимо, учитывая ее оченьдревний возраст. По крайней мере именно в этомключе можно объяснить, например, присутствиев рамках одной хронологической группы посудыс разными технологическими характеристиками.
Если же дополнить эту картину более точнымиданными петрографического анализа, то многооб-разие сырьевой практики мастеров, принадлежав-ших к одной группе, становится вполне очевид-ным. Например, показательны данные по скопле-нию в кв. Ж/5, где один из сосудов изготовлен изестественно отощенной глины, возможно, с доба-ками малочисленной крупной отощающей фрак-ции, а другой – из глины с добавками шамота. Ещеболее показательны материалы из скопления в кв.А-Б/5-6, где оказались представлены не только со-суды, изготовленные по разным рецептурам с ис-
пользованием шамота и породных обломков, но исосуды, по-разному оформленные. Один из нихбыл украшен вертикальным зигзагом, у другого навнешней поверхности вместо узоров располагалисьпредположительно веревочные оттиски.
Кроме того, как мы помним, исходя из данныхпланиграфического анализа и условий сохранно-сти керамики можно предполагать, что все скоп-ления из раскопа 1 отложились одновременно. Этов известной степени подтверждают и технико-морфологические характеристики найденной вних посуды. Если все так, то степень возможнойполиморфности осиповского гончарства становит-ся еще более очевидной, т.к. сосуд из скопления вкв. В/9 резко отличается от посуды в других скоп-лениях раскопа 1 еще и специфическим минера-логическим составом.
Есть еще один важный нюанс, придающей оси-повской керамике заметную полиморфность. Речьидет о том, что выделяющиеся внутри нее хроноло-гические группы представлены очень небольшимколичеством сосудов. Данное обстоятельство, по-видимому, указывает на то, что набор сосудов у каж-дой из обитавших на стоянке групп осиповского на-селения был довольно ограниченным. Это можнообъяснить либо функциональной спецификой сто-янки, либо действительной ограниченностью ко-личества керамических емкостей, используемыхв то время в быту.
Общее и особенное
Итак, попытаемся сформулировать общие иособенные характеристики осиповского керами-ческого комплекса поселения Гончарка-1.
Прежде всего отметим, что ни один из его при-знаков не является всеобщим, но в то же время вы-деляется некоторый их набор, который можно счи-тать наиболее показательным или типичным дляопределения осиповского гончарства: присутствиев составе теста в разных комбинациях шамота, тра-вы и породных обломков; гребенчатые трасы , со-хранившиеся от технической обработки стенок; ан-гобирование поверхностей; сквозные отверстия подвенчиком; наличие декора в той или иной форме;украшение обреза венчиков. Нетрудно заметить,что перечисленные характеристики определяют впервую очередь своеобразие первой и четвертойтехнико-морфологических групп. Количественноименно они и преобладают в коллекции.
Ярче всего типично осиповские признакипредставлены на сосудах из заполнения криоген-ных морфоструктур, а также из скоплений в раско-пах 1 и 3. Исходя из имеющихся радиоуглеродныхдатировок мы можем достаточно уверенно гово-рить, что первые связаны с наиболее ранним эта-пом обитания осиповцев на памятнике, вторые – сболее поздним. Учитывая существенную хроноло-гическую разницу между ними, мы можем отме-
188
тить, что основные признаки осиповского гончар-ства оказались довольно устойчивыми.
В то же время, опираясь на имеющиеся дати-ровки, мы можем обозначить и некоторую времен-ную динамику в трансформации осиповского гон-чарства. В этом смысле намечается тенденция кувеличению объема отощающей фракции до ра-зумной и обоснованной с точки зрения современ-ного гончарного производства цифры в 20-30%,тогда как в керамике из криогенных трещин и сре-ди разрозненных находок она обычно не превыша-ет 10-15%. Мы видим также некоторое огрублениеотощающей фракции. Если для более ранних ма-териалов характерна тонкотекстурная примесь свключениями отдельных крупных частиц, то за-тем наблюдается постепенный переход к разнозер-нистости, которая на сосуде из скопления в кв. Д’/4-5 представлена в наиболее ярком виде в сочета-нии с увеличенным объемом отощителя.
Определенная динамика видна и в оформлениисосудов. Керамику из заполнения криогенныхжил отличает отсутствие узоров. На стенках еесосудов фиксируются только оттиски веревочно-го инструмента, который в строгом смысле этогослова нельзя считать декором. Но важно, что и вэтом случае мы имеем уже противопоставление на-ружной и внутренней поверхностей сосудов с точ-ки зрения окончательного их оформления. На по-зднем этапе это приводит к появлению на внешнихстенках посуды декоративных узоров.
В свете сказанного можно отметить, что кера-мика из погребения, не имеющего радиоуглерод-ной датировки, по своим характеристикам боль-ше похожа на более раннюю группу осиповской по-суды. На это указывают степень ее сохранности,объем и текстура примесей, отсутствие декора.
Менее всего типичные осиповские черты пред-ставлены в группе сосудов с валиками и у сосуда сотпечатками фигурного штампа из кв. З/16. Пер-вые лишены трас, не имеют декора на обрезе вен-чика и отверстий под ним, последний отличаетсяотсутствием ангоба и также отверстий под венчи-ком. Мы видим также на этой посуде существен-ные перемены в орнаментации и появление ново-го минералогического типа сырья, используемогодля отощения глины – гранитного. С типично оси-повским набором признаков эту посуду роднитнабор компонентов формовочной массы (шамот,трава, породные обломки) и некоторые характер-ные для остальной осиповской керамики способыих обработки (измельчение травы, разнозернис-тость отощающей фракции).
К сожалению, мы не знаем точную хронологи-ческую позицию данной посуды по сравнению скерамикой из скоплений в раскопах 1 и 3. Учиты-вая выявленные между ними различия, было быкрайне интересно понять, отражают ли они даль-нейшее развитие осиповского гончарства или пред-ставляют собой некий обособившийся его вариант,одновременный находкам из горизонта 3Б.
ГЛАВА 5
ПОСЕЛЕНИЕ ГОНЧАРКА-1 И НЕКОТОРЫЕПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСИПОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Как видно из предыдущих глав, при раскопкахпоселения Гончарка-1 был получен значительныйпо объему материал. Его анализ позволяет в новомсвете взглянуть на многие проблемы дальневосточ-ной археологии, связанные с изучением осиповскойкультуры и эпохи перехода от палеолита к неоли-
ту в целом. Не претендуя на окончательное их ре-шение, мы попытаемся в данном разделе остано-виться только на тех вопросах, которые в первуюочередь и непосредственно вытекают из привлече-ния к этой проблематике материалов поселенияГончарка-1.
ГОНЧАРКА-1, ГАСЯ, ХУММИ:СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ
Данное исследование было бы, безусловно, не-полным, если бы авторы не попытались соотнестиосиповский комплекс Гончарки с материаламидругих осиповских памятников. Такая работа мог-ла бы оказаться полезной в том числе и с точки зре-ния понимания более общих вопросов историогра-фии осиповской культуры. Здесь в первую очередьнадо отметить, что характеристика последней досих пор давалась в литературе только по материа-лам отдельных осиповских коллекций, сравни-тельный их анализ за редкими исключениямипрактически не проводился [Шевкомуд 2002 б;2005 б; Кузнецов 2003; Медведев 2005]. Неудиви-тельно поэтому, что и сегодня, спустя десятки летпосле своего открытия, осиповская культура пред-стает перед исследователями единым и нерасчле-ненным во времени и пространстве феноменом.
В этом отношении проведение сравнительнойхарактеристики осиповских памятников само посебе имеет большую научную ценность. С учетомже материалов Гончарки оно тем более интересно,что последние благодаря свой отличной сохранно-сти и обеспеченности данными радиоуглероднойхронологии, палинологии и стратиграфии позво-ляют наметить реальные перспективы в подобно-го рода исследованиях.
Конечно, число раскопанных осиповских па-мятников за последние годы существенно возрос-
ло [Шевкомуд 1996 в; 1998; 2002; 2003 б; 2004 б;Шевкомуд и др. 2002 а, б, в; 2004 б], и их сравни-тельный анализ требует проведения отдельногобольшого исследования. Но в рамках данной мо-нографии вполне возможно ограничиться сопос-тавлением материалов Гончарки с коллекциямидвух самых известных осиповских памятников –поселений Гася и Хумми. Так сложилось, чтоименно они формируют сегодня представления обосиповской культуре. К тому же их материалыподробно опубликованы и дают реальную возмож-ность для проведения такого рода работы.
Гася
Памятник обнаружен А.П. Окладниковым в1935 г. [1980: 14]. Раскопки проводились под егоже общим руководством в 1975-1976, 1980 гг. [Ок-ладников, Медведев 1983], а затем в 1986-1987,1989-1990 гг. [Деревянко, Медведев 1992 а, б;1993; 1994; 1995]. Непосредственное руководствоходом работ все эти годы осуществлял В.Е. Медве-дев. За это время было вскрыто в общей сложнос-ти около 850 кв. м [Медведев 1995: 228].
Особенностью поселения Гася является его мно-гослойность. Здесь представлены остатки целойгруппы культур – неолита, палеометалла, ранне-го средневековья, а также наслоения нанайскоговремени. Культурные отложения местами состав-
190
ляют толщу до двух метров и более. Разные его оби-татели неоднократно перемещали большие массыгрунта при строительстве долговременных жилищс углубленными котлованами, рытье различныхям хозяйственно-бытового назначения и тому по-добной деятельности. В результате основная частьархеологических материалов оказалась переотло-жена [Деревянко, Медведев 1993: 3-4].
Исключение составляют самые ранние литоло-гические слои памятника, в которых как раз и со-держались осиповские культурные остатки. Со-гласно данным по раскопу 1 (1980 г.), самый ниж-ний слой 6 был представлен плотной комковатойглиной светло-коричневого или красноватого цве-та. Исследователи характеризуют его как матери-ковый, но отмечают, что в нем содержались ар-хеологические находки. Выше залегал слоистый,пестрый, местами светло-желтый суглинок 5. От-мечается также, что на довольно больших участ-ках поздние нарушения наблюдались и в этих сло-ях, когда в них были впущены котлованы неоли-тических жилищ и ямы [Там же].
Следует отметить, что четкого разделения оси-повских находок согласно их распределению влитологических слоях исследователи памятникане приводят, хотя в тексте публикаций и иллюст-рациях можно выделить артефакты из слоя плот-ной комковатой глины. Находки из двух нижнихслоев рассматриваются ими как единый комплексосиповской культуры, соответствующий одномукультурному горизонту [Там же: 3, 20-27]. Одна-ко три радиоуглеродные даты этого горизонта на-ходятся в общем интервале 10900-13000 л.н.1 иотражают длительный характер накопления свя-занных с ним отложений. При этом наиболее ран-няя дата относится к слою 6, а две поздние – кслою 5 [Медведев 1995: 234; 2008 а: 156].
Исходя из приведенных данных мы можемпредполагать, что плотная комковатая глина 6 изстратиграфического разреза Гаси примерно соот-ветствует отложениям финала плейстоцена и мо-жет быть соотнесена с плотными коричневымимешаными суглинкам Гончарки-1 из криогенныхдеформаций, а вышележащий слоистый суглинок5 отражает события аллереда-позднего дриаса, чтов целом и показывают радиоуглеродные даты.
К сожалению, материалы Гаси известны намтолько по публикациям, однако опубликованыони достаточно подробно [Деревянко, Медведев1992 а, б; 1993; 1994; 1995]. Кроме того, имеетсясерия работ обобщающего характера, посвящен-ных различным проблемам неолитоведения югаДальнего Востока России, где также рассматрива-ются материалы этого памятника [Медведев 1995,2005, 2008 б и др.].
К а м е н н ы й и н в е н т а р ь
Для сравнительной характеристики каменно-го инвентаря использовались прежде всего арте-
факты из нижнего культурного горизонта Гаси, восновном из слоя комковатой глины. Затем по воз-можности привлекались изделия из верхних сло-ев памятника, типологическая идентификация ко-торых не вызывала сомнений.
К сожалению, опубликованные материалыдают лишь очень ограниченную информацию о ко-личественном составе каменного инвентаря, что,конечно, затрудняет сравнение. Но мы предпола-гаем, что все или почти все нуклеусы и орудия по-лучили в публикациях иллюстративное отраже-ние, поэтому и позволяем себе некоторые весьмаориентировочные в этом отношении оценки. Дру-гая проблема – некоторые различия в терминоло-гии. Например, это относится к тесловидно-скреб-ловидным орудиям, которые нами характеризуют-ся по большей части как скребки. С целью преодо-ления этих сложностей, там где это возможно, мыиспользовали собственные функционально-типо-логические определения гасинских артефактов.
О сырье для каменных орудий авторы раскопокпишут так: «Следует подчеркнуть, что из темно-го, порой почти матово-черного кремнистого слан-ца (ороговикованного алевролита серого цвета. –Авт.) сделано подавляющее большинство орудийтруда. Небольшая часть инструментария изготов-лена из кремнистых пород светло-серого, зелено-вато-серого и коричневого цвета, а также из хал-цедона и яшмы» [Деревянко, Медведев 1993: 26].Более подробная характеристика сырья, к сожа-лению, не приводится, но по вышеприведенномуи другим описаниям из отчетов можно предпола-гать, что оно по основным признакам было близкок тому, что фиксируется в коллекции Гончарки.
Первичное расщепление Гаси ориентировано наполучение конечного продукта, характеризую-щегося микроформами, и в целом аналогично ин-дустрии Гончарки.
Нуклеусы составляют очень немногочисленнуюсерию. Так, в нижнем горизонте раскопа 1 (наи-большего по размерам раскопанной площади – 226кв. м) их найдено всего три [Там же: 23]. Средимикропластинчатых нуклеусов представлены кли-новидные на бифасах, выполненные с применени-ем технологических приемов метода юбецу [Sato,Tsutsumi 2007: 57; Деревянко, Медведев 1992 б:рис. 13, 3; 1993: рис. 38, 10; 78, 7; 1995: рис. 11,7]. Единичны торцовые нуклеусы с высоким фрон-том на специальных заготовках с полным оформ-лением площадки, латералей и киля, а также га-лечные торцовые нуклеусы с разной степеньюоформления площадки и латералей [Деревянко,Медведев 1992 б: рис. 13, 1; 1993: рис. 44, 2; 1995:рис. 45, 8]. Другой вариант расщепления представ-лен галечными микронуклеусами плоскостногопринципа скалывания с широким фронтом и ско-шенной площадкой, служившими для получения
1Значения дат округлены до ближайших 100 лет.
191
мелких отщепов [Деревянко, Медведев 1993, рис.64, 8; 1994: рис. 64, 2; 1995: рис. 45, 9].
Специализированных нуклеусов для получе-ния крупных пластин в Гасе, как и в Гончарке, невыявлено. Имеются редкие артефакты палеолити-ческого облика с негативами пластинчатых сня-тий, охарактеризованные как «скребловидно-нук-левидные инструменты», но они со всей очевидно-стью могут быть отнесены к бифасиальному комп-лексу [Деревянко, Медведев 1993: 24-25].
В коллекции Гаси обращают на себя вниманиедва подпризматических нуклеуса с прямыми пло-щадками из нижнего слоя раскопа 1 [Там же: рис.64, 2, 3]. Отдельные находки изделий аналогично-го облика имеются и в верхних слоях памятника.Дело в том, что призматическая техника в целомне характерна для осиповских комплексов, но в тоже время она широко распространяется в Ниж-нем Приамурье в эпоху раннего и среднего неоли-та, т.е. она выступает здесь как более позднее яв-ление. Поэтому не исключено, что попадание нук-леусов призматических модификаций в осиповс-кий слой Гаси было случайным.
В связи с этим следует обратить внимание на то,что в верхних слоях памятника была найдена ке-рамика кондонской культуры, украшенная амур-ской плетенкой в сочетании с другими типичны-ми для этой культуры узорами: поясами наклон-ной многозубой гребенки, кольцевидными штам-повыми оттисками, прочерченными поясками подвенчиком, заполненными наклонными удлинен-но-овальными оттисками и др. [Там же: рис. 6, 7;10, 5; 14, 1-3; 32, 4]. Данная группа керамики в ма-териалах Гаси может быть легко отделена от ма-лышевской, для которой также была характернаорнаментация в виде амурской плетенки, но в со-четании с совершенно иными вариантами декора,специфичными уже для малышевской культуры.На наличие в Гасе кондонской керамики указыва-ет и В.Е. Медведев [2003 б: 166-167].
Из факта обнаружения в Гасе кондонской ке-рамики, в том числе в малышевских комплексах(см., в частности, жилище 2 раскопа 1980 г. [Де-ревянко, Медведев 1993: рис. 52, 5, 6]), приходит-ся делать вывод о возможном наличии в отложе-ниях памятника еще одного культурного слоя –кондонского, который мог быть разрушен его по-зднейшими обитателями, например при сооруже-нии жилищ малышевской культуры. Другое дело,что он был, видимо, маломощным и не отличалсявысокой насыщенностью артефактами. Современ-ные данные о культурной хронологии НижнегоПриамурья свидетельствуют о том, что этот слойдолжен быть моложе осиповского, но древнее ма-лышевского [Шевкомуд, Кузьмин 2009].
Присутствие в материалах Гаси кондонскойкерамики может объяснить присутствие в них ипризматических нуклеусов, т.к. призматическаятехнология расщепления была характерна имен-
но для кондонской культуры, а не для малышев-ской или осиповской [Шевкомуд 2008]. Разумеет-ся, в этой довольно неопределенной ситуации доконца исключать связь их с осиповским комплек-сом тоже нельзя. Но даже если это и было так, на-ходки микропризматических нуклеусов в осипов-ских памятниках следует признать редкими.
В любом случае сегмент первичного микрорас-щепления в осиповской коллекции Гаси представ-лен незначительно, и можно считать, что его ко-нечный продукт не имел широкой сферы приме-нения в индустрии этого памятника, что отмеча-лось нами и для материалов Гончарки-1.
Среди каменных артефактов осиповской куль-туры в Гасе представлено большинство изделий,выделенных нами в коллекции Гончарки. Техни-ческие приемы литообработки и их удельный весв инвентаре также особых различий не обнаружи-вают. Более всего для Гаси характерна фасиальнаятехнология обработки орудий, большинство изде-лий – бифасы или унифасы (в основном с подтес-кой). Имеются различные орудия на отщепах скраевой, преимущественно дорсальной ретушью,а также на пластинчатых снятиях.
Для коллекции наконечников метательныхорудий нижнего слоя Гаси прежде всего характер-ны симметричные лавролистные бифасы крупныхи средних размеров1. Довольно много наконечни-ков стрел, в основном лавролистных, листовидныхи иволистных в плане [Деревянко, Медведев, 1992б: рис. 11, 1; 17, 3; 1994: рис. 20, 2; 1993: рис. 45,4]. Среди них важно отметить единичные изделияс односторонней боковой выемкой у основания [Де-ревянко, Медведев 1992 б: рис. 25, 2; 1993: рис.22, 5]. Имеются и редкие черешковые наконечни-ки стрел, в частности листовидные с подтреуголь-ным коротким и удлиненным черешком [Деревян-ко, Медведев 1992 б: рис. 27, 1; 1994: рис. 19, 1;20, 1], а также иволистный с черешком и мелки-ми боковыми выступами у основания [Деревянко,Медведев 1994: рис. 20, 5], листовидные с асим-метричным черешком [Деревянко, Медведев 1993:рис. 74, 5-6].
Все перечисленные разновидности наконечни-ков имеются и коллекции Гончарки. Однако приих сопоставлении с гасинскими обращает на себявнимание, что наконечников стрел в Гасе меньше,а ассортимент их в целом беднее, в том числе этокасается и их черешковых разновидностей. Такимобразом, наконечники стрел в Гончарке-1 болеемногочисленны, а их типология выглядит болееразнообразной и развитой.
Широко представлены в осиповских материа-лах Гаси различные ножевидно-скребловидныеорудия на бифасах крупного и среднего размерно-го ранга. Среди них особо следует отметить четко
1Распределение бифасов со стоянок Гася и Хумми поразмерным рангам в данном разделе проводилось на тех жеоснованиях, что и при описании материалов Гончарки.
192
выделяющуюся группу крупных листовидных би-фасов со срединным сужением в плане, за счет ко-торого одна половина бифаса получалась более уз-кой. При этом более узкий конец орудия приост-рен, а широкий иногда заовален [Деревянко, Мед-ведев 1993: рис. 47, 4; 69, 4; 1994: рис. 19, 10]. Вэтой группе имеются симметричные и слабо асим-метричные экземпляры. Можно предполагать, чтоданные орудия использовались как клинки ножейс выделенной рукоятью. Важно отметить, что вГончарке такие изделия не выявлены.
Для большинства ножевидно-скребловидныхбифасов Гаси, как и для аналогичных орудий Гон-чарки, характерны полиморфность и асимметрич-ность по длинной оси, хотя имеются и симметрич-ные широкие модификации [Деревянко, Медведев1992 а: рис. 13, 2; 14, 1; 1994: рис. 19, 5; 1995: рис.17, 2]. Среди асимметричных бифасов в обеих кол-лекциях имеются листовидные, миндалевидные,близкие к полулунным [Деревянко, Медведев 1992а: рис. 13, 1; 1993: рис. 65, 1, 2, 4, 5; 66, 3, 5; 70, 3-4].
В Гасе обнаружены крупные экземпляры клин-ков удлиненных асимметрично-листовидныхочертаний с зубчатыми краями [Деревянко, Мед-ведев 1992 б: рис. 19, 5; 24; 1993: рис. 44, 5]. Та-кие клинки отсутствуют в материалах Гончарки.
Интересные результаты дает сопоставление тес-ловидно-скребловидных орудий и скребков. ВГасе, как и в Гончарке-1, отмечается присутствиетесловидно-скребловидных орудий массивноготипа с бифасиальной обработкой, хотя таких из-делий в гасинской коллекции немного [Деревян-ко, Медведев 1992 а: рис. 12, 1; 14, 2; 1993: рис.76, 5]. Тесловидно-скребловидные орудия другоготипа – тонкие – в материалах Гаси прослежены вединичных экземплярах [Деревянко, Медведев1992 а: рис. 24, 7]. Среди скребков в Гасе, как и вГончарке, имеются и бифасы, и унифасы (чаще сподтеской). Размеры их также одинаковы – обыч-но это крупные или средние орудия.
Для Гаси более характерны миндалевидные иовальные скребки с прямым или закругленнымлезвием [Деревянко, Медведев 1992 б: рис. 25, 1,3; 27, 5; 1993: рис. 71, 1-2; 76, 1, 3, 5; 79, 3, 5]. Встре-чаются скребки с плавным профильным изгибомлинии лезвия к брюшку. Треугольных скребков вГасе мало, представлены бифасы и унифасы с под-теской со стороны брюшка [Деревянко, Медведев1992 а: рис. 15, 2; 1993: рис. 70, 1-2]. Интересно,что миндалевидные и овальные скребки с прямымлезвием в коллекции Гончарки не отмечены вов-се, но большую серию образуют, напротив, скреб-ки треугольные. Для всех групп скребков Гончар-ки типичен приостренный насад. В Гасе распрост-ранены скребки с заоваленным насадом. В целомтипология концевых скребков и тесловидно-скреб-ловидных орудий выглядит в Гончарке более раз-витой и четкой.
В нижних слоях Гаси присутствуют тесла-би-
фасы: массивные, удлиненно-миндалевидные иовальные в плане [Деревянко, Медведев 1992 а:рис. 11, 1-2; 1992 б: рис. 15, 1-2; 1993: рис. 71, 4].Аналогичные изделия обнаружены и в верхнихслоях памятника. Характерны они и для коллек-ции Гончарки.
В Гончарке, как известно, представлена целаясерия шлифованных тесел, в Гасе найдено толькоодно такое орудие, точнее обломок его лезвийнойчасти. Оно имело овальное сечение, прямые краяи слабозакругленное лезвие, зашлифовано по всейповерхности [Деревянко, Медведев 1994: рис. 24,5]. По утверждению В.Е. Медведева, данное теслобесспорно связано с осиповским слоем [2005: 238],однако отметим, что по форме в плане оно отлича-ется от тесел Гончарки-1.
Продолжая тему шлифованных орудий, упомя-нем, что в верхних слоях Гаси были найдены на-конечники стрел с узкими двухсторонними сто-ченными фасками по краям [Деревянко, Медведев1993: рис. 22, 8; 38, 6]. Аналогичные артефактыесть в Гончарке, а также в коллекциях других оси-повских памятников. Можно предполагать, что вГасе они также осиповские.
Резцевидные изделия в Гасе, как и в Гончарке,изготовлены на отщепах и характеризуются невы-разительностью по морфологии и относительнойнемногочисленностью [Деревянко, Медведев 1993:рис. 38, 1; 65, 6; 67, 1].
Что касается орудий на ретушированных отще-пах, то в Гасе таковые, конечно, присутствуют [Де-ревянко, Медведев 1992 б: рис. 27, 6; 1993: рис.62, 1; 67, 6; 75, 2-3], но здесь нет четких серий но-жевидно-скребловидных орудий угловатых, а так-же с выделенным шипом, известных нам по мате-риалам Гончарки-1. Отдельные экземпляры такихизделий, однако, встречаются среди находок изверхних слоев [Деревянко, Медведев 1993: рис. 26,7; 36, 2; 1995: рис. 11, 8; 38, 5]. Не исключено, чторанее они просто не привлекали внимания иссле-дователей Гаси, проигрывая в эффектности мно-гочисленным бифасиальным орудиями. В целомможно отметить, что изделия на ретушированныхотщепах в Гончарке представляют более развитыйнабор по сравнению с гасинскими.
В коллекции Гаси имеются также пластинча-тые снятия с краевой ретушью [Деревянко, Мед-ведев 1993: рис. 67, 2, 4; 1995: рис. 38, 7]. Они еди-ничны, ретушь небрежная, однорядная, мелкая,поэтому их довольно трудно сравнивать с ножевид-но-скребловидными орудиями на пластинчатыхснятиях Гончарки-1, которые, несмотря на поли-морфность, отличаются качественной ретушью.
Важным отличием материалов Гаси являетсяприсутствие в них довольно большого количествагрузил, оформленных пикетажем: с одним желоб-ком, с двумя параллельными или перекрестнымижелобками, гиревидные и др. [Деревянко, Медве-дев 1993: рис. 40, 1; 72-73; 1994: рис. 23, 1-2; 65].
193
Они встречены как в нижних слоях памятника,так и в верхних, и довольно уверенно связывают-ся с осиповским комплексом как стратиграфичес-ки, так и на основании аналогий с материалами па-мятников Хехцирского геоархеологического рай-она (Амур-2, Осиновая Речка-10 и др.).
Из редких орудий в коллекции Гаси отметиммотыговидные землеройные инструменты, а так-же струг [Деревянко, Медведев 1994: рис. 22; 23,3], в Гончарке-1 они не обнаружены.
Заканчивая сравнительный обзор каменногоинвентаря, необходимо отметить принципиаль-ную общность в основных параметрах и направлен-ности каменных индустрий Гаси и Гончарки, а так-же технико-типологическое сходство их орудий.Несомненно, за всем этим стоит культурное един-ство обитателей памятников.
Гася и Гончарка-1 расположены относительнонедалеко друг от друга, около 70 км по прямой(рис. 1), но, как показывает наш обзор, в их мате-риалах имеются и вполне очевидные различия –как в сегменте первичного расщепления, так и ворудийном наборе. Они проявляются и в количе-ственных, и в качественных характеристиках.
При общем сходстве сырьевых и технико-типо-логических параметров первичного расщепленияобращает на себя внимание несколько большаяраспространенность в гасинской коллекции кли-новидных микронуклеусов на бифасах и близкихим по облику торцовых вариантов с высоким фрон-том и полным оформлением латералей и киля, атакже редкость торцовых галечных нуклеусов сминимальным оформлением, весьма характерныхдля Гончарки-1.
Орудийный комплекс Гаси выглядит несколь-ко архаичнее того, что представлен в материалахГончарки, т.к. он включает не столь развитый имногочисленный набор наконечников стрел,скребков, тесловидно-скребловидных орудий, но-жевидно-скребловидных изделий на отщепах –угловатых и с выделенным шипом. С этой точкизрения очень показателен тот факт, что в Гончар-ке представлены уже устойчивые серии таких из-делий. Не выражены в материалах Гаси и абразив-ные технологии.
В то же время в гасинской коллекции присут-ствуют оригинальные бифасы – листовидные сосрединным сужением, крупные асимметрично-листовидные клинки с зубчатыми краями, – ко-торые отсутствуют в Гончарке. При общем болеераннем облике индустрии в Гасе неожиданнымвыглядит большое количество и развитый наборгрузил разных размеров и типов, оформленныхприемами пикетажа. Можно предполагать, чтоосиповские обитатели утеса Гася были в большейстепени связаны с рыболовством, тогда как кол-лекция Гончарки отражает в основном охотничьюнаправленность хозяйства.
К е р а м и к а
Поселение Гася было первым осиповским па-мятником, где в достоверном контексте были най-дены остатки керамической посуды [Медведев2003 а]. Находки эти получили широкое призна-ние и во многом именно на их основе у исследова-телей складывалось представление об общем обли-ке древнейшей керамической посуды ДальнегоВостока России. С этой точки зрения сопоставле-ние керамических коллекций Гаси и Гончаркипредставляется особенно важным.
Известно, что осиповская керамика была най-дена практически по всей раскопанной площадигасинского поселения. В основном это были от-дельные разрозненные обломки, не образующиескопления, но были и исключения. Таковым яв-ляется раздавленный сосуд с плоским дном из рас-копа 1 (1980 г.), известный практически всем за-интересованным исследователям как в России, таки за рубежом. Сосуд был найден в углистом скоп-лении практически в основании культурных отло-жений [Деревянко, Медведев 1993: рис. 81]. Не-давно были опубликованы и другие находки. В ихчисле отдельные керамические обломки из раско-па 1, залегавшие несколько выше упомянутогососуда, а также из раскопа 2. В первом случае упо-минается не менее 30 фрагментов, однозначно ат-рибутированных как осиповские, во втором – 10таких фрагментов [Медведев 2008 а].
В.Е. Медведев, ссылаясь на результаты пет-рографического анализа, определяет примеси в со-ставе формовочной массы археологически целогососуда из раскопа 1 как искусственные. В их чис-ле он называет кусочки горных пород без следовкорки выветривания, окатанные зерна кварца, по-левого шпата, а в качестве дополнительных доба-вок – дробленый шамот и растительные остатки[Медведев 2003 а: 41; 2005: 240-241]. В разрознен-ной керамике из раскопа 1, по его мнению, основ-ным и «возможно искусственным» наполнителембыл мелкозернистый песок, дополнительным –мелкая окатанная дресва. Совсем редко в ее соста-ве удавалось выявить включения угловатых об-ломков раздробленной горной породы с размера-ми зерен 0,2-0,4 см [Медведев 2008 а: 158].
В керамике из раскопа 2 такая дробленая поро-да составляла, напротив, уже основную часть на-полнителя. Ее отличала неотсортированность икрупный размер частиц, достигавший 0,6-0,7 см.По мнению В.Е. Медведева, дробленая порода вво-дилась в тесто намеренно «в качестве отощите-лей». Дополнительным компонентом в составе ке-рамики из раскопа 2 была трава, которая фикси-ровалась в виде «тонких (видимо, рубленых) тра-вянистых стеблей» [Там же: 159].
Несколько иную характеристику дает И.С. Жу-щиховская [2004: 26-27]. В ее поле зрения оказа-
194
лось несколько разрозненных фрагментов. По ре-зультатам их осмотра в составе формовочной мас-сы были определены кварц, полевой шпат, слюда,«распределенные неравномерно и неупорядочен-ные по размерному рангу». По мнению И.С. Жу-щиховской, «так выглядит обычно естественнаяпримесь в глине». На поверхности и в изломах че-репков были выявлены неравномерно распреде-ленные характерные трубчатые пустоты длиной до1,5-2 см от включений растительной примеси.
Способы формовки гасинской керамики не вос-станавливаются. В этом отношении В.Е. Медведевотмечает, с одной стороны, отсутствие на ней «сле-дов спайки глиняных лент», а с другой стороны,ее слоистость, хорошо различимую как в горизон-тальных, так и в вертикальных изломах. Эти двапризнака, по его мнению, свидетельствуют, ско-рее, о формовке сосудов на шаблоне. К сожалению,в описаниях не конкретизируется, как именнофиксируется слоистость керамики, но на рисункахиз публикаций мы можем увидеть большинствопризнаков, характерных для керамики Гончарки:разный абрис наружных и внутренних поверхнос-тей [Медведев 2008 а: рис. 4, 6, 7, 9], следы накла-дывания друг на друга двух пластов глины [Тамже: рис. 4, 10], следы частично отслоившихся на-ружных поверхностей [Медведев 2008 б: рис. 2]. Опоследнем В.Е. Медведев упоминает и в тексте приописании керамики из раскопа 1 [2008 а: 158].
Любопытно, что отслаивание наружных по-верхностей исследователь связывает с еще однойчертой, очень интересной в плане сопоставления, –покрытием стенок сосудов «тонким слоем специ-ально приготовленной чистой глины», который иразрушался эрозией [Медведев 2008 а: 158]. Точ-но такое же наблюдение, было сделано и нами приизучении керамики Гончарки, внешние поверхно-сти которой, покрытые слоем тонкодисперснойглины, отличались очень плохой сохранностью.
Определенный интерес вызывают и отпечатки,сохранившиеся на стенках гасинских сосудов.Черепки из раскопа 1 имели «желобчатую илижелобчато-рифленую» орнаментацию на обеихповерхностях. Желобки наносились путем «про-таскивания или прочесывания» гребенкой. Осо-бенностью их нанесения, как и в случае с Гончар-кой, можно считать аккуратность. Как отмечаетВ.Е. Медведев, желобки располагались на одина-ковом расстоянии друг от друга, «более правиль-ные и ровные ряды» фиксировались на внешнихповерхностях, «наибольшая закономерность внанесении горизонтальных желобков» наблюда-ется на внутренней поверхности. Выделяютсяследующие варианты ориентации желобков: 1)снаружи вертикальные, внутри горизонтальные; 2)снаружи вертикальные и наклонные, внутри гори-зонтальные; 3) на обеих поверхностях наклонные.
Приводя характеристику орнаментации гасин-ской керамики из раскопа 1, В.Е. Медведев обра-
щает также внимание на гребенчатые оттиски, со-хранившиеся на обрезе венчика. Сопоставление ихс желобками на поверхностях сосудов (ширина иинтервалы между ними) привело исследователя квыводу о том, что и те и другие наносились одниминструментом [Там же: 159].
Черепки из раскопа 2 также имели орнамента-цию внутренних и внешних поверхностей, но ееособенности восстанавливаются с трудом ввиду ихсильной «замытости». На внутренних стенкахфиксируются горизонтальные ровные или слегкаволнистые желобки, иногда прерывистые из-заплохой сохранности, В.Е. Медведев считает их тех-ническим декором. На внешних орнамент пред-ставлен тремя группами [Там же: 160].
Во-первых, отпечатки шнура в виде вертикаль-ных рядов. В.Е. Медведев предполагает, что такиеотпечатки могла оставлять веревка, намотанная настержень. Кроме того, им отмечается возможностьнанесения веревочных рядов уже поверх техничес-ких желобков. Такая неуверенность проистекаетиз плохой сохранности оттисков декора.
Во-вторых, отпечатки шнура, организованныев зигзагообразные линии вертикальной, наклон-ной и, возможно, горизонтальной направленнос-ти. В.Е. Медведев пишет, что данный узор про-сматривается с трудом, «порой эпизодически»,виной чему все та же «замытость» черепков. На-ряду с отпечатками шнура в этой группе узоров ис-следователем фиксировались ногтевые оттиски.
В-третьих, узоры из сочетания оттисков шнураили ногтя с горизонтальными волнистыми узки-ми желобками.
По мнению И.С. Жущиховской, отпечатки,сохранившиеся на поверхностях гасинских череп-ков, были оставлены с одной стороны лопаточкой,обернутой органическим материалом, а с другой –плетеным шаблоном, на основе которого проводи-лась формовка [Жущиховская 2004: 28, 41-43, 45;Zhushchikhovskaya 1997]. Присутствие сетчатыхотпечатков плетеных изделий на отдельных череп-ках из гасинской коллекции первоначально отме-тил и В.Е. Медведев [2003 а: 42], но в его после-дней работе, посвященной гасинской керамике,таких данных уже нет [2008 а].
Обобщая результаты нашего краткого анализагасинской посуды, мы должны отметить одно важ-ное, на наш взгляд, обстоятельство. В.Е. Медведев,сравнивая черепки из раскопов 1 и 2, отмечал ихпринципиальное единство, проявляющееся преж-де всего в декоративно-художественном оформле-нии посуды. Показателем такого единства он счи-тал наличие на стенках сосудов «желобчатого де-кора» [2008 а: 161]. Нам бы хотелось обратить вни-мание на различия в осиповской керамике посе-ления Гася.
Так, явно отличаются друг от друга раздавлен-ный сосуд и разрозненные черепки из раскопа 1.Сосуд был изготовлен из теста с примесью мине-
195
ральных включений, травы и шамота. Последниедве добавки при характеристике разрозненной ке-рамики В.Е. Медведевым не упоминаются, что неможет быть случайностью, т.к. в этом раскопебыло найдено не менее 30 черепков и состав тестав них просматривался достаточно хорошо ввидуплохой сохранности поверхностей.
Далее, технический орнамент на стенки цело-го сосуда наносился, по мнению В.Е. Медведева,прокатом инструмента, обмотанного травой, тог-да как на разрозненных черепках – протаскивани-ем гребенчатого инструмента. Спутать оба вида от-печатков, конечно, можно, но в этом случае, на-верное, в интерпретациях исследователя чувство-валась бы некоторая неуверенность, как, напри-мер, мы это видим в его описаниях узоров на «за-мытой» керамике из раскопа 2.
Последняя, видимо, также должна быть выде-лена в отдельную группу. Она отличается и по со-ставу теста (крупные неотсортированные зернадробленой горной породы, трава), и по характеруотпечатков на поверхностях (нечеткость оттисков,вертикальные ряды или зигзагообразные компо-зиции из оттисков шнура на наружных поверхно-стях, горизонтальные или волнистые ряды узкихжелобков внутри). Можно также увидеть некото-рое сходство между черепками из раскопа 2 и раз-давленным сосудом из раскопа 1. Их объединяетприсутствие травы в составе теста, а также в опре-деленной степени и характер отпечатков на вне-шних поверхностях – прокат ролика, обмотанно-го травой, в одном случае и отпечатки шнура, «ви-димо, намотанного на стержень» – в другом.
Если наши наблюдения верны, то нам следуетсделать вывод о том, что гасинская керамика пред-ставлена как минимум двумя группами. Одна изних (сосуд из раскопа 1 и разрозненные обломкииз раскопа 2) не находит прямых аналогий в кера-мике поселения Гончарка-1. Некоторое сходствос ней обнаруживают лишь отдельные фрагментыиз заполнения криогенных клиньев, которое про-является в присутствии на поверхностях неясно-го декора, предположительно нанесенного веревоч-ным инструментом. Однако для уверенных заклю-чений на этот счет необходимо проведение допол-нительных исследований и непосредственный ана-лиз гасинской посуды.
Другая группа (разрозненные обломки керами-ки из раскопа 1), напротив, как будто повторяетосновные черты керамики Гончарки. При этомнадо отметить, что в данном случае наибольшеесходство обнаруживается с керамикой первой тех-нико-морфологической группы Гончарки (сосудыиз кв. В/9, Ж/5, горизонт 3Б). И здесь наиболеепоказательны такие признаки, как отсутствие ви-димой примеси травы и сходный характер обработ-ки поверхностей, осуществлявшейся регулярны-ми протаскиваниями гребенчатого инструмента.
Рассматривая вопрос о возрасте разрозненных
осиповских черепков из гасинской коллекции,В.Е. Медведев предполагает наличие в ней двуххронологически дискретных групп [2008 а: 161].Более ранней он считает керамику из раскопа 2 наосновании ее сходства с черепками из раскопа 4,где по углю из слоя 5 были получены две радиоуг-леродные даты: 10 875±90 (АА-13393) и 11 340±60(GEO-1413). Более поздней В.Е. Медведев уверен-но называет керамику из раскопа 1, связывая ее сзавершающей фазой существования осиповскогонаселения – примерно 10 000 л.н.
Таким образом, оценивая ситуацию в целом,можно сказать, что в составе гасинской коллекциивыделяются три хронологических группы осипов-ской керамики. Первая – самая ранняя – связанас раздавленным сосудом из раскопа 1, вторая – сразрозненными черепками из раскопа 2, третья –самая поздняя – с разрозненными черепками израскопа 1. Однако эти выводы пока можно рас-сматривать лишь как предварительные.
С нашей точки зрения, наиболее оправданны-ми выглядят заключения В.Е. Медведева о срав-нительно позднем возрасте керамики из раскопа1, т.к. по технико-типологическим характеристи-кам она перекликается с надежно датированнойкерамикой горизонта 3Б поселения Гончарка-1, атакже о раннем возрасте раздавленного сосуда израскопа 1. Ситуация с керамикой из раскопа 2 ос-тается пока не до конца понятной. Она датирует-ся В.Е. Медведевым только на основании анало-гий с керамикой из раскопа 4, которая пока неизвестна специалистам. Кроме того, если отмечен-ное нами сходство между сосудом из раскопа 1 ичерепками из раскопа 2 действительно имеет мес-то, то последние могут иметь более древний воз-раст, чем это предположил исследователь.
Хумми
Поселение Хумми является одним из наиболеесеверных памятников осиповской культуры. Онорасположено примерно в средней зоне НижнегоПриамурья, на правом берегу р. Амур, в 20 кмвыше по течению от г. Комсомольска-на-Амуре.Памятник был открыт в 1989 г. З.С. Лапшиной, ав 1991-1995, 1997 гг. под ее же руководством про-водились его раскопки. Материалы этих исследо-ваний опубликованы в серии статей и монографии[Лапшина 1999, 2009 и др.].
В ходе работ на поселении помимо осиповскихбыли выявлены культурные остатки еще несколь-ких периодов: вознесеновской культуры поздне-го неолита, урильской культуры раннего железа,а также культуры амурских чжурчжэней (по-кровской) раннего средневековья. Многослой-ность памятника заставляет нас обратить особоевнимание на его стратиграфию.
Надо отметить, что результаты работ на памят-нике, в том числе и его стратиграфия, уже былиподвергнуты очень серьезному и всестороннему
196
критическому анализу [Кузнецов 2003]. К сожа-лению, он был опубликован в японском издании,доступном не всем российским исследователям.Отчасти соглашаясь с высказанными в нем заме-чаниями, мы, тем не менее, считаем необходимымпредставить в данном разделе собственное видениеситуации.
Поселение Хумми расположено на узком мы-совидном, в виде гребня, выступе сопки, образо-ванном Амуром и ручьем Хуммийским. Склон,обращенный к Амуру, крутой (30-40°), с выступа-ми коренных пород (песчаников, алевролитов), асклон, направленный к долине ручья, пологий (10-12°), перекрыт рыхлым щебнисто-суглинистымчехлом. Четыре смежных раскопа общей площа-дью 544 кв. м1 были вытянуты вдоль гребня водо-раздела и занимали относительно узкую, выполо-женную в средней его части площадку высотой от12 до 35 м над уровнем Амура [Лапшина 1999: 30;2009].
З.С. Лапшина выделяет в отложениях памят-ника пять литологических слоев. Кровля субаэ-рального чехла представлена слабогумусирован-ной буроватой почвой с корешками растений 1,мощность которой варьировала от 4 до 7 см, и лег-ким серовато-коричневатым суглинком с редкимиугольками 2 мощностью 18-20 см. Оба эти слоя со-ставляют верхний культурный горизонт памятни-ка. При этом отмечается, что на значительной пло-щади раскопов 1 и 2 этот горизонт почти не сохра-нился [Лапшина 1999: 30].
Общая мощность нижнего культурного гори-зонта, согласно описаниям, колеблется в пределахот 18 до 45-60 см. Он представлен тремя литологи-ческими слоями: легким серовато-желтым суглин-ком с угольками 3 толщиной 18-20 см, легким бе-лесым «порошкообразным» суглинком с уголька-ми 4 толщиной от 2-5 до 20 см, а также тяжелымсеровато-темно-коричневым суглинком 5 толщи-ной до 300 см, в верхних 5-20 см которого залега-ли осиповские артефакты [Там же].
З.С. Лапшина отмечает, что от кв. 3 далее внизпо склону существенно – до 5 см – уменьшаласьмощность слоя 4. Он сохранялся здесь только ввиде тонких линз и на отдельных участках, а наостальных участках вместо него появлялась «про-слойка перемешанного серовато-желто-белесогосуглинка, возникшая, вероятно, в результате не-которого склонового смещения напластований»[Там же: 31].
Эти наблюдения являются важной деталью приинтерпретации материалов Хумми, т.к. на их ос-новании можно сделать вывод о том, что слой 4,перекрывавший тяжелый суглинок с осиповски-ми артефактами, подвергался значительным изме-нениям и разрушениям вниз по склону.
В более поздней публикации, посвященной ис-следованиям в раскопе 4, З.С. Лапшина приводитиной вариант описания стратиграфии памятника
[2009: 121]. В нем слой 4 характеризуется уже каккоричневый плотный влажный комковатый суг-линок. В ранних публикациях он был обозначенкак слой 5, а здесь назван «материковым».
В 1994 г. памятник обследовал специалист-гео-морфолог доктор географических наук А.Н. Ма-хинов. В его заключении, опубликованном какприложение к монографии З.С. Лапшиной, отме-чалось: «Выположенная площадка вдоль гребнявследствие малых уклонов и слабой влажностигрунтов сохранилась практически без измененийповерхности. Смещение отложений в ее пределахпочти не происходило. Возможно, что на ней на-капливались субаэральные отложения голоцено-вого возраста» [1999: 191-192].
В пределах площадки вдоль гребня водоразде-ла А.Н. Махинов выделил только четыре литоло-гических слоя. Верхние три он однозначно связалс голоценом, в том числе из-за отсутствия следовкриотурбаций. Относительно самого нижнего –четвертого – слоя, соответствующего слою тяже-лого суглинка 5 в ранних публикациях З.С. Лап-шиной [Там же: 30], исследователь отметил, чтоон является толщей склоновых отложений, фор-мировавшейся в эпоху последнего оледенения[Там же: 193].
Как видно, имеющиеся варианты описаниястратиграфии поселения Хумми несколько разли-чаются. А.Н. Махинов обследовал относительнонебольшой участок памятника около раскопа 4, ипоэтому его данные совпали только с теми, чтоприводит З.С. Лапшина для раскопа 4. В дальней-ших наших рассуждениях мы будем придержи-ваться представлений о наличии четырех литоло-гических слоев на поселении Хумми. Однако в лю-бом случае оба варианта описания его стратигра-фии свидетельствуют о перекрытии цокольных исклоновых суглинисто-обломочных отложенийпамятника маломощным субаэральным чехлом.
Склоновые и субаэральные отложения, очевид-но, постепенно перемещались как вниз по склону,так и в боковые стороны от гребня, что хорошо про-слеживается по увеличению их мощности к ниж-ним гипсометрическим уровням. Можно предпо-лагать, что во второй половине позднего плейсто-цена было существенным влияние солифлюкцион-ных процессов. Падение склона в пределах раско-па 4 – гипсометрически самого верхнего – состав-ляло 1,1-1,3 м на 14 м [Лапшина 2009: табл. 4].
Можем также отметить, что самый нижнийслой памятника, вероятно, сходен с бурыми плот-ными суглинками заполнения криогенных дефор-маций Гончарки, а также со слоем 6 Гаси. Такимобразом, археологический материал в верхней ча-сти этого слоя должен быть не моложе рубежа око-ло 12 тыс. л.н., что примерно совпадает с хроно-
1Окончательная площадь раскопа 4 после прирезок вы-числена нами по чертежам в публикации [Лапшина 2009].
197
логической границей между ранним дриасом и ал-лередом.
Как отмечает З.С. Лапшина, осиповские арте-факты встречались по всей вскрытой площади по-селения, при этом они тяготели преимущественок основанию связанного с ними нижнего культур-ного горизонта, а в верхней его части – 10-12 см –насыщенность ими была слабая. В раскопах 1-3находки залегали за редкими исключениями раз-розненно. В раскопе 4 были выявлены как участ-ки со скоплениями осиповских находок, так и уча-стки, полностью их лишенные. Здесь же авторвыделяет котлованы жилищ, которые относит косиповской культуре [1999: 33-35].
К сожалению, информация о стратиграфичес-ких и планиграфических особенностях залеганиянаходок голоценовых культурно-хронологическихкомплексов, опубликованная в работах З.С. Лап-шиной, либо явно недостаточна, либо ее вообщенет. Из-за этого оказывается почти невозможнымсоставить четкое представление о степени сохран-ности стратиграфических слоев на вскрытой час-ти памятника. Анализ материалов, представлен-ных в публикациях, позволяет сделать на этот счетследующие замечания.
В раскопе 3 на участках, расположенных нижекв. 20-21, помимо осиповских были обнаруженытакже находки вознесеновской и урильской куль-тур. При этом первые встречались даже в нижнемкультурном горизонте. Поздние материалы встре-чались также и в раскопе 4. Здесь были выявленыямы, впущенные в материк, с фрагментами сосу-дов раннего средневековья, которые, неясно поче-му, рассматриваются З.С. Лапшиной вместе с ком-плексами нижнего слоя. Кроме того, в слое 2 при-сутствовали и находки голоценового возраста,судя по описаниям, поздненеолитические [1999:31; 2009: 121, 128]. Следует упомянуть и найден-ный в верхнем слое раскопа 4 призматический нук-леус, который, скорее всего, свидетельствует оприсутствии в материалах памятника и культур-ных остатков раннего голоцена [1999: табл. 17, 6].
Таким образом, мы видим, что голоценовые от-ложения поселения Хумми, по крайней мере на от-дельных участках, содержали переотложенныеостатки разных культурно-хронологических эпох.И лишь самый нижний слой тяжелого суглинка,по-видимому, был связан только с находками оси-повской культуры.
Отдельно следует остановиться на двух объек-тах, принятых З.С. Лапшиной за осиповские жи-лища с углубленным в грунт прямоугольным кот-лованом. Данное открытие имеет очень большоезначение, т.к. фактически фиксирует начало ши-роко известной традиции домостроительства вПриамурье. К сожалению, изучение опубликован-ных материалов вызывает много вопросов в отно-шении этих объектов.
Прежде всего, отметим, что в раскопе 4, судя
по стратиграфическим разрезам, вся (!) поверх-ность «материкового» слоя темного серовато-коричневого суглинка со щебнем (4) имела доволь-но сильный уклон, местами до 70 см на 4 погон-ных метра, и отличалась общей неровностью, на-личием углублений, выступов и уступов, сложен-ных в основном щебнистыми отложениями. Судяпо всему, можно также говорить в целом о мало-мощности и неравномерности субаэрального чех-ла в пределах этого раскопа [Лапшина 2009: 121,табл. 4].
Первое «жилище», по данным З.С. Лапшиной,«выглядело незавершенным либо разрушенным»[Там же: 129]. Его единственными конструктив-ными элементами, которые удалось выявить в рас-копе, были локальные щебнистые возвышения,ориентированные почти под прямым углом друг кдругу. Высота их не указана, в разрезе они не обо-значены. Не исключено, что это были естествен-ные неровности материка, встречавшиеся по всейплощади раскопа. Кроме того, важно отметить, чтона участке, где располагались эти возвышения, вразрезе отчетливо фиксируется сильный уклон ма-териковой поверхности. Возможно, именно он ибыл принят З.С. Лапшиной за остатки уступа кот-лована. Общий же анализ ситуации показывает,что никакого собственно углубления в грунт здесьне было.
Далее вниз по склону уже на более пологом уча-стке за щебнистыми возвышениями были обнару-жены два очага, скопление артефактов и углистыепятна. З.С. Лапшина связывает их друг с другом иинтерпретирует как остатки жилища. Однако приотсутствии достоверных признаков котлована всеэто вполне можно трактовать как обычную назем-ную площадку обитания, которые известны почтина всех памятниках осиповской культуры, в томчисле в Гасе и Гончарке, либо как остатки легкогоназемного жилища.
Второе «жилище», по данным З.С. Лапшиной,сохранилось намного лучше [Там же], но и в егоотношении возникает очень много вопросов. До-шедшими до нас конструктивными элементамиэтого «жилища» являются, по мнению автора рас-копок, котлован, оконтуренный со всех сторонплечиками, вход в него, оформленный в виде раз-рыва в плечиках, а также серия столбовых ямок.
Изучение планов и разрезов показывает, что,как и в случае с первым «жилищем», за плечикикотлована З.С. Лапшиной были приняты вытяну-тые и оформленные в замкнутый подквадратныйконтур возвышения. Возвышения были сглаженыи имели неодинаковую высоту от 6 до 22 см. Ши-рина их варьировала от 100 до 144 см (!). Распола-гались они также на участках с сильным уклономматериковой поверхности. Интерпретировать од-нозначно, были ли данные возвышения искусст-венно сооруженным объектом, не представляетсявозможным. Если даже это и было так, остаются
198
большие сомнения в том, что данные признакификсируют факт строительства углубленного вгрунт жилища. Довольно странно также, что в ис-кусственном котловане (!) с сильно оплывшимиплечиками, расположенном на уклоне, не выявле-но подбоев плечиков с верхней стороны склона. Об-ширные углистые пятна на «полу» маркировалибы подбой. Не совсем ясно и то, каким образомбыла выделена серия «столбовых ям», которые заг-лублены в материк всего на 2-3 см (!) и, как счита-ет З.С. Лапшина, «забутованы» мелким щебнем.Напомним, что щебень является существеннымкомпонентом материкового слоя 4.
В пределах «жилища», в основании его запол-нения, были обнаружены углистые пятна и очаг,вытянутые широкой полосой в одну линию, про-ходящую строго через центр «жилища» и его пред-полагаемый выход. Очаг и несколько расположен-ных рядом с ним углистых пятен занимали есте-ственное (!) щебнистое возвышение правильной (!)прямоугольной формы. Судя по нивелировочнымотметкам, оно на 20 см и более превышало уровень«плечиков котлована». Кроме того, надо отметить,что очаг был «значительно потревожен раскорчев-кой большой березы». Это означает, что первона-чальный облик очага и связанных с ним объектовпо крайней мере частично был утрачен, что не до-бавляет ясности в имеющуюся картину [Лапшина2009: 126-127, 129, табл. 3]. Характер выявленно-го З.С. Лапшиной объекта, таким образом, выгля-дит весьма размытым, и трактовать его можно по-разному. Например, как остатки площадки обита-ния, причем не обязательно осиповской, посколь-ку в сравнении с другими участками раскопа 4 длявторого «жилища» отмечается «минимальное ко-личество артефактов». Единичные находки, ктому же мало выразительные, вполне могли по-пасть сюда с верхних гипсометрических уровней.Отсутствие радиоуглеродных дат для «жилища»также усложняет ситуацию.
Еще больше сомнений в действительном суще-ствовании «осиповского котлована» порождаетизучение стратиграфии на данном участке памят-ника. Опубликованные разрезы показывают, чтозаполнение «котлована» в кровле контактирует восновном со слоем серовато-коричневого суглин-ка 2, содержавшим остатки позднего неолита, сле-довательно, образовавшимся не ранее второй по-ловины голоцена. Если бы речь шла действитель-но об осиповском котловане, то его заполнение вэтом случае должно было бы перекрываться отло-жениями как минимум ранней половины голоце-на, тем более что они присутствуют на разрезахраскопа 4 в виде слоя 3. Кроме того, слои, перекры-вавшие «заполнение», были вообще очень мало-мощны даже в сравнении с теми, что представле-ны на других участках того же раскопа 4. Судя постратиграфическим разрезам, по центральной ли-нии Е’, пересекающей «котлован», они составля-
ли не более 15-20 см [Лапшина 1999: 34, 134, табл.13; 2009: табл. 4].
Данные о характере «заполнения котлована»также неоднозначны. В монографии З.С. Лапши-ной указано, что оно представлено «желтовато-бе-лесым порошкообразным суглинком» со щебнеми угольками, что совпадает с описанием слоя 4[1999: 30, 34]. Позднее в статье уже отмечается,что оно «неодинаково по цвету и структуре. Север-ная и северо-восточная часть светло-желтого цве-та с большим содержанием мелкого щебня и с мел-кими угольками, здесь имеются участки с выхо-дом щебня из нижележащей толщи… Центральнаячасть заполнения котлована имела коричневые итемно-коричневые оттенки, здесь больше мелкихугольков, что связано с очагом…» [2009: 127].Между тем неоднородность заполнения вполнеможет быть следствием перемещения отложенийвниз по склону, соответственно, вместе с археоло-гическим материалом.
Можно и далее излагать вопросы, возникающиепри анализе документации, но перечисленногоуже достаточно для вывода, что наличие в Хуммиосиповских жилищ на основе котлованов аргумен-тировано крайне слабо, и в этом мы полностью со-гласны с мнением А.М. Кузнецова [2003]. Сомне-ния возникают не только в их осиповской принад-лежности (главным образом в отношении второго«жилища»), но и в том, были ли они в действитель-ности связаны с намеренно сооруженными котло-ванами. За последние вполне могли быть приня-ты естественные неровности материковой поверх-ности памятника.
Что касается хронологии осиповского комплек-са поселения Хумми в целом , то здесь можно ска-зать следующее. Факт обнаружения осиповскихартефактов в самом нижнем слое тяжелого суглин-ка, на наш взгляд, безусловно свидетельствует обих позднеплейстоценовом возрасте. Относитель-но вышележащего слоя однозначное мнение со-ставить сложно по причине его литологическойнеоднородности (вниз по склону характер отложе-ний, как было выше указано, изменялся).
Не проясняют ситуацию и радиоуглеродныедаты. Всего их получено восемь в общем интерва-ле от 7760 до 42 800 лет назад в радиоуглеродномисчислении [Лапшина 1999: 31; 2009: 128]. К слоютяжелого суглинка относятся даты около 13 260 и42 800 л.н. При этом только первую можно соот-нести с осиповским комплексом, она вполне укла-дывается в представления о финальноплейстоце-новом возрасте кровли суглинистого слоя и обна-руженных в нем артефактов. Остальные шесть датполучены для слоя, перекрывающего тяжелыйсуглинок. Но эти даты противоречивы: одна око-ло 7760 л.н., две древнее 10 тыс. л.н., еще две древ-нее 12 тыс. л.н. и еще одна около 23 160 л.н. Такиеразличия сильно запутывают картину. Например,для комплекса, выделенного автором раскопок
199
как «первое жилище», получены четыре даты созначениями около 10, 12 и 23 тыс. л. н. [Лапшина2009: 128]. Последняя, понятно, к осиповскомукомплексу не относится, но в отношении осталь-ных З.С. Лапшина не уточняет, каких дат она при-держивается.
По нашему мнению, учитывая возраст слоя тя-желого суглинка, комплексы слоя 3 в раскопе 4должны быть моложе, т.е. около 10 тыс. л.н., исоответствовать позднему дриасу-аллереду. Одна-ко «разброс» радиоуглеродных дат указывает, ско-рее всего, на нарушения естественного характераотложений этого слоя, а также кровли тяжелогосуглинка, что было вполне возможно в обстанов-ке общего потепления в период аллереда. Крометого, слои могли подвергаться антропогенным иестественным вторжениям в более позднее время.Если наши рассуждения верны, то в этом случаеможно предполагать, что археологический мате-риал из слоя 3 композитивен и, вероятнее всего,содержит артефакты в том числе из самого ниж-него литологического слоя 4.
К а м е н н ы й и н в е н т а р ь
Анализ каменной индустрии по опубликован-ным данным, к сожалению, позволяет определитьтолько самые общие технико-типологические ха-рактеристики осиповского литокомплекса поселе-ния Хумми. К тому же З.С. Лапшиной далеко невсегда удавалось разделить артефакты разныхкультурно-хронологических горизонтов памятни-ка достаточно четко. Можно согласиться с А.М.Кузнецовым в том, что во многих случаях прово-димые ею определения и группировки артефактов«просто отражают особенности критериев класси-фикации автора» [Кузнецов 2003: 22].
Сырьевой состав осиповской индустрии Хуммитакже описывается весьма обобщенно, что не по-зволяет составить ясное представление об особен-ностях использования различных пород камня приизготовлении отдельных групп и категорий изде-лий. Однако отметим, что в целом для Хумми былохарактерно галечное сырье [Лапшина 1999: 42],как и для всех других осиповских комплексов, втом числе для Гончарки.
Один из важнейших вопросов, возникающихпри изучении орудийного комплекса поселенияХумми, связан с утверждением З.С. Лапшиной оприсутствии в нем крупных пластин, что для дру-гих осиповских памятников совершенно не харак-терно [Там же: 52-54, 58-63].
Изучение иллюстративных таблиц между темпоказывает, что изделия, отнесенные З.С. Лапши-ной к этой категории, являются, скорее, удлинен-ными отщепами, пластинчатыми снятиями илиорудиями, изготовленными на таковых [Там же:табл. 32, 34-38]. Что касается нуклеусов для полу-чения крупных пластин, которые могли бы статьнадежным маркером технологии получения дан-
ного вида заготовок, то отметим, что опубликова-ны только два небольших нуклевидных изделия,которые можно считать таковыми лишь с большойнатяжкой [Там же: табл. 27, 1-2]. Типологическиопределенных нуклеусов для получения крупныхпластин в Хумми, по-видимому, нет. Опираясь наэти наблюдения, можно заключить, что техникаполучения крупных пластин в материалах Хуммивсе-таки не представлена.
Что касается микропластинчатой техники, тоона, как и в других памятниках осиповской куль-туры, хорошо диагностируется по наличию нукле-усов на бифасах и специальных удлиненных заго-товках клиновидного сечения с обработаннымилатералями и признаками использования торцо-вого принципа скалывания [Там же: 51-52, табл.29-31]. Отличительным признаком Хумми явля-ется наличие бифронтальных разновидностей нук-леусов на бифасах [Там же: 51, табл. 31, 1, 3-7].
В Хумми зафиксированы торцовые нуклеусы,однако они изготовлены не на гальках, как в Гон-чарке-1, а на «частях пластинчатых заготовок,фрагментах бифасов, отщепах и кусках плиток»[Там же: 49]. Галечная разновидность торцовыхмикронуклеусов, распространенная в Гончарке-1,в Хумми не проявляется. Как и в случае с Гасей,можно предполагать, что отсутствие данного вари-анта нуклеусов является ранним признаком.
Галечные микронуклеусы для получения мел-ких отщепов, характерные для Гончарки-1, в Хум-ми автором раскопок не диагностируются, но ихможно увидеть в группах «радиальных ядрищ»,так называемых «бифасов-рубилец», и других га-лечных изделиях с минимальной обработкой [Тамже: табл. 23, 1-2; 27, 2-3; 28, 1].
В целом, если опираться на анализ приведен-ных З.С. Лапшиной таблиц, основные признакипервичного расщепления комплекса Хумми ана-логичны другим осиповским памятникам.
В орудийном наборе хуммийского инвентарно-го комплекса необходимо отметить большое коли-чество разнообразных бифасов – более 50% от об-щего числа изделий, отнесенных к орудиям. Мно-гие из них охарактеризованы З.С. Лапшиной какнаконечники метательных орудий: копий, дроти-ков, стрел. Основные формы их симметричныеразличных очертаний: лавролистные, иволист-ные, миндалевидные. Такие изделия массово пред-ставлены и в других осиповских комплексах. Ноимеются в хуммийской коллекции и довольно ори-гинальные формы, например бифас с выделенны-ми угловатыми концами или бифас с угловатымоснованием-черешком [Там же: табл. 50, 1, 9]. Кро-ме того, в Хумми есть группа черешковых нако-нечников стрел, но она немногочисленна и поли-морфна, что отличает этот памятник от Гончарки[Там же: 76-77, табл. 51, 5, 6, 11].
Среди листовидных бифасов-ножей в коллек-ции Хумми обращают на себя внимание симмет-
200
ричные и асимметричные экземпляры со средин-ным сужением в плане [Лапшина 1999: 174, табл.53, 1]. Они аналогичны тем, которые были отме-чены нами в материалах Гаси и которые, по нашимпредположениям, могли использоваться как клин-ки ножей с выделенными рукоятями. Напомним,что в материалах Гончарки-1 такие изделия отсут-ствуют и их наличие, возможно, является призна-ком наиболее ранних осиповских комплексов.
В группе тесловидно-скребловидных орудий искребков, которая довольно многочисленна в кол-лекции Хумми, представлены те же виды, что и вГончарке: массивные тесловидно-скребловидныеорудия, крупные скребки на пластинчатых отще-пах с округлым лезвием [Там же: табл. 37, 1-3],миндалевидные и треугольные скребки-бифасы иунифасы. Среди рубящих орудий отмечаются толь-ко оббитые, шлифованных изделий нет [Там же:табл. 57].
В орудийном наборе Хумми З.С. Лапшина вы-деляет довольно много резцов – 31 экз. Однако онаотмечает полиморфность данной группы, проявля-ющуюся в характере заготовок, их оформлении ив какой-то степени в неопределенности их морфо-типологического облика.
Всего З.С. Лапшина выделяет семь типов рез-цов [Там же: 69-72], среди которых имеются сре-динные, боковые, поперечные и другие разновид-ности. В большинстве своем они изготовлены наотщепах, в том числе пластинчатых [Там же: табл.42, 7; 43, 2, 8; 45, 1, 4]. Близкие по облику «резце-видные изделия» имеются и в Гончарке. Часть из-делий, отнесенных З.С. Лапшиной к резцам, оченьблизка резцевидным артефактам на отщепах с из-ломом из коллекции Гончарки-1 [Там же: табл. 44,1, 4]. Представляют интерес срединные резцы набифасах и резцы поперечные многофасеточные[Там же: табл. 43, 3-6; 45, 3-4]. Надо подчеркнуть,что они имеют довольно определенную морфоло-гию, что заметно отличает индустрию Хумми отматериалов Гончарки и Гаси. В то же время, помнению А.М. Кузнецова, работавшего с коллекци-ей Хумми непосредственно, атрибуция этих изде-лий как резцов вызывает большие сомнения [Куз-нецов 2003: 21]. Если это действительно так, от-меченная особенность индустрии Хумми по срав-нению с материалами Гончарки выглядит дискус-сионной и нуждается в подтверждении.
Из других важных находок в нижнем слое Хум-ми отметим два рыболовных грузила на небольшихокруглых валунах с круговым желобком, выби-тым в технике пикетажа [Лапшина 1999: 85].
Шлифованных изделий осиповской культурыв Хумми найдено не было [Там же: 93]. Как исклю-чение З.С. Лапшина описывает группу украше-ний, изготовленных с применением сверления,шлифовки и полировки, часть из которых состав-ляет «комплекс с ожерельем» [Там же: 86-87]. Од-нако надо отметить, что «ожерелье» было найде-
но всего в 25-27 см от дневной поверхности и внекакого-либо определенного археологического кон-текста. Примерно та же ситуация наблюдается и вслучае с находками разрозненных бусин в раско-пе 4 [Там же: 33-34]. Выше нами уже излагалисьсомнения в целостности слоя 3 в данном раскопе.В условиях многослойности памятника, к тому жесопровождающейся отмеченными выше сложнос-тями с его стратиграфией, изложенные обстоя-тельства обнаружения «ожерелья» и других укра-шений не позволяют признать их осиповскую ат-рибуцию достаточно обоснованной.
Кроме того, типологически данная группа ар-тефактов, включающая цилиндрические и удли-ненно-бочонковидные бусы с продольным отвер-стием, а также плоские кольцевидные бляшки изподелочных пород камня зеленого и белого цветов,маловыразительна с точки зрения их возможнойкультурной идентификации и имеет широкий хро-нологический диапазон распространения вплотьдо этнографической современности.
В частности, аналогичная бочонковидная буси-на из бело-зеленой полосчатой поделочной поро-ды, а также кольца и диски были обнаружены,например, на поселении Кольчем-3 и других па-мятниках оз.Удыль на Нижнем Амуре, в слояхвознесеновской культуры позднего неолита, мате-риалы которой присутствуют в верхнем слое Хум-ми [Шевкомуд 2004 а: 97, 107; табл. 76, 86].
Пока единственным фактом в пользу возмож-ной осиповской атрибуции бус из Хумми можносчитать то, что аналогичная бусина из голубова-то-зеленой поделочной породы была ранее обнару-жена при раскопках поселения Сикачи-Алян(нижний пункт). В.Е. Медведев отнес ее к осипов-ской культуре [2001: 80]. Однако необходимо от-метить, что и этот памятник является многослой-ным и содержит остатки комплексов эпох неоли-та и палеометалла. При таких обстоятельствахполностью исключить возможность связи даннойнаходки с поздними обитателями поселения мож-но только при условии проведения тщательногопланиграфического и стратиграфического анали-за его материалов в целом. По изложенным при-чинам вопрос о присутствии в комплексе осиповс-кой культуры украшений указанных выше типовпока остается спорным, для его решения необхо-димо проведение дополнительных исследований.
В целом можно заключить, что комплекс ка-менных артефактов нижнего горизонта Хумми посвоим основным технико-типологическим харак-теристикам не отличается существенно от другихпамятников осиповской культуры, что служитдополнительным подтверждением его финально-плейстоценового возраста. Более того, есть неко-торые основания полагать, что осиповский ком-плекс поселения Хумми в сравнении с Гончаркой-1 чуть более древний. К таким «удревняющим»признакам предварительно можно отнести клино-
201
видные нуклеусы на бифасах, небольшое количе-ство и типологическую неопределенность череш-ковых наконечников стрел, отсутствие шлифован-ных орудий.
К е р а м и к а
Керамическая коллекция поселения Хумми на-считывает всего 36 фрагментов, что существенноотличает ее от материалов Гончарки и, конечно,изначально снижает достоверность результатов ихсравнительного анализа. Она была подробно изу-чена одним из авторов настоящей работы [Янши-на, Лапшина 2008].
Керамика Хумми, как и керамика Гончарки,отличалась мелкой фрагментированностью, в слоезалегала в виде разрозненных обломков, иногдаконцентрировалась пятнами. Повторяются и еевнешние признаки: толстостенность, рыхлость,цветовые характеристики. В последнем случае об-ращает на себя внимание красноватый цвет наруж-ных поверхностей и серый внутренних и изломов,а также отсутствие густых черных оттенков.
При визуальном осмотре хуммийская керами-ка резко отличалась от керамики Гончарки мало-численностью минеральной примеси, зато в ее со-ставе было много шамотных добавок – либо в видемелких выкрашивающихся вкраплений желтова-то-белесого или красноватого цвета, либо в видеболее плотных и, как правило, более крупных зе-рен красноватого или коричневого цвета. Встреча-лась в ней и трава, причем несколько чаще, чем вГончарке. Петрографический анализ подтвердилэти наблюдения, а также позволил получить болеедетальную информацию относительно сырьевойпрактики хуммийских гончаров.
В целом в материалах Хумми выделяются те жедве основные рецептуры составления формовоч-ных масс, что и в Гончарке, – с добавками либошамота, либо обломков горных пород. В качестведополнительного компонента и в том и в другомслучае могла использоваться трава (рис. 103, 3а).В то же время нельзя не заметить, что шамотнаятехнология оказалась представлена в коллекцииХумми гораздо более широко.
Близки коллекции памятников и по двум дру-гим показателям формовочных масс. Во-первых,мелкотекстурный формат отощителя в сочетаниис традицией введения в его состав незначительнойфракции крупных зерен. Во-вторых, небольшойобъем – до 15% – отощителя в целом. Последнийпоказатель не только сближает обе коллекции, нои выделяет их на фоне более поздних керамическихкомплексов Приамурья. При этом надо добавить,что в материалах Гончарки обе отмеченные особен-ности формовочных масс были характерны длякерамики из криогенных клиньев и разрозненныхчерепков горизонта 3Б.
Любопытно, что в коллекции Хумми, как и вслучае с Гончаркой, рецептура с минеральными
добавками либо полностью исключала присут-ствие шамота, либо дополнялась лишь единичны-ми включениями последнего. Это в какой-то сте-пени подтверждает наши наблюдения, сделанныепри изучении керамики Гончарки, и позволяетпредположить, что уже тогда мастера осознава-ли дублирующие свойства двух этих видов отоща-ющих добавок.
Способы формовки хуммийских сосудов неиз-вестны, как и их формы. Немногочисленные вен-чики в коллекции повторяли основные черты вен-чиков с поселения Гончарка-1. Они имели уплощен-ные обрезы, чуть ниже располагались сквозные уз-кие отверстия, проколотые снаружи по сырой гли-не (рис. 102, 1; 103, 3). Донышки, по-видимому,были плоскими.
На поверхностях хуммийских сосудов, как и вслучае с керамикой Гончарки, сохранились харак-терные следы технической обработки (рис. 102;103). На внутренних стенках это были ровные ак-куратные ряды желобков, оставленные протаски-ванием гребенчатого инструмента. Абрис и морфо-логия этих желобков не оставляют сомнения в ихсходстве с аналогичными следами на поверхнос-тях большинства сосудов из коллекции Гончарки.С внешней стороны хуммийские черепки были по-крыты неясными отпечатками различного проис-хождения, предположительно от веревочного ин-струмента. В материалах Гончарки такие невнят-ные следы на стенках практически отсутствуют.Однако в этой связи вспоминаются отдельныефрагменты, у которых на наружной поверхностисохранялись не очень ясные оттиски палочки, об-мотанной веревкой (рис. 99, 3-7). Любопытно, чтоэти фрагменты представляют в Гончарке более ран-ний вариант керамической традиции и связаны сзаполнением криогенных клиньев.
Таким образом, сравнительный анализ керами-ческих коллекций Хумми и Гончарки позволяетболее точно определить в рамках последней тугруппу керамических сосудов, которая более все-го близка хуммийским. Это находки из заполне-ния криогенных трещин, особенно яркие в раско-пе 2001 г., а также предположительно синхронныеим разрозненные обломки керамики из горизонта3Б, наиболее многочисленные в раскопе 2. Отме-тим еще раз сближающие их признаки: неразви-тость минералогенной традиции отощения, малыйудельный вес и негрубая текстура отощителя, от-сутствие декоративного орнамента, некотороесходство морфологии отпечатков на внешней по-верхности сосудов, по-видимому, связанных с ве-ревочным инструментом.
На более ранний возраст хуммийской керами-ки по сравнению с материалами Гончарки, воз-можно даже с наиболее ранними из них, указыва-ет также общая малочисленность ее коллекции,что явно не может быть случайным. В последнемотношении интересны наблюдения японских ис-
204
следователей. Анализируя материалы памятниковс древнейшей керамикой Японского архипелага,они отметили прямую закономерность между ко-личеством найденных в слое черепков и общимвозрастом комплекса [Keally et al. 2003: 9].
В целом же надо признать, что керамика Хуммии Гончарки представляет одну технологическуютрадицию. На это указывает следующее. Во-пер-вых, общее сходство рецептуры формовочныхмасс, проявляющееся не только в наборе основныхотощающих компонентов, но и в более частныхособенностях, таких как гранулометрический со-став, объем и т.п. Во-вторых, общее сходство тра-диций технической обработки стенок и внешнегооформления изделий, проявляющееся и в самомфакте технической обработки сосудов, и в схоже-сти инструментов, которыми она осуществлялась,и в дифференцированном подходе к оформлениювнутренних и внешних поверхностей. В-третьих,общие принципы оформления венчиков: уплощен-ный обрез, сквозные узкие проколы и т.п.
Заключение
Подводя итоги нашему краткому обзору мате-риалов основных осиповских памятников, хоте-лось бы отметить следующее.
Во-первых, проведенный анализ свидетельству-ет о принципиальном сходстве топографии осипов-ских поселений. В сочетании с данными по другимпамятникам осиповской культуры можно сделатьвывод об их общей приуроченности к высоким бе-регам Амура, а также проток и озер, входящих вего гидросистему в финале неоплейстоцена.
Во-вторых, совокупный анализ материалов по-селений Гончарка-1, Гася и Хумми свидетельству-ет о принципиальном сходстве их стратиграфии.Финально-плейстоценовые и голоценовые отложе-ния представлены в них маломощным (0,4–1 м)чехлом субаэральных супесей и/или суглинков,перекрывающих пачки более ранних галечников,глин, суглинков четвертичного возраста илискальный цоколь. Непотревоженные комплексыартефактов осиповской культуры, ее хозяйствен-но-бытовые и другие объекты связаны с основани-ем данного чехла. Это хорошо отражено в матери-алах горизонта 3Б Гончарки-1, а также других па-мятников Хехцирского геоархеологического рай-она [Шевкомуд 2002 б; 2005 б].
Характерной чертой Гончарки, отличающей ееот материалов Гаси и Хумми, является наличие восновании ее культурных отложений крупныхкриогенных деформаций асимметрично-клино-видного сечения, заполненных очень плотнымибурыми суглинками. Тот факт, что они были про-слежены при раскопках ряда других осиповскихпамятников, свидетельствует о неслучайности дан-ного явления: Гончарка-3, Осиновая Речка-10[Шевкомуд 2003 б], Амур-2 [Шевкомуд и др.2002 в]. Однако пока только в Гончарке-1 заполне-
ние криогенных деформаций содержало осиповс-кие культурные остатки. Кроме того, бурые плот-ные суглинки с перемещенными осиповскими ар-тефактами были прослежены выше материковогогалечника в виде локализованных натеков в раско-пе 2001 г. Это явно свидетельствует о солифлюкци-онном смещении осиповских материалов, имею-щих радиоуглеродный возраст древнее 12 тыс. лет.
Что касается Гаси и Хумми, то в них ситуациянесколько отличается. В Гасе осиповские слоибыли в значительной степени нарушены более по-здними обитателями памятника, с которыми ктому же были связаны довольно мощные культур-ные наслоения (от ранней поры среднего неолитадо нанайского времени). Близкая картина наблю-дается и в Хумми. Кроме того, по опубликованнымматериалам здесь трудно достоверно разделитьразновременные комплексы осиповских находок,вероятность существования которых вытекает изстратиграфических особенностей их залегания иимеющихся радиоуглеродных датировок, и темболее сложно связать их с определенными литоло-гическими горизонтами. Однако общий анализстратиграфической ситуации на этих памятникахпозволяет сделать заключение, что их самые ниж-ние слои с наибольшей вероятностью содержатнаиболее ранние материалы осиповской культуры,что и отразили даты древнее 12 тыс. л.н. Эти слои,по всей видимости, имели естественные смещенияи разрушения в результате солифлюкции и плос-костного смыва, что отмечалось и авторами раско-пок. Однако происходило это не на всей исследо-ванной площади. Так, в нижнем слое Гаси, в рас-копе 1, обнаружен непотревоженный развал сосу-да, отдельные непотревоженные скопления арте-фактов и очаги выявлены и в Хумми.
В-третьих, сравнительная характеристика ка-менного инвентаря и керамики поселений Гончар-ка, Гася и Хумми демонстрирует принципиальноеединство осиповского культурного комплекса.
Каменный инвентарь всех трех памятников ха-рактеризуют следующие общие и весьма индика-тивные признаки.
1. Использование для изготовления орудий пре-имущественно галечного и глыбового сырья, в изо-билии представленного в отложениях высокихтеррасовидных поверхностей амурской долины.
2. Преобладание в коллекциях орудий на фонеобщей малочисленности артефактов, относящих-ся к сегменту первичного расщепления.
3. Отсутствие специализированных технологийполучения крупных пластин, характерных дляверхнепалеолитических индустрий юга ДальнегоВостока – приморской и селемджинской.
4. Присутствие микропластинчатой техники,развитие которой является важным признакомверхнепалеолитической эпохи на территорииДальнего Востока и Восточной Сибири в целом. Вколлекциях осиповских памятников данная тех-
205
ника представлена в виде дериватов расщепленияразличных модификаций клиновидных нуклеу-сов на бифасах, в основном близких нуклеусам«юбецу», а также галечных торцовых нуклеусов сгрубым оформлением часто только площадки ифронта, реже латералей и киля. Следует отметитьдовольно незначительную представленностьмикропластинчатого компонента на фоне очевид-ного доминирования фасиальных и отщеповыхорудий.
5. Присутствие в сегменте первичного расщеп-ления мелких галечных нуклеусов уплощающего,субпараллельного принципа скалывания, исполь-зовавшихся для получения небольших отщепов изизотропных пород.
6. Изготовление основного орудийного наборалибо путем прямого преобразования галечных илиглыбовых отдельностей, отщепов и сколов приема-ми сплошной бифасиальной и унифасиальной об-бивки и ретуши, либо путем краевого дорсальногоретуширования отщепов и сколов, полученныхпри обработке галек и глыб. При этом вполне оче-видно доминирование фасиальных технологий.
7. Обилие в наборе инвентаря прежде всего сим-метричных и асимметричных бифасов разных раз-меров и форм, которые использовались в качественаконечников метательных орудий (копий, дроти-ков, стрел), ножевидно- и тесловидно-скребло-видных орудий, скребков преимущественно сред-них и крупных размеров (бифасов и унифасов),ножевидно-скребловидных изделий на отщепах скраевой ретушью, рубящих орудий, грузил.
8. Малочисленность и в основном морфологи-ческая невыраженность резцов.
Керамические коллекции также обнаружива-ют целый ряд сходных признаков.
1. Изготовление керамической посуды из гли-ны с добавками минерального отощителя, шамо-та и травы в различных сочетаниях. Особенно по-казательно с точки зрения сходства такие черты,как регулярное использование шамота и введениетравы в качестве малозначимой добавки.
2. Грунтовка поверхностей готовых сосудов ан-гобом или обмазкой, использование гребенчатыхи веревочных инструментов при обработке стенок,различные принципы обработки внутренних и вне-шних поверхностей. Наиболее показательны вплане сходства желобчатые трасы на внутренних,реже наружных поверхностях, оставленные про-чесом гребенчатого инструмента.
3. Плоскодонность посуды, простота форм, уп-лощенность венчиков, оформление устья сквозны-ми проколами, которые всегда наносились со сто-роны наружной поверхности.
4. Сходный газовый режим обжига посуды,придающий внешним поверхностям светлые охри-стые оттенки, а внутренним и изломам – серые.
В-четвертых, наряду с общими признаками винвентарных комплексах Гончарки, Гаси и Хум-
ми нами были отмечены и черты, различающие их.По нашим представлениям, по крайней мере не-которые из них можно использовать при разработ-ке внутренней хронологии осиповской культуры.
Прежде всего отметим, что на всех трех памят-никах стратиграфически выделяется наиболееранний культурно-хронологический комплексданной культуры, связанный с плотными, тяже-лыми, вероятнее всего, измененными солифлюк-ционными процессами суглинками в самой ниж-ней части разрезов. Он представлен материаламииз криогенных деформаций в Гончарке-1, из слоя6 в Гасе и нижнего литологического слоя Хумми.14С даты, полученные по древесному углю, подтвер-ждают стратиграфические данные и позволяютдатировать данный комплекс примерно в интерва-ле 12 055-13 360 л.н.
Более сложен вопрос о поздних комплексах оси-повской культуры. К сожалению, опубликованныематериалы Гаси и Хумми не дают возможностисвязать их поздние даты с какими-то конкретны-ми археологическими контекстами и тем самымпроследить хронологические изменения технико-типологических характеристик осиповских арте-фактов. Однако, как мы помним, в горизонте 3БГончарки-1 были выявлены комплексы, хорошовыдержаные с позиций стратиграфии, планигра-фии и типологии, которые, как мы считаем, пред-ставляют более поздний этап развития осиповскойкультуры. Это подтверждается и 14С датировкамиэтих комплексов в интервале 9890-10 590 л.н. Та-ким образом, благодаря особенностям стратигра-фии Гончарки и хорошей сохранности ее культур-ных отложений в целом мы имеем возможностьставить вопрос о разделении осиповской культу-ры как минимум на два этапа.
Однако нетрудно заметить, что между ранними поздним этапами имеется хронологический хи-атус, соответствующий потеплению аллереда. Егозаполняет группа новых памятников осиповскойкультуры (Осиновая Речка-10, 16, Новотроицкое-10 и др.), для которых получены датировки в пре-делах 10 760-11 365 и древнее – до 12 000 л.н. (табл.1-2) [Шевкомуд, Кузьмин 2009; Naganuma et al.2005].
Стратиграфическая целостность культурныхотложений этих памятников, четкая планигра-фия, присутствие хозяйственно-бытовых и произ-водственных объектов, единство и выдержанностькаменного инвентаря и керамики позволяют на-деяться, что в дальнейшем специфика осиповскихкомплексов, соответствующих аллереду, будет оп-ределена более детально.
Анализ каменного инвентаря Гончарки-1 непозволяет зафиксировать четких различий меж-ду ранним и поздним осиповскими комплексамиданного памятника, в основном из-за разной реп-резентативности их коллекций. Но сравнение ма-териалов Гончарки-1, Гася и Хумми дает несколь-
206
ко больше в этом плане, поскольку в последних,как мы считаем, ранний этап культуры представ-лен в большей степени.
Можно предполагать, что на позднем этапе оси-повской культуры микронуклеусы на бифасах(как в Гасе и Хумми) сменяются различными мо-дификациями торцовых на гальках, не использу-ются типологически оформленные резцы (как вХумми), отсутствуют некоторые виды бифасов (на-пример, ножи со срединным сужением, крупныеклинки с зубчатыми краями).
В Гончарке-1 явно шире ассортимент и большеколичество наконечников стрел, скребков и тесло-видно-скребловидных орудий, неплохо представ-лены орудия, изготовленные с использованиемабразивных технологий, а также предметы неути-литарного назначения, для оформления которыхприменены уже развитые неолитические техноло-гии пикетажа и вытачивания. Как видно, разли-чия Гаси и Хумми с Гончаркой-1 довольно суще-ственны и их вполне достаточно, чтобы хотя бы напредварительном уровне характеризовать раннийи поздний этапы осиповской культуры.
Таким образом, говоря о динамике развитиякаменной индустрии в осиповской культуре, мыможем отметить то, что со временем новые элемен-ты начинают играть в них все более заметную роль.Это проявляется не только в количественном уве-личении такого рода инструментов, как наконеч-ники стрел, скребки или изделия, изготовленныес применением абразивных технологий, но и в по-явлении и закреплении широкого круга связан-ных с ними морфотипов.
Некоторым признакам, различающим коллек-ции Гончарки, Гаси и Хумми, пока трудно дать од-нозначную интерпретацию. Они могут отражатьхронологическую, локальную или хозяйственнуюспецифику памятников. В этом отношении обра-щает на себя внимание заметно более выраженноеприсутствие в материалах Гаси рыболовных гру-зил.
Что касается керамического материала, то егоанализ также позволил увидеть в нем некоторыехронологические различия. Так, в заполнениимерзлотных клиньев Гончарки отсутствовали со-суды, украшенные гребенчатым орнаментом, затонайдены такие, где узор на внешних поверхностяхпредставлял собой не очень внятные оттиски па-лочки, обмотанной веревкой. Для керамики гори-зонта 3Б была в большей степени свойственна ми-нералогенная традиция отощения формовочныхмасс, для нее же отмечается и тенденция к увели-чению объема и общему огрублению минерально-го отощителя.
Некоторые наблюдения позволяют считать, чтовыявленные нами различия между ранним и по-здним комплексами поселения Гончарка-1 отра-жают общую динамику в развитии осиповской ке-
рамической традиции. Одним из таких аргумен-тов являются материалы поселения Хумми.
Очень лаконичный и однородный керамическийкомплекс этого памятника повторяет те черты,которые мы, ссылаясь на материалы Гончарки,склонны интерпретировать как более ранние. Вэтом отношении обращают на себя внимание пре-имущественно шамотная традиция составле-ния формовочных масс, незначительный удель-ный вес отощающей примеси и ее негрубая тексту-ра, наличие на наружных поверхностях невнят-ных оттисков, среди которых эпизодически опре-деляются отдельные оттиски веревки, в одном слу-чае на поверхности отпечатался инструмент в видепалочки, обмотанной веревкой.
Обоснованность интерпретации хуммийскойкерамики как наиболее ранней в известной степе-ни подтверждается и тем фактом, что самая ран-няя из известных сегодня осиповскаих дат – око-ло 13 360 л.н. – была получена по углю из очага внижней части культурных отложений в кв. А/11,и именно на этом участке раскопа было собранобольше половины всех хуммийских черепков, втом числе несколько прямо в этом очаге [Яншина,Лапшина 2008].
Есть некоторые основания полагать, что разроз-ненные находки из раскопа 2 в материалах Гаситакже могут иметь определенное сходство с кера-микой из заполнения криогенных клиньев Гончар-ки-1. На это указывает наличие трудночитаемыхпредположительно веревочных оттисков на по-верхностях данных черепков.
Другим аргументом в пользу обоснованностисделанных нами наблюдений о хронологическихразличиях в осиповской керамической традицииможет стать поселение Осиновая Речка-10 [Шев-комуд 2003 б]. Возраст осиповского комплекса это-го памятника определяется радиоуглеродной да-той около 10 760 л.н., которая близка к датам го-ризонта 3Б Гончарки-1 (табл. 1). Его керамичес-кая коллекция также довольно лаконична и одно-родна, а главное, отличается признаками, повто-ряющими особенности керамики, известной нампо горизонту 3Б.
Во-первых, сосуществование шамотной и мине-ралогенной рецептур составления формовочныхмасс, причем последняя количественно преоблада-ет и представлена, как правило, обильным и гру-бым разнозернистым отощителем.
Во-вторых, технический декор практическиисчезает с поверхностей осиновореченских сосу-дов, по крайней мере встречается он здесь редко.
В-третьих, сосуды украшались гребенчатыминструментом в виде горизонтальных рядов на-клонных или вертикальных оттисков, обрывкитаких узоров встречены в приустьевой части, а так-же на тулове.
Таким образом, мы видим, что та тенденция в
207
динамике осиповской керамической традиции,которую нам удалось уловить в материалах Гон-чарки-1, в определенной степени подтверждаетсяи при их сопоставлении с другими осиповскимипамятниками. Среди них встречаются, с одной сто-роны, комплексы, повторяющие только ранние еечерты, а с другой – только поздние.
Данные по керамике хорошо согласуются с ре-зультатами сравнительного анализа каменной ин-
ГОНЧАРКА-1, ГРОМАТУХА:СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСОВ
Громатухинская культура была выделена в1960-х гг. по результатам исследования группыпамятников, расположенных в Среднем Приаму-рье, в бассейне р. Зеи. Ее основу составили матери-алы поселения Громатуха, исследования котороговелись силами ДВАЭ под руководством А.П. Ок-ладникова. В общей сложности на нем было вскры-то не менее 400 кв. м и собрано несколько тысячартефактов, в том числе многочисленные облом-ки керамической посуды [Окладников 1966; Дере-вянко 1972; Окладников, Деревянко 1977].
При анализе собранной коллекции практичес-ки сразу было отмечено большое сходство грома-тухинской каменной индустрии с осиповской. Приэтом исследователи не только называли общие длядвух культур элементы (торцовые и клиновидныенуклеусы, овальные и миндалевидные наконечни-ки дротиков и копий, резцы, скребки, тесловид-но-скребловидные инструменты и др.), но и образ-но говорили об их «близнечном родстве» [Оклад-ников, Деревянко 1977: 160-161, 173].
Осиповская культура в то время считалась бо-лее древней, мезолитической, громатухинская жес учетом присутствия в ней керамических матери-алов была отнесена к неолиту и датирована в пре-делах 5-4 тыс. лет до н. э. На этом фоне сходствокаменной индустрии обеих культур было вполнелогично объяснено их генетической связью. Пред-полагалось, что происхождение громатухинскихплемен было связано с продвижением осиповцеввверх по Амуру [Там же].
Первым поводом к пересмотру данной схемыстали исследования позднепалеолитических ком-плексов на реках Зея и Селемджа, в которых быливыявлены тесловидно-скребловидные орудия инуклеусы, характерные как для громатухинской,так и для осиповской культур [Деревянко и др.1987]. Эти исследования проводились под руковод-ством А.П. Деревянко в 1980-х гг. и заверши-лись объединением данных памятников в се-лемджинскую культуру [Деревянко, Зенин 1995].Сходство отдельных категорий каменного инвен-таря между памятниками обеих культур стало рас-сматриваться как доказательство их генетическойсвязи. Громатухинская культура на этом основа-нии была предположительно удревнена до перио-да 10-7 тыс. л.н., т.е. стала рассматриваться как
одна из наиболее ранних в неолите Дальнего Вос-тока [Derevyanko, Petrin 1995].
Чуть позднее с целью определения хронологииранненеолитических комплексов Среднего Амурабыло проведено датирование образцов древесногоугля, а также органического отощителя в керами-ке из нижней части культурных отложений Гро-матухи. На основании этих исследований радио-углеродный возраст памятника был определен впределах 12 800-8700 л.н. [Джалл и др. 2001 а, б].Это в некоторой степени подтвердило сделанноеранее предположение о более древнем возрасте гро-матухинской культуры.
Следующим важным шагом в ее изучении ста-ли повторные исследования Громатухи совмест-ной российско-корейской экспедицией под руко-водством с российской стороны А.П. Деревянкои С.П. Нестерова [Деревянко и др. 2004 б]. Работыпроводились в 2004 г. В результате была уточненастратиграфия памятника, а также получена серияновых дат по образцам угля из его нижнего слоя 3в интервале около 12 380-9895 л.н. [Нестеров 2005;Нестеров и др. 2005; Кузьмин, Нестеров 2010]. В2006 г. дополнительно были проведены исследо-вания памятника Черниговка-на-Зее, в основномсодержавшего комплекс громатухинской культу-ры [Нестеров 2008]. С него по образцу древесногоугля была получена дата 9885±55 л.н. (АА-78935)[Кузьмин, Нестеров 2010]. Все эти данные подтвер-дили древность громатухинской культуры и нали-чие в ее эпонимном памятнике финальноплейсто-ценовых культурных отложений, сопоставимыхпо возрасту с осиповскими.
Таким образом, уже к началу 2000-х гг. ситуа-ция с пониманием материалов громатухинскойкультуры стала меняться. Выводы о ее финально-плейстоценовом возрасте на фоне массовых откры-тий керамики в осиповских памятниках вновь по-ставили на повестку дня вопрос о соотношенииосиповских и громатухинских комплексов. Ока-залось что их объединяет не только сходство ка-менных индустрий, но и близкий возраст, а такжеприсутствие в инвентаре керамической посуды.
В свете этих открытий вполне естественно воз-никает вопрос: а есть ли в действительности осно-вания для выделения в бассейне Амура двух само-стоятельных археологических культур финально-
дустрии и подтверждают наше заключение о на-личии определенной динамики в развитии осипов-ской культуры. Дальнейшее изучение ее памятни-ков позволит более детально обосновать этот вы-вод и выделить в осиповской культуре два или не-сколько этапов, сопоставимых хронологически(на предварительном уровне) с периодами клима-тостратиграфической шкалы финала неоплейсто-цена юга Дальнего Востока [Короткий 2001].
208
плейстоценового возраста? Ответ на него напря-мую зависит от проведения сравнительного анали-за громатухинских и осиповских комплексов, впервую очередь керамики.
Далее отметим, что одним из важных результа-тов исследований последних лет стал вывод о мно-гослойности, или поликомпонентности, поселенияГроматуха. Прежде всего, в ходе повторных раско-пок было установлено наличие на нем жилища оси-ноозерской культуры эпохи позднего неолита, атакже отдельных немногочисленных фрагментовкерамики урильской культуры эпохи палеометал-ла [Деревянко и др. 2004 б; Нестеров и др. 2005].
Другим шагом в этом направлении стали иссле-дования О.Л. Моревой, посвященные изучениюкерамики бойсманской культуры среднего неоли-та Приморья. Ей удалось найти аналогии одной изгрупп бойсманской керамики в материалах посе-лениях Громатуха, а также в коллекции малышев-ской культуры неолитического поселения МалаяГавань [Морева 2005]. Кроме того, в свое времяЮ.А. Мочановым в Громатухе были отмечены ма-териалы алдано-ленского облика, в частности име-ющие аналогии в белькачинской культуре [Моча-нов 1969: 181]. Это означало, что в материалах Гро-матухи возможно присутствие малышевского ибелькачинского культурных комплексов.
Таким образом, все эти наблюдения актуализи-ровали еще один вопрос, касающийся изучения гро-матухинской культуры. Как известно, последняябыла выделена еще в 1960-х гг., на заре система-тических археологических исследований Даль-него Востока. В те годы представления о культур-ной хронологии и типологии памятников Приаму-рья только складывались. Оценить сразу и пра-вильно вновь открываемые комплексы было оченьтрудно. Поэтому сегодня одним из центральныхвопросов в историографии громатухинской куль-туры, особенно в свете изложенных выше наблю-дений, становится корректировка данных о техни-ко-типологическом облике громатухинского ком-плекса и отделении от него материалов более по-здних эпох. Впрочем, и сейчас, с учетом всех дан-ных, накопившихся почти за 50 лет исследований,
достоверно и в деталях провести такую работу ока-зывается довольно сложно.
Собственный опыт изучения коллекции грома-тухинского поселения из раскопок 1965-1966 гг.1 ,хранящейся в фондах ИАЭ СО РАН, позволяет намсделать следующие выводы на этот счет.
Легче всего собственно громатухинский комп-лекс выделяется по керамическим материалам.Среди них в коллекции Громатухи представленыпомимо собственно громатухинского также комп-лексы осиноозерской, малышевской и белькачин-ской культур эпохи неолита.
С осиноозерской культурой можно уверенно со-поставить немногочисленную группу керамики срассеченными валиками, составляющую по опуб-ликованным данным около 1,7% от общего числанайденных керамических обломков [Окладников,Деревянко 1977: 96-98], что и подтвердили иссле-дования 2004 г. [Деревянко и др. 2004 б; 2005].
С белькачинским комплексом связаны фраг-менты тонкостенных сосудов с минеральной при-месью, со стенками сплошь покрытыми вертикаль-ными отпечатками толстого скрученного шнура.Венчики этих сосудов утолщены широким нале-пом и покрыты зубчатыми оттисками в виде зиг-загообразных композиций (рис. 104). Среди опуб-ликованных материалов с этим комплексом мож-но соотнести группу шнуровой керамики, состав-ляющую чуть более 14% от ее общего количества[Окладников, Деревянко 1977: табл. 68].
К малышевской культуре относится керамикас минеральными примесями и разнообразной мел-коштамповой орнаментацией, в том числе со спи-ралевидными узорами и красным лощением сте-нок (рис. 105). Из опубликованных материалов сней можно соотнести две группы керамики, состав-ляющие около 14% от ее общего количества. Этокерамика с орнаментом, выполненным отступаю-щей лопаточкой, и ромбическими оттисками [Ок-ладников, Деревянко 1977: 94-98, табл. 21, 40, 68].
1 Авторы благодарят А.П. Деревянко, С.П. Нестероваи А.В. Табарева за предоставленную возможность работатьс коллекцией поселения Громатуха.
Рис. 104. Громатуха.Керамика белькачинской культуры
209
Надо отметить, что присутствие в материалахГроматухи керамических комплексов среднегонеолита хорошо согласуется с радиоуглероднымидатами, опубликованными в 2000-х гг., которыепрямо указывают на возможность присутствия вотложениях памятника не только артефактов фи-нально-плейстоценового возраста, но и находокболее поздних эпох вплоть до палеометалла[Джалл и др. 2001 б; Нестеров и др. 2005].
Из приведенных выше обстоятельств естествен-ным образом вытекает необходимость уточнениятехнико-типологического облика каменной инду-стрии громатухинского комплекса. Однако сде-лать это намного сложнее, т.к. здесь требуется спе-циальное исследование с учетом материалов ши-рокого круга памятников, в том числе селемджин-ских, громатухинских, малышевских, белькачин-ских и осиноозерских. Учитывая, что собственногроматухинская керамика по опубликованнымданным составляла не менее 60% от всей найден-ной [Окладников, Деревянко 1977], можно наде-яться, что и в каменной индустрии количествен-ное соотношение отдельных культурных компо-нентов было аналогичным.
Каменный инвентарь
Анализ коллекции каменных артефактов опи-рается прежде всего на опубликованные данные пораскопкам 1965-1966 гг., в которых отражены всеосновные группы и категории каменных изделий,выделенные по морфо-типологическим призна-кам, а также их количественное соотношение. Впервую очередь мы обращали внимание на изде-
лия из третьего (нижнего) культурного слоя, ко-торые хорошо представлены в иллюстративномматериале [Окладников, Деревянко 1977: 79-98].Затем с учетом полученных данных рассматрива-лись материалы верхних слоев.
Опубликованы также результаты функцио-нального анализа П.В. Волковым орудийного ком-плекса Громатухи, где приводятся типолист изде-лий и количественные данные [Деревянко и др.1998: 63-71]. Однако надо отметить, что в этом ис-следовании совершенно не учитывался факт мно-гослойности громатухинского поселения, а орудиярассматривались преимущественно с позиций ихфункционального назначения, а не морфотиполо-гических характеристик. В связи с этим получен-ные П.В. Волковым результаты могут иметь длянас лишь дополнительное значение.
Основное каменное сырье Громатухи – кремни-стый сланец, песчаник, туф – в большинстве слу-чаев можно уверенно связывать с ранним комплек-сом. Иногда встречающиеся яшма и халцедон ча-сто использовались именно в поздних культурах.
Несомненно ранними выглядят прежде всеготесловидно-скребловидные орудия (рис. 106). Враскопах 1965-1966 гг. их было обнаружено 25,2%от общего числа изделий. По данным П.В. Волко-ва они составляли 36,9% от общего числа орудийГроматухи [1987 а: 82]. К ним необходимо доба-вить симметричные и асимметричные бифасы ли-стовидных и миндалевидных форм – наконечни-ки копий и дротиков, а также ножи (более 10%),различные варианты клиновидных микронукле-усов (4,3%). Вероятно, ранними можно считать
Рис. 105. Громатуха. Керамика малышевской культуры
1
2
3
45
210
так называемые «эпилеваллуазские» нуклеусы уп-лощающего параллельного скалывания (1,2%),«скребла палеолитического типа» и «чопперовид-ные изделия»на гальках (3,6 и 1,4%). В совокуп-ности все эти довольно легко диагностируемыеартефакты составляют около 47% всего набораизделий [Окладников, Деревянко 1977: 96-97].
Сложнее обстоит дело с атрибуцией призмати-ческого компонента индустрии Громатухи, по-скольку такие изделия – призматические нуклеу-сы, а также орудия на пластинах, наконечникистрел, скребки, резцы и т.п. – могли сопровождатьздесь не только собственно громатухинскую кера-мику, но и белькачинскую [Мочанов 1969].
Призматические нуклеусы составляют около5% от общего числа каменных изделий Громату-хи, т.е. количественно они более многочисленны,чем клиновидные. Какая-то их часть, безусловно,должна быть отнесена к раннему комплексу (рис.106). На это указывают следующие наблюдения.Во-первых, они характерны для позднепалеолити-ческих памятников на р.Селемдже [Деревянко идр. 1998] и в Громатухе могут быть отражениемболее ранней традиции. Во-вторых, они обнаруже-ны в других громатухинских памятниках, в част-ности в Черниговке-на-Зее [Нестеров 2008].
Для громатухинского комплекса в основном ха-рактерны микроформы нуклеусов данного типа, скоторых можно получать микропластины и плас-тинки длиной до 4-5 см.
Учитывая данные о количественном соотноше-нии в материалах Громатухи керамики различныхкультур, можно предположить, что большая частьпризматических нуклеусов в коллекции должнапринадлежать громатухинскому комплексу. Кбелькачинскому в таком случае можно отнестинуклеусы правильных форм и огранки, найденныев верхних горизонтах памятника. Для более чет-кого разделения призматических нуклеусов покомплексам необходимо их изучение с позицийтехнико-технологического анализа, т.к. в разныхкультурах они могли различаться в деталях офор-мления, по сырью и т.п., но и в этом случае полу-ченные результаты вряд ли будут совершенно на-дежными. Для целей же нашего исследования, од-нако, важно установление самого факта наличиямикропризматической техники в материалах гро-матухинской культуры.
В совокупности клиновидные и в различныхвариантах призматические нуклеусы выглядятединым композитом микроиндустрии громатухин-ского комплекса, составляя довольно весомый вколичественном отношении ее компонент. Анало-гичный композит с очевидным преобладаниемпризматических разновидностей нуклеусов пред-ставлен в комплексе памятника Черниговка-на-Зее [Нестеров 2008].
Сложны в диагностике и некоторые другие ка-тегории артефактов. К поздним комплексам, по-
видимому, должны быть отнесены вкладыши сдвусторонней ретушью. Приходится с осторожно-стью подходить к мелкоразмерным скребкам ок-руглых и языковидных форм на отщепах, пластин-чатых отщепах, а также на ножевидных пласти-нах. Такие изделия имели широкое распростране-ние в более поздних неолитических культурах. Ктому же скребковые функции в громатухинскомкомплексе выполняли большей частью многочис-ленные и разноразмерные тесловидно-скребловид-ные орудия [Волков 1987 а, б].
Что касается наконечников стрел, то здесь сле-дует отметить следующее. В комплексе Громату-хи их общее количество невелико – всего 0,6%. Враскопках 2004 г. они в основном изготовлены изхалцедона и связаны с осиноозерским слоем. Изу-чение материалов из раскопок 1965-1966 гг. позво-ляет также говорить о преимущественно позднемоблике большей части наконечников стрел, вчастности подтреугольных на отщепах с прямымили вогнутым основанием и выделенными жаль-цами [Окладников, Деревянко 1977: 84-85]. С ран-ним комплексом можно предположительно связы-вать наконечники стрел на бифасах лавролистныхи черешковых очертаний. Сам по себе факт немно-гочисленности наконечников стрел (или даже ихполного отсутствия) возможно рассматривать какранний признак, что проявляется, в частности, вколлекции поселения Гася.
В отношении срединных многофасеточных рез-цов, общая доля которых составляет 3,2%, необ-ходимо отметить, что они весьма характерны дляселемджинских памятников, в частности дляУсть-Ульмы-1 (рис. 107) [Деревянко, Зенин 1995:109]. Поэтому их вполне правомерно рассматриватьв рамках громатухинского комплекса. Можно пред-полагать то же самое и относительно группы так на-зываемых «скребков-резцов» с преимущественносрединным расположением резцового лезвия, изго-товленных на отщепах и сколах с галек (1,2%).
Пластинчатые отщепы и сколы с дорсальнойретушью, оформляющей прямые, вогнутые, режевыпуклые лезвия (ножи, скобели, скребла), ана-логичны ножевидно-скребловидным орудиям Гон-чарки-1, а потому также вполне возможно соотне-сение части их с ранним комплексом [Окладников,Деревянко 1977: 92; Волков 1986].
Из грузил к раннему горизонту Громатухи мож-но отнести изделия на гальках с выбоинами. Ноони широко представлены и в более поздних куль-турах. Упоминаемое массивное грузило с бикони-ческим отверстием в центре аналогично булаво-видным грузилам Нижнего Амура и может бытьсопоставлено с малышевским комплексом. Онипредставлены, например, в жилищах поселенияСучу [Деревянко и др. 2000: рис. 99]. То же можносказать об изделии типа песта или терочника ци-линдрической формы, расширяющегося к концу.
Украшения – две подвески со сверлеными от-
Рис. 106. Громатуха. Каменный инвентарь громатухинской культуры.1-4 – ладьевидные сколы; 2, 5, 7-8 – клиновидные микронуклеусы;
3, 15 – призматические нуклеусы; 6, 9, 16, 20 – тесловидно-скребловидные орудия;10-11 – скребки; 12-14 – бифасы; 17-19 – резцы
[по: Окладников, Деревянко 1977]
12
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
17
18
14
13
15
16
19 20
1
2
3
4
5 67 8
9
10
11 12
17
18
14
13
15 16
19
20
Рис. 107. Усть-Ульма-1. Каменный инвентарь селемджинской культуры.1-3 – бифасы-наконечники; 4-5 – бифасы-ножи; 6, 9-10 – резцы;
7-8 – технические сколы с клиновидных микронуклеусов; 11-12 – клиновидные микронуклеусы;13 – торцовый микронуклеус; 15-16 – микропризматические нуклеусы; 14, 17 – нуклеусы; 18-20 – скребки
[по: Деревянко, Зенин 1995]
213
верстиями и бусина – также широко распростра-нены в поздних культурах и поэтому не могут ис-пользоваться для сопоставлений [Окладников,Деревянко 1977: 90-91].
Таким образом, ранний громатухинский ком-плекс поселения в устье Громатухи, по нашимпредставлениям, составляют следующие артефак-ты: так называемые «эпилеваллуазские» нуклеу-сы уплощающего параллельного скалывания,«скребла палеолитического типа» и «чопперовид-ные изделия» на гальках, тесловидно-скребловид-ные орудия, бифасы различных листовидных иминдалевидных форм – наконечники копий и дро-тиков, а также ножи, различные варианты клино-видных микронуклеусов, часть призматическихнуклеусов, срединные многофасеточные резцы,бифасиальные наконечники стрел листовидных ичерешковых разновидностей, изделия на относи-тельно крупноразмерных пластинчатых отщепахс дорсальной ретушью (рис. 106). Возможно, в неговходили микроскребки и галечные грузила.
Основная часть перечисленного орудийного на-бора находит прямые аналогии в позднепалеоли-тических комплексах стоянок на р. Селемдже, чтоподчеркивает связь селемджинской и громатухин-ской индустрий, тем более что и памятники ихнаходятся на одной территории. Конечно, нельзядо конца исключать отнесение данных артефактовГроматухи к позднему палеолиту и совмещениеразнокультурных материалов в нижнем слое па-мятника за счет компрессионных явлений. Но втаком случае становится совершенно неясно, с ка-ким комплексом каменных артефактов связыватьмногочисленную архаичную керамику Громатухи.Поэтому мы склонны считать, что основные при-знаки громатухинской индустрии очерчены намидостаточно достоверно.
Сравнивая данный комплекс с осиповским изколлекции Гончарки-1, в первую очередь отметимважные различия в первичном расщеплении. ДляГончарки-1 и осиповской культуры в целом не ха-рактерны галечные палеолитоидные нуклеусыуплощающего параллельного скалывания, а так-же нуклеусы и микронуклеусы правильных при-зматических разновидностей, которые хорошопредставлены в Громатухе и Черниговке-на-Зее.
В группе тесловидно-скребловидных орудий(макроскребков) для громатухинской культурыхарактерна унифасиальная обработка спинки,иногда с брюшковой подтеской. Кроме того, ониизготавливались на гальках с сохранением есте-ственной поверхности на брюшке орудий. В Гон-чарке-1 и осиповской культуре в целом существен-на роль бифасиальной обработки и типично изго-товление орудий, даже унифасов, на сколах. Га-лечная поверхность на орудиях встречается неча-сто. Да и в целом типология скребков и тесловид-но-скребловидных орудий в Гончарке-1 выглядитболее развитой.
В осиповской культуре хорошо представленынаконечники стрел, а в Гончарке-1 они особенномногочисленны, разнообразны и типологическивыдержаны. В Громатухе таких орудий найденомало. В то же время здесь довольно велико коли-чество резцов, и они здесь составляют типологи-ческие серии. В Гончарке-1 и других осиповскихпамятниках резцов, напротив, немного, и там ониполиморфны.
Об орудиях на пластинах – наконечникахстрел, скребках, резцах – судить сложно. Пластин-чатый наконечник стрелы обнаружен в Чернигов-ке-на-Зее [Нестеров 2008]. Возможно, и в Грома-тухе такие наконечники соотносятся с раннимкомплексом. Но в осиповской культуре орудий напластинах нет.
К рубящим орудиям в Громатухе отнесена груп-па тесловидно-скребловидных изделий на основа-нии данных трасологического анализа [Волков,1987 а]. Морфологически они почти не отличают-ся от скребков-унифасов. В осиповской культуреи особенно в Гончарке-1 рубящие орудия являют-ся оформленными в морфотипологическом отно-шении.
Наконец, для громатухинской культуры не от-мечаются орудия с абразивной обработкой, а так-же с применением пикетажа.
В целом находится достаточно оснований, что-бы говорить не только о сходстве комплексов оси-повской и громатухинской культур в каменныхиндустриях, но и об их довольно существенныхразличиях, которые можно рассматривать каккультурные. Громатухинский комплекс, крометого, выглядит и менее разнообразным в технико-типологическом отношении, в нем присутствуютявно архаичные, «палеолитоидные» признаки, ко-торые в осиповской культуре прослеживаются в ос-новном в памятниках, где имеются материалы свозрастом древнее 12 000 л. н., в частности в Гасеи Хумми.
Из этого вытекают два обстоятельства. Первое,различий в каменной индустрии вполне достаточ-но, чтобы с учетом комплекса других данных го-ворить о двух разных археологических культурах.Второе, ранний комплекс Громатухи с технико-типологических позиций выглядит более ранним,«палеолитоидным», чем демонстрирует довольносущественное сходство с селемджинскими стоян-ками позднего палеолита.
Керамика
Поскольку громатухинская керамика до сихпор не получала в литературе специального осве-щения, мы позволим себе остановиться более под-робно на ее характеристике, тем более что тольков этом случае мы сможем решить стоящую переднами задачу по сопоставлению ее с осиповской ке-рамикой Гончарки. Надо отметить, что гро-матухинская посуда отличается совокупностью
214
довольно ярких признаков, которые, за редкимиисключениями, без труда позволяют отделить ееот керамики других культурно-хронологическихкомплексов памятника. Добавим также, что в ко-личественном отношении коллекции Громатухи иГончарки вполне сопоставимы, однако громатухин-ская отличалась заметно лучшей сохранностью. Этопроявлялось и в качестве черепков, и в их разме-рах, и в общем количестве сосудов. Более устой-чивыми были и технико-морфологические харак-теристики громатухинской посуды.
С ы р ь е и ф о р м о в о ч н ы е м а с с ы
Одной из главных отличительных особенностейгроматухинской керамики является присутствиев ее составе травы. Однако в формовочной массе еемогло быть много, а могло быть и мало, а иногдаона отсутствовала совсем, хотя в точном количе-ственном выражении представить эти наблюденияпрактически невозможно.
Внутри черепков трава фиксировалась обычнов виде тонкой прослойки из отпечатков длинныхстеблей, иногда заполненных углефицированнымвеществом (рис. 108). В изломах они были всегдаориентированы параллельно стенкам сосудов. Та-кая локализация растительных остатков заставля-ет сомневаться в том, что они добавлялись в фор-мовочную массу при замесе. В этом случае мы быфиксировали более хаотичное распределение пус-тот по всей толще черепков.
На поверхностях сосудов также встречаются от-печатки растительных остатков, но они имеютздесь несколько иную морфологию и, судя по все-му, были оставлены разными материалами.
Какая-то их часть принадлежит длинным стеб-лям травы, выходящим на поверхность из внутрен-ней части черепков. Особенно часто такие отпечат-ки отмечаются в приустьевой зоне сосудов на уча-стках, где заметны дефекты формовки (некаче-ственная обмазка стенок, места спая).
В большинстве же случаев на поверхностяхвстречаются хаотичные извилистые и прямые,длинные и совсем короткие отпечатки, напомина-
ющие тонкие веточки, хвою, выгоревшие древес-ные остатки, сухие волокна растений и т.п. (рис.108; 111). Они фиксируются на обеих поверхнос-тях сосудов, иногда они более обильны, иногдаменее. В целом они производят общее впечатление«замусоренности» поверхностей. Важной отличи-тельной чертой таких отпечатков является то, чтоони перекрывают оттиски декоративного и техни-ческого орнамента. Это говорит о том, что и в этомслучае трава не являлась собственно компонентомформовочных масс.
Минеральная примесь в составе громатухинс-кой посуды хотя и фиксировалась при визуальномосмотре, но в целом была здесь гораздо менее за-метна, чем в керамике Гончарки-1. При этом мож-но уверенно отметить одну закономерность: чембольше травы отмечалось в составе керамики, темменее ощутима была в ней минеральная примесь,и наоборот. В очевидных случаях минеральные до-бавки в тесте были представлены мелкозернистымпеском, крупные зерна породных обломков фик-сируются редко.
Иногда в составе громатухинских сосудов встре-чались также единичные окатанные частицы гли-ны или шамота красно-коричневого цвета.
Для более детального анализа сырьевых особен-ностей громатухинского гончарства нами был про-веден петрографический анализ. Всего было ото-брано девять фрагментов, достоверно представля-
Рис. 108. Громатуха.Керамика с отпечатками травы внутри черепка
Рис. 109. Громатуха.Керамика с отпечатками травы на поверхности
215
ющих громатухинский комплекс. Надо отметить,что при изготовлении шлифов громатухинскаякерамика проявила себя как заметно более проч-ная по сравнению с осиповской. Ее шлифы имелихорошее качество, а черепки сохраняли свою це-лостность. Результаты петрографического анали-за в целом подтвердили данные визуальных наблю-дений о том, что громатухинская посуда, как и оси-повская, изготавливалась из формовочной массыс добавками минерального отощителя, травы и ша-мота. Однако конкретное соотношение этих ком-понентов в ней было совершенно иным. Всего уда-лось выделить две рецептуры.
Первая представлена тремя образцами, изготов-ленными из глины с добавками искусственногоминерального отощителя и травы. Песок вводил-ся кварцполевошпатового состава и занимал 20-30% площади шлифов. Текстурный стандарт мел-кий, преобладающий размер зерен 0,3-0,5 мм, вцелом не более 1-1,5 мм. Форма зерен слабо ока-танная, окатанная или угловатая.
Во всех трех образцах присутствие травы опре-делено только визуально и зафиксировано отчет-ливо в виде отпечатков длинных волокон в цент-ральной части черепков (022, 027) и на поверхнос-тях (025). Возможно, остатками травянистой орга-ники являются углистые частицы, сохранившие-ся в шлифе одного из фрагментов (027).
Очень близок к данной рецептуре еще один об-разец (068), у которого минеральная примесь оп-ределена петрографом как естественная, ее объем10-20%, алевритистая часть непластичных вклю-чений составляла еще около 20%, преобладающийразмер породных обломков 0,2-0,3 мм, наиболеекрупные из них достигали 2 мм, форма зерен уг-ловатая. Трава в данном образце визуально зафик-сирована в виде длинных ориентированных вдольповерхностей отпечатков в центральной части че-репка, петрографически – в виде игольчатых ипластинчатых пустот.
Вторая рецептура представлена также тремяобразцами. Во всех случаях для приготовленияформовочной массы бралась практически чистаяглина, в составе которой присутствовали лишьединичные зерна породных обломков и около 10%алевритистой примеси. Помимо этого в шлифахотмечены трава и в очень ограниченном объеме –не более 3% – шамот.
И по внешним впечатлениям, и по данным пет-рографии количество травы в этих образцах былобольшим, чем в черепках предыдущей группы. Удвух фрагментов трава фиксировалась в среднейчасти изломов в виде длинных ориентированныхвдоль стенок пустот (023, 069), у третьего (070) –только в тонком слое обмазки на внутренней по-верхности. Петрографически присутствие травыустановлено по характерным дыркам выкрашива-ния, в одном случае вокруг пустот отмечена интен-сивно черная окраска (023) (рис. 110 а).
Шамот в шлифах представлял собой непрозрач-ные или полупрозрачные зерна угловатых или ок-ругленных очертаний с размерами зерен не более1-1,5 мм, визуально это были очень редкие и пло-хо заметные ярко-красные комочки.
Близок к данной рецептуре еще один образец(026). Он отличался тем, что в его составе зафик-сировано присутствие 5-7% минеральной приме-си, которая, по мнению петрографа, была введенаискусственно. Размеры зерен песка 0,3-0,5 мм,форма слабоокатанная, состав: кварц, микроклин,олигоклаз. Присутствие травы установлено толь-ко при визуальном осмотре – в виде длинныхориентированных вдоль стенок пустот в среднейчасти черепка. Шамот зафиксирован петрогра-фически в виде частиц овальной формы размеромдо 1 мм, но заметен он и визуально – в виде ред-ких, плотных, ярко-красных комочков глины. Наодной из поверхностей в шлифе установлено при-сутствие тонкого обмазочного слоя. Собственно,данный образец сочетает в себе особенности двухпредыдущих рецептур.
Следует отдельно остановиться на характери-стике еще одного образца (024), который, возмож-но, представляет собой третью рецептуру. В его со-ставе и петрографически, и визуально установленоприсутствие только глины с минеральным отощи-телем. Объем последнего 20-30%, алевритистойфракции 10-20%, форма зерен остроугольная, раз-меры 0,1-0,3 мм, отдельные достигают 1 мм, составпримесей кварцевый (рис. 110, б). Петрограф уве-ренно определяет песок как искусственный, хотяразмер зерен выглядит для этого слишком мелким.В шлифе встречаются единичные непрозрачные ча-стицы, но определить, что это, шамот или рудныеминералы, невозможно.
Итак, мы видим, что и по данным визуальногоосмотра, и по данным петрографического анализав сырьевой практике громатухинских мастеровфиксируются некоторые существенные отличия отосиповских традиций.
Во-первых, в составе громатухинской коллек-ции полностью отсутствуют сосуды, изготовлен-ные по шамотной технологии, под которой в дан-ном случае понимается рецептура «глина + ша-
Рис. 110. Громатуха.Шлифы громатухинской керамики № 23-24
216
мот». В формовочных массах громатухинских со-судов шамот появляется эпизодически и только ввиде малозначимой и, по-видимому, не обуслов-ленной функционально добавки (до 3%).
Во-вторых, основными компонентами формо-вочных масс в громатухинских сосудах служилиобломки горных пород и трава.
По объему минерального отощителя громату-хинская керамика сближается с поздними сосуда-ми горизонта 3Б в Гончарке-1. При этом минераль-ные примеси в ней отличались исключительномелкими размерами, тогда как в Гончарке-1 они,напротив, были преимущественно грубыми. Раз-личным был и минеральный состав отощителя. Вгроматухинских сосудах это был песок кварцпо-левошпатового или гранитного состава, которыйв Гончарке отмечен только в керамике горизонта3Б, да и то как исключение.
Не менее существенны и различия, касающие-ся использования травы. В осиповской посуде Гон-чарки трава присутствует в виде эпизодическихизмельченных включений и, судя по объему, какмалозначимая добавка. В громатухинской посудеона была либо основным и единственным отощи-телем, либо дополнительным, но в то же времявполне определенно вписанным в технологичес-кий процесс.
Таким образом, мы видим, что сырьевая прак-тика осиповских и громатухинских гончаров раз-личалась очень существенно. Можно даже гово-рить, что обе традиции составления формовочныхмасс складывались независимо друг от друга.
Ф о р м о в к а
Одной из примечательных особенностей грома-тухинской посуды является то, что она дает иссле-дователям некоторую совокупность наблюдений,реально позволяющих проводить реконструкциюконкретных способов ее формовки, что при работес коллекциями ранней керамики других памятни-ков Дальнего Востока до сих пор оказывалосьпрактически невозможным [Жущиховская 2004:40; Медведев 2008 а; Яншина, Лапшина 2008; Ян-шина, Гарковик 2008].
Для начала отметим черты, более всего броса-ющиеся в глаза при изучении массового материа-ла. Одна из них связана с присутствием на грома-тухинских сосудах технического декора. Он встре-чается на обеих поверхностях и представлен либоверевочными оттисками, либо прочесами твердо-го гребенчатого инструмента.
Веревочные оттиски имеют вид четких длин-ных параллельных друг другу узких желобков. Свнешней стороны сосудов они ориентированы все-гда вертикально или с небольшим наклоном в туили другую сторону. Очень часто они здесь взаим-но пересекаются (рис. 111, 1; 114, 1; 115, 4). С внут-ренней стороны оттиски веревки ориентированы
только субгоризонтально. И это не единственноеразличие.
Снаружи отпечатки веревки всегда более чет-кие и глубокие, чем с внутренней. Поверхностьздесь обычно сплошь покрыта ими. Глубина и чет-кость оттисков сохраняется одинаковой на любомучастке сосуда. С внутренней стороны отпечаткиверевки заметны только в средней части тулова.Около устья они почти полностью стирались в ходедальнейшей формовки, а около дна, по-видимому,вообще не наносились.
Для выяснения возможных приемов нанесенияверевочных оттисков на наружные поверхностигроматухинских сосудов нами были проведены эк-сперименты. Они показывают, что наиболее веро-ятным способом был, по-видимому, прокат цилин-дрического инструмента, обмотанного веревкойрастительного происхождения.
Только в этом случае у нас получались доста-точно длинные, ровные и одинаково четкие на всемсвоем протяжении желобки с несколько размыты-ми очертаниями краев. Кроме того, можно пред-положить, что в одном направлении прокат осуще-ствлялся неоднократно. На это указывает относи-тельно большая ширина желобков и отсутствие наних отчетливых следов «перевитой» веревки. Пос-леднее, возможно, объясняется еще и тем, что ма-стера использовали слабоскрученную веревку.
Выбивка инструментом, обмотанным веревкой,оставляла более короткие и весьма хаотичные же-лобки. Каждое прикосновение орудия в этом слу-чае давало отпечаток, не повторяющий полностьюпредшествующий: то одна, то другая веревочкавсякий раз пропечатывалась с разной силой и аб-рисом. Тот же эффект фиксировался и при протас-кивании инструмента, обмотанного веревкой.
Как наносились веревочные оттиски на внут-реннюю поверхность громатухинских сосудов?Учитывая их морфологию (субгоризонтальнаяориентация, расположение на поверхности своегорода пятнами, более узкий и короткий след, сохра-няющий отчетливые следы витья, отсутствие пе-ресечений), можно предположить, что они пред-ставляют собой остатки наковаленок, обмотанныхшнуром. Но в целом для ответа на этот вопрос не-обходимо более детальное изучение коллекции.
Гребенчатые прочесы встречаются на громату-хинской посуде намного реже (рис. 112). На вне-шних поверхностях они фиксируются сразу око-ло устья. Ориентированы они либо горизонтально,либо под наклоном. В тех случаях, когда удавалосьустановить, инструмент имел четыре зуба, а общаяширина его рабочей части составляла около 2 см.
В случае с горизонтальными трасами прочес могвыполняться однократно в один или несколькорядов. Интересно, что гребенчатый орнамент, ко-торый нередко встречается в подвенечной частигроматухинских сосудов, наносился тем же (или
Рис. 111. Громатуха.Сосуд с веревочными оттисками.1 – венчик, 2 – придонная лента,
3 – обломок средней части тулова,4 – дно, 5 – реконструкция сосуда
1
32
4 5
218
аналогичным) инструментом, что и горизонталь-ные прочесы. Наносился он отступанием вдоль ок-ружности, и в случаях, когда нажим на орудие быллегким, а шаг отступания редким, узор получал-ся весьма похожим на трасы (рис. 116, 6). Все этонаводит на мысль, что нанесение горизонтальныхтрас под венчиком в какой-то степени ассоцииро-валась у мастеров с орнаментом. Наклонные про-чесы, напротив, близки «по смыслу» к веревочнымоттискам, т.к. повторяют особенности их локали-зации на сосудах.
На одном из венчиков зафиксировано сочетаниеверевочных оттисков и гребенчатых прочесов. Ос-новная обработка здесь выполнялась веревочныминструментом и, как обычно, под наклоном, а гре-бенка на отдельных участках оставляла также на-клонные трасы, но, по-видимому, случайные.
Как далеко могли спускаться вниз гребенчатыетрасы, по небольшим обломкам не устанавливает-ся. В этом отношении привлекает внимание одиннебольшой сосуд (рис. 112). Он единственный вколлекции был обработан только гребенчатымипрочесами. Они располагались по обеим поверхно-стям от устья и до дна и были организованы в ши-рокие разнонаправленные поля.
На внутреннюю поверхность громатухинскихсосудов гребенчатые трасы наносились только в го-ризонтальном или субгоризонтальном направле-нии. В отдельных случаях они полностью повто-ряли очертания и абрис трас на сосудах с поселе-ния Гончарка-1. Это были широкие сплошныеполя параллельных друг другу желобков. В дру-гих случаях это были неаккуратные отдельныедвижения, когда мастер не стремился соблюстинекий определенный рисунок в наносимых им ли-ниях. Единственное, что было неизменным, такэто то, что линии сохраняли субгоризонтальнуюориентацию и никогда не накладывались друг надруга. Выполнялись они инструментом с узкой
рабочей частью (шириной не более 1 см) и болеемелкими, чем в Гончарке, зубцами.
К сказанному следует добавить, что, посколь-ку сохранность технического декора на внутрен-них стенках была как правило очень плохой, вряде случаев у нас возникали сомнения, имеем лимы дело с затертым гребенчатым прочесом или ве-ревочным инструментом.
Любопытны данные о взаимовстречаемости ве-ревочных оттисков и гребенчатых прочесов. Слу-чаи сочетания их на одном сосуде единичны, новсе-таки есть. За исключением одного описанноговыше фрагмента венчика, в основном это вариан-ты, когда сосуды были обработаны снаружи вере-вочными оттисками, а на внутренней поверхнос-ти у них отмечены либо только гребенчатые тра-сы, либо гребенчатые трасы и затертые веревочныеоттиски. При этом создается впечатление, что сна-чала на поверхности сосуда появлялась веревка, ауже затем гребенчатый прочес.
Оценивая в целом характер технических отпе-чатков на громатухинской посуде, можно отме-тить, что ведущим приемом здесь выступала обра-ботка веревочным инструментом. Эта техниказдесь не просто встречалась чаще, чем гребенчатыйпрочес, но и имела свою жесткую систему прин-ципов, которые всякий раз соблюдались мастера-ми, даже в тех случаях, когда в дальнейшем пред-полагалось тщательно затереть веревочные оттис-ки перед нанесением орнамента. Очень похоже,что данная процедура имела большое значение втехнико-технологическом цикле громатухинско-го гончарства. Совсем иное впечатление склады-вается при изучении гребенчатого прочеса. Он какбудто не имел в нем собственного места и повто-рял либо орнаментальные стереотипы, либо сте-реотипы обработки поверхностей веревочным ин-струментом.
Сравнивая технический декор поселений Гро-
Рис. 112. Громатуха.Сосуд с гребенчатыми трасами на поверхностях
219
матуха и Гончарка-1, мы видим вполне ощутимыепризнаки сходства и различия. С одной стороны,сам факт его присутствия объединяет и выделяетоба памятника и связанные с ними культуры изчисла всех керамических традиций южной частиДальнего Востока России. С другой стороны, самаоперация по технической обработке поверхностейв осиповском и громатухинском гончарстве реали-зовывалась различными способами.
Во-первых, очевидно, что веревочный инстру-мент не использовался осиповскими мастерамидля обработки поверхностей. В коллекции Гончар-ки есть лишь нескольких фрагментов (главным об-разом из заполнения криогенных трещин), в отно-шении которых мы можем сделать такое предпо-ложение (рис. 83). Но даже в этих случаях мы ви-дим существенную разницу: стройные вертикаль-ные ряды желобков на громатухинской посуде ихаотичные невнятные оттиски на черепках изГончарки-1 (и Хумми). В то же время в грома-тухинском гончарстве мало использовался гребен-чатый инструмент. Это, по-видимому, говорит отом, что осиповские и громатухинские мастерабыли ориентированы на использование в процес-се обработки поверхностей разных инструментов.
Во-вторых, хотя и в Гончарке, и в Громатухетехнической обработке могли подвергаться обестенки сосудов, громатухинские мастера придава-ли при этом особое значение внешним поверхнос-тям, а осиповские – внутренним, т.к. именно наних следы обработки и сохранялись лучше, ивстречались чаще, и площадь занимали большую.
В-третьих, различной была и локализация тех-нических оттисков. В Гончарке-1 на внутреннихповерхностях сосудов в приустьевой и в придон-ной их частях мы имеем горизонтальные трасы, всредней – разнонаправленные. При этом мастеракаждый раз тщательно следили за тем, чтобы тра-сы не пересекались друг с другом. На наружныхповерхностях особые закономерности в ориента-ции трас не отмечаются. В Громатухе мы видимвертикальные или слегка наклонные и нередковзаимно накладывающиеся друг на друга веревоч-ные оттиски снаружи и строго горизонтальныевнутри. При этом в подавляющем большинствеслучаев с внутренней стороны около устья и днатехнические отпечатки на громатухинских сосу-дах отсутствовали. Все это, конечно, говорит о раз-ных стереотипах обработки поверхностей.
Еще одной массовой чертой громатухинской по-суды является ее своеобразная слоистость.
Во-первых, обращает внимание уже упоминав-шийся при характеристике керамики поселенияГончарка-1 разный абрис внутренней и внешнейповерхностей черепков. Эта черта встречается вгроматухинской коллекции намного чаще.
Во-вторых, встречаются и обломки, у которыхв изломе отчетливо читается соединение двух пла-стов глины одинаковой или разной толщины. Не-
редко это удается зафиксировать только по присут-ствию между ними прослойки из травы. Линия со-единения пластов глины идет всегда вдоль всегоизлома и параллельно поверхностям. Надо отме-тить, что эта черта встречается в громатухинскойколлекции также намного чаще, чем в Гончарке.
В-третьих, среди керамики Громатухи, как и вГончарке, есть обломки стенок, у которых одна изповерхностей сохраняет свою целостность, а дру-гая имеет трещины или сломы. Такое, видимо, воз-можно только если стенка сосуда представляласобой не одно целое, а состояла как минимум издвух пластов глины.
В-четвертых, довольно часто на наружных по-верхностях громатухинских сосудов встречаютсянарушения наружного слоя глины, очень похожиена отслоение «заплаток». Они обычно имеют ок-ругленную форму, а на отслоившихся участкахвидны многочисленные отпечатки травянистойорганики. Этот признак отсутствует в Гончарке.
В целом необходимо подчеркнуть, что слоис-тость громатухинской керамики выражена в го-раздо большей степени, чем в осиповской. Это по-зволяет сделать наблюдения, которые были невоз-можны при изучении коллекции Гончарки-1.
Для начала отметим, что почти во всех случа-ях, когда нами отмечалась слоистость громатухин-ских черепков, между слоями глины обычно так-же фиксировалась и прослойка из травы. Возмож-ное объяснение этому факту было найдено нами влитературе, посвященной характеристике керами-ческой коллекции алтайского неолитического по-селения Тыткескень-2 [Глушков и др. 2004].
Одной из особенностей керамической посудыданного памятника было присутствие в ее составедлинного жесткого волоса. При этом исследовате-ли отмечали и подчеркивали следующее. Во-пер-вых, волосы никогда не фиксировались на по-верхностях сосудов, а только в центральной частичерепков, причем особенно отчетливо – в местахспая. Во-вторых, в вертикальных изломах ониимели вид округлых канальцев, а в горизонталь-ных – вид обычных отпечатков и располагалисьсубпараллельно друг к другу.
Сочетание данных признаков привело исследо-вателей к выводу, что волосы использовались впроцессе формовки сосудов, а не вводились в со-став формовочной массы. Они предположили, чтососуды обвязывались волосом на наиболее «сла-бых» участках – местах спая – с целью приданияим армирующей силы. Поскольку в керамике по-селения Тыткескень-2 одинаково встречались какследы жгутовой лепки, так и следы лоскутной тех-ники, исследователями был сделан еще один вы-вод о том, что после изготовлении болванки сосу-да участки с волосом дополнительно «штукатури-лись» лоскутами глины, которые и уничтожалиследы волоса на поверхностях.
По-видимому, в громатухинской коллекции мы
220
столкнулись с аналогичным способом введенияорганических материалов в состав сосудов, тольков качестве последних здесь использовался не волос,а трава. Подтверждают это предположение облом-ки одного сохранившегося почти целым сосуда(рис. 111). Их анализ позволяет реконструироватьпроцесс формовки следующим образом.
Сначала мастер изготовил плоское дно, диаметрего 10 см. По излому отчетливо видно, что дно со-стояло из трех слоев глины. Внутренний имел тол-щину 0,6-0,8 см, поверхностные – по 0,3 см каж-дый. С внутренней стороны дна поверхностныйслой глины оказался частично содран, и под нимихорошо просматриваются отпечатки травянистойорганики. По-видимому, перед нанесением по-верхностных слоев глины на дно с обеих сторонсначала накладывались стебли травы.
На внутренней поверхности дна видны отпечат-ки веревки, организованные в строгие параллель-ные ряды. С одного края они были перекрыты та-кими же рядами, но нанесенными в другом направ-лении. Аккуратность оттисков свидетельствует отом, что техническая обработка дна осуществля-лась до (!) его соединения с туловом. На внешнейстороне отпечатки веревки сохранились хуже, ониузкие, как бы затертые, видны только на одномучастке. Такая затертость могла возникнуть какрезультат соприкосновения тыльной поверхностидна с подставкой или коленями мастера в процес-се последующей формовки сосуда.
После изготовления донной лепешки мастерсформовал нижнюю часть тулова в виде широкойленты высотой 7 см. Далее он соединил ее с дном,оборачивая вокруг последнего и замазывая стыкмежду ними изнутри. Последующая формовка со-суда осуществлялась снизу вверх наращиваниемдополнительных порций глины. С внешней сторо-ны придонная лента была покрыта четкими пере-секающимися веревочными отпечатками субвер-тикальной направленности, а с внутренней оттис-ки веревки отсутствовали, зато было много по-верхностных оттисков растительного «мусора».
Не очень ясным остается дальнейший механизмформовки сосуда. Придонная лента имела сверхуплоский ровный срез. Возможно, спай в данномслучае оказался скрыт под внутренним слоем«штукатурки». Следы этого слоя читаются на всехфрагментах данного сосуда от дна до венчика, тол-щина его оставалась неизменной и составляла 0,2-0,3 см. Важно также подчеркнуть, что между ос-новным и внутренним слоем в изломах стенок так-же фиксировались отпечатки травы.
На формовку рассматриваемого сосуда «снизувверх» дополнительно указывают и некоторые осо-бенности венчика. Как и приустьевые стенки вцелом, он был значительно тоньше придонных ине имел никаких особых деформаций.
В свете представленных материалов мы можемпредположить, что слоистость стенок громатухин-
ских сосудов могла возникнуть не в результате ихформовки на шаблоне с использованием лоскутнойтехники, что предполагалось ранее, а как след-ствие облицовки их поверхностей толстым слоемглины. Конечно, окончательно подтвердить этоможно только путем эксперимента, но такой ва-риант объяснения вполне допустим, и он отчастиподтверждается тем, что помимо названной слои-стости в громатухинской керамике представленыпризнаки скульптурной лепки с использованиемзонально-кольцевого принципа и признаки, ис-ключающие формовку на шаблоне.
Следует также добавить, что процесс изготов-ления плоскодонных емкостей, реконструируе-мый на примере рассмотренного выше сосуда, по-видимому, был типичен для громатухинских мас-теров. Очень похоже, что последние «вели» своисосуды от дна к венчику, используя при этом прин-цип постепенного наращивания тулова. Процессизготовления сосудов включал изготовление кар-каса и облицовку его с внутренней стороны (или собеих сторон) дополнительным слоем глины.
Опираясь на разрозненные материалы, мы мо-жем несколько дополнить уже сложившиеся у наспредставления. Так, в коллекции есть несколькофрагментов придонных стенок, которые указыва-ют на возможность крепления нижнего края ту-лова встык с донной лепешкой, а не вокруг нее.
Возможно, о принципиально ином способе фор-мовки сосудов, по крайней мере их нижней части,свидетельствует единственное зарегистрированноев коллекции округлое дно. Его связь с громатухин-ским комплексом не вызывает сомнений ввидутаких ярких отличительных признаков, как остат-ки технического узора и отпечатки травы на по-верхностях. Кроме того, известен по крайней мереодин археологически целый громатухинский со-суд с круглым дном (рис. 113). Он был найден в1991 г. в разведочном шурфе на поселении Грома-туха и реконструирован в музее университетаKokugakuin1 [Kani 1992].
М о р ф о л о г и я
Формы громатухинских сосудов восстанавли-ваются лишь частично.
Первая представлена уже упоминавшимся со-судом, от которого сохранилась нижняя часть ту-лова, дно и венчик. Дно плоское, стенки туловаплавно расширяются от дна к устью, венчик пря-мой, контур в верхней части не очень понятен из-за отсутствия полного профиля. Диаметр устья20 см, дна 10 см, высота точно не восстанавлива-ется (рис. 111, 5).
Вторая форма представлена одним обломком,но с практически полным профилем, не хватаетсамого кончика венечной ленты. Дно плоское, ши-
1Авторы благодарят М. Кани и Y. Taniguchi за возмож-ность осмотреть данный сосуд.
221
рокое, диаметр его около 18 см. Стенки тулова рас-ширяются от дна к устью, но степень этого расши-рения достоверно не восстанавливается. Реконст-руируемая высота сосуда 5,5-6,5 см. В любом слу-чае это был сосуд низкой формы типа широкойчаши (рис. 112).
Третья форма представлена археологическицелым сосудом, известным по реконструкции, вы-полненной японским исследователем М. Кани[Kani 1992]. Cосуд имел округлое дно и плавно рас-ширяющиеся к устью стенки, диаметр устья со-ставлял около 30 см, примерно такой же была ивысота сосуда, венчик прямой, обрез чуть скошенвнутрь. Стенки сосуда, согласно прорисовкам,имели одинаковую толщину и в придонной части,и около венчика (рис. 113).
Определить, какая из трех форм преобладала вколлекции, к сожалению, невозможно. Судя посохранившимся обломкам доньев, можно сказать,что круглодонные сосуды были редки, т.к. в кол-лекции 1965-1966 гг. сохранилось только одно та-кое дно, остальные были плоскими.
Сравнивая морфологию сосудов из Гончарки иГроматухи, отметим, что объединяют оба памят-ника как минимум две формы: широкие низкиечаши и сосуды с открытым устьем и простым, близ-ким к усеченному конусу контуром стенок. Грома-тухинская посуда при этом отличается присутстви-ем единичных круглодонных сосудов, которых нетв осиповских комплексах. Но очень похоже, что вцелом формы сосудов с поселений Громатуха иГончарка были близки друг к другу.
О р н а м е н т
В декоративном орнаменте громатухинскойпосуды выделяются два различных стереотипа.
Один из них представлен сосудами, у которых узо-ры наносились прямо поверх веревочных оттис-ков. Они сохранились в коллекции лучше всего,их больше, и их обломки чаще подбираются в от-носительно целые формы. Именно в этом стиле былоформлен и круглодонный сосуд, реконструиро-ванный М. Кани. Второй стереотип представлен со-судами, у которых технические оттиски перед на-несением орнамента затирались. Здесь мы чащевстречаем лишь небольшие фрагменты сосудов.
«Одетые» в веревочные оттиски сосуды могливообще не иметь орнамента, но встречается это ред-ко (рис. 111; 115, 4). Обычно же на них наносилиеще один или два слоя узоров.
Чаще всего поверх веревочных оттисков плот-ными рядами располагались оттиски горизонталь-ного зигзага (рис. 113; 114, 2-3). Пояса зигзага мог-ли быть широкими (5-6 см), а могли быть узки-ми (2 см). Соответственно и расстояния междуними также могли быть то меньше, то больше.
В большинстве случаев горизонтальный зигзагопределялся на поверхностях сосудов с большимтрудом или не определялся совсем. На многих об-ломках были заметны только «уголки зигзагов», атакже то, что в пространстве между ними верти-кальные ряды веревочных оттисков перекрывалисьгоризонтальными бороздками неясного происхож-дения. В тех редких случаях, когда характер отпе-чатков был достаточно отчетливым, было видно,что наносили горизонтальный зигзаг в технике«шагающей гребенки». При этом края зигзага про-печатывались четко и располагались в шахматномпорядке, а средняя часть отображалась очень пло-хо или вообще не отображалась.
Интересной особенностью громатухинских го-ризонтальных зигзагов было то, что инструмент,
Рис. 113. Громатуха.Сосуд из университета Kokugakuin
[по: Kani 1992: 67, fig. 2]
222
которым они выполнялись, оставлял зачастую от-тиски в виде длинных штрихов. В процессе экспе-риментального моделирования нам удалось вос-произвести характерные особенности морфологиитаких зигзагов путем «шагания» по поверхностисосуда колесика, обмотанного веревкой. Дугооб-разный край такого инструмента повторял ситуа-цию с «выпадением» средней части узора, а обмот-ка веревкой оставляла горизонтальные риски.
К близким выводам о технике нанесения при-шел и М. Кани. По его мнению, веревочные оттис-ки на наружные стенки наносились вращениемшнура, а зигзаг – техникой шагания (rocking) ве-ревочного инструмента [Kani 1992: 43, fig. 9].
Сложно называть зигзаги данного типа декора-тивным орнаментом. В просмотренной нами кол-лекции поверх них обычно наносился еще одинслой узора. Однако на сосуде, реставрированномМ. Кани, никакого другого узора не было. Этотсосуд позволяет представить себе, как выгляделагроматухинская посуда, украшенная рядами гори-зонтального зигзага (рис. 113).
По прорисовкам видно, что сначала вниз от вен-чика под наклоном примерно в 45° «свисала» на-клонная полоса зигзага из «шагающей гребенки»,а затем уже начинались его обычные горизонталь-ные ряды. При этом последние очень напоминалистрочки, «прошивающие» сосуд по горизонтали.Впечатление это еще более усиливалось от того, чтона поверхностях сохранялись также и веревочныеоттиски, придающие им своеобразную текстиль-ную фактуру.
Обращает на себя внимание верхняя часть ком-позиции – «свисающие» наклонные строчки зиг-зага. В просмотреной нами коллекции сохрани-лись обломки еще нескольких сосудов с такимистрочкам (рис. 114, 1). Во всех случаях они выпол-нялись инструментом, отличающимся от того, ко-торым наносились горизонтальные ряды зигзагов.Это был твердый инструмент, но также с дугооб-разным краем. Ширина «свисающих» строчекобычно составляла 1,5-2 см, на поверхностях от-четливо пропечатывались их края в виде уголков,а средняя часть была видна хуже, хотя и не на-столько, как в горизонтальных зигзагах.
В случаях, когда поверх веревочных оттисковпомимо горизонтального зигзага наносили ещеодин слой орнамента, последний представлял со-бой горизонтальные ряды наклонных оттисковширокой лопаточки или ногтя, соединяющиесямежду собой вертикальными рядами таких же от-тисков (рис. 114, 2). При этом композиционно«шагающая гребенка» и верхний слой орнаментаабсолютно не соотносились друг с другом, и в це-лом получалась довольно любопытная картинатрехслойного узора. Иногда такой «верхний слой»орнамента наносился прямо на веревочные оттис-ки (рис. 115, 1-3).
В коллекции есть обломки сосудов, у которых
поверх веревочных оттисков вместо горизонталь-ных зигзагов наносилися другой узор, назвать ко-торый декоративным еще более сложно. Выпол-нялся он, скорее всего, также веревочным инстру-ментом, который просто прижимали к поверхнос-ти сосуда. Узор имел вид отдельных рядов удли-ненно-овальных оттисков, ориентированных попе-рек ряда. Скорее всего, это были стэк или щепка,обмотанные веревкой. Иногда между удлиненно-овальными оттисками была заметна соединяющаяих жилка (узкая бороздка) – след основы, на кото-рую была намотана веревка.
Композиционные особенности данного декоране ясны. Известны случаи, когда ряды оттисковрасполагались друг под другом «в столбик» илипредставляли собой одиночные или сдвоенные го-ризонтальные или наклонные строчки. В даннойманере был украшен сосуд с плоским дном, кото-рый уже упоминался выше. Под венчиком у негозаметен один «свисающий» ряд таких оттисков, ана одном из обломков тулова видны два горизон-тальных их ряда (рис. 111). Поверх таких узоровтретий слой орнамента не наносился.
Сосуды с гладкими поверхностями украшалисьв несколько иной манере, но и здесь воплощалсявсе тот же мотив горизонтальных рядов или стро-чек, опоясывающих сосуд.
Первый вариант таких узоров представлен ком-позициями, в которых подквадратные оттискигребенки выстраивались в одиночные горизон-тальные линии, расположенные на значительномрасстоянии друг от друга (2-5 см) (рис. 116, 2). Ор-наментиром в данном случае служила обычная гре-бенка, прямой рабочий край которой ставился принанесении узора горизонтально. Оттиски такойгребенки встречаются на венчиках и фрагментахтулова вплоть до придонных стенок.
В коллекции представлен сосуд, у которого по-верх отмеченных горизонтальных строчек гребен-ки наносился узор из оттисков ногтя или широкойлопаточки, в точности повторящий аналогичныеузоры верхнего слоя «одетых» сосудов (ср. рис.114, 2 и рис. 116, 2). Складывается впечатление,что ряды гребенки в данном случае служили свое-го рода заместителями «уголков зигзага», кото-рые, собственно, и создавали рисунок второго слояорнамента на «одетых» сосудах.
В определенном смысле подтверждением дан-ного наблюдения может служить один из сосудов,орнамент которого сочетал особенности «одетых»и гладких сосудов (рис. 115, 1-3). На его поверхно-стях имелись вертикальные веревочные оттиски,гораздо более аккуратные и изящные, чем обыч-но. Вторым слоем были нанесены горизонтальныеряды овальных оттисков, отстоящие друг от другана несколько сантиметров. По абрису они еще бо-лее напоминали «уголки зигзагов». В свою очередьряды этих овальных оттисков были соединены вер-тикальными перемычками из оттисков ногтя или
225
широкой лопаточки. Интересно, что этот сосуд от-личался от большинства других ярким краснымцветом наружной поверхности.
Второй вариант узоров на гладкостенных сосу-дах выполнялся также твердым гребенчатым ин-струментом, который протягивали вдоль окруж-ности сосуда с неравномерным чередованием при-емов отступания и протаскивания. Узор получал-ся довольно поверхностным, орнаментир всегдарасполагался под наклоном к поверхности сосуда,количество зубцов варьировало от 3 до 7-8. Оттис-ки такого инструмента встречаются как на приус-тьевых участках сосудов, так и на фрагментах ту-лова (рис. 116, 1, 4, 6).
Нетрудно заметить, что орнаментация «оде-тых» и гладких сосудов довольно ощутимо отли-чалась друг от друга. Мы имеем веревочные инст-рументы, в том числе с дугообразным краем, в со-четании с техникой «шагания» в первом случае, ипростые гребенчатые орудия в сочетании с техни-кой штампования, отступания и протаскивания –во втором. Тем не менее при всем различии оба ва-рианта оформления сосудов следует рассматриватьв рамках единой традиции.
Во-первых, на это указывает общее сходствокомпозиционного построения узора в виде гори-зонтальных строчек, опоясывающих сосуд.
Во-вторых, в коллекции имеются фрагменты,сочетающие элементы декора как «одетых», так игладкостенных сосудов. Среди них уже упомяну-тый нами сосуд с ярко-красной наружной поверх-ностью (рис. 115, 1-3). Другим примером являют-ся обломки сосудов, на которых видно, что вере-вочные оттиски когда-то присутствовали на их по-верхностях, но перед нанесением орнамента онибыли тщательно затерты (рис. 116, 3). Здесь жеследует упомянуть несколько случаев, когда глад-кие сосуды украшались горизонтальным или на-клонным зигзагом, выполненным в той же техни-ке «шагания» гребенчатыми и гладкими инстру-ментами.
В-третьих, элементом, связующим «одетые» игладкостенные сосуды, выступает трава, правда всоставе последних она встречается гораздо реже ичаще всего не видна совсем.
В-четвертых, объединяет две группы сосудов итрадиция оформления венчиков: по обрезу – раз-ного рода оттисками, а ниже обрезов – сквознымипроколами.
Тот факт, что гладкостенные и «одетые» сосу-ды воспринимаются нами как созданные в рамкаходной керамической традиции, совсем не означа-ет, что эти сосуды были оставлены одной группойнаселения и таким образом составляют один ком-плекс. Напротив, при их изучении складываетсявпечатление, что гладкостенные сосуды представ-ляют более поздний этап развития данной керами-ческой традиции, а одетые – более ранний. Одна-
ко доказать это без привлечения других материа-лов очень сложно.
Очертим еще раз основные характеристикидвух предположительно разновременных комп-лексов громатухинской посуды. С одной стороны,это плоскодонные и круглодонные сосуды с доста-точно обильными включениями травы, имеющиемногослойный декор, в котором наиболее специ-фичны нижний слой, оставленный прокатом вере-вочного барабана, и верхний с зигзагами, выпол-ненными в технике «шагающей гребенки». Венчи-ки этих сосудов деформированы различными от-тисками и имеют сквозные проколы чуть нижекромки. С другой стороны, это плоскодонные со-суды с гладкими стенками, украшенные горизон-тальными рядами гребенчатых оттисков, венчикиих оформлены оттисками гребенки, а ниже обре-за – сквозными проколами.
Присутствие в керамической коллекции Грома-тухи двух групп посуды, одну из которых можнотрактовать как более раннюю, а другую как болеепозднюю, но обе – в рамках развития одной кера-мической традиции, в определенной степени кор-релирует с большим разбросом радиоуглеродныхдат, имеющихся для раннего горизонта этого па-мятника. Установить наверное, какая из них с ка-кими датами связана, невозможно, но интересно,что та посуда, которая выглядит как более ранняя,сохранилась значительно лучше, с ней ассоцииру-ются все наиболее полно сохранившиеся развалысосудов. Более поздняя группа представлена мел-ко фрагментированным материалом.
Если принять предположение о хронологичес-кой разновременности двух групп громатухинскойкерамики, то следует признать далее, что матери-алы поселения Громатуха демонстрируют нам раз-витие древнейшей керамической технологии в со-вершенно определенном направлении. А именно всторону, во-первых, исчезновения техническогодекора и более тщательной обработки поверхнос-тей, во-вторых, замены веревочных орнаментировгребенчатыми, в-третьих, отказа от зигзагообраз-ного мотива в орнаментации и появления новыхкомпозиционных и технических приемов в ее ис-полнении. Возможно, в русле этих изменений ле-жит и сокращение количества растительной орга-ники в составе гладких сосудов.
Сравнивая декор осиповской и громатухинскойпосуды, отметим следующее. Самой резкой и важ-ной отличительной чертой громатухинских сосу-дов было сочетание технической и декоративнойобработки, своего рода многослойность декора,тогда как в Гончарке-1 фиксировалась противопо-ложная тенденция: внешние поверхности сосудовздесь имели либо технические отпечатки, либо соб-ственно декор. В этом отношении обе коллекциисущественно контрастируют.
По такому показателю, как зональность орна-
227
мента, материалы Гончарки и Громатухи мало раз-личимы. И в том, и в другом случае узор почти все-гда наносился и на обрезы венчиков, и на туловососудов. Общим был и набор инструментов, кудавходили веревочные и гребенчатые орнаментиры,а также стэки. Если наши рассуждения относи-тельно микрохронологии громатухинского и оси-повского комплексов верны, то в этом случае по-лучается, что веревочные инструменты использо-вались в декоре только на раннем этапе формиро-вания сравниваемых традиций, а впоследствии итам, и там они уступили место твердым зубчатыморудиям и стэкам. Немаловажной чертой сходстваследует, по-видимому, признать и использованиемастерами обеих культур орнаментиров с дугооб-разным рабочим краем.
В наборе технических приемов наблюдаютсякак сходства, так и различия. Общим, например,был принцип нанесения узора путем возвратно-поступательных движений орнаментира, но в гро-матухинской коллекции использовался прием«шагающей качалки», а в осиповской – «прокат».Специфику осиповской традиции определяла на-лепная техника, а громатухинской – техника от-ступания, правда, если полагаться на наши выво-ды о микрохронологии изучаемых комплексов, этаспецифика возникла уже на завершающих этапахразвития обеих традиций.
Прослеживается сходство и в наборе орнамен-тальных мотивов. Общими были мотивы верти-кального и горизонтального зигзага. Однако пос-ледний, будучи одним из самых частых видов ор-намента на громатухинской посуде, в Гончарке-1был представлен только одним сосудом. Верти-кальный зигзаг, напротив, встречается в коллек-ции Гончарки, а в Громатухе он как таковой от-сутствует. По-видимому, общим был и сюжет ввиде спускающиеся с устья наклонных линий, нона громатухинской посуде он сочетался с другимиузорами, а на осиповской выступал, по-видимому,как самостоятельный элемент декора.
Орнамент на керамике Гончарки отличался узо-рами из налепных валиков и из оттисков стэка,расположенных в шахматном порядке, оригина-лен здесь фестонный принцип построения узоров.Громатухинскую посуду отличали узоры в виде го-ризонтальных строчек гребенчатых оттисков.Очень своеобразен здесь мотив соединения такихстрочек вертикальными перемычками.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на наличиеобщих черт, в целом декоративное оформлениегроматухинской и осиповской посуды существен-но различалось. Это выражалось не только в пред-почтении тех или иных мотивов, орнаментировили техник нанесения узоров, но и в том, как всеони сочетались на посуде, как композиционно вы-страивались в пространстве и т.п. Именно эти де-тали и придавали каждому из комплексов непов-торимое своеобразие и специфику.
Кроме того, следует иметь в виду, что громату-хинская посуда с точки зрения ее оформления выг-лядела гораздо более развитой, чем осиповская.Здесь прежде всего имеется в виду то обстоятель-ство, что различные виды орнамента на ней отли-чались устойчивостью и повторяемостью, что былосовершенно не характерно для Гончарки-1, гдекаждый сосуд был практически индивидуален, вэтом отношении ее материалы выглядят очень по-лиморфными.
О б ж и г
По показателям обжига громатухинская посу-да довольно заметно отличалась от осиповской. Ипрежде всего в этом отношении обращает на себявнимание ее сравнительно высокая прочность.Очень показательны с этой точки зрения два на-блюдения: во-первых, это больший размер грома-тухинских черепков, а во-вторых, то обстоятель-ство, что после изготовления шлифов последние,в отличие от осиповских, сохраняли свою целост-ность. Следует также упомянуть, что ни один изгроматухинских черепков не обнаружил в резуль-татах рентгенофазового анализа неполную амор-физацию глинистой составляющей, что было ти-пично для осиповской посуды (хотя это могло бытьтакже следствием использования глин иного ми-нералогического состава).
Большая прочность громатухинской керамики,возможно, связана с более высокой температуройее обжига. Но не исключено, что это лишь резуль-тат присутствия в ее составе обильных включенийтравы. Как известно, органические добавки созда-ют при обжиге восстановительную среду внутричерепка, и за счет этого происходит некоторое сни-жение температуры его спекания [Ламина и др.1995]. Остается только понять, осознавали ли гро-матухинские мастера данные преимущества тра-вы, или же они оказались случайным следствиемизбранной ими процедуры формовки, в которойтрава играла заметную роль.
Другая отличительная особенность обжига гро-матухинской посуды была связана с его газовымрежимом. Если для осиповской посуды стабильноотмечается серый цвет внутренних поверхностейи изломов и светлый охристый оттенок наружныхстенок, то для громатухинской посуды более ти-пично, когда обе поверхности отличались охрис-тыми цветами, а средняя часть черепков была тем-но-серой. Это определенно свидетельствует о раз-личиях в организации самой операции обжига.
Обобщая все данные по сравнительной харак-теристике керамических коллекций Гончарки-1 иГроматухи, можно сделать следующие выводы.Обе они представляют собой, по-видимому, две раз-ные керамические традиции. Они развивались хотяи в контакте друг с другом, но каждая самостоятель-ным путем. Особенно показательны различия науровне технологии составления формовочных
228
масс, они убедительно демонстрируют исключи-тельно независимое формирование традиций.
С точки зрения процедуры формовки коллек-ции Громатухи и Гончарки-1 почти невозможносравнивать ввиду различной репрезентативности.В то же время явно вырисовывается спецификаформовки громатухинских сосудов, которая про-является в использовании травы и метода «шту-катурки» поверхностей. Впрочем, ангобированиепосуды относительно толстым слоем глины былохарактерно и для осиповской керамики, простоздесь мы не имеем возможности связать эту про-цедуру с операцией формовки.
Различен и технический декор. Громатухинскиемастера использовали в этих целях прокат цилин-дрического инструмента, обмотанного веревкой, иособенно акцентировали при этом внешние повер-хности сосудов. Осиповские мастера выполнялитехническую обработку гребенчатыми прочесамии, напротив, особое внимание уделяли внутреннимповерхностям.
В орнаментации громатухинских и осиповскихсосудов есть как сходства, так и различия. Первыепроявляются в использовании одинаковых типовинструментов – гребенки, в том числе с дугообраз-ным краем. Общими были и мотивы зигзага, но восиповской коллекции встречаются и вертикаль-ные, и горизонтальный зигзаги, причем первыепреобладают, тогда как в громатухинской мы на-блюдаем только горизонтальный зигзаг. К тому жеосновным приемом нанесения зигзага в первомслучае служил прокат, а во втором – «шагающаякачалка». Резкие различия просматриваются втом, как сочетались на посуде технический и де-коративные орнаменты. В громатухинской кол-лекции обычным было сочетания двух видов об-работки, многослойность декора, а в осиповскойобязательным было правило «либо техническая об-работка, либо узор». В каждой из коллекции вы-деляется набор специфичных мотивов, которые немогут быть выведены друг из друга, что также от-ражает известную независимость сложения орна-ментальных стереотипов.
Заключение
Таким образом, подводя итоги сказанному вданном разделе, отметим, что результаты сравни-тельного анализа осиповской и громатухинскойкультур позволили нам выявить в них серию какобщих, так и специфических признаков.
В качестве общих признаков каменных инду-стрий необходимо отметить следующее.
Во-первых, показательно наличие и в осипов-ской, и в громатухинской коллекциях элементов,восходящих к наиболее общим палеолитическимтрадициям южно-дальневосточного региона, та-ким как сочетание микропластинчатых и бифаси-альных технологий.
Во-вторых, обращают на себя внимание явно па-
раллельные изменения обеих индустрий по срав-нению все с теми же палеолитическими. Это, на-пример, выразилось в явном увеличении доли ору-дий, характерных для культур неолитического об-лика, и в формировании более развитой их типо-логии. Здесь же может быть отмечено параллель-ное расширение в обеих индустриях сферы приме-нения фасиальных технологий обработки камня.
Анализируя общие признаки каменных ин-дустрий осиповской и громатухинской культур,следует отметить, что они вполне могли быть обус-ловлены их общерегиональной близостью. И боль-шую роль здесь сыграло то обстоятельство, что обеони формировались на основе единых позднепале-олитических традиций [Мочанов 1977: 223-240;Кузнецов 1992; Деревянко и др. 1998: 72-92; Де-ревянко 1983; 2005]. В то же время нельзя не ви-деть, что ряд общих черт в сравниваемых индуст-риях может быть объяснен определенным един-ством адаптационных стратегий, приведших в ко-нечном счете к оформлению неолитического обли-ка их культурных комплексов.
Анализ керамических коллекций показывает,что некоторые общие признаки осиповской и гро-матухинской культур также могли быть обуслов-лены их территориальной близостью и ареальны-ми связями. Среди таких признаков необходимоназвать набор основных компонентов формовоч-ных масс (породные обломки, шамот, трава),сквозные отверстия под венчиком, сохранение сле-дов технической обработки на стенках сосудов, ис-пользование гребенчатых и веревочных инстру-ментов, некоторые мотивы (горизонтальный и вер-тикальный зигзаг) и приемы (прокат, шагание) на-несения декоративного орнамента.
Не исключено, что в этом же ключе могут бытьобъяснены и признаки, свидетельствующие ободинаковой направленности развития громату-хинской и осиповской керамических традиций,что выразилось в отказе, скорее всего со временем,от технического декора, использования веревоч-ных орнаментиров в пользу гребенчатых, а такжеот добавок травы.
Признаки, различающие коллекции Гончаркии Громатухи свидетельствуют главным образом оботносительно независимом формировании осипов-ской и громатухинской традиций.
В громатухинской каменной индустрии, напри-мер, присутствует ряд черт, имеющих прямые ана-логии в позднепалеолитических комплексах Сред-него Амура, а именно в тех, что относят к селемд-жинской культуре (микропризматический компо-нент первичного расщепления, так называемыеэпилеваллуазские нуклеусы уплощающего парал-лельного скалывания, срединные резцы и др.).Любопытно, что именно эта группа признаков со-вершенно нетипична для осиповской индустрии.Для первичного расщепления осиповской культу-ры специфична своеобразная модификация галеч-
229
ных микронуклеусов плоскостного субпараллель-ного принципа скалывания для получения мелкихотщепов. Отличает осиповскую индустрию и не-сколько большая распространенность бифасиаль-ной обработки орудий.
Различия громатухинской и осиповской куль-тур проявляются и в принципах обработки тесло-видно-скребловидных орудий, которые выступа-ют наиболее существенным аргументом для дока-зательствах их родства. Так, для громатухинскойкультуры характерна унифасиальная обработкаспинки таких орудий, иногда с брюшковой подтес-кой, изготавливались они на гальках с сохранени-ем естественной поверхности на брюшке. В осипов-ской культуре существенна роль бифасиальнойобработки тесловидно-скребловидных орудий итипично их изготовление на сколах, галечная по-верхность на них сохраняется нечасто. Имеются идругие различия, например раннее появление восиповской культуре абразивных технологий и пи-кетажа, которые уже в комплексе поселения Гасядемонстрируют грузила.
Очевидны отличия двух культур и в керами-ческих традициях. Последние формировалисьхотя и в контакте друг с другом, но каждая само-стоятельным путем. На это указывают и различияна уровне технологии составления формовочныхмасс, и совершенно разные принципы техническойобработки поверхностей сосудов, и резкие отличияв стереотипах декоративного их оформления.
На наш взгляд, все это вполне убедительно от-ражает тот факт, что в финале неоплейстоцена вбассейне Амура развивались две самостоятельныекультуры – осиповская и громатухинская. Приэтом каждая из них представлена достаточно мно-гочисленными памятниками, имеет свой ареал идовольно репрезентативную группу технико-типо-логических признаков в каменной индустрии и ке-рамике, безусловно, свидетельствующих как о не-котором единстве этих двух культур, так и об ихсущественном своеобразии.
Данное заключение позволяет обратиться кпроблеме происхождения осиповской и громату-хинской культур. В литературе представлены са-мые различные точки зрения на этот счет.
А.П. Окладников находил им аналогии на ши-рокой территории от Юго-Восточной Азии до Мон-голии и Сибири [1966]. Несколько позже Ю.А. Мо-чанов отнес осиповские комплексы из-за их бифа-сиальной индустрии к одной из культур выделен-ной им дюктайской палеолитической традиции,которую он понимал весьма широко как во време-ни, так и в пространстве [1977: 239]. К сожалению,оба эти мнения мало что давали для пониманиявопроса из-за отсутствия в те годы комплексов,предшествующих осиповской и громатухинскойкультурам. Прежде всего здесь имеются в виду сар-танские комплексы амурского бассейна.
А.П. Деревянко первоначально определил оси-
повскую культуру как автохтонную и связал еепроисхождение с известными тогда памятникамипалеолита Среднего Амура и Приморья [1983: 96].Однако после открытия позднепалеолитическихпамятников на Зее и Селемдже и выделения на ихоснове селемджинской культуры верхнего палео-лита им была предложена иная точка зрения – обобщей генетической связи с этой культурой гро-матухинских и осиповских комплексов [Деревян-ко и др. 1998: 77, 101; Деревянко 2005: 22].
Относительно громатухинских памятниковданная точка зрения, безусловно, оправдана. Од-нако в отношении осиповской культуры такое ре-шение вопроса выглядит не столь однозначным последующим причинам.
Во-первых, осиповский ареал отделен от селем-джинского и громатухинского довольно значи-тельной территорией в несколько сотен километ-ров вдоль долины Амура (как минимум от МалогоХингана до устья Уссури), в пределах которой па-мятники каменного века единичны, а верхнеплей-стоценовые не известны вовсе1.
Во-вторых, на Нижнем Амуре пока также неизвестны представительные комплексы позднегопалеолита. Финально-палеолитические памятни-ки Голый Мыс-4 и Чендока, расположенные в се-веро-восточных районах названной территории,содержат относительно небольшое количество ка-менных артефактов, которые позволяют лишь всамом общем виде представить нижнеамурскуюверхнепалеолитическую индустрию и утверждать,что она отличается от осиповской. Оба эти памят-ника обнаружены на периферии осиповского аре-ала. В центральной же его части пока найденылишь отдельные артефакты палеолитического об-лика [Шевкомуд 2001].
Соответственно, какая-либо сравнительно-кор-реляционная аналитика верхнепалеолитическихкомплексов из разных районов Приамурья невоз-можна просто из-за недостатка источников.
В-третьих, заслуживают внимание в данномконтексте результаты геохимических исследова-ний обсидиановых артефактов из памятниковПриамурья, позволивших определить источникипроисхождения данного сырья. Пути распростра-нения обсидиана очень важны в том плане, что онипозволяют предполагать и направления культур-ных связей древнего населения.
Так, в ходе этих исследований выяснилось, чтообсидиан из Громатухи, как и из других средне-
1 Причины такого положения вещей вполне объектив-ные. В конце плейстоцена эта местность (сегодня это в ос-новном территория Среднеамурской низменности), быласильно обводнена и заболочена, условия здесь были малопригодными не только для постоянного проживания, но идля использования ее в качестве транзитной зоны. Крометого, на этой территории практически отсутствуют лито-ресурсы. Неслучайно даже в неолите она оставалась доволь-но слабо заселенной по сравнению с другими участкамиамурской долины.
230
амурских памятников, связан с литоисточникамидвух базальтовых плато, расположенных западнееМалого Хингана в бассейне Среднего Амура, –Облучненского и Сюньхэ. Что касается обсидиа-на, обнаруженного в осиповских памятникахХехцирского геоархеологического района (Гон-чарка-1, Амур-2, Новотроицкое-10, Осиновая Реч-ка-10), то он попал сюда из Приморского края.Один из его источников расположен в районе Шко-товского базальтового плато в верховьях Уссури,второй, вероятнее всего, в верховьях рек Светлая,Самарга и Коппи в горах Сихотэ-Алиня [Попов идр. 2006].
Таким образом, мы видим, что обсидиановыесвязи осиповского населения имеют южное на-правление. По-видимому, то же можно сказать ио его общекультурных связях. В связи с этими рас-суждениями отметим еще одно интересное, на нашвзгляд, обстоятельство.
Шкотовский обсидиан происходит из бассей-на р. Илистой, где локализован довольно значи-тельный кластер памятников позднего палеоли-та, в том числе включающий стоянки-мастерскиепо первичной обработке обсидиана [Кузнецов1992; Попов и др. 2010]. И эта территория быланапрямую связана с осиповским ареалом рекойУссури, в месте впадения которой в Амур сосре-доточена, как мы помним, основная часть осипов-ских стоянок. Уссури, будучи притоком Амура,являлась одной из самых крупных водных арте-рией юга Дальнего Востока и, безусловно, моглаиграть здесь большую роль в качестве проводни-ка культурных влияний.
Другое дело, что состояние изученности бассей-на Уссури оставляет желать много лучшего. Но всеже отметим, что в бассейне Уссури единичные оси-повские памятники все-таки известны (рис. 1),тогда как на участке, разделяющем осиповский игроматухинский ареалы, их пока нет совсем.
По изложенным причинам в вопросе о проис-хождении осиповской культуры необходимо обра-тить внимание на признаки, объединяющие ее па-мятники с памятниками Приморья, особенно издолины р. Илистой. Принципиально их индустрияне отличается от других верхнепалеолитическихпамятников, имевших распространение на Даль-нем Востоке и Северо-Востоке Азии, в том числеот селемджинских [Кузнецов 1992: 121-136], ноона представляет собой наиболее поздний этапверхнего палеолита в регионе, и поэтому некото-рые технико-типологические ее признаки оченьважны для темы нашего рассуждения.
В частности, в памятниках Горбатка-3 и Илис-тая-1 на большой серии артефактов отмечаетсяконтрударная (или биполярная) технология рас-щепления мелких галечных нуклеусов для получе-ния отщепов [Кузнецов 1992: 99], которая просле-жена и на аналогичных микронуклеусах осиповс-ких памятников. Различие только в том, что в при-
морских стоянках для данной модификации нук-леусов использовался обсидиан, а в осиповских –гальки изотропных халцедонов, яшмоидов, туфовразличных расцветок. Но в обоих случаях имелместо специальный подбор сырья.
А.М. Кузнецов считает, что распространениеданной технологии расщепления может зависетьот свойств литосырья. Однако отметим, что в се-лемджинских комплексах эта модификация мик-ронуклеусов из специально подобранного изотроп-ного сырья для получения мелких отщепов не про-является, а контрударная технология как специ-фический (и тем более как распространенный) при-ем расщепления не упоминается вообще, хотя вних также присутствуют нуклеусы на небольшихгальках, а практика расщепления нуклеусов нажесткой основе фиксируется еще на ранних эта-пах культуры [Деревянко и др. 1998: 52-54].
Далее следует отметить, что для памятников до-лины р. Илистой более всего характерны различ-ные модификации клиновидных микронуклеусов,близкие к японским вариантам тогэсита, юбецу ихорока, а дериваты микропризматической техни-ки здесь немногочисленны. А.М. Кузнецов перво-начально с некоторым сомнением связывал пос-ледние с основной верхнепалеолитической инду-стрией этих памятников [1992: 103]. Однако пос-ле обнаружения в надежных стратиграфическихусловиях Горбатки-3 сразу трех микропризма-тических нуклеусов его позиция по данному воп-росу изменилась [Кузнецов 2005]. Тем не менеестепень распространенности микропризматичес-кой техники в рассматриваемых памятниках При-морья следует признать незначительной.
Напомним, что в осиповской культуре такаятехника пока не проявляется совсем, несмотря надовольно значительные по объему коллекции. В тоже время она широко представлена в громатухин-ских и селемджинских памятниках.
На фоне достоверно зафиксированных обсиди-ановых связей приведенные аналогии заставляютболее внимательно относиться к южным культур-ным связям осиповского населения. Данные на-блюдения, конечно, никоим образом не решаютпроблемы происхождения осиповской культуры,но расширяют круг возможных версий.
Первая версия изложена авторами селемджин-ской культуры и пока является ведущей, хотя и стой поправкой, что выделенный ими комплекс еечетвертого этапа, датированного 12-10,5 тыс. л.н.[Деревянко, Зенин 1995: 72-73], выглядит не-сколько омоложенным на фоне комплекса из слоя3 Громатухи, датированного примерно в том же ин-тервале [Кузьмин, Нестеров 2010]. Вероятно,верх-няя хронологическая граница комплексов се-лемджинского типа в дальнейшем будет пересмот-рена в сторону удревнения.
Вторая возможная версия предполагает появле-ние прямых предков осиповского населения из со-
231
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУРНА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
Материалы поселения Гончарка-1 позволяютсделать ряд наблюдений относительно того, какскладывалась последующая судьба осиповскойкультуры. Вопрос этот интересен еще и тем, чтоимеет прямое отношение к более широкой пробле-ме, касающейся формирования голоценовых нео-литических культур на юге Дальнего Востока Рос-сии. Теме этой в историографии традиционно уде-ляется большое внимание, однако до сих пор онаостается слабо разработанной.
Одной из причин такого положения вещей яв-ляется то, что самое начало голоцена – интервалмежду 10 и 8 тыс. л. н. – представлено на даннойтерритории все еще очень небольшим количествомисточников. Между тем именно этот период имеетнаибольший интерес для исследователей, т.к. по-сути является связующим звеном между осиповс-кой и громатухинской культурами начальногонеолита и последующими культурами раннейпоры среднего неолита.
Другой немаловажной причиной отмеченныхтрудностей является тот факт, что в начале голо-цена на юге Дальнего Востока происходит резкаясмена каменных индустрий. Осиповская и грома-тухинская культуры, в орудийном наборе которыхпреобладали бифасы и унифасы, сменились памят-никами, в комплексах которых доминировало пер-вичное расщепление с использованием различныхмодификаций призматических нуклеусов, а ору-дийный набор состоял главным образом из плас-тин, пластинок и микропластин. Как происходи-
ла эта смена, к сожалению, ввиду общей малочис-ленности источников пока не очень понятно. Мож-но лишь утверждать, что индустрии уже самыхпервых голоценовых комплексов – новопетровско-го и мариинского – были почти полностью основа-ны на технике призматического расщепления.
Вся эта ситуация, безусловно, создает впечат-ление того, что яркие и мощные культуры фи-нального плейстоцена – осиповская и громату-хинская – исчезают внезапно и практически бес-следно. Однако с открытием финально-плейстоце-новых памятников с керамикой у исследователейпоявился реальный шанс привлечь к разработкеэтого вопроса новую группу источников.
Далее авторы предлагают небольшой обзор ис-точников и исследований, касающихся даннойпроблематики. Интерес к ней в рамках нашего ис-следования продиктован тем, что материалы Гон-чарки, прежде всего ее керамическая коллекция,позволяют наметить некоторые новые перспекти-вы в ее разработке. Мы последовательно рассмот-рим сначала комплексы самых ранних этапов го-лоцена, а затем – памятники руднинско-кондон-ского круга, которые воспринимаются сегодня ис-следователями как первые памятники классичес-кого неолита (или развитого его этапа).
Новопетровская культура
Новопетровская культура была выделена в1960-х гг. по материалам группы памятников, рас-положенных в бассейне Среднего Амура у с. Ново-
временного Приморья и провинции Хэйлунцзян,близкой к бассейну Уссури, или даже из еще болееюжных и восточных территорий Китая, где извес-тны верхнепалеолитические комплексы с микроин-дустриями и бифасами [Деревянко 2005: 22-26]. Этаверсия вполне согласуется с данными о южном на-правлении связей осиповского населения.
Развитие третьей версии прямо связано с иссле-дованиями палеолита Нижнего Приамурья и яв-ляется вопросом времени. Следует, безусловно,учитывать, что до открытия здесь новых палеоли-тических памятников с более репрезентативнымикомплексами все попытки изучения генезиса оси-повской культуры будут давать лишь предвари-тельные результаты.
Весьма интересными представляются наблюде-ния о различиях в общем уровне развития камен-ных индустрий и керамических традиций поселе-ний Гончарка и Громатуха.
Сравнительный анализ каменных индустрийпоказывает, что громатухинская коллекция име-ет более ранний облик. В этом отношении она сбли-жается с материалами поселений Гася и Хумми и,напротив, отличается от материалов горизонта 3БГончарки-1. Подчеркнем еще раз некоторые при-
знаки, свидетельствующие об этом: 1) присутствиеэлементов, восходящих к палеолитическим тради-циям, – клиновидных микронуклеусов на бифасахи резцов; 2) менее развитая типология скребков итесловидно-скребловидных орудий; 3) малочис-ленность наконечников стрел в орудийном набо-ре; 4) отсутствие абразивных технологий обработ-ки камня.
Керамическая посуда Громатухи, напротив,отличается более развитым характером, причемдаже по сравнению с поздним вариантом осиповс-кого керамического комплекса, связанным с гори-зонтом 3Б Гончарки-1. Это проявляется в целомряде признаков: 1) заметно большее количество со-судов; 2) регулярная повторяемость основных тех-нических и декоративных характеристик; 3) боль-шая прочность керамической посуды, возможно,свидетельствующая о более прогрессивных усло-виях обжига сосудов.
Явное несоответствие в показателях развитос-ти каменных индустрий и керамических традицийосиповских и громатухинских памятников обра-щает на себя внимание и нуждается в объяснении,которое на данном этапе исследований, по-види-мому, не может быть предоставлено.
232
петровка и Константиновка [Окладников 1966;Деревянко 1970]. Этой культуре было сразу суж-дено занять особое место в археологической систе-матике Дальнего Востока.
Во-первых, основу ее каменной индустрии со-ставляла техника снятия правильных ножевид-ных пластин, которая, по мнению первых иссле-дователей, имела корни в устиновской мезолити-ческой или верхнепалеолитической культуре ибыла отнесена к «пластинчатой» традиции раннихкультур Дальнего Востока [Деревянко 1970: 181-191]. Во-вторых, по общему своему облику ново-петровская культура была в то же время уже впол-не неолитической, свидетельством чему являлисьуглубленные котлованы жилищ, массовые наход-ки наконечников стрел, шлифованных тесел, се-тевых грузил и керамики.
Эти особенности позволили практически сразуотнести новопетровскую культуру к раннему нео-литу и датировать ее 6 – нач. 4 тыс. до н.э., т.е.временем, предшествовавшим сложению громату-хинских комплексов [Там же: 190-191]. Однакотакие датировки основывались лишь на данныхтипологических наблюдений и впоследствии онинеоднократно пересматривались.
Позднее в связи с открытием керамики в фи-нально-плейстоценовых комплексах Амура в сере-дине 1990-х гг. было проведено радиоуглеродноедатирование нескольких черепков с новопетровс-ких памятников. Полученные даты – 9740±60 л.н.(АА-38109), 9765±70 л.н. (АА-20937), 10 400±70(АА-20938), 12 720±130 л.н. (АА-38103) [Джалл идр. 1998; Джалл и др. 2001 б; Derevyanko et al. 2004;Кузьмин, Нестеров 2010] – позволили предполо-жить, что новопетровская культура имеет гораздоболее ранний возраст, чем предполагалось ранее.
Однако имеются большие сомнения в новопет-ровской атрибуции образцов, взятых для данногоисследования. Так, в составе каждого из них от-мечалось присутствие травянистой органики [см.:Джалл и др. 1998: 63; Derevyanko et al. 2004: 736],которая в новопетровской посуде, судя по всемимеющимся ее описаниям, отсутствовала.
В то же время надо иметь в виду, что согласноданным ряда исследователей в коллекциях всехновопетровских памятников присутствовала так-же и громатухинская керамика [Гребенщиков идр. 1992], постоянным компонентом которой, какмы помним, как раз и была трава. Не исключено,что именно громатухинские черепки как насы-щенные травой и были отобраны для датированияпо органическому отощителю. Это предположениеподтверждает и явная противоречивость культур-ной атрибуции некоторых из этих образцов. Так,черепок, с которого была получена дата АА-20938,в первой публикации интерпретирован как грома-тухинский [Джалл и др. 1998: 66], а в последую-щей – уже как новопетровский [Derevyanko et al.2004: 737, табл. 1].
Кроме того, в опубликованных работах отмеча-ется, что первая из представленных выше дат былаполучена по нагару на керамике, а остальные – поорганическому отощителю [Кузьмин 2005: 104-105]. Оба варианта, к сожалению, нельзя считатьнадежными. К тому же авторы исследований самиподчеркивали экспериментальный характер датпо органическому отощителю в черепках [Джалли др. 1998: 63].
Таким образом, наиболее достоверными с точ-ки зрения определения действительного возрастановопетровской культуры выглядят сегодня ре-зультаты работ, проводившихся в 2003-2004 г. напоселении Новопетровка-3. В ходе этих работ быловскрыто 434 кв. м и собрана представительная кол-лекция артефактов [Деревянко и др. 2004 а].
По образцу угля из этого раскопа была получе-на дата 8040±90 л.н. (МТС-05943) [Нестеров и др.2005: 170]. Для ее оценки важно, что коллекция,собранная на памятнике, оказалась очень однород-ной. Данные полевого отчета позволяют уверенноговорить об отсутствии в ней иных материалов,которые можно было бы соотнести с указаннойдатой [Деревянко и др. 2004 а]. Близкая дата –7890±50 (IAAA-32079) – была получена в те жегоды и на поселении Новопетровка-4 – по образцуугля из шурфа с новопетровским материалом [Не-стеров и др. 2005: 170; Нестеров и др. 2008].
Надо подчеркнуть, что древесный уголь – наи-лучший из известных сегодня материалов для ра-диоуглеродного датирования [Орлова 1995; Вагнер2006], а потому последние две даты вызываютбольшее доверие, чем результаты, полученные понагару и тем более по вытяжке углерода из череп-ков. К тому же они более согласуются с общим нео-литическим обликом новопетровского комплекса.
Теперь более подробно рассмотрим материалыновопетровской культуры. Ее каменная индуст-рия, как было отмечено выше, отличается от ин-дустрий начального неолита – громатухинской иосиповской – самым кардинальным образом, чтоотмечалось уже первыми исследователями [Оклад-ников 1966; Деревянко 1970].
В первую очередь следует отметить различия вкаменном сырье. Новопетровское сырье однообраз-ное и очень качественное. Доминируют туфы свет-лых оттенков, преимущественно желтовато-бе-лые или желтовато-серые, добываемые в основ-ном в виде плитняка и/или глыбовника. Основуиндустрии составляет технология, предусматрива-ющая, во-первых, подготовку и редукцию нукле-усов с получением правильных ножевидных пла-стин, во-вторых, изготовление на этих пластинахорудий преимущественно приемами краевого ре-туширования.
Новопетровские нуклеусы (А.П. Деревянко все-го выделил восемь их групп) представлены под-призматическими (уплощающего параллельногоскалывания), призматическими и торцовыми мо-
233
дификациями. Они отличаются главным образомвытянутыми по вертикали пропорциями и отно-сительно крупными размерами (высота до 15 см).В орудийном наборе присутствуют группы нако-нечников стрел, скребков, перфораторов, резцов,ножей, комбинированных орудий и др. Орудия наретушированных отщепах немногочисленны.Фиксируется также шлифовка рубящих орудий,встречаются в комплексах грузила с просверлен-ными отверстиями. Но все же самым ярким при-знаком новопетровской индустрии является еепластинчатый инвентарь. Например, на поселенииНовопетровка-3 орудия на пластинчатых заготов-ках составляют 97% всего орудийного набора [Де-ревянко и др. 2004 а: 101].
Керамика новопетровской культуры также вы-зывает большой интерес. К сожалению, в первыхописаниях она получила лишь самую общую ха-рактеристику. Для нее отмечались простота форми плоскодонность сосудов, а также их очень специ-фическая орнаментация в виде налепных рассечен-ных валиков, расположенных бордюром в приусть-евой части. Другой особенностью новопетровскойпосуды можно считать ее малочисленность, в неко-торых из жилищ она вообще отсутствовала [Дере-вянко 1970; Окладников, Деревянко 1973: 95].
Существенные дополнения в сложившуюсякартину внесли материалы, полученные в ходеуже упоминавшихся нами раскопок поселения Но-вопетровка-3 [Деревянко и др. 2004 а]. Подробнаяпубликация полевого отчета с иллюстрациями иописаниями инвентаря непротиворечиво указыва-ет на вполне определенный облик новопетровскойкерамической посуды.
Это были приземистые плоскодонные емкостизакрытых очертаний, изготовленные из глины сминеральной примесью, причем исследователямипамятника неоднократно отмечается ее очень гру-бая текстура. Сосуды не орнаментированы или ук-рашены бордюром из горизонтальных налепныхваликов, иногда образующих геометрические ком-позиции. В отдельных случаях указывается, чтотакие валики могли вставляться в предваритель-но прочерченный по поверхности сосуда желобок[Там же: 51]. Сами валики могли оформлятьсяпальцевыми вдавлениями или рассекаться палоч-кой, иногда прямо на них наносили круглые ямки-наколы – «глазки».
Сравнивая коллекции поселений Новопетров-ка-3 и Гончарка-1, можно отметить, что сходствоих каменного инвентаря ограничивается лишь са-мыми общими признаками, например, фактом на-личия абразивных технологий.
Что касается керамической посуды, то здесьвсе-таки отмечаются некоторые элементы сход-ства – это традиция украшать сосуды налепнымиваликами. В Гончарке, как известно, было найде-но несколько таких сосудов. Показательно, чтоони, как и новопетровские, имели закрытый кон-
тур стенок, повторялась и манера размещения де-кора в виде узкого бордюра в приустьевой частисосуда, схожа и орнаментация самих валиков на-сечками и вдавлениями. Весьма любопытно, что вобеих коллекциях представлен технический при-ем инкрустации валиков в желобки . Новопетров-скую посуду отличает лишь наличие, помимо ли-нейных композиций, геометрических узоров изваликов. Более глубокое сопоставление коллек-ций, к сожалению, затруднено ввиду отсутствиядетальной информации о технологии изготовле-ния новопетровских сосудов. Как сходную чертупока можно отметить лишь грубозернистость ми-нерального отощителя, характерную как для но-вопетровской, так и для осиповской керамики.
Наличие в коллекции Гончарки сосудов, по-вторяющих орнамент, особенности морфологииемкостей, а также, видимо, и некоторые техно-логические стереотипы, заставляет более внима-тельно отнестись к вопросу о возможных связяхносителей осиповской и новопетровской культур.
Таким образом, сопоставляя материалы ново-петровской культуры с осиповскими, мы получа-ем любопытную картину. С одной стороны, мож-но говорить об отсутствии какой-либо преемствен-ности между их каменными индустриями, а с дру-гой – мы видим, что по крайней мере некоторыеэлементы новопетровской керамической традициимогли быть обязаны своим происхождением оси-повскому гончарству.
В этой связи уместно напомнить, что ближай-шие к осиповскому ареалу находки пластин и ар-тефактов новопетровского облика из близкого поцвету сырья были обнаружены В.А. Краминцевымв памятниках у с. Доброе (ЕАО) на Среднем Амуре(коллекции ХКМ № 8671, 8733), т. е. примерно в260 км к западу от Гончарки-1. К сожалению, ка-менный век амурской долины от Малого Хинганадо устья р. Уссури изучен очень плохо и для болеедетальной разработки вопроса о связях новопет-ровской и осиповской культур пока явно не хвата-ет данных.
Комплекс мариинского типа
В ходе исследований поселения на острове Сучув Нижнем Приамурье в 1999 и 2002 гг. был выяв-лен очень своеобразный неолитический комплекс,который авторами раскопок при существеннойроли В.Е. Медведева выделен в отдельную мари-инскую культуру [Медведев 1999; Деревянко и др.2003]. Главными признаками данного комплексаможно считать индустрию, основанную на техно-логии расщепления призматических нуклеусов иочень выдержанную в технико-типологическом от-ношении керамику с гребенчатой орнаментикой.Привлекла внимание исследователей и его ранняяхронология. Она определялась радиоуглероднымидатами, полученными по древесному углю:8585±65 л.н. (СОАН-4869), 7400±140 л.н. (SNU-
234
02), 7180±120 л.н. (SNU-02), 6180±70 л.н. (СОАН-4109) [Медведев 2006].
К сожалению, комплекс, выявленный в мате-риалах поселения на о. Сучу, до сих пор остаетсяединственным достоверным памятником мариин-ского типа. По мнению В.Е. Медведева, аналогич-ные мариинским находки есть в коллекции посе-ления Кондон-Почта [Там же]. Однако этот памят-ник известен своей сложной стратиграфией и по-ликомпонентностью. Один из его комплексов свя-зан с ранним вариантом кондонской культуры, длякоторого в том числе характерны и признаки, ана-логичные мариинским [Шевкомуд 2003 а; Шевко-муд, Кузьмин 2009]. Поэтому выделение собствен-но мариинского комплекса в материалах поселе-ния Кондон-Почта выглядит пока дискуссионным,здесь необходимо проведение подробных сравни-тельных исследований.
Вызывает некоторые сомнения и хронологиямариинского комплекса. Из четырех дат толькосамая ранняя получена по углю, происходящемуиз вполне определенного контекста [Деревянко идр. 2003: 394]. Три поздние даты при неясностиконтекста еще и пересекаются с надежными радио-углеродными датами кондонской культуры [Шев-комуд, Кузьмин 2009]. Последняя имела весьмаширокий ареал, включавший весь Нижний Амур,и представляется маловероятным, что носителидвух культур сосуществовали на одной террито-рии. Поэтому в наших дальнейших рассуждени-ях мы придерживаемся того предположения, чтокомплекс мариинского типа относится к раннемунеолиту Нижнего Приамурья и хронологическисопоставим с новопетровским.
В целом многочисленность мариинской коллек-ции на поселении Сучу и ее типологическая выдер-жанность позволяют надеяться, что дальнейшиеисследования выведут мариинский комплекс науровень одного из важных звеньев в культурнойхронологии Нижнего Приамурья.
Мариинская каменная индустрия целиком иполностью основана на пластинчатой технике, чемразительно отличается от осиповской. В ней пред-ставлены нуклеусы призматических и подпризма-тических модификаций, в основном высотой 3-5 см, а также орудия на пластинках и микроплас-тинах с краевой ретушью: наконечники стрел, рез-чики, проколки, резцы. Бифасиальная и абразив-ная технологии связаны с рубящими орудиями.Имеются также грузила для сетей, плиты-нако-вальни и другой неолитический инвентарь [Дере-вянко и др. 2003; Медведев 2008 в].
Как видно, по облику и основной направленно-сти каменной индустрии мариинский комплексвполне соответствует раннеголоценовым культу-рам Приамурья, в особенности кондонской [Шев-комуд 2008; 2009].
Мариинская посуда изготавливалась из теста с
добавками шамота и/или обломков горных пород,более точная информация в литературе отсутству-ет. Сосуды отличались небольшими размерами иимели плоское дно, толщина стенок варьировалаот 0,5 до 1,2 см. Авторы работ на поселении Сучувыделяют как минимум три формы мариинскихсосудов – горшковидную, ситулообразную и бочон-ковидную. Венчики сосудов почти всегда уплоще-ны. Стенки покрывались слоем тонкодисперсногоангоба [Медведев 2008 в].
Часть сосудов – не более 18% – орнаментирова-лась, зонами нанесения декора служили обрезывенчиков и приустьевая часть внешней поверхно-сти сосудов. Наносился узор твердым зубчатымштампом или стэком. На обрезах чаще всего отме-чаются чуть наклонные гребенчатые оттиски под-квадратной формы или округлые оттиски стэка,вытянутые в один ряд. На тулове узор представ-лял собою бордюр из наклонных параллельныхдруг другу линий, выполненных подквадратнымиоттисками многозубого штампа (минимум 5 зуб-чиков), иногда такие линии, меняя наклон, обра-зовывали горизонтальный зигзаг. В единичныхслучаях подобный узор мог выполняться прочер-чиванием.
В мариинской керамике нетрудно увидеть це-лый ряд признаков, типичных для осиповскойкерамической традиции: использование шамота вкачестве отощителя, ангобирование поверхностей,уплощение обрезов венчиков, наличие двух орна-ментальных зон – кромки венчика и тулова, пре-имущественно гребенчатая техника нанесения де-кора и его мотивы. Особенно показательно сход-ство орнаментации. Аналогии в осиповской кера-мике имеют практически все мотивы мариинско-го декора – и самый распространенный его вариантв виде горизонтального пояса наклонно располо-женных гребенчатых оттисков, и довольно редкиеслучаи использования горизонтального зигзага.
В то же время при сопоставлении мариинскогои осиповского керамических комплексов стано-вится очевидным, что ряд характерных признаковпоследнего в мариинской посуде полностью исче-зает. Это примесь травы в составе теста, отверстияпод венчиком, технический декор и все остальныевиды орнамента. Кроме того, по сравнению с оси-повской мариинская керамика выглядит оченьоднородной, в ней устойчиво повторяются не толь-ко признаки технологического порядка, но и ор-намент. Зональность, композиционные особенно-сти, техника исполнения и мотивы последнегоприобретают жесткую определенность, что такзнакомо нам по памятникам последующих эпох.
Отдельно хотелось бы остановиться на орнамен-те в виде рядов наклонных оттисков гребенки – са-мом распространеном, практически единственном,виде декора на мариинской посуде. Истоки его, бе-зусловно, лежат в осиповской традиции. Помимо
235
Гончарки-1 он встречается также на сосудах из по-селений Осиновая Речка-10 [Шевкомуд 2003 б] иНовотроицкое-10 [Naganuma et al. 2005].
В целом можно отметить, что мариинский ке-рамический комплекс не только определенно на-следует традиции осиповского гончарства, но исовершенствует их. Мариинская посуда выглядитпо сравнению с осиповской гораздо более развитойи определенной. В ней исчезает мозаичность, окон-чательно оттачиваются формы сосудов и способыих орнаментации, из технологии уходит ряд при-емов, применение которых либо не имело особойцелесообразности, либо им удалось найти более со-вершенную замену.
В связи со сравнительной характеристикой ма-риинского и осиповского комплексов любопытныеще два небольших сюжета.
Во-первых, на фоне явного сходства их керами-ческих коллекций весьма показательно полное от-сутствие на мариинской посуде элементов, специ-фичных для громатухинского гончарства. Это в из-вестной мере подтверждает наши выводы о само-стоятельных путях развития громатухинской иосиповской культур. Исторические судьбы связан-ного с ними населения, по-видимому, также скла-дывались по-разному.
Во-вторых, интересные результаты дает сопос-тавление комплекса мариинского типа и новопет-ровской культуры. Их каменные индустрии цели-ком основаны на призматическом принципе рас-щепления и изготовлении орудий на пластинах пу-тем краевого ретуширования. С этой точки зренияоба комплекса резко отличаются от осиповскойкультуры и демонстрирует полный разрыв с ее тра-дициями камнеобработки. В то же время и ново-петровская, и мариинская керамика обнаружива-ют вполне определенное сходство с осиповской,ярче всего выраженное в декоре. При этом междусобственно новопетровской и мариинской посудойкаких-либо элементов сходства нет, даже в орна-менте, за исключением самых общих.
Среди последних отметим небольшой размер иприземистые формы сосудов, их плоскодонностьи гладкостенность, преобладание неорнаментиро-ванных емкостей, расположение декора в виде уз-кого бордюра под венчиком. Интересно, что ново-петровская посуда, как и мариинская, оказывает-ся при сравнении с осиповской более выдержан-ной и однородной с типологической точки зрения.Кроме того, они демонстрируют одну и ту же ли-нию технологической эволюции – исчезновениетравы, сквозных отверстий, технического декора.В остальном же оба керамических комплекса аб-солютно самостоятельны, в каждом из них разви-ваются свои орнаментальные приемы, хотя и на-ходящие аналогии в осиповской культуре, – налеп-ные валики в новопетровском и пояса гребенчатыхнаклонных оттисков в мариинском.
Устиновка-3
Стоянка расположена на восточном фасе Сихо-тэ-Алиня в долине р. Зеркальной. Исследованияее проводились в 1987-1997 гг., в том числе усили-ями российско-японской группы специалистов подруководством А.В. Гарковик, Н.А. Кононенко иХ. Кадзивары [Кононенко и др. 1993; Охотники-собиратели…] За годы исследований было вскры-то в общей сложности 300 кв. м. Памятник сразупривлек к себе внимание своим переходным от па-леолита к неолиту обликом и стал рассматривать-ся как важный источник по разработке пробле-мы преемственности палеолитических и неоли-тических культур Приморья [Гарковик 1981; Гар-ковик, Кононенко 1990; Кононенко и др. 1993].
Для нашего исследования стоянка Устиновка-3 имеет особенный интерес. И не только потому,что в Приморье это пока единственный памятник,представляющий наиболее поздний этап развитияместной позднеплейстоценовой литоиндустрии.Не менее важно, что авторы работ на стоянке обо-значили его как«бифасиальный» в отличие отпредшествующих, в гораздо большей степени свя-занных с пластинчатыми и микропластинчатымитехнологиями [Кононенко 2001; Крупянко, Таба-рев 2001]. Кроме того, бифасиальная индустрия Ус-тиновки-3 сочетается с самыми ранними для При-морья находками керамической посуды.
Хронология стоянки определяется палинологи-ческими данными и результатами радиоуглерод-ного и OSL датирования.
Cпорово-пыльцевые спектры стоянки, к сожа-лению, неоднозначны и не позволяют точно опре-делить время формирования ее основного культу-росодержащего горизонта (слоя 4) [Кузьмин 2005:74-75]. Это могло происходить в финале аллереда –позднем дриасе [Охотники-собиратели… ] или всамом начале голоцена [Кононенко и др. 1993].OSL дата для основного культуросодержащего го-ризонта стоянки 10 500 л.н., что в пересчете на ра-диоуглеродный возраст дает около 9000 л.н. Радио-углеродная дата, полученная по фрагменту кера-мики из слоя 4, 9305±31 л.н. (Университет Рико-ку, Япония) [Охотники-собиратели… : 70]. К сожа-лению, не известно, получена она по нагару илипо вытяжке углерода из черепка, что вносит опре-деленную неясность в ее оценку. Авторы исследо-ваний памятника с учетом всех данных относят егок периоду 10 500-9500 л.н. [Там же]. С этим мож-но согласиться, оговорившись, что приведенныевыше данные явно недостаточны для надежногодатирования.
Каменную индустрию стоянки характеризуютоколо 29 тыс. артефактов, из которых чуть более1% составляют орудия [Там же: 91-96], а осталь-ные представлены разноразмерными отщепами,сколами, пластинчатыми отщепами, а также мик-
236
ропластинами и пластинами, но близкими по мор-фологии к пластинчатым отщепам. Имеется сериякрупных нуклеусов и плиточных отдельностей, скоторых получались все эти заготовки. Такие нук-леусы субпараллельного уплощающего принципаскалывания, пластины и пластинчатые отщепыдостаточно характерны для устиновской индуст-рии [Крупянко, Табарев 2001: 83].
В материалах стоянки представлен только одинмикронуклеус, который можно отнести к клино-видным, а также серия торцовых. Имеющиесямикропластины и технические сколы документи-руют наличие микропластинчатой техники, нонезначительное количество и морфологическаянеоформленность артефактов сегмента микрорас-щепения приводят авторов раскопок к выводу опережиточном характере микропластинчатой тра-диции [Охотники-собиратели…: 92].
Характерной чертой комплекса Устиновки-3 яв-ляются многочисленные (230 экз.) симметричныеи асимметричные бифасы различных размеров иформ: лавролистные и иволистные наконечникиметательных орудий, листовидные и миндалевид-ные ножи, в том числе с выделенной рукоятью, дис-ковидные скребла и др. Обнаружена серия наконеч-ников стрел с бифасиальной обработкой, в основ-ном удлиненно-треугольные и листовидные, с пря-мой и даже вогнутой базой, что отмечено авторамикак оригинальная черта комплекса [Там же: 98].
Из других изделий представлены скребки, про-колки, отбойники, наковаленка, орудия режуще-го назначения на широких отщепах и др. Есть до-лотовидные и рубящие орудия. Использовалисьабразивные технологии, что документируется ру-бящими орудиями с пришлифованным лезвием.Резцы не представлены, можно говорить только орезцевидных артефактах, резчиках на отщепах,выделенных трасологически [Там же...: 96-107].
Как видно из описания, в каменной индустрииУстиновки-3 присутствуют признаки, близкиекомплексу Гончарки-1. Это прежде всего домини-рование бифасов различных размеров, функций иформ, наличие серии наконечников стрел. Микро-пластинчатый сегмент присутствует в варианте,который характеризуется как «пережиточный»(т.е. с морфологически неопределенными клино-видными и торцовыми нуклеусами). Дополняетпризнаки сходства отсутствие оформленных рез-цов и грузил для сетей. То же наблюдается в Гон-чарке-1. Важно отметить наличие серии рубящихорудий удлиненно-миндалевидных форм, в томчисле с пришлифованным лезвием, а также ножейна широких отщепах.
Имеются и отличия. В осиповской культуреединичны наконечники с прямоусеченным и вог-нутым основанием. Таким образом, типология на-конечников стрел Устиновки-3 отличается от гон-чаркинской. Кроме того, в осиповской культуренет крупных палеолитоидных нуклеусов для по-
лучения пластин или пластинчатых отщепов, ха-рактерных для устиновской индустрии. Данныйпризнак сближает комплекс Устиновки-3 с осталь-ными памятниками долины р. Зеркальной, но незатеняет его общий бифасиальный облик.
Таким образом, по характеру каменной индус-трии Устиновка-3 довольно сходна с осиповскимипамятниками, особенно с Гончаркой-1, что мож-но объяснить культурными влияниями со сторо-ны осиповского ареала.
Интересным фактом в пользу данного предпо-ложения являются результаты геохимическиханализов обсидианового сырья. Выше уже упоми-налось о том, что в осиповских памятниках хех-цирской группы обнаружены предметы из обсиди-ана двух групп, и обе происходят из приморскихисточников. Один расположен на Шкотовском ба-зальтовом плато. Место локализации второго оп-ределено пока предположительно, это области Си-хотэ-Алиня, лежащие в верховьях рек Светлой,Самарги и Коппи на границе Приморского и Хаба-ровского края, т.е. примерно в 200 км на юго-вос-ток от осиповских памятников. Из этого последне-го источника происходит обсидиан, найденный вГончарке-1 и Амуре-2 («У железнодорожного мо-ста»). Аналогичный обсидиан найден и в Устинов-ке-3 [Попов и др. 2006]. Таким образом, ныне со-вершенно точно установлено, что осиповские иустиновские популяции эксплуатировали одни ите же источники редких литоресурсов. Соответ-ственно, они вполне могли иметь контакты какминимум при решении проблем их добычи и рас-пространения.
Еще более подкрепляет наше заключение обосиповском влиянии на комплекс Устиновки-3 ана-лиз керамики данного памятника. Керамическаяколлекция стоянки насчитывает всего около 140фрагментов и выглядит очень однородной [Охот-ники-собиратели… : 116-117; Яншина, Гарковик2008]. Большая ее часть, по-видимому, принадле-жит одному-двум сосудам, но достоверно устано-вить это ввиду очень небольших размеров сохранив-шихся обломков невозможно.
Фрагменты керамики были равномерно окра-шены в темно-серые или серовато-коричневатыетона. У отдельных образцов наружная поверхностьбыла покрыта специальной обмазкой красновато-го цвета. Сосуды имели ровные стенки, толщинаих составляла 0,5-0,7 или 1 см.
Визуально устиновская посуда была изготовле-на из глины с более или менее обильной минераль-ной примесью мелких и средних размеров. Прак-тически во всех черепках под микроскопом или безнего на поверхности и в изломах фиксировалисьпустоты, характерные для травянистой органики,иногда заполненные углефицированным веще-ством. Примесь травы была необильной, а саматрава предварительно измельчалась. На многихфрагментах на поверхности фиксировались пусто-
237
ты от очень тонких трубчатых и извилистых воло-кон, близких по своим морфологическим харак-теристикам к шерстинкам. Являлись ли они след-ствием введения в формовочную массу шерсти илистали результатом обработки сосудов куском кожис остатками шерсти, судить трудно. У одного фраг-мента зафиксированы очень маленькие бледно-ко-ричневые окатыши пылеватой консистенции, воз-можно кусочки охры или шамота.
Петрографический анализ подтверждает дан-ные визуального осмотра. Вся устиновская посу-да была изготовлена из глины с добавками мине-рального отощителя кварцполевошпатового соста-ва, объем которого составлял в среднем 20-30%,достигая иногда 40%. В составе теста в отдельныхшлифах зафиксированы эпизодические включе-ния травы и единичные зерна шамота.
На поверхностях устиновских сосудов сохраня-лись полосчатые следы от выравнивания стенокгребенчатым инструментом. Отчетливо они про-слеживались только на отдельных наиболее круп-ных фрагментах. Рельефность рисунка могла зна-чительно варьировать даже на одном фрагменте,на одних участках трасы-желобки образовывалиритмичный хорошо видимый рисунок, на другихони стирались, сглаживались. Возможно, это былорезультатом истирания деревянного орудия, кото-рым осуществлялась обработка стенок. Важноподчеркнуть, трасы наносились только на однуповерхность сосудов – внутреннюю. По отдельнымобломкам можно установить, что в приустьевой ча-сти сосудов направленность трас была либо субго-ризонтальной, либо слегка наклонной.
Способы формовки устиновских сосудов не вос-станавливаются. Об их морфологии можно судитьна основании обломков одного сосуда (удалосьсклеить только его верхнюю часть). Он имел чутьвогнутые очертания контура и простую форму.Толщина стенок составляла 0,8 см, в подвенечнойчасти – 0,5 см. Венчик был совершенно плоский ировный. В полутора сантиметрах ниже обреза водну линию располагались сквозные круглые от-верстия, проколотые снаружи, за счет чего на внут-ренней стороне вокруг отверстий образовался не-большой наплыв глины.
Помимо этого сосуда в коллекции есть еще че-тыре обломка венчиков, но все они, к сожалению,очень маленькие, а по форме напоминают венчиквышеописанного сосуда. Обломки донышек в кол-лекции отсутствуют. Орнамента на посуде нет.
Сравнивая устиновскую коллекцию с материа-лами поселения Гончарка-1, можно отметить сле-дующее. Об их сходстве свидетельствуют просто-та форм сосудов, сквозные отверстия под венчика-ми, уплощенный контур последних, наличие сле-дов обработки стенок сосудов зубчатым инструмен-том (причем, как и в Гончарке-1, только на внут-ренних стенках), нанесение слоя красноватой об-мазки на наружную поверхность. Сходство видит-
ся и в использовании травы, здесь важен не толь-ко сам факт ее добавления, но и то, что ее вводили,как и в Гончарке-1, в малом объеме и измельчен-ном виде.
Гораздо более устоявшейся выглядит рецепту-ра формовочных масс устиновских сосудов – ми-неральный отощитель гранитного состава, объемотощающей фракции, отсутствие других вариан-тов, хотя последнее в известной степени может от-ражать лишь ограниченность устиновской коллек-ции. Шамот в керамике Устиновке-3 представлентолько единичными зернами и только в отдельныхшлифах, т.е. эта традиция здесь либо отсутство-вала совсем, либо была уже утрачена.
Перечисленные признаки позволяют сблизитьустиновскую керамику с материалами горизонта 3БГончарки-1, отмечая при этом в качестве особенно-стей полное отсутствие на ней орнамента и относи-тельную тонкозернистость отощителя. Стоит спе-циально обратить внимание, что устиновская ке-рамическая коллекция находит себе аналогиитолько в материалах осиповской культуры, специ-фические особенности громатухинской керамикив ней не представлены совершенно.
Таким образом, результаты сравнительногоанализа памятников Гончарка-1 и Устиновка-3 вцелом отражают довольно высокую их корреля-цию как по облику каменных индустрий (домини-рование бифасиальной технологии, маловырази-тельность микропластинчатого расщепления иотсутствие типологически выраженных резцов идр.), так и по основным параметрам керамическо-го комплекса. В сочетании с данными по исполь-зованию обитателями этих памятников одних об-сидиановых источников такое сходство вполне мо-жет объясняться наличием между носителями обе-их культур определенных связей.
По нашему мнению, оригинальные на фоне при-морской верхнепалеолитической индустрии при-знаки комплекса Устиновки-3 могли сформиро-ваться как результат влияния со стороны носите-лей осиповской культурной традиции. Следуетотметить, что мы не одиноки в своем мнении. Вабстрактном виде версия о внешних влияниях,точнее даже о «керамической миграции», в усти-новскую среду уже была изложена в литературе,причем именно по поводу специфики материаловУстиновки-3 [Крупянко, Табарев 2001: 86].
Эти выводы в свою очередь могут служить кос-венным аргументом для определения возрастаУстиновки-3, т.к. в соответствии с ними он впол-не может соотноситься с возрастом поздних оси-повских комплексов, аналогичных горизонту 3БГончарки-1 или немного позднее. На это же могутуказывать и другие наблюдения.
Например, следует обратить внимание на тотфакт, что Устиновка-3 представляет собой стоян-ку, а не поселение с долговременными жилищами,которые характерны уже для самых первых ранне-
238
голоценовых комплексов, таких как новопетровс-кие. Кроме того, показательно, что керамическиекомплексы последних явно отличаются от устинов-ского и по общему уровню развития, и по показате-лям культурной специфики, в частности орнамен-тации. В целом можно отметить, что сомнения, ко-торые высказывались в литературе по поводу ран-него возраста Устиновки-3 и соответствия ее ка-менной индустрии и керамики [Кузнецов 2003 идр.], по-видимому, не подтверждаются.
Кондонскаяи руднинская культуры
Кондонская культура была выделена в Приаму-рье в первой половине 1960-х гг. [Окладников1967] и долгие годы представления о ней основы-вались главным образом только на материалах по-селения Кондон-Почта [Окладников 1983]. С это-го же памятника была получена единственная длявсей культуры дата – 4520±25 л.н. (ГИН-170)[Верхний плейстоцен…: 280] и еще несколько летназад считалось, что кондонская культура отно-сится к завершающим этапам неолита [см., напр.:Медведев 2007].
Исследования последних лет существенно изме-нили эту ситуацию. Открытие нового памятникаКнязе-Волконское-1, а также повторные раскоп-ки поселения Малая Гавань позволили соотнестикондонскую культуру с ранним этапом среднегонеолита и на основании целой серии С14 дат опре-делить ее возраст в пределах 7655–6185 л.н., илив календарном исчислении 6592-5620 лет до н.э.[Шевкомуд и др. 2008; Шевкомуд 2009; Шевко-муд, Кузьмин 2009].
Руднинская культура была выделена в соседнемПриморье чуть раньше, чем кондонская, и сразубыла охарактеризована как ранненеолитическая[Окладников 1959]. Последующие изысканиялишь подтвердили ее ранний возраст [Неолитюга…; Дьяков 1992]. Ныне целая серия радиоуг-леродных дат позволяет определить время суще-ствования руднинских памятников в пределах7690 – 5890 л.н. [Батаршев 2009: 102-103]. Послеоткрытия финально-плейстоценовых комплексовс керамикой и последующего пересмотра общей пе-риодизации неолита руднинская культура, как икондонская, стала относиться уже к ранней поресреднего неолита [Попов 2006; Батаршев 2009].
Одной из главных тем в изучении обеих куль-тур практически сразу стал вопрос об их соотно-шении, что было обусловлено заметным сходствомих керамических традиций. Диапазон мнений, вразные годы высказывавшихся по этому вопросу,весьма широк: от объединения обеих культур водну до признания их самостоятельными с различ-ными вариантами объяснения их взаимосвязи [см.обз.: Неолит юга…: 177-204; Батаршев 2009: 11-25]. В последнее время в разработке этого кругапроблем появились новые сложности.
В кондонской культуре было выделено два хро-нологических варианта, заметно различающихсяпо облику керамики [Шевкомуд 2003 а; 2009]. Вруднинской культуре недавно также были обособ-лены два хронологических варианта [Батаршев2005; 2009]. Соотношение всех этих комплексов,к сожалению, пока еще не получило развернутойи аргументированной характеристики. Хотя пред-ставляется, что именно в данной сфере лежит ключк решению вопроса о соотношении памятниковруднинско-кондонского круга.
Анализ каменных индустрий руднинской, кон-донской и осиповской культур приводит к оченьинтересным результатам.
Основу кондонских комплексов составляетпластинчатая техника, основанная на расщепле-нии нуклеусов призматических и подпризмати-ческих модификаций. Из пластин, пластинок,микропластин состоит основной набор орудий, из-готовленных преимущественно приемами краево-го ретуширования. Фасиальная обработка изделийпредставлена незначительно [Шевкомуд 2008].
Иная ситуация наблюдается в руднинскойкультуре. В ней характер каменной индустрииопределяли фасиальные и отщеповые технологии,а классическая пластинчатая техника, основаннаяна расщеплении призматических и подпризмати-ческих нуклеусов, не проявлялась [Дьяков 1992;Неолит юга…; Батаршев 2009: 96-99]. Здесь, одна-ко, нужно оговориться, что представительные ли-токомплексы руднинской культуры обнаруженыпока только на восточном фасе Сихотэ-Алиня впоселениях Рудная Пристань и Чертовы Ворота.В памятниках, расположенных в бассейне Амурапо берегам Уссури и ее притоков (Лузанова Сопка-2, 5, Сергеевка-1), предметов каменного инвента-ря найдено очень мало [Батаршев 2009].
При сравнении руднинской и кондонской камен-ных индустрий между собой нетрудно увидеть, чтоих сходство ограничивается главным образом темипризнаками, которые отражают их общую принад-лежность к эпохе неолита и поэтому не могут слу-жить основанием для оценки культурного сходствапамятников. К их числу, например, относится ти-пично неолитический набор инвентаря, в которомпроявился спектр таких технологий обработки кам-ня, как шлифовка, вытачивание, сверление, пике-таж, а также связь последних с определенными ка-тегориями орудий. Поэтому вслед за другими иссле-дователями мы можем констатировать принципи-альные отличия руднинской каменной индустрииот кондонской [Неолит юга…: 190-191].
В то же время на фоне этих отличий становит-ся очевидным, что каменный инвентарь обеихкультур в совершенно разной степени соотносит-ся с осиповским. Кондонский продолжает ту желинию развития технологии расщепления камня,которая определяла раннеголоценовые индустрииПриамурья (новопетровские и мариинский комп-
239
лексы), и в этом отношении он, как и последние,демонстрирует существенный разрыв с осиповскойкамнеобработкой. Руднинские комплексы, напро-тив, продолжают бифасиальные традиции, восхо-дящие к осиповской культуре.
Рассмотрим теперь более подробно руднинскиеи кондонские памятники с точки зрения их воз-можного сходства с осиповскими.
Что касается кондонских памятников, то (еслиопираться на материалы однослойного поселенияКнязе-Волконское-1) картина получается следую-щая. В каменном инвентаре этого памятника от-мечаются лишь отдельные архаичные признаки,которые можно рассматривать как восходящие косиповской культуре. Это единичные находки но-жевидных орудий с бифасиальной обработкой, за-готовок клиновидных нуклеусов, а также един-ственный во всей коллекции экземпляр такогонуклеуса. Здесь же надо указать и на принципи-альное сходство шлифованных удлиненно-минда-левидных в плане и линзовидных в сечении тесел,которые очень близки к аналогичным изделиямГончарки, причем на всех стадиях их изготовле-ния – от тесловидного бифаса к готовому орудию.Сходны и шлифованные наконечники стрел, в ча-стности иволистной в плане формы [Шевкомуд,Горшков 2007; Шевкомуд 2009]. Но на этом чер-ты сходства кондонской и осиповской каменныхиндустрий практически заканчиваются.
В каменном инвентаре руднинской культурыпризнаков, сходных с осиповской традицией кам-необработки, больше уже в силу его общего бифа-сиального характера. Приведем ниже их переченьна основе опубликованных материалов РуднойПристани и Чертовых Ворот [Дьяков 1992; Неолитюга…: 35-80].
В сегменте первичного расщепления необходи-мо отметить наличие в коллекциях этих памятни-ков немногочисленных микропластинчатых нук-леусов торцовых модификаций. Техника, которуюони представляют, имеет, вероятно, пережиточ-ный характер и своми происхождением связана сфинально-плейстоценовыми культурами Примо-рья и Приамурья. Микронуклеусов призматичес-ких и подпризматических модификаций нет.
Техника получения крупных пластин не про-является, о чем ярко свидетельствует отсутствиесоответствующих нуклеусов, что типично и дляосиповской культуры. Известные в руднинскихкомплексах артефакты, охарактеризованные какорудия на пластинах, хорошо сопоставляются сблизкими по облику изделиями на пластинчатыхснятиях Гончарки-1.
Как и для осиповской культуры, для руднинс-кой характерны бифасы листовидных модифика-ций, симметричные и асимметричные, а такжечерешковые. Они представлены всеми размерны-ми рангами и категориями: наконечниками копий,дротиков и стрел, ножами и др. Среди наконечни-
ков стрел преобладают типы с различными вариан-тами усеченной базы, что характерно для развито-го неолита, хотя важно отметить, что единичныйартефакт такого типа обнаружен и в Гончарке-1.
Основным типом заготовки в указанных памят-никах являются пластинчатые отщепы, которыеоформлялись в орудия приемами краевой ретуши.Среди них диагностичны орудия на широких круп-ных отщепах, сходные с ножевидно-скребловид-ными орудиями на отщепах из коллекции Гончар-ки-1 [см., напр.: Неолит юга… : рис. 20, 9, 11-16].В Рудной Пристани как характерные выделены из-делия с угловатым оформлением лезвийной части,по В.И. Дьякову, тетюхинские трапеции [Дьяков1992: 98-100]. Напомним, что угловатые ножевид-но-скребловидные орудия на отщепах хорошопредставлены и в материалах Гончарки.
Среди скребков представляют интерес так на-зываемые скребки руднинского типа [Там же: 99-100], морфологически близкие осиповским. В ре-тушированном инвентаре примечательна весьманезначительная представленность техники резцо-вого скола и резцов [Неолит юга…: 67], что такжехарактерно для осиповской культуры.
Количественные данные имеются только дляпамятника Чертовы Ворота, в котором доля ору-дий устойчивых форм с краевым одностороннимретушированием составляет более 47%, а сосплошной двусторонней обработкой – более 41%[Там же: 75].
Среди рубящих орудий для руднинских памят-ников характерны так называемые горбатые (од-носторонне-выпуклые) тесла, вариант которыхпредставлен в Гончарке-1.
Таким образом, руднинская литоиндустриявыглядела бы в осиповском ареале намного болееестественно, нежели кондонская. В этом случаеможно было бы уверенно говорить о преемствен-ности осиповской и руднинской культур.
Объяснение сходству осиповской и руднинскойиндустрий, разделенных между собой и временем,и пространством, может быть найдено в аналоги-ях последних с инвентарем Устиновки-3. Исследо-ватели этого памятника, опираясь на результатысравнительного анализа каменных индустрий,прямо указывают на то, что руднинская культураформировалась непосредственно на основе комп-лексов типа Устиновки-3 [Там же: 181-182]. Вышенами уже отмечалась высокая степень корреляциикаменных индустрий осиповской культуры и Ус-тиновки-3 и было сделано предположение о фор-мировании последней хотя и на местной основе, нопод влиянием осиповского населения. Не исклю-чено, что памятники типа Устиновки-3 как раз ивыступали связующим звеном между осиповскойи руднинской культурами.
Не менее интересные результаты в плане поис-ка возможных истоков руднинско-кондонскихтрадиций показывает анализ керамики.
240
Для начала отметим, что сопоставление междусобой руднинских и кондонских керамическихколлекций свидетельствует о довольно высокойстепени их сходства. Хотя нужно отметить, чтоприморские памятники выглядят гораздо болеемозаичными по сравнению с кондонскими, причемуже на самом раннем этапе своего существования.Это, конечно, затрудняет их сопоставление, темболее что многие комплексы, так или иначе име-ющие отношение к руднинской культуре (шекля-евский, руднинский, сергеевский, веткинский),были обособлены сравнительно недавно и еще на-ходятся в процессе осмысления.
Собственный опыт изучения коллекций па-мятников руднинской и кондонской культур по-зволяет нам сделать вывод, что ядро объединяю-щих их признаков в наиболее сжатом виде отра-жают материалы поселения Князе-Волконское-1,представляющие ранний вариант кондонскойкультуры [Шевкомуд 2003 а; 2009; Шевкомуд,Горшков 2007].
Керамический комплекс этого памятника на-считывает тысячи фрагментов и десятки сосудовразной степени сохранности. Их изучение показы-вает, что изготавливались они из формовочныхмасс двух видов. В одном случае бралась чистаяглина, в которую, по данным петрографии, добав-лялось около 10-20% шамота, в другом – глинаотощалась обломками горных пород преимуще-ствено кварцполевошпатового состава, объем ко-торых варьировал от 20 до 40%. Текстура отощи-теля независимо от его состава могла быть мелко-и среднезернистой или разнозернистой. Сосуды из-готавливались классическим ленточным налепомснизу вверх и имели простую открытую или чутьзакрытую форму с плоским дном. Поверхности мог-ли обрабатываться ангобом, который отличался отосновного черепка, обычно серого или коричнево-го, желтоватыми или красноватыми оттенками.
Украшались сосуды в двух зонах. По обрезу вен-чиков, как правило, уплощенных, наносились от-тиски стэка или гребенки. Основной же узор рас-полагался в верхней части тулова. Орнаментира-ми служили фигурный стэк и гребенка. Чаще все-го в коллекции встречаются узоры в виде горизон-тальных рядов наклонных оттисков гребенки (рис.117, 1, 4), реже – в виде узкого поля оттисков стэ-ка (круглых, ромбических, треугольных, удлинен-но-овальных) в обрамлении наклонных или гори-зонтальных гребенчатых оттисков (рис. 117, 3) илибез него (рис. 117, 2, 5).
В Приморье комплекс посуды, аналогичныйкнязе-волконскому, типичен и специфичен дляпамятников сергеевского типа, которые располо-жены как в бассейне Уссури (Шекляево-7 и др.),так и на восточных склонах Сихоте-Алиня (Чер-товые Ворота) [Батаршев 2009]. Место этих памят-ников в рамках руднинской культуры пока не оп-ределено окончательно, как и типологический их
облик, но, несомненно, они составляют в рамкахруднинской культуры самую распространеннуюгруппу. Время ее существования определяется пообразцам древесного угля 7615-5890 л.н., нижняяграница пересекается с датами собственно руднин-ской группы, считающейся, однако, более ранней.
Оценивая керамический комплекс поселенияКнязе-Волконское-1 с точки зрения поиска еговозможных истоков, в первую очередь следует об-ратить внимание на характерные для него особен-ности формовочных масс, а именно на сочетаниешамотной и минералогенной рецептур. Надо под-черкнуть, что традиция эта была в равной степенисвойственна и для других кондонских памятниковПриамурья [Мыльникова 1999: 27-33], и для при-морских памятников, расположенных в бассейнеУссури, на что указывают опубликованные данные[Батаршев 2009] и собственный опыт изучения ма-териалов поселения Шекляево-7 [Клюев и др.2003]. Интерес к данной особенности раннекондон-ского гончарства объясняется тем, что та же самаячерта, как мы помним, была характерна и для оси-повских памятников, особенно поздних (горизонт3Б в Гончарке-1, Осиновая Речка-10).
Любопытно, что в материалах Князе-Волкон-ского отчетливо прослеживается тенденция к кор-реляции каждой из рецептур с определенными ви-дами орнамента. Так, сосуды, украшенные толь-ко узким пояском из оттисков стэка, в подавляю-щем большинстве случаев были изготовлены пошамотной технологии, тогда как посуда, орнамен-тированная «амурской плетенкой» или рядамигребенчатых оттисков, – преимущественно с ис-пользованием минерального отощителя. В целомв коллекции незначительно, но преобладала посу-да с добавками шамота.
Наличие отмеченной корреляции, на нашвзгляд, явно свидетельствует о том, что двойствен-ность традиции составления формовочных масс вкондонском гончарстве совсем не случайна. Пред-положение об особых функциях посуды, изготов-ленной по разным рецептам, возможно, однако ис-ходя из археологических данных подтвердить илиопровергнуть его не получается.
Использование в рамках одной технологичес-кой традиции двух, по сути дублирующих другдруга рецептур ранее обращало внимание исследо-вателей кондонской культуры, которые предпола-гали, что объяснение этому факту можно найти всмешении разнородных культурных традиций[Мыльникова 1999: 67]. Результаты наших изыс-каний позволяют сделать другое предположение –о том, что кондонские мастера наследовали эту чер-ту от осиповских. Остается только ответить, поче-му такая двойственность в составлении рецептурне только возникла, но и закрепилась в культуре,превратившись в устойчивую традицию.
Еще одной чертой, сближающей технологиюсоставления формовочных масс поселения Князе-
241
Волконское-1 и осиповских памятников, являет-ся использование в качестве отощителя рыхлогобазальта, хотя это довольно необычный для гон-чарного производства вид сырья. По данным пет-рографии, андезито-базальты встречаются в соста-ве керамики руднинско-кондонского круга [Мыль-никова 1999; Жущиховская 2004; Батаршев 2009],но в культурах более поздних они уже не известны.
Далее обращает на себя внимание присутствиев керамике кондонской культуры органическогонаполнителя. На посуде с поселения Князе-Вол-конское-1 он фиксируется в виде чернильно-чер-ной блестящей пленки на участках спая лент. Поданным Л.Н. Мыльниковой, в кондонской кера-мике поселения Кондон-Почта стабильно присут-ствовала какая-то древесная органика [Мыльни-кова 1999: 31-32]. Понятно, что в обоих случаяхточная идентификация органического наполните-ля пока отсутствует, но сам факт его фиксациисближает кондонские памятники с памятникамифинального плейстоцена. Интересно, что в при-
морских памятниках присутствие органическогоотощителя пока не отмечалось.
Помимо сходства сырьевой практики общейчертой осиповского и раннекондонского гончар-ства следует считать обычай обрабатывать поверх-ности сосудов толстым слоем ангоба [Неолитюга...: 127; Мыльникова 1999: 39-40; Клюев и др.2003; Батаршев 2009].
Повторяется и цветовая гамма. И осиповские,и раннекондонские сосуды имеют серые или тем-но-серые внутренние поверхности и изломы и свет-лые желтоватые или розовато-красноватые наруж-ные стенки (хотя в раннекондонских комплексахданная черта уже не доминирует так, как в осипов-ских). Это может свидетельствовать и об общейтрадиции использования для приготовления анго-ба специальной ожелезненной глины, и о некото-ром сходстве газового режима обжига сосудов.
Нельзя не упомянуть в этой связи результатыисследования кондонской керамики Л.Н. Мыль-никовой. Рентгенофазовый анализ грунтовочного
Рис. 117. Князе-Волконское-1.Керамика раннекондонского типа
1
2
3
4
5
242
слоя и основного черепка показали присутствие впервом повышенного содержания окислов железа[Мыльникова 1999: 40]. Эти данные, с одной сто-роны, усиливают нашу аргументации сходстваосиповского и раннекондонского гончарства, а сдругой – служат дополнительным подтверждени-ем обоснованности наших предположений относи-тельно осиповской практики приготовления анго-бов из высокоожелезненных глин.
Ситуация с цветовыми характеристиками руд-нинской посуды не вполне определенная. По дан-ным И.С. Жущиховской, светлые охристые цветаповерхностей сосудов с поселения Чертовые Воро-та являлись результатом особенностей их обжига[Неолит юга...: 127]. Собственный анализ керами-ки с поселения Шекляево-7 в Приморье между темпоказывает, что по крайней мере некоторые сосу-ды и здесь имели ангоб из глины, более ожелезнен-ной, чем та, которая шла на изготовление пологотела сосудов.
В целом надо отметить, что технологическиехарактеристики посуды с поселения Князе-Вол-конское-1 и осиповских памятников хехцирскойгруппы, прежде всего Гончарки-1, весьма схожи.Кондонскую керамику, конечно, отличает лучшеекачество обжига, более плотное тесто, а также ус-тоявшийся характер рецептур, приемов формов-ки и орнаментов. Однако в некоторых случаях от-дельные фрагменты из коллекции Князе-Волкон-ского-1 трудно отличить от осиповских.
В гончарстве руднинской культуры также естьчерты общие с раннекондонскими и осиповскимипамятниками, но здесь фиксируется и своя специ-фика, которая, возможно, указывает на некоторуюобособленность формирования традиций. Напри-мер, в этом отношении показательны отсутствиешамота, органики и вулканических пород в соста-ве отощителя, текстурный стандарт последнего.Обращают на себя внимание и особенности обра-
ботки поверхностей, хотя здесь необходимо уточ-нение имеющихся данных. Любопытно, что наи-более отличающимся от амурских традиций выг-лядит гончарство восточных склонов Сихоте-Али-ня (Чертовые Ворота).
Следующая линия аналогий связана с декором.Сходство раннекондонских и осиповских комп-лексов прослеживается не только в таких общихпризнаках, как набор технических приемов его ис-полнения (тиснение), орнаментиров (гребенчатыеинструменты, фигурный стэк), использование од-них и тех же зон для нанесения узора (обрез вен-чика и тулово), но и в более «чутких» с точки зре-ния определения родства культурных традицийпризнаках, таких как мотивы декора и конкрет-ные способы и приемы их воплощения.
В этом отношении весьма показательны узорыв виде горизонтального пояса наклонных оттисковширокой гребенки, оконтуривающих устье сосу-дов. Они встречаются в материалах Гончарки-1,Осиновой Речки-10 [Шевкомуд 2003 б: 67], Ново-троицкого-10 [Naganuma et al. 2005: рис. 7, 10, 15].На посуде с поселения Князе-Волконское-1 мы так-же находим этот вариант декора, но он представ-лен здесь лишь отдельными горшками (рис. 117,4), в большинстве же случаев узоры на посуде это-го памятника состоят из нескольких поясов на-клонных гребенчатых оттисков (рис. 117, 1), иног-да сочетающихся с оттисками фигурного штампа[Шевкомуд, Горшков 2007, рис. 2, 1, 3].
Интересно, что изначальный – осиповский –вариант этого декора объединяет керамику поселе-ния Князе-Волконское-1 с керамикой мариинско-го типа и даже в большей степени, чем с осиповс-кой, т.к. именно в мариинском комплексе этот виддекора закрепляется и становится ведущим, еслине единственным (рис. 118).
Мариинский керамический комплекс, с учетомданных по его хронологии, вполне соответствуетпредставлениям о том промежуточном звене, по-средством которого могла осуществляться транс-ляция осиповских керамических традиций в ран-некондонскую среду. На это указывают и его тех-нико-типологические показатели (формовочныемассы, ангоб, формовка), и особенности декоратив-ного оформления посуды.
Другой интересной чертой орнаментации ран-некондонской посуды с поселения Князе-Волкон-ское-1 являются узоры в виде узкого пояса удли-ненно-овальных, редко ромбовидных, вертикаль-но ориентированных оттисков, расположенныхобычно в один-два или несколько рядов вдоль ус-тья сосудов (рис. 117, 2, 3).
Относительно этой группы узоров необходимоотметить, что они имеют чрезвычайно широкое
Рис. 118. Сучу. Типичный сосуд мариинскоготипа [Деревянко и др. 2003: рис. 124]
243
распространение в бассейне Японского морявплоть до Среднего Амура и связаны здесь с самы-ми ранними голоценовыми керамическими тра-дициями, в том числе протобойсманской и ран-ней руднинской в Приморье. Интересно, что накерамике последних данный узор, точнее специ-фическая особенность его элементов (вертикальноориентированные овальные или ромбовидные от-тиски), мог сочетаться с фестонным и шахматнымпринципом размещения на сосудах (Рудная При-стань, Шекляево-7, Бойсмана-2). Интересно и то,что на посуде этих двух групп приморских памят-ников другие варианты декора отсутствовали [Клю-ев и др. 2003; Морева 2005; Батаршев 2009]. И в этомотношении рассматриваемые керамические ком-плексы фактически повторяли ту монотонностьорнаментики, которая отмечалась нами для ново-петровских и мариинских памятников.
Для нас все сказанное важно потому, что в ма-териалах Гончарки мы имеем по крайней мереодин сосуд (из кв. З/16), украшенный фестонамииз ромбовидных вертикально ориентированныхоттисков, расположенных в шахматном порядке.Какие-либо далеко идущие выводы на основанииданных наблюдений делать трудно, но отметить ихнеобходимо, т.к. они они определенно указываютна связь орнаментальных традиций раннего голо-цена с осиповскими памятниками. Важно такжеподчеркнуть, что фигурные оттиски ромбовиднойформы, расположенные в шахматном порядке,стали со временем визитной карточкой всех памят-ников руднинско-кондонского круга.
Восходят к осиповским и некоторые другие ва-рианты руднинских и кондонских узоров. В этомотношении обращает на себя внимание посуда,украшенная налепными валиками. Как показыва-ют исследования последних лет, она отсутствуеткак в раннекондонских (Князе-Волконское-1), таки в раннеруднинских комплексах (Рудная При-стань, Лузанова Сопка-2), и появляется только впамятниках сергеевского типа в Приморье (Чер-товы Ворота, Шекляево-7) и позднекондонского вПриамурье (Кондон-Почта) [Шевкомуд 2003 б; Ба-таршев 2009: 83, 108-109].
Композиционной особенностью данных узоровбыло расположение сразу нескольких валиков уз-ким поясом в приустьевой части сосудов, а такжедополнительное оформление их оттисками различ-ной конфигурации [Неолит юга...: 71-73; Клюев идр. 2003, рис. 3]. Именно таким, как мы помним,был и орнамент на небольшой группе сосудов в кол-лекции поселения Гончарка-1. Такими же былиорнаментальные композиции и на новопетровскойпосуде [Деревянко и др. 2004 а, рис. 40].
Таким образом, мы видим, что в керамическихтрадициях как руднинских, так и кондонских па-мятников определенно прослеживаются черты,восходящие к осиповскому керамическому произ-водству, причем они касаются и технологической,
и стилистической его составляющих. Это, на нашвзгляд, свидетельствует о безусловной преемствен-ности традиций.
В целом можно заключить, что истоки тех ке-рамических комплексов, которые определяли спе-цифику амуро-уссурийского региона на этапе раз-витого неолита, определенно закладывались ещев финале неоплейстоцена, причем в рамках имен-но осиповского гончарства. На последнее указы-вают не только представленные выше наблюдения,но и тот факт, что ни в памятниках раннего голо-цена, ни в памятниках ранней поры среднего нео-лита пока не удается найти признаки, характер-ные для другой керамической культуры финаль-ного плейстоцена – громатухинской. По-видимо-му, связи ее носителей были направлены совсем вдругие районы – Верхнее Приамурье и Забайкалье[см., напр.: Окладников 1960; Окладников, Кирил-лов 1980; Константинов 1994; Асеев 2003].
Заключение
Обобщая материалы, касающиеся раннего голо-цена на юге Дальнего Востока, хотелось бы обратитьвнимание на следующее.
На сегодняшний день переход от громатухинс-кой и осиповской культур начального неолита круднинской и кондонской культурам ранней порысреднего неолита, т.е. период раннего голоцена,очень слабо документирован источниками.
В Приамурье известны немногочисленные па-мятники раннего голоцена – новопетровские и ма-риинский комплекс поселения на о. Сучу. Одна-ко, опираясь на наиболее надежные радиоуглерод-ные даты, их пока можно отнести лишь ко време-ни непосредственного формирования руднинскойи кондонской культур или рубежу раннего и сред-него неолита. С этим вполне согласуются типоло-гически устойчивые инвентарные комплексы на-званных памятников со всеми возможными нео-литическими новациями, а также наличие в ново-петровской культуре долговременных жилищ наоснове искусственных котлованов и некоторыедругие признаки.
В Приморье известен пока лишь один памят-ник – Устиновка-3. В отличие от амурских он име-ет датировки, позволяющие относить его к само-му началу голоцена. Кроме того, он выделяется иболее ранним обликом инвентаря в целом, кото-рый вполне можно охарактеризовать как переход-ный, т.к. основные элементы неолитического ук-лада в нем еще только начинают формироваться.
Далее следует обратить внимание на тот факт,что развитие каменных индустрий в раннем голо-цене на территории Приамурья и Приморья шлоразличными путями.
В Приамурье яркой особенностью смены фи-нально-плейстоценовых комплексов голоценовы-ми является кардинальное изменение техник рас-щепления камня, а именно переход к индустриям
244
пластинчатого и микропластинчатого облика, ос-нованным на различных технологиях расщепле-ния нуклеусов призматических модификаций. Сэтой точки зрения амурские памятники демонст-рируют существенный разрыв с предшествующи-ми – фасиальными в своей основе – традициямикамнеобработки осиповской и громатухинскойкультур. При этом сохраняются и совершенству-ются все неолитические приобретения последних.
Несколько неожиданное для исследователейраспространение в раннем голоцене пластинчатойпризматической (подпризматической) индустриив долине Амура к востоку от Малого Хингана, ско-рее всего, было обусловлено комплексом различ-ных обстоятельств, одним из которых могут бытькультурные импульсы из глубинных материковыхрегионов, где индустрии данного типа были ши-роко распространены от Монголии до Якутии[Константинов 1994; Мочанов 1977 и др.].
Cамой близкой к осиповскому ареалу и наибо-лее ранней пластинчатой культурой с технологи-ями призматического расщепления является но-вопетровская. С ее влиянием в первую очередь иможно связывать распространение этих техноло-гий в восточной части амурского бассейна. К со-жалению, современный уровень источниковойбазы не позволяет решить данную проблему на до-казательном уровне.
Совершенно другие тенденции развития лито-обработки прослеживаются в Приморье, где, судяпо материалам Устиновки-3, бифасиальная техно-логия не только сохраняется, но и продолжает до-минировать. Анализ материалов стоянки позволя-ет предполагать, что ее каменная индустрия мог-ла формироваться хотя и на местной устиновскойоснове, но под вполне определенным влияниемосиповской культуры.
Изучение керамических коллекций показыва-ет иные закономерности. Здесь явные признакивлияния осиповской керамической традиции об-наруживают, хотя и в разной мере, как амурские,так и приморские памятники раннего голоцена,демонстрируя при этом существенные различиямежду собой. Складывается впечатление, что вкаждом из них закрепляются какие-то свои осо-бенные элементы, так или иначе восходящие к оси-повской культуре. Но ближе всего к керамическо-му комплексу последней с точки зрения технико-типологических характеристик стоит керамикамариинского типа, что может быть аргументом впользу их прямой преемственности.
Учитывая все имеющиеся данные, можно сде-
лать следующее заключение. В силу ряда причинв Приамурье в раннем голоцене произошла заме-на местных фасиальных в своей основе каменныхиндустрий финального плейстоцена на индустриидругого типа, связанные с призматическим плас-тинчатым расщеплением. В то же время в наибо-лее отдаленных и периферийных районах здесьмогли сохранятся реликты бифасиальных комп-лексов. Одним из таких районов вполне мог бытьвосточный Сихотэ-Алинь, где и располагается сто-янка Устиновка-3. Последующее формированиенеолитических культур шло уже с учетом этого об-стоятельства, что нашло яркое отражение в мате-риалах культур ранней поры среднего неолита. ВПриамурье в кондонских комплексах закрепи-лась пластинчатая техника, в Приморье – в руд-нинских – продолжала развиваться фасиальная.
Анализ керамических коллекций памятниковфинального плейстоцена и раннего голоцена по-зволяет конкретизировать один из аспектов рас-сматриваемых процессов. Вполне определеннаяпреемственность керамических традиций осипов-ской, новопетровской культур и мариинского ком-плекса, а также памятников руднинско-кондонско-го круга свидетельствует о том, что смена бифаси-альных индустрий пластинчатыми происходила вместной культурной среде, а не была вызвана ис-ключительно запустением и приходом новыхгрупп населения. Таким образом, смену традицийв литообработке кондонской культуры НижнегоПриамурья с наибольшей вероятностью можнообъяснять общерегиональным распространениемтехнологий нового типа и заимствованиями.
Другой интересный вывод, следующий из ана-лиза керамических материалов, связан с тем оче-видным обстоятельством, что в раннем голоцене наюге Дальнего Востока России из керамических тра-диций исчезают признаки, определяющие своеоб-разие громатухинского гончарства, тогда как оси-повские, напротив, оказываются представленыболее заметно и вполне определенно. По-видимому,это означает, что формирование неолитическихкультур данного региона шло именно на основеосиповского культурного субстрата. Далее, из это-го можно заключить, что уже в столь раннее вре-мя южно-дальневосточный регион, включающийвосточную часть Приамурья и Приморье, офор-мился в самостоятельную культурную зону, насе-ление которой было связано общим происхожде-нием и разделяло единые мировоззренческие сте-реотипы, по крайней мере в сфере керамическогопроизводства.
НАЧАЛО НЕОЛИТА В ПРИАМУРЬЕ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Переход от палеолита к неолиту традиционноотносится к числу наиболее актуальных тем в ар-хеологии, в том числе дальневосточной. Первона-чально данная проблематика разрабатывалась врусле тех теоретических положений, которыепредлагала общая археология, т.е. на базе поня-тия «мезолит» [Окладников 1977; Деревянко 1983;Мезолит СССР…: 185 и др.]. Однако отношениеисследователей различных регионов к данномуподразделению археологической периодизации вцелом отличается неоднозначностью вплоть до от-рицания самой целесообразности его выделения[Лынша 1991]. В частности, на Дальнем Востоке,как очень скоро стало понятно, традиционные длямезолита Европы критерии применить довольносложно.
Во-первых, дальневосточные каменные индуст-рии с их микропластинчатым и бифасиальнымкомпонентами отличались от микролитическихевропейских. Во-вторых, индустрии данного об-лика сформировались в верхнем палеолите и су-ществовали длительное время вплоть до началаголоцена при очевидных признаках технологичес-кой преемственности. В-третьих, настоящий пере-ворот во взглядах исследователей произвело от-крытие финально-плейстоценовых памятников скерамикой и другими «неолитическими» призна-ками, что привело к утверждению точки зрения онеобычно раннем генезисе неолита на дальневос-точных территориях. В итоге большинство специ-алистов отказалось от понятия «мезолит» приме-нительно к Дальнему Востоку. Вместо него распро-странилось более нейтральное «переходный пери-од от палеолита к неолиту», а периодизация камен-ного века Приамурья в соответствии с новыми ре-алиями была дополнена наиболее ранним перио-
дом эпохи неолита – начальным неолитом. Обаданных понятия применяются к археологическимкомплексам одного и того же времени: финалаплейстоцена – начала голоцена, в основном дати-рованным в интервале 13000-9000 л.н. [The Originof Ceramics… 1995; Медведев 1995; 2008 б; Васи-льевский и др. 1997; Деревянко и др. 1998; Гарко-вик 2005; Василевский 2008: 139-144 и др.].
Рассматривая соотношение двух данных поня-тий, необходимо отметить, что одним из важныхпризнаков указанного хронологического перио-да на юге Дальнего Востока России является со-существование памятников, которые исследовате-ли относят к позднему или финальному палеоли-ту, и тех, которые интерпретируются уже как на-чально-неолитические [Деревянко и др. 1998;Кузьмин 2003; Гарковик 2005 и др.]. К числу пер-вых относят устиновскую и селемджинскую куль-туры, к числу последних – осиповскую и громату-хинскую1.
Самый общий анализ памятников указанныхкультур позволяет выявить в них как элементысходства, так и существенные различия. Первыепроявляются в наличии в их каменных индустри-ях черт, восходящих к верхнепалеолитическимтрадициям, единым для востока Азии. Преждевсего это микропластинчатый и бифасиальныйкомпоненты. Различия же в том, что в селемджин-ской и устиновской культурах мы наблюдаем ли-токомплексы, полностью сохраняющие верхнепа-леолитические черты и отмеченные лишь отдель-ными неолитическими инновациями, а в громату-хинских и осиповских памятниках – материалы
1К неолитоидным относится также памятник Устинов-ка-3
246
определенно неолитоидные. Рассмотрение имею-щихся данных об их хронологическом соотноше-нии дает возможность, по нашему мнению, конк-ретизировать представления о переходном перио-де от палеолита к неолиту.
Проблема заключается в том, что хронологичес-кое соотношение указанных культур имеет неко-торые противоречия. Во-первых, это относится кселемджинским и громатухинским памятникамСреднего Амура. Авторы концепции селемджинс-кой культуры разделяют ее на четыре этапа в пре-делах от 25 до 10,5 тыс. л.н. Определение возрас-та заключительного четвертого этапа в интервале12-10,5 тыс. л.н. сделано на основе стратиграфи-ческих и типологических данных без использова-ния радиоуглеродных дат [Деревянко, Зенин1995]. Между тем вполне очевидно, что указанныйинтервал накладывается на время существованиягроматухинской культуры, фиксируемое датамиГроматухи. Учитывая, что обе культуры занима-ют одну территорию (расстояние между основны-ми памятниками обеих культур Громатухой иУсть-Ульмой-1 всего 35 км) и исследователи гово-рят об их генетической связи, приходится предпо-лагать, что селемджинские комплексы не могутбыть моложе 12-13 тыс. л.н.
Во-вторых, аналогичная ситуация складывает-ся и с соотношением устиновской и осиповскойкультур Нижнего Амура и Приморья. Устиновс-кая культура ныне представлена в большом числеисследовательских работ, в том числе монографи-ческого характера [Кузнецов 1992; Васильевскийи др. 1997; Крупянко, Табарев 2001; Охотники-со-биратели… и др.]. Однако ее хронология разрабо-тана пока недостаточно хорошо и является пред-метом дискуссий, поскольку для разграничения еекомплексов лишь в единичных случаях возмож-но использовать стратиграфию памятников, афонд абсолютных дат невелик.
В развитии культуры также выделяют этапы,их количество и временные границы трактуютсяисследователями по-разному, но характерной чер-той всех хронологических схем является наложе-ние устиновских датировок на осиповские [см.,напр.: Кузнецов 1992; Крупянко, Табарев 2001;Кононенко 2001; Охотники-собиратели… и др.].Между тем единственный памятник, определенноотнесенный к финалу палеолита и для которогоимеются результаты радиоуглеродного датирова-ния, это стоянка Устиновка-6. Получены даты11550±240 (GEO-1412) и 11750±620 (СОАН-3538)[Кононенко 2001]. В комплексе с данными пали-нологии они позволили авторам раскопок датиро-вать памятник рубежом раннего дриаса и аллере-да, т.е. около 11,8 тыс. л.н. [Там же: 53].
Отметим, что приведенные даты вряд ли воз-можно считать удовлетворительными из-за боль-шого среднеквадратического отклонения. Но онипозволяют надеяться, что хронологическая грани-
ца между палеолитическими и неолитическимикомплексами Приморья близка тому же пример-ному рубежу, что мы предполагаем для СреднегоАмура.
С другой стороны, для памятников восточногофаса Сихотэ-Алиня (в долине Зеркальной) некото-рая консервация палеолитических традиций нафоне ранней неолитизации культур амурского бас-сейна была бы вполне ожидаемой. То же можносказать и для юго-запада Приморья, где располо-жена другая большая группа стоянок, относимыхк устиновской культуре. Это вполне объяснимотем, что древнее население перечисленных терри-торий находилось в стороне от событий в Приаму-рье. Но вряд ли такая консервация в свете тех жесобытий могла быть столь длительной, как пола-гают исследователи устиновской культуры, дати-рующие ее ранним голоценом [Кузнецов 1992; Дья-ков 2000]. На это, в частности, указывают и резуль-таты исследования стоянки Устиновка-3. Поэто-му пока наиболее близкой к истине выглядит по-зиция тех исследователей, которые ограничиваютфинал палеолита Приморья рубежом 10,5 тыс. л.н.[Крупянко, Табарев 2001: 85-86; Кононенко 2001и др.], при высокой вероятности его удревнения.
Важным обоснованием наших предположенийотносительно верхней границы палеолита амурс-кого бассейна является анализ материалов двухдругих памятников. При их раскопках полученоотносительно небольшое количество материала, ноих очевидная ценность заключается в надежнос-ти археологического контекста и обеспеченностисериями радиоуглеродных дат.
Один из таких памятников расположен в бас-сейне Среднего Амура – это стоянка Малые Курук-тачи-1 на Бурее [Древности Буреи…: 60-69]. Приее раскопках хорошо документированы микро-пластинчатая техника на основе расщепления кли-новидных нуклеусов на бифасах, бифасиальныйкомпонент, имеется также один хорошо диагнос-тируемый резец. Основная масса артефактов (90%)связана с расщеплением местного галечного сырьяна основе нуклеусов подпризматического и ра-диального принципов расщепления, с получени-ем отщепов и сколов как заготовок для орудий.Крупных пластин не обнаружено, но наличие на-выков их получения предполагается.
Исследователь памятника А.В. Табарев, срав-нивая его с известными комплексами Приамурьяи Приморья, не дает ему однозначной культурнойидентификации. Анализ всей совокупности дан-ных приводит его к выводу о том, что памятник,во-первых, однослойный и однокультурный, во-вторых, относится ко времени начальной фазыодного из межстадиалов позднеледникового вре-мени [Там же: 61, 69].
Большой интерес представляет серия из шестикострищ, обнаруженных в Малых Куруктачах, атакже девять радиоуглеродных дат в интервале
247
14200-10125 л.н., полученных по образцам угля.Две поздние даты – моложе 11000 л.н. – самим ав-тором раскопок считаются не относящимися ккультурному комплексу [Там же: 68-69]. По наше-му мнению, дата 11355±370 (AA-3591) также мо-жет быть «отсеяна» из-за большого среднеквад-ратического отклонения. Остальные даты уклады-ваются в интервал около 14200-11730 л.н. Длянашего исследования важна верхняя половинаданного интервала. Она может быть сопоставленас ранним дриасом – переходом к аллереду, кото-рый согласно палеогеографическим исследовани-ям на Дальнем Востоке относится примерно к 12тыс. л. н. [Короткий и др. 1997; Короткий 2001]1.
Другой памятник – Голый Мыс-4 – расположенв северо-восточной части Нижнего Приамурья, наюжном берегу крупного озера Удыль [Шевкомуд,1994; Шевкомуд, Като 2002]. Узкий, длинный ивысокий (порядка 15-20 м) мыс, далеко выступа-ющий в озеро, обеспечивал хороший обзор окру-жающей долины. На нем были исследованы остат-ки небольшого охотничьего лагеря. Палеолитичес-кие комплексы занимают небольшую площадку,образованную скальными выступами. В ее преде-лах выявлено не менее 16 очажных пятен-линз.Каменные артефакты обнаружены в основном впределах указанной площадки около кострищ.Прежде всего, хорошо документируется наличиетехники получения крупных пластин с нуклеусовпараллельного скалывания, а также отщепов ипластинчатых заготовок, получаемых при расщеп-лении галек. Очень индикативны заготовки нук-леусов торцового принципа скалывания с грубойобработкой латералей сколами, по облику близкиек клиновидным. Имеется одна микропластина.Бифасиальная техника не проявляется. Орудияоформлены на пластинах и отщепах приемамикраевого ретуширования.
Использование галек для получения заготовокорудий достаточно характерно для палеолитаДальнего Востока, в частности для памятников наСелемдже. Но необходимо указать на сходствокомплекса Голого Мыса-4 с памятниками устинов-ской культуры, а также с материалами стоянкиОгоньки-52 на Сахалине [Василевский 2008: 104-113], где были найдены аналогичные крупные ре-тушированные пластины и нуклеус торцовогопринципа скалывания.
Следует специально подчеркнуть, что никакихсколько-нибудь существенных параллелей с ин-дустрией осиповской культуры каменный инвен-тарь стоянки Голый Мыс-4 не имеет, наоборот, этотипично палеолитический памятник. Большойинтерес представляют результаты его радиоугле-родного датирования. Образцы древесного углябыли отобраны из разных очагов. AMS-даты сле-дующие: 12925±65 (AA-36277), 12680±65 (AA-36278), 12610±60 (AA-36279),12360±60 (AA-
36281). Радиоуглеродный возраст стоянки можноопределить в основном в пределах 13-12,3 тыс.л.н., т.е., как и в Малых Куруктачах, ранним дри-асом – переходом к аллереду.
Материалы стоянок Малые Куруктачи и ГолыйМыс-4 важны прежде всего тем, что они подтвер-ждают факт действительного сосуществования натерритории Приамурья памятников с явными нео-литическими признаками (осиповской и громату-хинской культур) и памятников с типичной палео-литической индустрией. Данное явление просле-живается примерно в интервале между 13-12 тыс.л.н. Кроме того, надежные радиоуглеродные датыэтих двух стоянок, по всей видимости, определя-ют рубеж около 12 тыс. л.н. как верхнюю границусуществования палеолитических культур. Тот жерубеж, как указано нами выше, наиболее вероя-тен в качестве верхней границы селемджинскихкомплексов.
Если наши рассуждения верны, это значит, чтопереходный период от палеолита к неолиту вПриамурье имел более узкие хронологические гра-ницы и закончился примерно 12 тыс. лет назад.После этого доминирующей тенденцией становит-ся уже неолитизация региона и можно говорить обэпохе неолита в бассейне Среднего и Нижнего Аму-ра. Важно подчеркнуть, что этот хронологическийрубеж примерно соответствует началу потепленияаллереда. Здесь вполне уместно будет заметить, чтоблизкая ситуация фиксируется также и на остро-вах Японского архипелага, где с началом потепле-ния аллереда связан существенный рост количе-ства памятников периода Insipient Jomon, хотя по-явились они, как и в Приамурье, в более раннеевремя [Imamura 1996; Kokai-shinpojium...;Beginning of the Jomon...].
Далее следует остановится на характеристикеобстоятельств, которые могли способствовать ран-ней неолитизации в бассейне Амура. Совокупныйанализ памятников осиповской культуры, а так-же данных палинологии и палеогеографии позво-ляет наметить некоторые из них.
Во-первых, можно говорить о том, что финалплейстоцена в Нижнем Приамурье сопровождал-ся достаточно инстенсивными потеплениями, осо-бенно в аллереде, когда на 48° с.ш., в том числе и восиповском ареале, возникали участки хвойно-широколиственных лесов с участием таких отно-
1Авторы монографии «Древности Буреи» интерпрети-руют результаты палинологических анализов стоянки Ма-лые Куруктачи-1, используя палеогеографические данныепо Сибири, и относят ее к первой половине кокоревскогопотепления, возможно, к новомаранскому межстадиалу[Древности Буреи…: 33-36, 69]. В настоящей работе эти ре-зультаты адаптированы к палеоклиматическим данным,изложенным в работах по Дальнему Востоку.
2Авторы выражают благодарность д.и.н. А.А. Василев-скому за возможность ознакомиться с коллекциями памят-ников о. Сахалин.
248
сительно теплолюбивых видов, как дуб монгольс-кий и орех манчжурский.
Во-вторых, обращает на себя внимание специ-фика палеогеографической ситуации, сложившей-ся в конце плейстоцена в бассейне Амура к восто-ку от Малого Хингана. Из-за существенной обвод-ненности и заболоченности эта обширная террито-рия – в основном Среднеамурская низменность -была мало пригодной для обитания как человека,так и крупных видов позднеплейстоценовой фау-ны, что не способствовало широкому расселениюздесь носителей палеолитического охотничьегоуклада. Пешее передвижение их вдоль береговАмура представляется непростым делом из-за на-личия крупных заливов, болот и «палеоозер».Возможно, поэтому в осиповском ареале до сих поризвестны лишь единичные артефакты палеолити-ческого облика, хотя специальные поиски памят-ников палеолита здесь предпринимались, и имею-щиеся литоресурсы вполне приемлемы для их су-ществования. Примерно аналогичные результатыпоказали и многочисленные разведочные исследо-вания на всем протяжении бассейна Нижнего Аму-ра [Окладников 1980; Шевкомуд 2001 и др.]. Повсей видимости, палеолитическое население пред-почитало осваивать горно-долинные районы Сихо-тэ-Алиня и других хребтов, в частности на севереПриамурья, где и расположен основной селемд-жинский ареал.
Однако для развития неолитических присваи-вающих форм хозяйства ситуация, сложившаясяв конце плейстоцена на территории современнойСреднеамурской низменности, была, напротив,практически идеальной. Показательно, что в мес-те слияния Уссури и Амура сосредоточено около80% всех известных на сегодня осиповских памят-ников. Район этот представлял в то время своегорода «архипелаг» – достаточно обширные по пло-щади острова и полуострова, вполне пригодныедля обитания человека и окруженные огромнымводным зеркалом. На один километр берега здесьприходилось до десяти и более осиповских сто-янок. Можно без преувеличения говорить о том,что на этом участке долины Амура был заселенпрактически каждый имеющийся в рельефе высо-кий мысовидный выступ вдоль древней береговойполосы. Осиповское население определенно стре-милось в этот район, несмотря на ограниченностьмест обитания и, очевидно, осознавая все его пре-имущества.
Акватория вокруг этого «архипелага» не мог-ла не изобиловать водными биоресурсами, в томчисле таким регулярным продуктивным и сравни-тельно несложным в добыче, как лососевая рыба.Важность лососевого ресурса для феномена раннейнеолитизации была показана в серии научных ра-бот по югу Дальнего Востока, где представлено до-статочно примеров из различных территорий Се-верной Пасифики об эффективности палеоэконо-
мики, основанной на промысле рыбы лососевыхпород (Васильевский и др. 1997; Крупянко, Таба-рев 2001; Кононенко 2001; Охотники-собиратели…и др.). В то же время обширность площадей опре-деленных выше геоархеологических районов с их,вероятно, богатыми охотничьими угодьями, фау-ной и флорой способствовала сохранению традици-онных форм хозяйства – охоты и собирательства,что расширяло возможности для адаптации древ-него населения. О значительной роли охотничьегопромысла свидетельствует наличие в осиповскихкомплексах обширного набора орудий охоты и пе-реработки ее продуктов.
В-третьих, еще одним важным фактором, кото-рый привлекал осиповское население к месту сли-яния Амура и Уссури, является наличие здесьбольших запасов легкодоступных литоресурсов.Этот фактор нельзя недооценивать. Галечные иглыбовые россыпи, содержащиеся в рыхлых отло-жениях террасовидных поверхностей вдоль бере-гов Амура, служили основным источником камен-ного сырья для осиповских культуроносителей,что прослежено почти на всех памятниках цент-ральной части ареала культуры. В связи с этимотметим, что на продолжительных участках бере-га Амура, где каменное сырье отсутствовало, па-мятники осиповской культуры не обнаружены.
Таким образом, на формирование феноменаранней неолитизации в Нижнем Приамурье, с на-шей точки зрения, мог повлиять целостный и всвоем роде уникальный комплекс объективныхвзаимодействующих факторов: благоприятныеклиматические изменения (как в большинстве ре-гионов Азии и в Европе), последствия специфичес-ких процессов развития амурской долины в конценеоплейстоцена, в результате чего образовался сво-еобразный «водно-островной мир», наличие прак-тически неисчерпаемых и несложных в освоениии эксплуатации ресурсов, важных для жизнеобес-печения и успешного развития древних сообществ.
Феномен неолитизации иллюстрируется целымрядом признаков, проявляющихся в осиповскихпамятниках. Во-первых, инвентарный комплексосиповской культуры имел уже почти полностьюсформировавшийся неолитический облик. Здесь,на наш взгляд, важно не столько присутствие в немотдельных неолитических новаций (наконечниковстрел, топоров и тесел, ножей, грузил, технологийшлифования, пикетажа, сверления, изготовлениякерамики), сколько то, что все они представленыуже в наборе, который к тому же является обыч-ным для осиповских памятников, что и отличает
1Важная для нашей темы находка остатков мамонтабыла сделана на стоянке Сяонаньшань на р. Уссури, юж-нее Среднеамурской низменности. Радиоуглеродная датапо ним 12900±410 (PV-0179) имеет большое среднеквад-ратическое отклонение, но можно надеяться, что она соот-ветствует времени перехода от палеолита к неолиту в При-амурье [Орлова и др. 2000].
249
сформировавшуюся традицию от формирующей-ся. Кроме того, показательно присутствие в оси-повских комплексах целой серии устоявшихсяморфологических типов новых категорий изделийиз камня (наконечников стрел, рубящих орудий,грузил и др.). Керамика представлена в многочис-ленных образцах и на всех раскопанных памятни-ках, при этом ее технико-типологические призна-ки выглядят достаточно развитыми.
Во-вторых, как признак неолитизации обраща-ет на себя внимание, прежде всего, явное измене-ние в стратегиях жизнеобеспечения осиповскогонаселения по сравнению с их палеолитическимипредшественниками и соседями. Островной илиполуостровной образ жизни, надо полагать, не по-зволял обойтись без водного транспорта, способ-ствовал развитию рыболовства, формированиюоседлости, приводил к повышенной концентрациинаселения. С развитием рыболовства экономикаосиповцев приобретала комплексный характер.При этом она была достаточно эффективной дляразвития культуры. Успешность стратегий обеспе-чения осиповских культуроносителей отражена вмногочисленности и высокой концентрации па-мятников, долговременности существования куль-туры и ее прогрессивной динамике, вероятно, вблагоприятной демографической ситуации.
В-третьих, важным признаком формированиянового образа жизни стало появление жилищ, по-строенных на основе котлована – традиционногомаркера неолитических культур в бассейне Аму-ра [Деревянко 1991]. На памятниках Новотроиц-кое-10, 17 обнаружены жилища, которые со всейочевидностью отражают начальный этап форми-рования неолитической домостроительной тради-ции. Это подчеркивается не только их присутстви-ем лишь на отдельных осиповских памятниках, нои общей неопределенностью и аморфностью формстроившихся котлованов [Naganuma еt al. 2005;Шевкомуд, Яншина 2010 а].
В-четвертых, существенные подвижки, по-ви-димому, стали происходить и в духовной сфереосиповской культуры. Отражением этого являет-ся наличие в структуре осиповских поселенийобъектов, имевших культовый и/или ритуальныйхарактер.
На первый взгляд, осиповская культура со все-ми ее вышеперечисленными признаками появля-ется в практически незаселенном ранее месте, вне-запно и в сложившемся, «готовом» виде, демонст-рируя довольно существенный разрыв с традици-ями предшествующих и сосуществующих с нейверхнепалеолитических культур. Но данные по еевнутренней хронологии, несмотря на их неполно-ту, свидетельствуют о последовательном, хотя идовольно динамичном формировании ее неолити-ческого облика – от ранних комплексов в поселе-ниях Гася и Хумми до позднего комплекса гори-зонта 3Б в Гончарке-1. Ранние комплексы с тех-
нико-типологических позиций в наибольшей сте-пени приближены к предшествующему палеоли-тическому субстрату, на основе которого сформи-ровалась осиповская культура. Материалы гори-зонта 3Б Гончарки-1 демонстрируют уже несом-ненно неолитический комплекс инвентаря. Такимобразом, осиповские памятники, безусловно, от-ражают хронологические этапы развития культу-ры, по-видимому, соответствующие периодам кли-матостратиграфической шкалы Дальнего Востока:раннему дриасу, аллереду и позднему дриасу. Име-ются данные и о раннеголоценовом этапе развитиякультуры [Шевкомуд 2005 а: 188]. Однако необхо-дима еще длительная исследовательская работа,чтобы достоверно очертить технико-типологичес-кий облик и другие характеристики отдельныххронологических этапов осиповской культуры.
Следует заметить, что хронологическая дина-мика осиповской культуры проявляется не простов изменении технико-типологического облика еекаменного инвентаря и керамики от этапа к эта-пу, а путем добавления новых типов, признаков,технологий к традиционно существующим. Подоб-ное сочетание древней консервативной основы инеолитических новаций, по нашему мнению, мож-но рассматривать как признак культурной ста-бильности осиповского общества, которое эволю-ционировало, по-видимому, в основном под влия-нием внутренних социально-экономических фак-торов, а не изменялось в результате внешних воз-действий. Это, разумеется, не исключает межкуль-турных контактов, обмена сырьем, технологиямии т.п., что с наибольшей вероятностью фиксиру-ют выявленные «обсидиановые» связи.
К сожалению, из-за ряда источниковедческихпроблем трудно приобщить к вопросу о ранней нео-литизации среднеамурские материалы. Скореевсего, они демонстрируют несколько иной ход раз-вития событий при переходе от палеолита к нео-литу. Поскольку громатухинские литокомплексыобнаруживают явное сходство с индустрией селем-джинской культуры и ареалы двух культур совпа-дают, то можно предполагать, что на Среднем Аму-ре неолитизация шла по пути непосредственнойтрансформации палеолитического комплекса внеолитический.
На сегодняшнем уровне исследований сложноответить и на вопрос, насколько взаимосвязаннымбыл процесс сложения в бассейне Амура двух пер-вых культур начально-неолитического облика –осиповской и громатухинской. На фоне их общейхронологии и выявленных нами существенныхразличий в их керамических традициях и камен-ных индустриях скорее складывается впечатлениео независимости их формирования. Примерно в тоже самое время неолитоидные памятники появля-ются на островах Японского архипелага, а такжев Северном Китае и на других территориях восто-ка Азии [Алкин 2000: 7-10; The Nature… ]. Учи-
250
тывая все данные можно, по-видимому, говоритьо довольно широком фронте неолитических транс-формаций, затронувших в конце плейстоцена на-селение указанного региона.
Осиповская культура не могла не оказыватьвлияние как на синхронные с нею, так и на после-дующие памятники и культуры Дальнего Восто-ка. Следы такого влияния прослежены в комплек-се сходного по хронологии приморского памятни-ка Устиновка-3, сформированного, вероятно, наоснове сплава устиновской палеолитической и оси-повской традиций, в материалах кондонской и
руднинской культур ранней поры среднего неоли-та, а также в комплексе мариинского типа. Мно-гие признаки осиповского керамического произ-водства проявились в керамических традицияхголоценовых культур неолита. При этом на Сред-нем и Нижнем Амуре и в Приморье пока не отме-чено признаков влияния громатухинской керами-ческой традиции. Таким образом, осиповский фе-номен, безусловно, явился той основой, на кото-рой происходило формирование последующих нео-литических культур восточной части Приамурьяи сопредельных ей территорий.
Алкин С.В. 1995. Сожжения в погребальной практикедревних культур Северо-Восточного Китая // Гуманитар-ные науки в Сибири. Сер. Археология и этнография. № 3.С. 37-44.
Алкин С.В. 2000. Две проблемы ранней эволюции нео-литических культур Северо-Восточного Китая. // Обще-ство и государство в Китае. Тридцатая научная конферен-ция. М., С. 6-14.
Андреева Ж.В., Жущиховская И.С., Кононенко Н.А.1986. Янковская культура. М., 216 с.
Асеев И.В. 2003. Юго-Восточная Сибирь в эпоху камняи металла. Новосибирск, 208 с.
Батаршев С.В. 2005. Руднинская археологическаякультура в Приморье: хронологические варианты и меж-культурные связи. Автореф. дисс. … канд. ист. наук /ИИАЭ ДВО РАН. Владивосток,
Батаршев С.В. 2009. Руднинская археологическаякультура в Приморье: монография. Владивосток, 200 с.
Бобринский А.А. 1979. Гончарство Восточной Европы.М., 272 с.
Богораз В.Г. 1991. Материальная культура чукчей. М.,224 с.
Бродянский Д.Л. 1979. Проблемы периодизации и хро-нологии неолита Приморья // Древние культуры Сибирии тихоокеанского бассейна. Новосибирск, С. 110-115
Бродянский Д.Л. 1985. Вопросы методики: стратигра-фия, типология, систематизация, археологическая перио-дизация // Проблемы тихоокеанской археологии. Влади-восток, С. 125-145.
Бродянский Д.Л. 1987. Введение в дальневосточную ар-хеологию. Владивосток, 275 с.
Бродянский Д.Л. 2010. Древнее искусство и его иссле-дователи (очерки, статьи, доклады). Владивосток, 180 с.
Вагнер Г.А. 2006. Научные методы датирования в гео-логии, археологии и истории. М.,
Вадецкая Э.Б. 1983. Проблема интерпретации окуневс-ких изваяний // Пластика и рисунки древних культур. Но-восибирск, С. 86-98 (Первобытное искусство).
Василевский А.А. 2000. К понятию неолит и его перио-дизации на о-ве Сахалин // Вперед в прошлое: К 70-летиюЖ.В. Андреевой. Владивосток, С. 150-160.
Василевский А.А. 2008. Каменный век острова Сахалин.Южно-Сахалинск, 412 с.
Василевский А.А., Грищенко С.А., Орлова Л.А. 2010. Пе-риодизация, рубежи и контактные зоны эпохи неолита востровном мире дальневосточных морей (в свете радиоуг-леродной хронологии памятников Сахалина и курильскихостровов) // Археология, этнография и антропология Ев-разии. № 1 (41). С. 10-25.
Васильева И.Н., Салугина Н.П. 2010. Лоскутный на-леп // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения.М., С. 72-88.
Васильевский Р.С., Гладышев С.А. 1989. Верхний палео-лит Южного Приморья. Новосибирск, 184 с.
Васильевский Р.С., Крупянко А.А., Табарев А.В. 1997.Генезис неолита на юге Дальнего Востока России. Камен-ная индустрия и проблема ранней оседлости // Владивос-ток, 160 с.
Ветров В.М. 1981. Усть-Каренгский комплекс стоянокна Витиме // Новое в археологии Забайкалья. Новоси-бирск, С. 19-26.
Ветров В.М. 2010. Древнейшая керамика на Витиме.Некоторые вопросы датирования и периодизации в камен-ном веке Восточной Азии // Древние культуры Монголиии Байкальской Сибири: Материалы междунар. науч. конф.(Улан-Удэ, 20-24 сентября 2010 г.). Улан-Удэ, С. 37-44.
Ветров В.М., Шаврина А.В., Шергин Д.Л. 2007. Нижне-амурские сборы археологического материала М.М. Гера-симова 1926-1927 гг. Иркутск, 104 с.
Верхний плейстоцен. Стратиграфия и абсолютная гео-хронология: Материалы совещ. 17-20 мая 1965 г. М., 1966.284 с.
Внуков С.Ю. 1999. Задачи и проблемы петрографичес-кого исследования древней керамики // Актуальные про-блемы изучения древнего гончарства (коллективная моно-графия). Самара, С.141-149.
Внуков С.Ю. 2006. Причерноморские амфоры. I век дон.э. – II век н.э. М., Ч.2.
Волков П.В. 1986. Ножи в коллекции громатухинскойкультуры // Проблемы археологии Северной и ВосточнойАзии. Новосибирск, С. 169-184
Волков П.В. 1987 а. Тесловидно-скребловидные орудиягроматухинской культуры // История и культура востокаАзии. Новосибирск, С. 82-85
Волков П.В. 1987 б. Микроскребки и скребки громату-хинской культуры // Северная Азия в эпоху камня. Ново-сибирск, С. 152-160.
Волков П.В. 1999. Трасологические исследования в ар-хеологии Северной Азии. Новосибирск, 199 с.
Гарковик А.В. 1981. Поселение в долине р. Зеркаль-ной // Материалы по археологии Дальнего Востока СССР.Владивосток, С. 12-19.
Гарковик А.В. 2000. Архаичные керамические комплек-сы Приморья // Вперед… в прошлое: К 70-летию Ж.В. Ан-дреевой. Владивосток, С. 252-271.
Гарковик А.В. 2005. Некоторые особенности переходно-го периода от палеолита к неолиту // Российский ДальнийВосток в древности и средневековье: открытия, проблемы,гипотезы. Монография. Владивосток, С. 116-131.
Гарковик А.В., Кононенко Н.А. 1990. Стоянка Устинов-ка-3 в Приморье (к проблеме развития пластинчатой тра-диции обработки камня) // Проблемы технологии древнихпроизводств. Новосибирск, С. 61-80.
Гарковик А.В., Пантюхина И.Е. 2007. Новые находки
БИБЛИОГРАФИЯ
252
личин в Приморье // Этнография и археология СевернойЕвразии: теория, методология и практика исследований.Иркутск, С. 43-46.
Гельман Е.И. 1999. Глазурованная керамика и фарфорсредневековых памятников Приморья. Владивосток, 222 с.
Герасимов М.М. 1928. Новые стоянки доисторическогочеловека каменного периода в окрестностях гор. Хабаров-ска // Известия ВСОРГО. Иркутск, Т. 53. С. 135-140.
Глушков И.Г. 1989. Экспериментально-графическое оп-ределение объема наполнителя в формовочных массах //Актуальные проблемы методики западно-сибирской архе-ологии. Новосибирск, С. 71-73.
Глушков И.Г. 1996. Керамика как археологический ис-точник. Новосибирск, 328 с.
Глушков И.Г., Гребенщиков А.В., Жущиховская И.С.1999. Петрография археологической керамики: проблемы,возможности и перспективы // Актуальные проблемы изу-чения древнего гончарства (коллективная монография).Самара, С. 151-166.
Глушков И.Г., Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю. 2004.Специфика формовочных операций в гончарной традициинеолитических комплексов поселения Тыткескень-2 //Древности Алтая. № 12.
Гребенщиков А.В., Табарев А.В., Алкин С.В. 1992. Ран-ний неолит Среднего Амура: новые подходы // Петр Алек-сеевич Кропоткин. Гуманист, ученый, революционер: Тез.докл. росс. науч. конф. Чита, С. 87-90.
Грехова Л.В. 1990. Методика изучения древних нару-шений культурного слоя позднепалеолитических стоянокПодесенья // Полевая археология древнекаменного века.М., С. 37-43 (КСИА. Вып. 202).
Грищенко В.А. 2009. Ранний неолит острова Сахалин.Автореф. дис. … канд. ист. наук / ИАЭТ СО РАН. Новоси-бирск, 24 с.
Гурина Н.Н. 1973. Некоторые общие вопросы изучениянеолита лесной и лесостепной зоны европейской частиСССР // Этнокультурные общности лесной и лесостепнойзоны европейской части СССР в эпоху неолита. Л.,
Деревянко А.П. 1970. Новопетровская культура Сред-него Амура. Новосибирск, 204 с.
Деревянко А.П. 1972. Историография каменного векаПриамурья // Материалы по археологии Сибири и Даль-него Востока. Новосибирск, Ч.1. С.38-66.
Деревянко А.П. 1973. Ранний железный век Приамурья.Новосибирск, 356 с.
Деревянко А.П. 1976. Приамурье (I тысячелетие до н.э.).Новосибирск, 384 с.
Деревянко А.П. 1983. Палеолит Дальнего Востока и Ко-реи. Новосибирск, 216 с.
Деревянко А.П. 2005. К вопросу о формировании плас-тинчатой индустрии и микроиндустрии на востоке Азии //Археология, этнография и антропология Евразии. № 4 (24).С. 2-29
Деревянко А.П., Волков П.В., Гребенщиков А.В. 1987.Палеолитические комплексы Баркасной Сопки на р.Селем-дже // Древности Сибири и Дальнего Востока. Новоси-бирск, С. 73-82.
Деревянко А.П., Медведев В.Е. 1992 а. Исследованияпоселения Гася (общие сведения, предварительные резуль-таты, 1975 г.). Новосибирск, 29 с.
Деревянко А.П., Медведев В.Е. 1992 б. Исследованияпоселения Гася (предварительные результаты, 1976 г.).Новосибирск, 38 с.
Деревянко А.П., Медведев В.Е. 1993. Исследования по-селения Гася (предварительные результаты, 1980 г.). Но-восибирск, 109 с.
Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. 1994. Па-леолитоведение: Введение и основы. Новосибирск, 288 с.
Деревянко А.П., Медведев В.Е. 1994. Исследования по-
селения Гася (предварительные результаты, 1986-1987 гг.).Новосибирск, 95 с.
Деревянко А.П., Зенин В.Н. 1995. Палеолит Селемджи(по материалам стоянок Усть-Ульма-1-3) // Новосибирск,160 с.
Деревянко А.П., Медведев В.Е. 1995. Исследования по-селения Гася (предварительные результаты, 1989-1990 гг).Новосибирск, 65 с.
Деревянко А.П., Волков П.В., Ли Хонджон. 1998. Селем-джинская позднепалеолитическая культура // Новоси-бирск, 336 с.
Деревянко А.П., Чо Ю-Джон, Медведев В.Е., Ким Сон-Тэ, Юн Кын-Ил, Хон Хён-У, Чжун Сук-Бэ, Краминцев В.А.,Кан Ин-Ук, Ласкин А.Р. 2000. Отчет о раскопках на остро-ве Сучу в Ульчском районе Хабаровского края в 2000 г. //Сеул, 564 с. (на рус. и кор. яз.)
Деревянко А.П., Чо Ю-Чжон, Медведев В.Е., Шин Чан-Су, Хон Хен-У, Краминцев В.А., Медведева О.С., ФилатоваИ.В. 2003. Неолитические поселения в низовьях Амура (от-чет о полевых исследованиях на острове Сучу в 1999 и2002 гг.). Сеул, Т.1. 443 с. (на рус. и кор. яз.)
Деревянко А.П., Канг Чан Хва, Бан Мун Бэ, Ко ЧжеВон, Нестеров С.П., Кан Сун Сёк, Ким Чон Чан, Кан СиНэ, Волков П.В., Комарова Н.А., Савелова А.В., Кудрич О.С.,Мин Чжи Хен. 2004 а. Полевые исследования памятникаГроматуха на р.Зее в 2004 году // Проблемы археологии,этнографии, антропологии Сибири и сопредельных терри-торий: Материалы год. сес. Ин-та археологии и этнографииСО РАН 2004 г. Новосибирск, Т.X. Ч. I. С. 82-86.
Деревянко А.П., Нестеров С.П., Алкин С.В., Петров В.Г.,Волков П.В., Кудрич О.С., Канг Чан Хва, Ли Хон Джон, КимКэн Чжу, О Ён Сук, Ли Вон Чжун, Ян На Ре, Ли Хе Ён.2004 б. Об археологических раскопках памятника Новопет-ровка-3 в Амурской области в 2003 г. Отчет. Новосибирск,Чечжу, 116 с.
Деревянко Е.И. 1991. Древние жилища Приамурья.Новосибирск, 158 с.
Джалл Э.Дж.Т., О’Малли Ж.М., Биддульф Д.Л., Дере-вянко А.П., Кузьмин Я.В., Медведев В.Е., Табарев А.В., Зе-нин В.Н., Ветров В.М., Лапшина З.С., Гарковик А.В., Жу-щиховская И.С. 1998. Радиоуглеродная хронология древ-нейших неолитических культур юга Дальнего Востока Рос-сии и Забайкалья по результатам прямого датированиякерамики методом ускорительной масс-спектрометрии //Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного векаСеверной Азии и сопредельных территорий (материалымеждународного симпозиума). Новосибирск, Т.2. С.63-68.
Джалл Э.Дж.Т., Бурр Дж., Деревянко А.П., КузьминЯ.В., Шевкомуд И.Я. 2001 а. Радиоуглеродная хронологияперехода от палеолита к неолиту в Приамурье (ДальнийВосток России) // Современные проблемы евразийскогопалеолитоведения. Новосибирск, С. 140-142.
Джалл Э.Дж.Т., Деревянко А.П., Кузьмин Я.В., ОрловаЛ.А., Болотин Д.П., Сапунов Б.С., Табарев А.В., Зайцев Н.Н.2001 б. Новые радиоуглеродные даты археологических па-мятников Среднего Приамурья // Вестник АмГУ. Сер. Гу-манитарные науки. Благовещенск, Вып. 12. С. 47-48.
Добровольская М.В. 2010. К методике изучения мате-риалов кремации // КСИА. № 224. С.85-97.
Древности Буреи / С.П. Нестеров, А.В. Гребенщиков,С.В. Алкин, Д.П. Болотин, П.В. Волков, Н.А. Кононенко,Я.В. Кузьмин, Л.Н. Мыльникова, А.В. Табарев, А.В. Чер-нюк. Новосибирск, 2000. 352 с.
Дьяков В.И. 1992. Многослойное поселение Рудная При-стань и периодизация неолитических культур Приморья.Владивосток, 140 с.
Дьяков В.И. 2000. Приморье в раннем голоцене (мезо-литическое поселение Устиновка-4). Владивосток, 228 с.
Жущиховская И.С. 1991. Методы микроскопии в изу-
253
чении состава керамики первобытных культур юга Даль-него Востока // Экспериментальная археология: Известиялаборатории экспериментальной археологии Тобольскогопединститута. Тобольск, С. 34-48.
Жущиховская И.С. 2004. Очерки истории древнего гон-чарства Дальнего Востока России. Владивосток, 312 с.
Жущиховская И.С., Залищак Б.Л. 1986. Петрографичес-кий метод в изучении древней керамики (на материалахнеолитических – средневековых культур Приморья)//Методы естественных наук в археологическом изучениидревних производств на Дальнем Востоке. Владивосток,С. 55-67.
Жущиховская И.С., Залищак Б.Л. 1990. Вопросы изу-чения сырья и формовочной массы древней керамики югаДальнего Востока // Древняя керамика Сибири. Новоси-бирск, С. 114-157.
История Сибири с древнейших времен до наших дней.Л., 1968. Т. 1. Древняя Сибирь. 454 с.
Клейн Л.С. 1991. Археологическая типология. Л., 448 с.Клюев Н.А., Яншина О.В., Кононенко Н.А. 2003. Посе-
ление Шекляево-7 – новые неолитический памятник вПриморье // Россия и АТР. № 4. С. 5-15.
Кононенко Н.А. 1994. Докерамические и неолитическиекомплексы Приморья: некоторые аспекты формированияи развития // Очерки первобытной археологии ДальнегоВостока. Владивосток, С. 108-148.
Кононенко Н.А. 1996. Стоянка Устиновка-3 и пробле-мы перехода от палеолита к неолиту в Приморье // Позднийпалеолит – ранний неолит Восточной Азии и СевернойАмерики. Владивосток, С. 117-137.
Кононенко Н.А. 2001. Экология и динамика археологи-ческих культур в долине р.Зеркальной в конце плейстоце-на – начале голоцена (Устиновский комплекс, РоссийскийДальний Восток) // Археология, этнография и антрополо-гия Евразии. № 1(5). С. 40-59
Кононенко Н.А., Гарковик А.В., Кадзивара Х. 1993.Исследование докерамической стоянки Устиновка-3 вПриморье / Институт истории, археологии и этнографиинародов Дальнего Востока ДВО РАН. Препринт. Влади-восток, 93 с.
Константинов М.В. 1994. Каменный век восточного ре-гиона Байкальской Азии. Улан-Удэ; Чита, 180 с.
Короткий А.М. 2001. Уточнение к стратиграфическойсхеме четвертичных отложений Приморья (верхнене-оплей-стоценовое звено) // Четвертичные отложения юга Дальне-го Востока и сопредельных территорий. Материалы шесто-го Дальневосточного регионального межведомственногостратиграфического совещания. Хабаровск, С. 40-49.
Короткий А.М. 2005. Особенности развития природнойсреды Дальнего Востока в позднем плейстоцене – голоцене(Q
III – Q
IV) // Российский Дальний Восток в древности и
средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. Моногра-фия /Под ред. Ж.В. Андреевой. Владивосток, С. 15-59.
Короткий А.М., Гребенникова Т.А., Пушкарь В.С., Раз-жигаева Н.Г., Волков В.Г., Ганзей Л.А., Мохова Л.М., Ба-зарова В.Б., Макарова Т.Р. 1997. Климатические смены натерритории юга Дальнего Востока в позднем плейстоцене-голоцене // Вестник ДВО РАН. № 3. С. 121-143.
Круг О.Ю. 1965. Некоторые особенности петрографии вархеологии // Археология и естественные науки. М.,С. 144-152.
Крупянко А.А., Яншина О.В. 1993. Керамический ком-плекс памятника Суворово-6 и проблемы его интерпрета-ции // Археологические исследования на Дальнем ВостокеРоссии. Препринт / Институт истории, археологии и этног-рафии народов Дальнего Востока. Владивосток, С. 68-73.
Крупянко А.А., Табарев А.В. 2001. Археологическиекомплексы эпохи камня в Восточном Приморье. Новоси-бирск, 104 с.
Кузнецов А.М. 1992. Поздний палеолит Приморья. Вла-дивосток, 240 с.
Кузнецов А.М. 2003. Микропластинчатые индустриии переход к неолиту на Дальнем Востоке России //International Symposium Formation and Expansion processof the East Asian Neolithic Culture / 21 COE ProgramArchaeology Series Vol.1. Tokyo: Kokugakuin University.P. 1-29.
Кузнецов А.М. 2005. Новые данные о стоянке Горбатка-3 в Юго-Западном Приморье // Comparative Study on theNeolithic Culture between East Asia and Japan. Tokyo:Kokugakuin University, Vol. II. P. 166-170.
Кузьмин Я.В. 2003. Переход от палеолита к неолиту ивозникновение керамики на Дальнем Востоке России: гео-археологический аспект // Археология, этнография и ант-ропология Евразии. № 3 (15). С. 16-26.
Кузьмин Я.В. 2005. Геохронология и палеосреда поздне-го палеолита и неолита умеренного пояса Восточной Азии.Владивосток, 282 с.
Кузьмин Я.В., Алкин С.В., Оно А., Сато Х., Сакаки Т.,Матсумото Ш., Оримо к., Ито Ш. 1998. Радиоуглероднаяхронология древних культур каменного века Северо-Вос-точной Азии. Владивосток, 127 с.
Кузьмин Я.В., Нестеров С.П. 2010. Хронология неоли-тических культур Западного Приамурья // Традиционнаякультура востока Азии: Сб. ст. / Под ред. А.П. Забияко.Благовещенск, Вып. 6. С 103-110.
Ламина Е.В., Лотова Э.В., Добрецов Н.Н. 1995. Мине-ралогия древней керамики Барабы. Новосибирск,
Лапшина З.С. 1995. Ранняя керамика на поселении Хум-ми (Нижний Амур) // Вестник ДВО РАН. № 6. С. 104-106.
Лапшина З.С. 1998. Керамика раннего горизонта посе-ления Хумми в Нижнем Приамурье // Историко-культур-ные связи между коренным населением Тихоокеанскогопобережья Северо-Западной Америки и Северо-ВосточнойАзии: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (Влади-восток, 1-5 апреля 1998 г.). Владивосток, С. 191-200.
Лапшина З.С. 1999. Древности озера Хумми // Хаба-ровск, 206 с.
Лапшина З.С. 2002. Археологические исследования напоселении Хумми (Нижний Амур) // Традиционная куль-тура Востока Азии. Благовещенск, С. 49-65.
Лапшина З.С. 2008. Дальний Восток России – Япония:образы первобытного искусства как отражение стадиаль-ности в развитии архаического сознания // Традиционнаякультура Востока Азии. Благовещенск, Вып. 5. С. 121-131.
Лапшина З.С. 2009. Археологические исследования напоселении Хумми // Культурная хронология и другие по-блемы в исследованиях древностей востока Азии. Хаба-ровск, С. 121-133.
Ларичев В.Е. 1960. Неолитические памятники бассей-на Верхнего Амура (Ананци, Дунбэй) // Труды ДВАЭ.М.;Л., Т.1. С. 81-126. (МИА № 86).
Ларичев В.Е. 1961. Неолитические поселения в низовь-ях р. Уссури (с. Казакевичево) // Вопросы истории Сиби-ри и Дальнего Востока. Новосибирск, С. 255-268.
Лынша В.А. 1991. Понятие мезолита в современной ар-хеологии // Материальная культура и проблемы археоло-гической реконструкции. Новосибирск, С. 3-20.
Махинов А.Н. 2006. Современное рельефообразованиев условиях аллювиальной аккумуляции. Владивосток,232 с.
Медведев В.Е. 1995. К проблеме начального и раннегонеолита на нижнем Амуре // Обозрение результатов поле-вых и лабораторных исследований археологов, этнографови антропологов Сибири и Дальнего Востока в 1993 г. Ново-сибирск, C. 228-237.
Медведев В.Е. 1999. Новое о неолите Нижнего Амура //
254
Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибирии сопредельных территорий. Новосибирск, Т.V. С. 174-180.
Медведев В.Е. 2001. Проблема истоков некоторыхскульптурных и наскальных образов в первобытном искус-стве юга Дальнего Востока и находки, относящиеся к оси-повской культуре на Амуре // Археология, этнография иантропология Евразии. № 4 (8). С. 77-94.
Медведев В.Е. 2003 а. Когда и как была открыта наДальнем Востоке древнейшая керамика// Проблемы архе-ологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Централь-ной Азии. Новосибирск, С. 38-43.
Медведев В.Е. 2003 б. Академик А.П. Окладников инеолит Нижнего Приамурья: развитие идей // Проблемыархеологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Цент-ральной Азии. Новосибирск, С. 164-171.
Медведев В.Е. 2005. Неолитические культуры Нижне-го Приамурья // Российский Дальний Восток в древностии средневековье: открытия, проблемы, гипотезы. Влади-восток, С. 234-267.
Медведев В.Е. 2006. О культурогенезе в эпоху неолитав Нижнем Приамурье // Современные прблемы археоло-гии России. Новосибирск, Т. 1. С. 288-291).
Медведев В.Е. 2007. Общее и особенное в неолите юго-западной и северо-восточной частей Нижнего Приаму-рья // Северная Евразия в антропогене: человек, палео-технологии, геоэкология, этнология и антропология: Ма-терилы всерос. конф. с междунар. уч., посв. 100-летию содня рожд. М.М. Герасимова. Иркутск, Т.1. C. 419-424.
Медведев В.Е. 2008 а. Из коллекции керамики осипов-ской культуры поселения Гася // Окно в неведомый мир:Сб. статей к 100-летию со дня рожд. акад. Алексея Павло-вича Окладникова. Отв. ред. А.П. Деревянко и В.Е. Мед-ведев. Новосибирск, С. 156-162.
Медведев В.Е. 2008 б. О начальном неолите Приамурьяи керамике осиповской культуры. Неолит и неолитизациябассейна Японского моря: человек и исторический ланд-шафт: Материалы междунар. археологич. конф., посв. 100-летию со дня рожд. А.П. Окладникова / Отв. ред. А.Н.Попов. Владивосток, С. 115-125.
Медведев В.Е. 2008 в. Мариинская культура и ее местов неолите Дальнего Востока // Труды II (XVIII) Всероссий-ского археологического съезда в Суздале. М., Т. I. С. 244-248.
Медведев В.Е. 2011. Материалы памятника у с. Осино-вая Речка на Амурской протоке // Дальний Восток Россиив древности и средневековье: проблемы, поиски, решения:Материалы регион. науч. конф. (Владивосток, 26-27 апре-ля 2010 г.). Владивосток, С. 11-18.
Мезолит СССР. М., 1989. 352 с. (Археология СССР).Морева О.Л. 2005. Керамика бойсманской культуры (по
материалам памятника Бойсмана-2). Автореф. дис. …канд.ист. наук. Владивосток, 26 с.
Мочанов Ю.А. 1969. Многослойная стоянка Белькачи-1 и периодизация каменного века Якутии. М., 255 с.
Мочанов Ю.А. 1977. Древнейшие этапы заселения че-ловеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск, 264 с.
Мыльникова Л.Н. 1999. Гончарство неолитических пле-мен Нижнего Амура (по материалам поселения Кондон-Почта). Новосибирск, 160 с.
Неолит Северной Евразии / Отв. ред. С.В. Ошибкина.М., 1996 (Археология).
Неолит юга Дальнего Востока. Древнее поселение в пе-щере Чертовые Ворота. М., 1991. 224 с.
Нестеров С.П. 2005. Стратиграфия неолитических па-мятников Новопетровка-III и Громатуха из западного При-амурья // Северная Пацифика – культурные адаптации вконце плейстоцена и голоцена: Материалы междунар.конф. «По следам древних костров…». Магадан, С. 101-104.
Нестеров С.П. 2008. Черниговка-на-Зее – поселение
громатухинской культуры в западном Приамурье // Нео-лит и неолитизация бассейна Японского моря: человек иисторический ландшафт: Материалы междунар. археоло-гич. конф., посв. 100-летию со дня рожд. А.П. Окладнико-ва. Владивосток, С. 170-181.
Нестеров С.П., Алкин С.В., Петров В.Г., Канг Чан Хва,Орлова Л.А., Кузьмин Я.В., Имамура М., Сакамото М.2005. Результаты радиоуглеродного датирования эпоним-ных памятников громатухинской и новопетровской куль-тур западного Приамурья // Проблемы археологии, этног-рафии, антропологии Сибири и сопредельных территорий:Материалы год.й сес. Ин-та археологии и этнографии СОРАН 2005 г. Новосибирск, Т.XI. Ч. I. С. 168-172
Нестеров С.П., Наумченко Б.В., Кузьмин Я.В., КангЧан Хва, О Ен Сук, Имамура М., Сакамото М. 2008. Но-вопетровка-IV – новый памятник новопетровской культу-ры на Амуре// Традиционная культура востока Азии. Бла-говещенск, Вып 5. С. 54-61.
Окладников А.П. 1959. Далекое прошлое Приморья.Владивосток, 292 с.
Окладников А.П. 1960 а. Отчет о полевых работах Даль-невосточной экспедиции в 1960 г. // Архив ИА РАН. Р-1,№ 2120. 188 л.
Окладников А.П. 1960 б. Шилкинская пещера памят-ник древней культуры верховьев Амура // МИА. № 86.
Окладников А.П. 1966. Археология долины р. Зеи иСреднего Амура // СА. № 1. С. 32-41.
Окладников А.П. 1967. Поселение у с. Вознесеновка вустье р.Хунгари // АО 1966 года. М., С.175-178.
Окладников А.П. 1970. Неолит Сибири и Дальнего Вос-тока // Каменный век на территории СССР. М., С. 172-193.
Окладников А.П. 1971 а. Петроглифы Нижнего Амура.Л., 333 с.
Окладников А.П. 1971 б. Раскопки в Сакачи-Аляне //АО 1970 г. М., С.191-192.
Окладников А.П. 1977. Мезолит Дальнего Востока (до-керамические памятники) // КСИА. № 149. С. 115-120.
Окладников А.П. 1980. О работах археологического от-ряда Амурской комплексной экспедиции в низовьях Аму-ра летом 1935 г.// Источники по археологии Северной Азии(1935-1976 гг.). Новосибирск, С.3-52.
Окладников А.П. 1983. Древнее поселение Кондон (При-амурье). Новосибирск, 160 с.
Окладников А.П., Деревянко А.П. 1973. Далекое про-шлое Приморья и Приамурья. Владивосток, 440 с.
Окладников А.П., Деревянко А.П. 1977. Громатухинс-кая культура. Новосибирск, 211 с.
Окладников А.П., Кириллов И.И. 1980. Юго-восточноеЗабайкалье в эпоху камня и ранней бронзы. Новосибирск,175 с.
Окладников А.П. Медведев В.Е. 1983. Исследованиямногослойного поселения Гася на Нижнем Амуре // Изве-стия СО АН СССР. Сер. общ. наук. Новосибирск, Вып. I.С.93-97.
Окладникова Е.А. 1979. Загадочные личины Азии иАмерики. Новосибирск, 167 с.
Описание и анализ археологических источников. Ир-кутск, 1981. 136 c.
Орлова Л.А. 1995. Радиоуглеродный метод датированияв археологии // Методы естественных наук в археологи-ческих реконструкциях. Новосибирск, Ч. 2. С.87-97.
Орлова Л.А., Кузьмин Я.В., Зольников И.Д. 2000. Про-странственно-временные аспекты истории популяции ма-монта (Mammuthus primigenius Blum.) и древний человекв Сибири (по радиоуглеродным данным) // Археология,этнография и антропология Евразии. № 3 (3). С. 31-41.
Охотники-собиратели бассейна Японского моря на ру-беже плейстоцена-голоцена / Под ред. А.П.Деревянко,Н.А. Кононенко. Новосибирск, 2003. 176 с.
255
Петров В.Г., Сапунов И.Б. 1999. Место комплексов Ми-хайловка-1 и Михайловка-Карьер среди приамурских ин-дустрий каменного века // Традиционная культура восто-ка Азии. Благовещенск, Вып. 2. С.66-70.
Поздний палеолит – ранний неолит Восточной Азии иСеверной Америки. Владивосток, 1996. С. 237-248.
Понкратова И.Ю. 2005. Гончарство Севера ДальнегоВостока России и морская адаптация // Северная Паци-фика – культурные адаптации в конце плейстоцена и го-лоцене: Материалы междунар. науч. конф. «По следамдревних костров…». Магадан, С.166-170.
Попов А.Н. 2006. Средний неолит в Приморье // Совре-менные проблемы археологии России: Материалы Всерос-сийского археологического съезда (23-28 октября 2006 г.,Новосибирск). Новосибирск, С. 302-304.
Попов А.Н. 2008. Новые материалы по неолиту Примо-рья (веткинская археологическая культура) // Окно в не-ведомый мир: Сб. статей к 100-летию со дня рожд. акад.Алексея Павловича Окладникова. Новосибирск, С. 170-173.
Попов В.К., Кузьмин Я.В., Шевкомуд И.Я., Гребенни-ков А.В., Гласкок М.Д., Зайцев Н.Н., Петров В.Г., Наум-ченко Б.В., Конопацкий А.К. 2006. Обсидиан в археологи-ческих памятниках Среднего и Нижнего Приамурья: гео-химический состав и источники // Пятые Гродековскиечтения: Материалы межрегион. науч.-практ. конф. «Амур-дорога тысячелетий». Хабаровск, Ч. I. С. 99-108.
Попов В.К., Клюев Н.А., Слепцов И.Ю., Доелман Т., Тор-ренс Р., Кононенко Н.А., Вайт П. 2010. ГиалокластитыШкотовского базальтового плато (Приморье) – важнейшийисточник археологического обсидиана на юге ДальнегоВостока России // Приоткрывая завесу тысячелетий: к 80-летию Ж.В. Андреевой. Владивосток, С. 295-314.
Разрез новейших отложений Нижнего Приамурья /Сохина Э.Н., Боярская Т.Д., Окладников А.П. и др. М.,1978. 104 с.
Рухин Л.Б. 1961. Основы литологии. Л., 780 с.Сайко Э.В. 1960. Из опыта применения микроскопичес-
кого метода исследования к средневековой среднеазиатс-кой керамики // Известия отделения общественных наукТаджикской ССР. Вып. 1 (22). С. 41-66.
Сайко Э.В. 1982. Техника и технология керамическогопроизводства Средней Азии в историческом развитии. М.,212 с.
Сапфиров Д.А. 1989. Типологические комплексы стоян-ки Черниговка-1 // Древние культуры Дальнего Востока(археологический поиск). Владивосток, С. 11-15.
Табарев А.В. 1992. Осиповская «культура» – парадоксзнакомого незнакомца // Петр Алексеевич Кропоткин.Гуманист, ученый, революционер: Тез. докл. рос. науч.конф. Чита, С. 85-87.
Табарев А.В. 2004. Освоение человеком тихоокеанскихпобережий на рубеже плейстоцена и голоцена. Дисс. в виденауч. докл. на соиск. уч. ст. докт. ист. наук / ИАЭТ СОРАН. Новосибирск,
Уиттакер Дж.Ч. 2004. Расщепление камня: техноло-гия, функция, эксперимент / С.Н.Алаев, Т.В. Алаева(пер.). Иркутск, 312 с.
Физико-химическое исследование керамики (на приме-ре изделий переходного времени от бронзового к железно-му веку) / В.А. Дребущак и др. Новосибирск, 2006. (Ин-теграционные проекты СО РАН. Вып. 6.).
Хлобыстин Л.П. 1978. Возраст и соотношение неоли-тических культур Восточной Сибири // КСИА. Вып. 153.С. 92–99.
Шевкомуд И.Я. 1994. О находках палеолита на Ниж-нем Амуре // Археологические открытия 1993 года. М.,С. 192-193.
Шевкомуд И.Я. 1996 а. Об открытии древнейших по-
гребений и некоторых проблемах осиповской культуры(Приамурье) // Новейшие археологические и этнографи-ческие открытия в Сибири. Новосибирск, С. 253-256.
Шевкомуд И.Я. 1996 б. Стоянка Гончарка-1 и некото-рые проблемы мезо-неолитических комплексов на НижнемАмуре // Поздний палеолит – ранний неолит ВосточнойАзии и Северной Америки. Владивосток, С. 237-248.
Шевкомуд И.Я. 1996 в. Исследования на Нижнем Аму-ре // АО 1995 г. М., С. 378-379.
Шевкомуд И.Я. 1998. Керамика начального неолитаПриамурья // Россия и АТР. №1. С. 80-89.
Шевкомуд И.Я. 2001. Комплексы верхнего палеолитана Нижнем Амуре: некоторые результаты и перспективыисследований // Современные проблемы Евразийского па-леолитоведения. Новосибирск, С. 379-381.
Шевкомуд И.Я. 2002 а. Отчет о полевых археологичес-ких исследованиях в Хабаровском районе Хабаровскогокрая и в г. Хабаровске в 2001 году // Архив ИА РАН.
Шевкомуд И.Я. 2002 б. Памятники Хехцирского гео-археологического района и проблемы переходного перио-да от палеолита к неолиту в Приамурье // История и куль-тура Востока Азии. Новосибирск, Т.2. С. 178-182.
Шевкомуд И.Я. 2003 а. Кондонская неолитическаякультура на Нижнем Амуре: общий обзор // Проблемыархеологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Цент-ральной Азии. Новосибирск, С. 214 – 218.
Шевкомуд И.Я. 2003 б. Осиновая Речка-10 – новый па-мятник переходного периода от палеолита к неолиту наНижнем Амуре // Археология и социокультурная антро-пология Дальнего Востока и сопредельных территорий.Третья международная конференция «Россия и Китай надальневосточных рубежах» . Благовещенск, С. 63-70.
Шевкомуд И.Я. 2004 а. Поздний неолит Нижнего Аму-ра. Владивосток, 156 с.
Шевкомуд И.Я. 2004 б. Предварительные результатыполевых исследований стоянки Осиновая Речка-16 (При-амурье) // Четвертые Гродековские чтения: Материалырегион. науч.-практ. конф. «Приамурье в историко-куль-турном и естественно-научном контексте России». Хаба-ровск, Ч. 2. С. 194-197.
Шевкомуд И.Я. 2005 а. Хронология культур эпохи кам-ня в Восточном Приамурье // Comparative Study on theNeolithic Culture between East Asia and Japan. Tokyo, Vol.2. P. 185-214.
Шевкомуд И.Я. 2005 б. Археологические комплексыфинала плейстоцена – начала голоцена в Приамурье: но-вые исследования // Северная Пацифика – культурныеадаптации в конце плейстоцена и голоцена. Материалымеждунар. конф. «По следам древних костров…». Магадан,С. 172-177.
Шевкомуд И.Я. 2008. Пластинчатые комплексы и куль-турные традиции в каменном веке Нижнего Приамурья(общий обзор) // Окно в неведомый мир: Сб. ст. к 100-ле-тию со дня рожд. акад. Алексея Павловича Окладникова.Новосибирск, С. 174-182.
Шевкомуд И.Я. 2009. Средний неолит Нижнего При-амурья (Общий обзор) // От Монголии до Приморья и Са-халина: Сб. науч. работ. Владивосток, С. 17-41.
Шевкомуд И.Я., Чернюк А.В., Кузьмин Я.В. 2001. Стра-тиграфия, хронология, палеогеографическая реконструк-ция обстановки финального плейстоцена - голоцена Хех-цирского геоархеологического района // Четвертичные от-ложения юга Дальнего Востока и сопредельных террито-рий. Хабаровск, с. 107-111.
Шевкомуд И.Я., Като Х. 2002. Верхнепалеолитическийкомплекс стоянки Голый Мыс-4 // Записки Гродековско-го музея. Хабаровск, Вып. 3. Археология и этнография.С. 7-20.
Шевкомуд И.Я., Горшков М.В., Косицына С.Ф. 2002 а.
256
Исследования памятников Хехцирского геоархеологичес-кого района в Приамурье // АО 2001 года. М., С. 498-500.
Шевкомуд И.Я., Наганума М., Горшков М.В., Косицы-на С.Ф. 2002 б. Новые исследования стоянки Гончарка-1(Приамурье) в 2001 г. // Записки Гродековского музея.Хабаровск, Вып. 3. С. 21-28.
Шевкомуд И.Я., Косицына С.Ф., Горшков М.В. 2002 в.Результаты полевых археологических исследований сто-янки Амур-2 в г. Хабаровске // Записки Гродековскогомузея. Хабаровск, Вып. 3. С. 31-35.
Шевкомуд И.Я., Горшков М.В., Косицына С.Ф. 2004.Предварительные результаты полевых археологическихисследований стоянки Новотроицкое-3 в 2002-2003 гг.//Четвертые Гродековские чтения: Документы и пленарныедоклады регион. науч.-практ. конф. «Приамурье в истори-ко-культурном и естественно-научном контексте России».Хабаровск, С. 57-62
Шевкомуд И.Я., Горшков М.В., Ямада М., Учида К.,Матсумото Т., Косицына С.Ф. 2006. Предварительные ре-зультаты исследования поселения Новотроицкое-12 – ма-стерской сердоликовых наконечников (Нижний Амур) //Пятые Гродековские чтения: Материалы межрегион.науч.-практ. конф. «Амур-дорога тысячелетий». Хаба-ровск, Ч. I. С. 133-138.
Шевкомуд И.Я., Горшков М.В. 2007. К вопросу о кон-донской культуре в Нижнем Приамурье // Северная Евра-зия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология,этнология и атропология. Иркутск, Т.2. С. 306-310.
Шевкомуд И.Я., Фукуда М., Онуки С., Кумаки Т., Ку-никита Д., Конопацкий А.К., Горшков М.В., Косицына С.Ф.,Бочкарева Е.А., Такахаси К., Морисаки К., Учида К. 2008.Исследования поселения Малая Гавань в 2007 г. в светепроблем хронологии эпох камня и палеометалла в НижнемПриамурье // Неолит и неолитизация бассейна Японскогоморя: Человек и исторический ландшафт: Материалы меж-дунар. археол. конф., посв. 100-летию со дня рожд. А.П.Окладникова. Владивосток, С. 247-253.
Шевкомуд И.Я., Кузьмин Я.В. 2009. Хронология камен-ного века Нижнего Приамурья (Дальний Восток России) //Культурная хронология и другие проблемы в исследова-ниях древностей востока Азии. Хабаровск, С. 7-46.
Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. 2010 а. Начало неолита вПриамурье: осиповская культура // Международный сим-позиум «Первоначальное освоение человеком континен-тальной и островной части Северо-Восточной Азии»(Южно-Сахалинск, 18-25 сентября 2010 г.): Сб. науч. ст.Южно-Сахалинск, С.118-134.
Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. 2010 б. Переход от палео-лита к неолиту в Приамурье: обзор основных комплексови некоторые проблемы // Приоткрывая завесу тысячеле-тий: К 80-летию Ж.В. Андреевой. Владивосток, С. 50-72.
Яншина О.В. 2006. Памятники раннего железного векав археологическом собрании МАЭ РАН // Свод археологи-ческих источников Кунсткамеры. СПб., Вып. 1. С. 189-265.
Яншина О.В. 2008. Переход от палеолита к неолиту вбассейне Японского моря: открытия, факты, гипотезы //Хронология, периодизация и кросскультурные связи в ка-менном веке. Замятнинский сборник. СПб., С. 134-147.
Яншина О.В. 2009 а. Некоторые аспекты культуроге-неза в раннем голоцене бассейна Японского моря // Рад-ловский сборник: Научные исследования и музейные про-екты в МАЭ РАН в 2008 г. СПБ., С. 121-125.
Яншина О.В. 2009 б. К проблеме формирования неоли-тических культур в бассейне Японского моря // Взаимо-действие и хронология культур мезолита и неолита Вос-точной Европы. СПБ., С. 191-193.
Яншина О.В., Гарковик А.В. 2008. О результатах пет-рографического изучения древнейшей керамики Примо-
рья // Радловские сборник: научные исследования и му-зейные проекты МАЭ РАН в 2007 г.. СПб., С. 244-250.
Яншина О.В., Лапшина З.С. 2008. Керамический комп-лекс осиповской культуры поселения Хумми-1 в Приаму-рье // Проблемы биологической и культурной адаптаци ичеловеческих популяций. СПБ., Т.1. Археология. Адапта-ционные стратегии древнего населения Северной Евразии:сырье и приемы обработки. С. 154-171.
Хэйлунцзян Жаохэ Сяонаньшань и-чжи ши цзю тянь-бао. Хэйлунцзян-шан бэй-у го (Краткое сообщение о разве-дочных раскопках стоянки Сяонаньшань у г. Жаохэ /пров.Хэйлунцзян/ Музей Хэйлунцзян) // Каогу. 1972. № 2 (накит. яз.).
Aikens C.M., Higuchi T. 1982. Prehistory of Japan. New-York: Academic Press, 349 p. (Studies in Archaeology).
Arnold D.E. 1985. Ceramic theory and cultural process.Cambridge; New York: Cambridge University Press, 286 p.(New studies in archaeology)
Beginning of the Jomon culture: what took place in 15 000years ago? Tokyo: National Museum of Japanese history,2009. 187 p.
Berdnikova N.E. 1995. Bifacial Siberia during the transitionfrom Paleolythic to Neolithic period // The Origin of Ceramicsin the East Asia and the Far East. Abstracts of InternationalSymposium, Sendai, September 29 – October 5, 1995. / Ed. byH. Kajiwara. Sendai: Tohoku University, P. 40-43.
Ceramics before farming: The dispersal of pottery amongprehistoric Eurasian hunter-gatherers / Ed. by P. Jordan, M.Zvelebil. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009 (Publicationof the Institute of Archaeology, University College London)
Cook G.T., Bonsall C., Hedges R.E.M., McSweeney K.,Boronean V., Pettitt P.B. 2001. A Freshwater diet-derived14C reservoir effect at the Stone Age sites in the Iron GatesGorge // Radiocarbon. Vol. 43. № 2A. P. 453-460.
Cooper Z., Raghavan H. 1989. Petrographic features ofAndamanese pottery // IPPA Bullenin. Vol. 9. P. 22-32.
Derevyanko A.P., Medvedev V.E. 1995. The Amur river basinas one of the earliest centers of ceramics in the Far East // TheOrigin of Ceramics in the East Asia and the Far East: Abstractsof International Symposium, Sendai, September 29 – October5, 1995 / Ed. by H. Kajiwara. Sendai: Tokhoku University,P.13-25.
Derevyanko A.P., Petrin V.T. 1995. The Neolithic of theSouthern Russian Far East: a division into periods // TheOrigin of Ceramics in the East Asia and the Far East. Abstractsof International Symposium, Sendai, September 29 – October5, 1995 / Ed. by H. Kajiwara. Sendai: Tokhoku University,P. 7-9.
Derevianko A.P., Kuzmin Y.V., Burr G.S., Jull A.J.T., KimJ.C. 2004. AMS 14C age of the earliest pottery from the RussianFar East: 1996–2002 results // Nuclear Instruments andMethods in Physics Research B. Vols. 223–224. P. 735–739.
Fischer A., Heinemeier J. 2003. Freshwater reservoir effectin 14C dates of food residue on pottery // Radiocarbon. Vol.45. № 3. P. 449-466.
Garkovik A.V. 1999. Original Ancient ceramic Artifactsfrom sites of Primorsky Territory // Proceeding ofInternational Simposium of Ancient Pottery and porcelain(ISSAC’1999). Sendai, P.23-26.
Garkovik A.V., Zhushchikhovskaya I.S. 1995. The earliestceramic assemblages in the Primorye region // The Origin ofCeramics in the East Asia and the Far East: Abstracts ofInternational Symposium, Sendai, September 29 – October5, 1995 / Ed. by H. Kajiwara. Sendai: Tokhoku University,P.55-60.
Glascock M., Kuzmin Y., Grebennikov A., Popov V.,Medvedev V., Shewkomud I., Zaitsev N. 2011. Obsidianprovenance for prehistoric complexes in the Amur river basin
257
(Russia Far East) // Journal of Archaeological Science. Vol.38 (8). P. 1832-1841.
Habu Junko. 2004. Ancient Jomon of Japan. Cambridge:Cambridge University Press, 332 p.
Imamura, K. 1996. Prehistoric Japan: New perspectivesof insular East Asia. London: USL Press,
Jomon-jidai Sousoki. Shiruo-shu (The Incipient Jomon.Collection of materials) // Yokohama-shi rekishihakubutsukan (Historical Museum of Yokohama City, Japan).1996. 192 с. (на яп. яз.)
Kajiwara H. 1998. The transitional period of Pleistocen-Holocen in Siberia and the Russian Far East in terms of originof pottery // Symposium on the comparative archaeology ofthe Pleistocen-Holocen transition. Tokio, P. 23-31.
Kani M. 1992. Restored vessels with cord ornamentsSiberia // Jornal of Archaeology. Vol. 38. № 1. P.66-67.
Keally Ch., Taniguchi Ya., Kuzmin Ya. 2003.Understanding the beginning of Pottery Technology in Japanand Neighboring East Asia // The Review of Archaeology.Special Issue. Vol.24. № 2. P. 3-14.
Keally Ch.T., Taniguchi Ya., Kuzmin Ya.V., ShevkomudI.Ya. 2004. Chronology of the beginning of potterymanufacture in East Asia // Radoicarbon. Vol. 46. № 1.P. 345-351.
Kokai-shinpojium “Jomon-ka no purosesu” (OpenSymposium “The process of Jomonization”) / Ed. by H.Sato. Tokyo: Tokyo University. 2006. 176 p. (на яп., рус.,англ. яз.).
Kuzmin Y., Hall S, Tite M., Bailey R., O’Malley J.,Medvedev V. 2001. Radiocarbon and thermoluminescencedating of the pottery from the early Neolithic site of Gasya(Russian Far East): initial results // Quaternary ScienceReviews. № 20. P.945–948.
Naganuma M., Shewkomud I.Ya., Gorshkov M.V.,Kositsyna S.F., Murakami N., Matsumoto T. 2005.Novotoroitsukoe 10 Iseki Hakkutsu Chosa Gaiho (The Resultsof Investigations of Novotroitskoye-10 site) // Hokkaido kyu-sekki bunka kenkyu (The Palaeolithic Cultures of Hokkaido).№ 10. Pp. 117-124 (на яп. яз.).
Nakamura Kozaburo. 1960. Kosegasava Dokutsu(Kosegasava Cave). Nagaoka Shiritsu Kagaku Hakubutsukan(Scientific Museum of Nagaoka City). Nagaoka, (на яп. яз.).
O’Malley J., Kuzmin Y., Burr G., Donahue D. and Jull A.J.T.1999. Direct radiocarbon accelerator mass spectrometric datingof the Russia Far East and Transbaikal // Memories de laSociete Prehistorique Francaise. Vol. 26. P. 19-24.
Ponkratova I.Yu. 2005. Pottery Industries in the North ofthe Russian Far East // Archaeology in Northeast Asia / Ed.by Don E. Dumond and L. Bland Richard. Eugene, Oregon:University of Oregon, P. 129-158 (Anthropological Papers).
Ponkratova I.Yu. 2008. The Pottery of the Far North-Eastof Russia and Maritime Adaptation // Maritime Adaptationand Seaside Settlement in the North Pacific during thePleistocene-Holocene Boundary. Madrid: the UniversityBook, P. 173-186 (Аrchaeological studies. Vol. 2).
Reid K.S. 1984. Fire and use: new evidence for productionand preservation of late arhaic fiber-tempered pottery in themiddle Catitude Lowland // American Antiquity. Vol. 79(1).P.55-76.
Reimer P.J., Baillie M.G.L., Bard E., Bayliss A., Beck J.W.,Bertrand C.J.H., Blackwell P.G., Buck C.E., Burr G.S., CutlerK.B., Damon P.E., Edwards R.L., Fairbanks R.G., Friedrich M.,Guilderson T.P., Hogg A.G., Hughen K.A., Kromer B.,McCormac G., Manning S., Bronk Ramsey C., Reimer R.W.,Remmele S., Southon J.R., Stuiver M., Talamo S., Taylor F.W.,van der Plicht J., Weyhenmeyer C.E. 2004. IntCal04 terrestrial
radiocarbon age calibration, 0ѕ26 cal kyr BP // Radiocarbon.Vol. 46( 3). P. 1029–1058.
Rye O.S. 1981. Pottery Technology: principles andreconstraction. Washington: Taraxacum Press,
Sato H., Tsutsumi T. 2007. The Japanese MicrobladeIndustries: Technology, Raw Material Procurement, andAdaptations // Origin and Spread of Microblade Technologyin Northern Asia and North America / Ed. by Ya.V. Kuzmin,S.G. Keates, Chen Shen. Burnaby, B.C. (Canada): ArchaeologyPress, P. 53-78.
Sato H., Izuho M., Morisaki K. 2009. Process ofJomonisation: correlation beetween Prehistoric HumanCultures and Environmental Change in Pleistocene-HoloceneTransition in Japan // Развитие природной среды востокаАзии в плейстоцене-голоцене (рубежи, факторы, этапы ос-воения человеком): Материлы междунар. совещ., 14-18сент. 2009. Владивосток, С. 208-210.
Shepard A.O. 1956. Ceramics for the archaeologist.Washington: Carnegie Institute, 447 p.
Shewkomud I. 1997. New research concerning theosipovskaya culture in the Amur river basin //KokogakuKenkyu (Quarterly of Archaeological studies). Vol.44 (3). No. 175. P. 102-117. (на яп. яз.)
Shewkomud I., Naganuma M., Kudo Yu., Kositsyna S.,Matsumoto T., Gorshkov M., Hashizume J. 2003. The shortreport and some issues of Goncharka-1 site 2001, Far EastRussia // Palaeolithic Archaeology. № 64. (Kyoto, Japan).P. 73-82.
Sinopoli C.M. 1991. Approaches to ArchaeologicalCeramics. New York,
Stuiver M., Reimer P. 1993. Extended 14C data base andrevised Calib 3.0 14C age calibration program // Radiocarbon.Vol. 35. № 1. P. 215-230.
The Nature of the Transition From the Palaeolithic to theNeolithic in East Asia and the Pacific. Special Issue. /Ed. byYaroslav V. Kuzmin // The Review of Archaeology. Vol. 24.№ 2, 2003. 80 p.
The Origin of Ceramics in the East Asia and the FarEast // Abstracts of International Symposium, Sendai,September 29 – October 5, 1995. Sendai: Tokhoku University,1995. 134 p.
The Review of Archaeology. Special Issue. 2003. Vol.24 (2).(Williamstown, Massachusetts, USA)
Underhill A. 1997. Current issues in Chinese NeolithicArchaeology // Jornal of World Prehistory. Vol. 11 (2). P.103-160.
Walker M., Jonsen S., Rasmussen S.O., Popp T., SteffensenJ., Gibbard P., Hoek W., Lowe J., Andrews J., Bjoёrck S., LESC. Cwynar L. C., Hughen K., Kershaw P., Kromer B., Litt T., J.Lowe D. J., Nakagawa T., REWI Newnham R., Schwander J.2009. Formal definition and dating of the GSSP (GlobalStratotype Section and Point) for the base of the Holoceneusing the Greenland NGRIP ice core, and selected auxiliaryrecords. Journal of Quaternary Science. Vol. 24 (1). P. 3–17
Zhang Chi, Hsiao-Chun Hung. 2008. The Neolithic ofSouthern China – Origin, Development and Dispersal // AsianPerspectives. Vol. 47 (2). P. 299-329.
Zhushchikhovskaya I.S. 1997. On Early Pottery-makingin the Russian Far East // Asian Persrectives. Vol. 36 (2):159-174.
Zhushchikhovskaya I.S. 2001. Prehistoric and AncientPottery Making of Northen Japan Sea Basin: Spatio-TemporalDynamics of Ceramic Pastes // Archaeological Sciences’1997:The Proceedings of the Conference Held at the University ofDurham, 2-4 September1997 / A. Millard (ed.) Oxford. (BARInternational Series. № 936). P. 31-45.
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENS
Peter the Great Museum ofAnthropology and Ethnography
The N.I. Grodekov KhabarovskRegional Museum
I.Y. Shewkomud, O.V. Yanshina
Begining of the Neolithicin the Amur river basin:
the Goncharka-1 site
Saint-Petersburg, 2012
GONCHARKA-1 – THE UNIQUE SITEOF THE OSIPOVKA CULTURE
The Goncharka-1 site is located withinSredneamurskaya (Middle Amur) Depression on thehigh (15-25 m) and steep right bank of Amurskayachannel of Amur river, 20 km to the southwest of theCity of Khabarovsk and near the NovotroitskoyeVillage; it occupies the promontory formed by thebank of channel and the small Goncharka stream (fig.1-2). It was discovered in 1989 by B.N. Deneko, thesecondary school teacher of the Osinovaya RechkaVillage situated nearby. In 1995-1996, site wasexcavated by the team under direction of I.Y.Shewkomud, researcher of the Khabarovsk RegionalMuseum. During two years, about 350 sq. m wasexcavated (fig. 3); as a result, very interesting andwell-preserved archaeological materials belonging tothe Osipovka culture were obtained, including a veryrich collection of stone tools and pottery (the latter is
of especially great value). To that moment, only twoOsipovka sites with pottery were known: Gasya andKhummi.Therefore,new data from the Goncharka-1caused big scientific interest. As a result, excavationcontinued in 2001 by joint Russian-Japanese team ofthe Khabarovsk Museum (led by I.Y. Shewkomud) andthe Tokyo and Hokkaido universities (led by M.Naganuma) [see Шевкомуд и др. 2002 б; Shewkomudet al. 2003]. In that year, about 181 sq.m. wereexcavated. Thus, the size of total excavation at theGoncharka-1 site is now 530 sq. m. Today, theGoncharka-1 is one of the best-excavated sites ofOsipovka culture. Moreover, this site has definiteadvantage compared to other sites of the same culturecomplex because it lacks serious disturbances ofcultural component. This book contains the results of1995-1996 excavation campaign.
Site location and brief research history
The surface of promontory and all layers withinthe excavated area have light inclination (around 7-8 degree) to the southwest, which is to the valley ofGoncharka Stream. The stratigraphy was controlledby walls of excavation pits and by the overlappingbalks within each pit. As a result, 20 stratigraphicprofiles were obtained during 1995-1996 compaign.All of them show an uniform stratigrafic situation(fig. 4-8). In the base of section, poorly sortedpebbles with sand, gravel, and dark-yellow or reddishloam are situated (layer 4). Above it, the sequencefrom top to bottom is the following: grass (Layer 1);gray pulverulent loam (Layer 2) and light brown,reddish, or yellowish loam (Layer 3). By both colorand density, the Layer 3 is sub-divided into twohorizons: the upper one (Horizon 3A) and the lowerone (Horizon 3Б). The former is represented by light-brown pulverulent loam with pebbles and gravel, and
Stratigraphy
the latter is represented by dense dark-yellow,sometimes reddish loam, with admixture of sand,pebbles, and gravel. The lowest part of Horizon 3Бhas the greatest density. There are also two largefrost cracks deepen into the bedrock (fig. 19). One ofthem crosses excavation pits 1-3 from north to south,and the second crack stretches along pits 2 and 5 fromeast to west (see fig. 3A). Both cracks haveasymmetrical wedge-shaped cross-section, a bitconvex upper limit, and were filled with very densecoherent loams and sandy loams of the brownish-black and brown colord, with inclusions of pebblesand sand (Layer 5). Coloration of this layer in theupper part is darker (Sub-Layer 5А) than in the lowerpart (Sub-Layer 5Б). It is very important that theinfill of the cracks was separated from Layer 3 by thethin sterile stratum of dense gray or light-gray loam(Horizon 3B).
263
Palinology
Palinological analysis was carried out by Dr.A.V.Chernyuk [Шевкомуд и др. 2001]. Samples werecollected in the western wall of excavation pit 3 (gridЖ’/10). This area has minimal degree of disturbancein the Osipovka cultural layer. Samples were takenthrough every 10 cm to the depth of 1 m. Ten phase ofvegetation dynamics were identified. The Osipovka
culture existed during the phases 1-6. Two of theearliest and the coldest phases (numbered 1 and 2)correspond to the upper part of frost cracks’ infill,and represent cold forest-steppe with admixture ofbirch and birch-aspen light forest. Pollen data placethis time within the Older Dryas and the transitionto Alleroed, which is 12500-12000 BP [Короткий и
The majority of late (both Poltse andVoznecenovka) potsherds and all late stone artifactsare found in the excavation pit 2 within its northernand northeastern sections, whereas the Osipovkaartifacts in this pit are found in much smaller quantitythan in the other pits. Moreover, the Poltse pottery islocated mainly in the Layer 2, and the Voznesenovkaceramics is situated in the Horizon 3A (first stratumof Layer 3); the Osipovka pottery is associated withthe Horizon 3Б (second and third strata of Layer 3),especially with its lowest part (Horizon 3Б) and theupper part (20-30 cm thick) of the Layer 5 (infill offrost cracks). This means that in the major part ofexcavations the Osipovka layer is not disturbed bylater occupations. This is the unique situationobserved at the sites of Osipovka culture.
It is very important to highlight what, accordingto stratigraphy, artifacts of the Osipovka culturewhich are located in the frost cracks (Layer 5) are olderthan Osipovka artifacts situated in the Horizon 3Б.This is absolutely clear proven by sterile Horizon 3Bwhich separate Layers 3 and 5, and by the results ofC14 dating (see below). So, we can say that collection
of the Osipovka artifacts from Goncharka-1 siterepresents at least two diachronous assemblages.
The oldest Osipovka assemblage had been re-deposited, and its artifacts have gradually movedinto the cracks during the thawing of their icy infill.The artifacts belonging to the youngest assemblage,on the contrary, were found mainly in situ. Most ofthem are concentrated in three clusters, includinghearths, broken pots, artificially made pits, bigboulders, concentrations of chipped stone, etc. (fig.12; 15; 16; 20-21). These clusters could beinterpreted as household units or multi-activityareas. Between these concentrations, small amountof artifacts is found. So, we can assume that thesethree clusters were not associated with each other,and may be it means that the late Osipovkaassemblage had micro-chronological differences.Two non-utilitarian complexes were also found in1995-1996 company. One of them can be interpretedas burial (fig. 23-24). The second complex ispreserved only partially (fig. 18). Both complexeshave the several anthropomorphic figures withdifferent level of stylization (fig. 18; 52-53; 71-72).
Assemblages
There are three different kinds of artifactsassemblages at the Goncharka-1 site: Poltse cultureof Early Metal epoch, Voznesenovka culture of LateNeolithic, and Osipovka culture of Initial Neolithic.The latter cultural complex absolutely dominates inthe collection of stone artifacts : 6149 items belong
to the Osipovka culture, and only 11 artifacts areassociated with both Poltse and Voznesenovkaassemblages (fig. 45, 7; 43, 5, 6, 7). Of about 4230potsherds, a bit more than 2000 belong to the Poltseculture (fig. 75), 70 to the Voznesenovka culture, anda bit more than 2100 represent the Osipovka culture:
264
Paleogeography
Nowadays, about 70 sites correspond to theOsipovka cultural complex. All of them are locatedwithin Sredneamurskaya Depression on the banks ofAmur and Ussuri rivers and their tributaries. Todaythese banks are high but in the Late Pleistocene thewater level of Amur and Ussuri was about 10 m abovethe modern one and space covered by water was muchmore compared to what is today, with many large lakesand additional channels of the Amur and Ussuri rivers.The areas higher than 15-20 m above the river level
were surrounded by water, and were probably islandsor peninsulas [Махинов 2006]. Now these higherelevation areas are occupied by the Osipovka sites, andwe can assume that the Osipovka people lived in thepresence of wide water spaces nearby. It seems thatsuch places were comfortable for prehostoric lifebecause they were rich in biological resources and rawmaterial. Such circumstances could have contributedto theearly formation of sedentism, and the earlybegining of Neolithization process.
Stone Industry
The raw materials for manufacture of tools wereacquired near the site. These are large size pebblesand cobbles, with different degree of roundness.There were three main rock types used: grayaleurolith, rhyolith, and different siliceous rocks(chalcedony, jasper, and carnelian); other rocks usedare andesite, basalt, sandstone, granitoid. Obsidianis presented by a single flake; the source of this rock
All stone artifacts found in 1995-1996 can be sub-divided into three groups: 1) primary flaking (cores,core-shaped pieces, trimmed pebbles, core preparationflakes, and microblades), 2) tools and otherimplements, 3) debitage. Waste flakes were very
rarely used for tool manufacture; these are smalltools on the flakes with marginal retouch. Themajority of tools are made on other blanks, are oflarger size, and have facial secondary treatment.Most of stone artifact are found in Layer 3Б:
most probably is located in the northern Primoryeprovince, on the eastern slope of the Sikhote-AlinRange between Samarga, Koppi and Svetlaya rivers[Glascock et al. 2011]. The use of various kinds ofraw materials was strictly differentiated. Tools andimplements were produced on grey aleurolith, butfor primary flaking rhyolith and isotropic siliceousrocks were the most common material:
др. 1997; Короткий 2001]. The phase 3 correspondswith Layer 3В covers the frost cracks infill. Thatwas a time of the sharp warming which most likelycorresponds to the Alleroed, dated to 12000-11350C14 years [Короткий 2001]. The next 4-6 areassociated with Layer 3Б. Pollen data for the lowestpart of Layer 3Б (phases 4-5) reflect the apparentcooling and aridization, and increase of steppe
formations, this trend is even more pronounced inphase 5. It should be highlighted that the lowest partof lLayer 3Б containes the majority of the Osipovkacultural assemblage. This time is associated with theYounger Dryas, dated to 11100-9995 BP [Короткий2001]. The phase 6 is associated with the upper partof Layer 3Б, and is associated with significantwarming in the Early Holocene, 10000-8000 BP.
Chronology
265
During 1995-1996 excavation compaign, about2100 potsherds belonging to the Osipovka culture arefound. About 100 of them are located in Layer 5(infill of frost cracks), and the rest is unearthed from
the Layer 3 (see table above). The preservation ofceramics found in the frost cracks is poor; oftenpotsherds fallapart in hands. Pottery fragments arevery small,usually 1.5-2 cm long. They are found in
Primary processing of raw material was carried outat the site. A small number of primary flakes withpebbles cortex (only 3% of total amount) and, on thecontrary, the prevalence of finished products andflakes left after facial treatment can prove thisconclusion. So, we can think that Goncharka-1 site wasnot the workshop, and this distinguishes theGoncharka-1 from the majority of Paleolithic sites inRussian Far East. Primary flaking of the Osipovkaindustry is represented by microblade cores (group 1)
and their derivatives and middle size cores (group 2),with purpose to obtain amorphic flakes. Within thegroup 1, a small number of Yubetsu techniсal spalls isdetected, but most of artifacts of this group areassociated with flaking of edge-faceted microcores onpebbles. The analysis of primary flaking shows thatlarge blade (longer than 4 cm) technique was not usedby beares of the Osipvka culture. All cores were usedto obtain small products. The exact specifications ofmicroblade flaking can be seen below:
Pottery
Within tools and implements, three technical-technological classes are identified: facial pieces;pieces on flakes with marginal retouch and pieces withabrasive treatment (fig. 74). One of main features ofthe Osipovka stone industry is the great extent offacial treatment, and also the appearance of abrasivetechnology which was applied in order to manufacturepoints and adzes. On the basis of functional use, theOsipovka artifacts can be sub-divided into thefollowing categories: points (including arrowheads)(fig. 31; 57, 3-12; 59; 66, 2-3), knife-scraper like tools(fig. 38, 3-6; 39; 45, 1, 8, 9; 64, 1, 3-5), adze-scraperlike tools (fig. 30; 46, 4; 49; 57, 1), scrappers (fig. 33;
60; 69), adzes (fig. 42; 46, 1; 58, 1-2, 7; 67, 1),perforators (fig. 32, 7-10; 47, 3; 63, 3), cutting tools(fig. 51, 4; 63, 1), burin-like tools (fig. 32, 11; 51, 2-3;65, 4) and burin (fig. 34, 2), hammerstone (fig. 50, 4),arrowshaft calibrator (fig. 67, 2), and also abrasivesof non-utilitarian artifacts: dagger-shaped biface (fig.66, 1), anthropomorphic and zoomorphic pieces(fig.43, 1-4; 52-53; 66, 4), and portable petroglyphs(fig. 54). It is important to stress that there arerepresentative and well-developed typological seriesamong points, scrapers, adzes, and adze-scraper liketools. However, there are also polymorphous groupsof tools, for example knife-scraper like items.
266
in clusters of few fragments or separately. A singlebroken pot was found in 1995, representing the bottompart (gr. Д/8). The preservation of ceramics in Layer3 is much better compared to Layer 5. Most ofpotsherds are situated in concentrations, and only asmall part of assemblage is located separately. Potterywas studied by binocular and petrographic analyses;the latter was carried out by Dr. B.L. Zalishchak (FarEastern Geological Institue, Vladivostok).
Pottery of the Osipovka culture is made ofintentionally tempered clay pasts. People used astempers rocks, clay/grog and grass. Two formeradditions were basic, but grass was included in claymixtures rarely and in a small amounts. Very often,or even as a rule, two or three tempers were mixedand used at the same time. We can identify thefollowing compositions of clay mixture: clay withrocks and clay/grog (sometimes with grass); clay withclay/grog (sometimes with grass); clay with rocks(sometimes with grass). The amount of additionsvaries significantly.
Pottery from Layer 5 and part of pottery fromLayer 3 (from concentration in excavate pit 1, burial,and partly of separately found potsherds) weretempered by small amount of additions, no more than10% of total mass of potsherd accordingpetrographic analysis. This pottery often has aboutthe same amount of rocks and grog in clay paste, oronly grog, or it is not tempered. Size of rock and groggrains is large. Sometimes, it seems that only large-size grains were added intentionally inclay pasts.
Pottery from Layer 3 (from concentration inexcavation pits 3-4, and some of separately foundpotsherds) is tempered by large amount of additions,20-30% of total mass according to petrographicanalysis. Rocks apparently prevail in clay pasts, or arethe only kind of additions (with the exception of grass).Another distinctive feature of this pottery is a verycoarse texture of additions (fig. 86, 2; 87, 4-5; 90; 92).
The way of shaping the pottery is reconstructedwithout certainty. There are no the traces of mould(impressions of tissue or vegetable gasket; and paddleand anvil technique) on the surface of potsherds. Onlysome potsherds with traces of butt or overlap joint
of slabs or wisps are found (fig. 78. 5-6; 83; 88).However, it is established that after the shaping potswere covered by the thick coat of liquid clay. That isa very common practice in the Osipovka pottery-making (fig. 78, 4; 98).
Petrographic analysis showed that clay forcovering has special composition without sand andis often prepared of other kind of clay compared toclay used for manufacture of pots. The coat of theOsipovka pots often has very bright red color, andwe can assume that it contain significant amount ofiron. As a rule, slip was applied only to the outersurface, but there are cases when both surfaces werecovering by coat.
After (!) coating, pots are processed by comb(mainly outer surfaces). The purpose of suchtreatment is unknown. Comb treatment could alsohave been used before coating (inner surfaces). Inthis case, it seems that such processing was aimed toalignment of walls. It is important to stress thatexternal surfaces of the Osipovka pots have eithercomb traces or ornaments. There are no potscombining of the former and latter tratments.
Shapes of the Osipovka pots are quite simple. Oneof them is close to trunco-conical (fig. 91), second tobiconical (fig. 99), third is like high and widecylindrical bowl (fig. 85). Bottoms are flat.
Design is very diverse. Methods of decorationincludes comb and comb wheel rolling (fig. 81; 85-86; 97), line applique (fig. 94-96), cord wrapped stick(fig. 99) and figure stick (fig. 90-91) impressions.Pottery from the Layer 5 has only cord wrapped stickimpressions, and it has little resemblance to design.However, at the same time the pots with such cordwrapped stick impressions have also comb traces onthe inner surfaces.
Combination of clay pastes and design featurescreate very diverse picture. Basing on thesecombinations, one can distinguish five technical-morphological groups of the Osipovka pottery. Thepresence of such a large variety can be explainedpartly by chronological differences, but sometimesit seems that polymorphic and not yet formed ceramictradition existed at the Goncharka-1 site.
267
Fig.1. Map of the southern part of Far East withsites mentioned in the book. The sites and finds of theOsipovka culture: 1-3 – sites of Evoron-Goringeoarchaeological area (Kondon-Pochta, Kondon-1,Kharpichan-4), 4 – Khummi; 5 – Innokentyevka-Bon;6 – Sinda; 7 – Chelny; 8-11 – sites of Malyshevo-Sikachi-Alyan geoarchaeological area (Sikachi-Alyan/lower point/, Gosyan, Gasya, Malyshevo-2); 12 –Dabanda-2; 13 – Darga-1; 14 – Jermeng; 15 –Enthuziast; 16-25 – sites of Khabarovsk group ofKhekhtsir geoarchaeological area (Osipovka-1-3;Amur-2 /«U zsheleznodorozshnogo mosta»/,Bogdanovka, Amursky Sanatoriy, Myasokombinat,Rybny Port, Kazachya Gora, «U sobachyegopitomnika»); 26-67 – sites of Khekhtsir group ofKhekhtsir geoarchaeological area (Korsakovo-4,Osinovaya Rechka-1-2, 4-12, 16-17, 19, 23-25, 27-31,Goncharka-1, 3, Novotroitskoye-1, 3-4, 8, 10, 13-17,Bychikha-1, 4, 7, Kazakevichevo-4, 7, Lesnoye,Barkhanaya); 68 – site on Kiya River; 69 – Venyukovo;70 – Sheremetyevo-14; 71 – Lonchakovo; 72 –Xiaonanshang.
Fig.2. View on the Goncharka-1 site from the westFig.3. Plan of excavated area of the Goncharka-1
site (А) and location scheme of the excavation pits of1995-1996 years (Б)
Fig.4. Goncharka-1. Sratigraphy of the excava-tion pit 1
Fig.5. Goncharka-1. Sratigraphy of the excava-tion pit 2
Fig.6. Goncharka-1. The excavation pit 2. Stra-tigraphic section on the line П-П, gr.5-1. View fromthe south
Fig.7. Goncharka-1. The excavation pit 2. Stra-tigraphical section on the line 5-5, gr.Ф-Р. View fromthe west
Fig.8. Goncharka-1. Sratigraphy of the excava-tion pits 3-4
Fig.9. Goncharka-1. The excavation of the pit 2.Opening of the Horizon 3Б
Fig.10. Goncharka-1. Plan of the excavation pits1-4 after opening the Layer 2
Fig.11. Goncharka-1. Plan of the excavation pits1-4 after opening the Horizon 3А
Fig.12. Goncharka-1. Plan of the excavation pits1-4 after opening the Horizon 3Б
Fig.13. Goncharka-1. Plan of the excavation pits1-4 after opening the Strata 4-5 of the frost cracks
Fig.14. Goncharka-1. Plan of the excavation pits1-4 after opening the Strata 6-7 of the frost cracks
Fig.15. Goncharka-1. The excavation pit 1. Pot-tery concentration in the gr. В/9
Fig.16. Goncharka-1. The excavation pit 1. Pot-tery concentration in the gr. Ж/5
Fig.17. Goncharka-1. The excavation pit 2. Largestones, blank of adze-scraper like tool and chips ofpolished adze from the gr. О-П/7-8
Fig.18. Goncharka-1. The excavation pit 2. Thesacral complex in the gr. Р/9
Fig.19. Goncharka-1. The excavation pit 2 afteropening the frost cracks, view from the west
Fig.20. Goncharka-1. The excavation pit 3. Pot-tery concentration in the gr. Г’/5, view from thesouth – south-east
Fig.21. Goncharka-1. The excavation pit 3.Breakup of the vessel 4 and top of the hearth 2 in thegr. Д’/4-5, view from the north
Fig.22. Goncharka-1. The excavation pit 3. Theconcentration of microflakes and microblades in thegr. Ж’/9
Fig.23. Goncharka-1. The excavation pit 4. Theburial, view from the south
Fig.24. Goncharka-1. The excavation pit 4. Lo-cation scheme of artifacts found in the burial
Fig.25. Goncharka-1. The excavation pit 4. Planof the burial after horizontal scraping of bedrock
Fig.26. Goncharka-1. The excavation pit 4. Detailof the burial, view from the north-east
Fig.27. Goncharka-1. The excavation pit 4. Scra-per with fire traces in the kerf on the east side of theburial
Fig.28. Location scheme of archaeological sitesalong mouth of the Goncharka creek: 1 – Goncharka-1; 2 – Goncharka-2; 3 – Goncharka-3; 4 – Goncharka-4; 5 – Goncharka-5; 6 – Goncharka-6; 7 – Novotroits-koye-3
Fig.29. Palaeogeographic situation of Late Pleis-tocene and geoarchaeological areas near the mouthof the Ussuri river . I – Khekhtsir geoarchaeologicalarea (a – Khekhtsir sub-area, b – Khabarovsk sub-area), II – Malyshevo-Sikachi-Alyan geoarchae-ological area. 1-4 – Sikachi-Alyan, Gosyan, Gasya,Malyshevo-2 («U kladbischa»); 5-8 – Osipovka-1-3,Amur-2; 9-11 – Bogdanovka, Amursky Sanatoriy,Myasokombinat; 12 – Rybny Port; 13 – KazachyaGora; 14 – «U sobachyego pitomnika»; 15 –Dabanda-2; 16 – Darga-1; 17 – Jermeng; 18 –Entuziast; 19 – Korsakovo-4; 20-41 – OsinovayaRechka-1-2, 4-12, 16-17, 19, 23-25, 27-31; 42-54 –Goncharka-1,3; Novotroitskoye-1, 3, 4, 6, 8, 10, 13-16; 55-57 – Bychikha-1, 4, 7; 58 – Kazakevichevo-7; 59 – Kazakevichevo-5; 60 – Lesnoye, 61 –Barkhatnaya, 62 – site on the Kiya River
Fig.30. Goncharka-1. The excavation pit 1. Adze-scraper like massive tools. 1 – gr. А/5, 3 str.1; 2 – gr.И/7, 2 str.; 3 – gr. Г/5, 2 str.
Fig.31. Goncharka-1. The excavation pit 1.Points. 1 – gr. А/7, 3 str.; 2 – gr. З/9, 2 str.; 3 –gr.И/1, 2 str.; 4 – gr.К/10, 2 str.; 5 – gr. Д/8, 3 str.
Fig.32. Goncharka-1. Excavation pit 1. Arrow-heads (1-6), perforating tools (7-10), burin-like tool
LIST OF FIGURINES
1 Stratum 1 – the Horizon 3A, strata 2-3 – the Horizon3Б, strata 4-8 – infil of the frost cracks, see chapter 1
268
on a flake (11). 1 – gr. В/4, 2 str.; 2 – gr. Ж/7, 3 str.;3 – gr. Б/4, 2 str.; 4 – gr. Г/1, 2 str.; 5 – gr. И/1, 3 str.;6 – gr. В/6, 2 str.; 7 – gr. Д/8, 3 str.; 8 – gr. В/3, 1str.; 9 – gr. Б/3, 3 str.; 10 – gr. Д/9, 3 str.; 11 – gr.И/4, 2 str.
Fig.33. Goncharka-1. The excavation pit 1. Scra-pers. 1 – gr. Г/6, 3 str.; 2 – gr. В/4, 2 str.; 3 – gr. А/8, 2 str.; 4 – gr. Е/7, 2 str.; 5 – gr. И/9, 2 str.; 6 – gr.И/8, 2 str.; 7 – gr. В/10, 2 str.
Fig.34. Goncharka-1. The excavation pit 1. Scra-pers (1-2), adze-scraper like tool (3). 1 – gr. Е/9, 2str.; 2 – gr. Б/6, 2 str.; 3 – gr. Г/4, 3 str.
Fig.35. Goncharka-1. The excavation pit 1. Cores(1-4), microblades (5-8), blade-shaped flake (9). 1 –gr. А/6, 2 пл.; 2 – test-pit 1, 3 str.; 3 – gr. Д/2, 2str.; 4 – gr. Ж/9, 2 str.; 5-6 – gr. К/10, 2 str.; 7 –gr. И/10, 2 str.; 8 – gr. З/8, 2 str.; 9 – gr. Б/3, 2 str.
Fig.36. Goncharka-1. The excavation pit 1. Micro-cores (1-5), ski-spall (6). 1 – gr. К/9, 2 str.; 2 – gr.И/6, 2 str.; 3 – gr. К/10, 2 str.; 4 – gr. Д/7; 2 str.; 5 –gr. К/10, 2 str.; 6 – gr. Г/6, 3 str.
Fig.37. Goncharka-1. The excavation pit 1. Scra-per-like (1) and knife-scraper like tools (2). 1 – gr.Ж/5, 2 str.; 2 – gr. Б/5, 2 str.
Fig.38. Goncharka-1. The excavation pit 1. Knife-scraper like tool-blank (1), arrowhead (2), knife-scraper like tools on bifaces (3-6). 1 – gr. А/7, 2 str.;2 – gr. В/4, 3 str.; 3 – gr. А/8, 2 str.; 4 – gr. З/7, 2str.; 5 – gr. И/6, 2 str.; 6 – gr. И/8, 2 str.
Fig.39. Goncharka-1. The excavation pit 1. Knife-scraper like tools on blade-shaped flakes (1, 4) andflakes (2, 5), arrowhead (3). 1 – gr. Б/4, 2 str.; 2 – gr.И/10, 2 str.; 3 – gr. Е/6, 3 str.; 4 – gr. Б/9, 3 str. (infireplace); 5 – gr. И/5, 1 str.
Fig.40. Goncharka-1. The excavation pit 1.Scraper-like tool (1) и boat-shaped blank (2). 1 –sector 4; 2 – gr. Е/1, 2 str.
Fig.41. Goncharka-1. The excavation pit 1.Blanks. 1 – gr. Д/9, 2 str.; 2 – gr. И/10, 2 str.
Fig.42. Goncharka-1. The excavation pit 1. Axe-like tool (1) and arrowhead (2). 1 – gr. И/8, 2 str.;2 – gr. Д/6, Layer 2
Fig.43. Goncharka-1. The excavation pit 1. Flat-bed retouched figures (1-4), arrowheads (5-6), axe-like tool (7). 1 – gr. З/7, 2 str.; 2 – gr. В/8, 3 str.; 3 –gr. З/8, 3 str.; 4 – gr. Е/6, 2 str.; 5 – gr. З/8, Layer 2;6 – gr. И/10, 1 str.; 7 – gr. Ж/8, Layer 2
Fig.44. Goncharka-1. The excavation pit 2. Mic-rocores (1-5), microblades (6-12), blank of arrowhead(13), knife-scraper like tool on the blade-shaped fla-kes (14). 1 – gr. Ф/6, 5 str.; 2 – gr. Л/9, 2 str.; 3 – gr.Л/7, 3 str.; 4 – gr. Т/5, 5 str.; 5 – gr. Л/8, 2 str.; 6 –gr. Н/9, 7 str.; 7 – gr. Л/10, 2 str.; 8 – gr. Л/10, 2str.; 9 – gr. Л/10, 2 str.; 10 – gr. Н/7, 3 str.; 11 – gr.О/8, Layer 2; 12 – gr. П/2, 2 str.; 13 – gr. Р/1, Layer2; 14 – gr. М/1, 2 str.
Fig. 45. Goncharka-1. The excavation pit 2. Knife-scraper like tools on bifaces (1, 8, 9), spearhead withlocal polishing (2), arrowheads (3-7, 10). 1 – gr. Н/9,
5 str.; 2 – gr. М/8, 2 str.; 3-4 – gr. У/1, 2 str.; 5 – gr.Н/8, 7 str. ; 6 – gr. Р/9, 1 str.; 7 – gr. Р/9, 1 str.; 8 –gr. О/7, 4 str.; 9 – gr. М/3, 3 str.; 10 – gr. П/9, 2 str.
Fig. 46. Goncharka-1. The excavation pit 2. Adze(1), scraper (2, 3, 5), adze-scraper like tool (4). 1 –gr. П/6, 2 str.; 2 – gr. M/7, 4 str.; 3 – gr. Л/7, 3 str.;4 – gr. Л/7, 4 str.; 5 – gr. H/7, 6 str.
Fig.47. Goncharka-1. The excavation pit 2. Point(1), arrowhead (6), knife-scraper like tool on biface(2) and on blade-shaped flake (5), perforating tool (3),scraper (4). 1 – gr. Н/1, 2 str.; 2 – gr. Н/8, 8 str.; 3 –gr. Н/8, 4 str.;4 – gr. Н/8, 5 str.; 5 – gr. У/5, 2 str.;6 – gr. Н/5, 4 str.
Fig.48. Goncharka-1. The excavation pit 2. Blankof adze-scraper like tool, gr. О/7, 2 str.
Fig.49. Goncharka-1. The excavation pit 2. Adze-scraper like tools. 1 – gr. Н/7, 5 str.; 2 – gr. С/2, 3str.
Fig.50. Goncharka-1. The excavation pit 2. Adzes(1, 3), arrowhead (2), hammerstone (4). 1 – gr. С/5,2 str.; 2 – gr. М/8, 2 str.; 3 – gr. О/8, 2 str.; 4 – gr.Р/4, 2 str.
Fig.51. Goncharka-1. The excavation pits 2 and4. Flakes with retouch and fissure (1, 5-6), burin-likeflakes with fissure (2-3), saw-cutter on a flake (4).1 – gr. М/6, 2 str.; 2 – gr. Н/8, 3 str.; 3 – gr. У/6, 3str.; 4 – gr. Д/13, 1 str.; 5 – gr. Д/14, 1 str.; 6 – gr.Б/14, 3 str.
Fig.52. Goncharka-1. The excavation pit 2. У-shaped subject with anthropomorphous image fromthe sacral complex on the square Р/9
Fig.53. Goncharka-1. The excavation pit 2. У-shaped subject from the sacral complex in the gr. Р/9
Fig.54. Goncharka-1. The excavation pits 2 and4. Boulders with halls from the sacral complex in thegr. Р/9 (1) and the burial (2)
Fig.55. Goncharka-1. The excavation pits 2 and3. Finds from the frost cracks. 1 – knife-scraper liketool on biface (gr. Д’/3, 5 str.); 2 – axe-like tool (gr.Н/8, 5 str.)
Fig.56. Goncharka-1. The excavation pit 3. Mic-rocores (1, 3-6), ski-spall (2), flakes from pebbledflatbed microcore (7-10). 1 – gr. З’/8, 2 str.; 2 – gr.Ж’/5, 2 str.; 3 – gr. К’/4, 2 str.; 4 – gr. К’/10, 2str.; 5 – gr. З’/3, 2 str., 6 – gr. И’/3, 2 str.; 7-10 –gr. Е’/3, 3 str.
Fig.57. Goncharka-1. The excavation pit 3. Adze-scraper like tool (1), scraper (2), point (13) andarrowheads (3-12). 1 – gr. В’/4, 2 str.; 2 – gr. Ж’/2,3 str.; 3 – gr. Е’/2, 2 str.; 4 – gr. В’/2, 3 str.; 5 – gr.Г’/6, 2 str.; 6 – gr. К’/5, 2 str.; 7 – gr. Б’/4, 2 str.; 8–gr. И’/5, 3 str.; 9 – gr. Ж’/7, 2 str.; 10 – gr. Г’/10, 3str.; 11 – gr. З’/4, 2 str.; 12-13 – gr. Е’/6, 3 str.
Fig.58. Goncharka-1. The excavation pit 3. Axe-like tools (1-2, 7), knife-scraper like tools on bifaces(3-4), arrowheads (5-6, 8-9). 1 – gr. Е’/2, 3 str.; 2 –gr. И’/5, 3 str.; 3 – gr. Д’/6, 2 str.; 4 – gr. Б’/2, 2str.; 5 – gr. Д’/6, 3 str.; 6 – gr. К’/2, 2 str.; 7 – gr.Е’/4, 3 str.; 8 – gr. Г’/4, 2 str.; 9 – gr. И’/10, 2 str.
269
Fig.59. Goncharka-1. The excavation pit 3. Point(1) and arrowheads (2-7). 1 – gr. Г’/5, 2 str.; 2 – gr.А’/10, 4 str.; 3 – gr. Д’/3, 2 str.; 4 – gr. И’/3, 2 str.;5 – gr. Е’/4, 3 str., 6 – gr. И’/4, 3 str.; 7 – gr. Г’/3,2 str.
Fig.60. Goncharka-1. The excavation pit 3. Scra-pers. 1 – gr. Г’/6, 1 str.; 2 – gr. Д’/4, 3 str.; 3 – gr.Ж’/7, 2 str.; 4 – gr. Д’/5, 3 str.; 5 – gr. З’/2, 2 str.,6 – gr. Ж’/5, 3 str.; 7 – gr. Е’/4, 3 str.; 8 – gr. Г’/2,2 str.
Fig.61. Goncharka-1. The excavation pit 3. Mac-roscraper (1) and adze-scraper like tool (2). 1 – gr.Ж’/1, 2 str.; 2 – gr. Е’/4, 3 str.
Fig.62. Goncharka-1. The excavation pit 3. Knife-scraper like tools on flakes (1, 3, 6), slab (4) and biface(2, 5). 1 – gr. Е’/3, 3 str.; 2 – gr. Б’/5, 3 str.; 3 – gr.Е’/3, 3 str.; 4 – gr. И’/5, 3 str.; 5 – gr. Ж’/4, 3 str.;6 – gr. В’/5, 2 str.
Fig.63. Goncharka-1. The excavation pit 3. Cut-ter (1), arrowheads (2, 5), perforating tool (3), spallwith notched edge (4). 1 – gr. Г’/3, 2 str.; 2 – gr.Д’/6, 2 str., gr. В’/7, 1 str.; 3 – gr. И’/2, 2 str.; 4 –gr. К’/5, 3 str.; 5 – gr. Ж’/7, 2 str.
Fig.64. Goncharka-1. The excavation pit 3. Knife-scraper like tools on flakes with angular blade, wide(1) and narrow (3-4), diagonal burin (2), knife-scraperlike tool on the flakes with angular thorn (5). 1 – gr.Д’/3, 2 str.; 2 – gr. И’/10, 2 str.; 3 – gr. Д’/4, 3 str.;4 – gr. З’/5, 3 str.; 5 – gr. Г’/5, 3 str.
Fig.65. Goncharka-1. Excavation pit 3. Knife-scraper like tool on the flake with angular thorns (1),asymmetrical leaf-shaped point on the flake (2), spallfrom pebbled microblade core (3), burin-like tool onthe flake (4). 1 – sq. В’/5, 3 str.; 2 – sq. Е’/1, 3 str.;3 – sq. Ж’/3, 2 str.; 4 – sq. Д’/5, 3 str.
Fig.66. Goncharka-1. The excavation pit 4. Dag-ger-like biface (1), points (2, 3), fish-shaped re-touched figure (4), knife-scraper like tool on the flake(5), core (6), frontal spall from microblade core (7).1 – gr. В/15, 2 str., Д/15, 3 str.; 2 – gr. В/15, 2 str.;3 – gr. Е/13, 2 str.; 4 – gr. Ж/11, 2 str.; 5 – gr. Д/12,2 str.; 6 – gr. К/11, 2 str.; 7 – gr. З/16, 3 str.
Fig.67. Goncharka-1. The excavation pit 4. Chisel-like tool (1), calibrator for arrowhead’s shafts (2).1 – gr.Д/14, 2 str.; 2 – gr. Д/13, 2 str.
Fig.68. Goncharka-1. The excavation pit 4.Burial. Adzes (1,7), points (2) and arrowheads (3-6).1 – № 15; 2 – № 18; 3 – № 21; 4 – № 20; 5 – № 19; 6 –№ 9; 7 – № 4
Fig.69. Goncharka-1. The excavation pit 4.Burial. Scrapers. 1 – № 16; 2 – № 14; 3 – № 3; 4 – №6; 5 – № 17; 6 – № 8
Fig.70. Goncharka-1. The excavation pit 4.Burial. Fragment of biface (2), perforating tool (1,3), splitted pebble of carnelian (4), knife-scraper liketools on the flakes (5, 7), core (6), tool on the pebble(8). 1 – № 7; 2 – № 10; 3 – № 13; 4 – № 5; 5 – № 1; 6 –№ 11; 7 – gr. Б/16, 3 str.; 8 – № 2
Fig.71. Goncharka-1. The excavation pit 4.Burial. У-shaped figure (№ 22)
Fig.72. Goncharka-1. The excavation pit 4.Burial. У-shaped figure (№ 23)
Fig.73. Goncharka-1. The excavation pit 4. Knife-scraper like tools on the flakes with angular thorns (1-2) and prolonged with the convex edges (3). 1 – gr. З-16, 3 str.; 2 – gr. Г/12, 1 str.; 3 – gr. Ж/14, 2 str.
Fig.74. Goncharka-1. Typological view of stoneindustry of the Osipovka culture. I – microsplitting:1-2 – boat-shaped spalls; 3 – frontal spall frommicroblade core; 4-8 – pebbled microblade cores; 9-11– microblades; 12-13 – pebbled microcores for flaking;II – class of the facial tools: 14-21 – knife-scraper liketools on the bifaces; 22-25 – spearheads and dartheads;26-42 – arrowheads; 43-44 – adze-scraper like tools;44a-48 – scrapers; 49 – scraper-like tool; 50-53 –perforating tools; 54-56 – adzes; III – class of tools onthe retouched flakes: 57-63 – knife-scraper like tools;64 – retouched flakes; 65 – leaf-shaped tools; 66-67 –tools on the blade-shaped blanks; 68 – knife-like toolon the slab; 69 – saw-cutter; 70-71 – perforating tools;72 – scraper; 73 – burin; 74-75 – burin-shapedartifacts on broken flakes; IV – class of the grindedtools: 76-77 – adzes; 78 – chisel-like tool; 79-80 –arrowheads; 81 – arrowhead (awl -?); 82 – calibratorfor arrowshafts; V – objects with the sacral or artfunction: 83 – dagger-shaped biface; 84-86 – flatbedretouched figures; 87 – portative petrogliph; 88-89 –У-shaped figures.
Fig.75. Goncharka-1. The excavation pit 2. Pot-tery of the Poltse culture
Fig.76. Goncharka-1. The excavation pit 2. Pot-sherd from the gr. Н/7, 7 str.
Fig.77. Goncharka-1. The excavation pit 2.Potsherd from the gr. О/7, 4 str.
Fig.78. Goncharka-1. The excavation pit 1. Pot-sherds from the pottery concentration in the gr. В/9(1) и Ж/5 (5-7) and their thin-sections (3-5). 2 – thin-section № 011; 3 – thin-section № 012; 4 – thin-section № 014
Fig.79. Goncharka-1. The excavation pit 1.Profiles of bottoms (?) of pots from the potteryconcentration in the gr. Ж/5, 3 str.
Fig.80. Goncharka-1. The excavation pit 1. Rimpotsherd from the pottery concentration in the gr.А-Б/5-6, 3 str.
Fig.81. Goncharka-1. The excavation pit 1. Rimpotsherd from the pottery concentration in the gr.А-Б/5-6, 3 str.
Fig.82. Goncharka-1. The excavation pit 1. Rimpotsherds (1, 5) and their thin-sections (2-4) from thepottery concentration in the gr. А-Б/5-6
Fig.83. Goncharka-1. The excavation pit 1.Potsherds from the pottery concentration in the gr.А-Б/5-6, 3 str.
Fig.84. Goncharka-1. The excavated pit 3. Bottomof pot found in the gr. Д’/4-5
270
Fig.85. Goncharka-1. The excavation pit 3. Vesselfrom pottery concentration in the gr. Д’/4-5, 3 str.
Fig.86. Goncharka-1. The excavation pit 3. Frag-ments of pot from the pottery concentration in thegr. Д’/4-5 (1) and its thin-section (2)
Fig.87. Goncharka-1. The excavation pit 3. Pot-sherds found in the gr. Д’-Г’/4-5. 1 – gr. Д’/5; 2 –gr. Д’/5; 3 – gr. Д’/4-5; 4 – gr. Г’/5; 5 – gr. Д’/5
Fig.88. Goncharka-1. The excavation pit 3. Pot-sherd from the gr. Г’/5
Fig.89. Goncharka-1. The excavation pit 3. Pot-sherd from the gr. Г’/5
Fig.90. Goncharka-1. The excavation pits 3 and4. Potsherds from the pottery concentration foundin the gr. И’/2 (1-2) and З/16 (6-7) and their thin-sections (3-5). 3 – thin-section № 083; 4 – thin-section № 072; 5 – thin-section № 073
Fig.91. Goncharka-1. The excavation pit 4. Vesselfrom the pottery concentration in the gr. З/16
Fig.92. Goncharka-1. The excavation pit 4. Pot-sherds from the gr. З/15
Fig.93. Goncharka-1. The excavation pit 4. Pot-sherd from the gr. Е/15
Fig.94. Goncharka-1. The excavation pit 2. Pot-sherd from the gr. Н/8
Fig.95. Goncharka-1. The excavation pit 4. Pot-sherd from the gr. К/11
Fig.96. Goncharka-1. The excavation pit 4. Pot-sherd from the gr. И/11 (1) and its thin-section (2)
Fig.97. Goncharka-1. The excavation pits 1-4.Potsherd with comb design. 1 – gr. Б/8; 2 – gr. Б/6;3, 10, 13 – gr. В/6; 4, 12 – gr. Г/1; 5 – gr. В’/8; 6 –gr. Е/4; 7 – gr. Ж’/8; 8 – gr. Б/14; 9 – gr. Л/2; 11 –gr. У/10; 12 – gr. Г/1; 13 – gr. В/6
Fig.98. Goncharka-1. The excavation pit 2. Pot-sherd from the gr. У/4 (1) and its thin-section (2)
Fig.99. Goncharka-1. Potsherd with cord (?) de-sign. 1 – gr. В’/5, 3; 2 – gr. З/8; 3 – gr. У/1; 4 – gr.Т/5; 5 – gr. Б/7; 6-7 – gr. О/12 (infill of frost cracks,excavation of 2001 year)
Fig.100. Goncharka-1. The excavation pit 3. Pot-sherd from the gr. В’/5
Fig.101. Goncharka-1. Outlines of inside andoutside surfaces of potsherds of the Osipovka culture
Fig.102. Khummi. Pottery of the Osipovkaculture
Fig.103. Khummi. Pottery of the Osipovkaculture
Fig.104. Gromatukha. Pottery of the Bel’kachiculture
Fig.105. Gromatukha. Pottery of the Malyshevoculture
Fig.106. Gromatukha. Stone tools of theGromatukha culture. 1-4 – boat-shaped spalls; 2, 5,7-8 – wedge-shaped microcores; 3, 15 – prismaticcores; 6, 9, 16, 20 – adze-scraper like tools; 10-11 –scrapers; 12-14 – bifaces; 17-19 – burins [after Ок-ладников, Деревянко 1977]
Fig.107. Ust-Ulma-1. Stone tools of the Selemdjaculture. 1-3 – bifacial points; 4-5 – bifacial knifes;6, 9-10 – burins; 7-8 – technical spalls from wedge-shaped microcores; 11-12 – wedge-shapedmicrocores; 13 – microblade core; 15-16 –microprismatic cores; 14, 17 – cores; 18-20 – scrapers[after Деревянко, Зенин 1995].
Fig.108. Gromatukha. Potsherds with grassimpressions inside
Fig.109. Gromatukha. Potsherds with grassimpressions on the pot’s surfaces
Fig.110. Gromatukha. Thin-section № 23-24 ofpottery of the Gromatukha culture
Fig.111. Gromatukha. Vessel with cord design.1 – rim, 2 – near bottom part, 3 – middle part of pot,4 – bottom, 5 – shape of vessel
Fig.112. Gromatukha. Vessel with comb traces onthe surfaces
Fig.113. Gromatukha. Vessel from KokugakuinUniversity [after Kani 1992: 67, fig. 2]
Fig.114. Gromatukha. Vessels with cord designFig.115. Gromatukha. Vessels with cord design
1-3 – sherds of the same potFig.116. Gromatukha. Vessels with plain walls
and comb ornamentFig.117. Knyaze-Volkonskoye-1. Pottery of the
Early Kondon typeFig.118. Suchu. Typical vessel of the Mariinsky
assemblage
Научное издание
Игорь Яковлевич ШевкомудОксана Вадимовна Яншина
НАЧАЛО НЕОЛИТА В ПРИАМУРЬЕ:ПОСЕЛЕНИЕ ГОНЧАРКА-1
Утверждено к печатиУченым советом МАЭ РАН
Редактор М.В. БанковичКорректор К.С. Аверина
Компьютерный макет О.В. Яншиной
Подписано к печати 28.05.2012.Формат 60х84/8. Печать офсетная.
Усл. печ.л. 31. Уч.-изд. л. 28.Тираж 300. Заказ № 29.
РИО МАЭ РАН199034. Санкт-Петербург, Университетская наб., 3
Отпечатано в ООО «Издательство “Лема”»199004, Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, 24