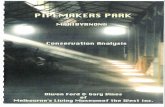Королев 20летКонстРФ ИГПРАН
-
Upload
moscowstate -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Королев 20летКонстРФ ИГПРАН
С.В.Королев
СУМЕРКИ ТРАДИЦИОННОГО ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА И«РОДОВЫЕ СХВАТКИ» МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВАРезюме: С точки зрения сравнительной теории
конституционного права автор анализирует проблему эрозии
традиционных (контентных) идеологий, часто неспособных
выполнять свою интегративную функцию. Вместе с тем,
деидеологизация политической и общественной жизни, по мнению
автора, в принципе недостижима. Предлагается модель «мягкой
деидеологизации» с помощью понятия «формальная, или
процессуальная идеология». Автор полагает, что в условиях
федерализма двумя такими «безконтентными» идеологиями могли
бы стать юридизированный федерализм и юридизированый
регионализм. Мягкая деидеологизация также ставит вопрос о
функциональности традиционных политических партий и создании
принципиально новых политических объединений, лишенных
традиционного мифологического контента.
Ключевые слова: идеология, интернет, политическая
партия, федерализм, регионализм, фукциональное раздвоение,
бицефализм.
Abstract: From the perspective of comparative
constitutional law theory the author analyzes the ever
growing erosion of traditional (content) ideologies, which
КОРОЛЕВ Сергей Викторович - главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, 119841, Москва, Знаменка 10.
1
are often incapable of fulfilling their integrative
function. The author asserts that the so called de-
ideologisation of political and civil life is impossible in
principle but at the same time he suggests a model of “soft
de-ideologisation” which is elaborated at the basis of the
notion of “formal or procedural ideology”. The author holds
that there are two non-content ideologies – juridical
federalism and juridical regionalism – which easily lend
themselves to legal analysis. The soft de-ideologisation
also raises the question concerning functionality of
traditional political parties. A new type of «content-free»
political association is analyzed that might be a viable
substitute for traditional political parties.
Key words: ideology, internet, political party,
federalism, regionalism, functional dedoublement,
bicephalism.
Судьбы национальных идеологий в современную эпоху
Термин «современная эпоха» выбран неслучайно. Обычно
современные авторы предпочитают более звучный термин
«глобализация».1 На мой взгляд, этот термин при его чисто
рефлекторном («журналистском») употреблении не столько
проясняет специфику современного государства, сколько просто
индексирует наличие т.н. глобальных вызовов. Я полагаю, что
не существует глобальных проблем в строгом смысле этого1 ?Scholte, J. A. Globalization: A Critical Introduction. New York: St. Martin's, 2000
2
слова без всякого их взаимодействия с теми или иными
региональными и локальными факторами. Термин «глобализация»,
на самом деле, вообще не является термином в строгом смысле.
Он может одновременно означать два встречных конфликтогенных
процесса, а именно: партикулярный глобализм (кока-кола,
фаст-фуд и т.п. для всех «землян») и глобальный
партикуляризм (хиджаб для «глобализированных мусульманок»).
Задача термина «глобализация», точнее пропонентов этого
«термина», заключается как раз в том, чтобы представить
специфику современных политических и социально-экономических
явлений в мире как однонаправленный и в принципе
«благотворный» процесс, современную форму т.н. социального
прогресса,2 а не как драматическое взаимодействие
партикулярного глобализма и глобального партикуляризма.
Явная дискуссионность слова «глобализация» как научного
термина ставит вопрос о том, чем же это слово является на
самом деле.3
Ответ напрашивается сам собой: слово «глобализация» -
это ключевая идеологема современности. Её задача, во-
первых, заключается в том, чтобы представить глобализацию
как всемирный процесс, лишенный всякого партикуляризма и
субъективизма. При таком подходе глобализация представляет
собой некий объективный процесс, полностью детерминированный2 Bhagwati J.In Defense of Globalization. Oxford University Press: Oxford, 2004
3 Rehbein B., Schwengel H. Theorien der Globalisierung. Konstanz, 20083
«ходом вещей». Во-вторых, задача этой идеологемы заключается
в том, чтобы исключить любые намеки на имманентную
противоречивость и нередко несовместимость двух векторов
глобализации, которые я называю «партикулярный глобализм» и
«глобальный партикуляризм» (см. выше).
Обычно под «глобализацией» понимают только
партикулярный глобализм, который весьма агрессивно и
асимметрично по отношению к глобальному партикуляризму,
представлен в мировой и национальной политике и, особенно, в
транснациональных СМИ. Речь идет о глобальной пропаганде и
повсеместном внедрении мировоззренческих установок,
политических, экономических и социальных стандартов наиболее
развитых стран Запада (включая, разумеется, Австралию,
Канаду, Новую Зеландию и Японию).
Положительные аспекты прозападного партикулярного
глобализма бесспорны: кросс-культурная коммуникация, защита
прав человека, экологическое просвещение, пропаганда
политической культуры и т.п.4 Но за эти дивиденды
глобализации незападным сообществам порой приходится платить
высокую цену. Например, принудительная стерилизация как
инструмент национальной политики в Индии и жесткий контроль
над рождаемостью в Китае плохо согласуются с западными
стандартами прав человека. Однако, с другой стороны, как же
иначе этим странам бороться с возрастающим демографическим4Tomlinson, J. Globalization and Culture. Cambridge: Polity Press, 1999
4
бременем внутри страны? Эта сторона медали мало интересует
пропонентов «глобализации».
Материальной инфраструктурой прозападного
партикулярного глобализма является, конечно, политическая,
экономическая и военная мощь упомянутых государств во главе
с США. В качестве одного из «брендов» партикулярного
глобализма можно назвать идею экономического роста как
самостоятельной ценности. Мы настолько «глобализированы»
этим брендом, что уже не улавливаем абсурдность и латентную
антропофобию идеи экономического роста во имя его самого, в
том числе и за счет подавляющего большинства человечества,
которому партикулярный политико-экономический глобализм
отводит роль мусорщиков на свалке глобализации.
Что же представляет собой встречный процесс
глобализации, который я предложил называть «глобальный
партикуляризм»? Это явление по форме напоминает т.н.
глокализацию. Под «глокализацией» вслед за Рональдом
Робертсоном принято понимать что-то вроде синергии
глобальных и локальных процессов, или «союз глобальной
однородности и локальной разнородности».5 Однако «глобальный
партикуляризм» как термин бросает вызов оптимизму Робертсона
и, скорее, подчеркивает негативные аспекты взаимодействия
глобальной и региональных (локальных) идеологий.5 Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, in: Global Modernities (eds. Featherstone M., Lash S., Robertson R. ), London: SAGE, 1995, pp.25-44
5
Речь идет о фрагментарном «ренессансе» локальных
культур и образа жизни, индуцированном «сверху»
глобализацией, например, глобальными туроператорами, а также
о разнообразных локальных формах турбулентного
противодействия процессу глобальной унификации,
стандартизации и т.п. в духе уже рассмотренного прозападного
партикулярного глобализма. Носители глобального
партикуляризма, а это подавляющее большинство жителей
планеты, могут преследовать деструктивные цели, но чаще они
являются просто пассивными потребителями «продуктов»
прозападного партикулярного глобализма, приспособленных к
локальной специфике (см. ниже). Именно поэтому их следует
отличать от антиглобалистов, обычно атакующих идеологию
глобализма из чисто спортивного или коммерческого интереса.
Антиглобализм чисто реактивен, он просто реагирует на акты
глобализации, т.е. не имеет собственного содержания.
Совсем другое дело глобальный партикуляризм. В качестве
примера глобального партикуляризма можно привести
современное прочтение норм шариата о расторжении брака.
Вопрос заключается в следующем: можно ли расторгнуть
исламский брак посредством SMS или email? Традиционная
исламская идеология крайне негативно оценивает такой способ
развода.6 Но сам факт, что данная тема возникла, весьма
6Ср. Shahin O. The Muslim Family in Western Society: A Study in Islamic Law. South Bend: Cloverdale Corporation. 2007
6
примечателен. Эта тема является продуктом глобального
партикуляризма: в самом деле, зачем «глобализированному
мусульманину» соблюдать всякие «архаичные формальности»,
когда есть современные средства коммуникации, позволяющие
решить проблему в два счета?
В рамках идеологии глобального партикуляризма вполне
допустимо, чтобы мусульманин «озвучивал» ту или иную формулу
исламского развода online, т.е. используя электронную почту.
Таким образом, жена может находиться в Сирии, а муж – в
Канаде: для развода - при желании мужа и наличии предпосылок
в мусульманском праве - ему нет нужды лететь в Сирию.
Необходимо и достаточно только наличие электронных адресов и
обоюдный доступ к компьютеру или мобильному телефону.
Итак, глобальный партикуляризм – это, во-первых,
техника удержания и консервации социо-культурной
идентичности при помощи современных технологий, особенно, в
области коммуникации, т.е. в информационном пространстве.
Во-вторых, глобальный партикуляризм – это ранее невозможная
форма экспансии локальной «социо-культурной идентичности» за
пределы исторически традиционной зоны фиксации этой
идентичности.
Глобализм сделал возможным своеобразное удвоение социо-
культурной идентичности. Так, в исторически традиционной
зоне фиксации социо-культурная идентичность передается и
7
фиксируется в процессе реального межперсонального общения.
Она и теперь продолжает функционировать в своем первичном
виде, но постепенно деградирует под воздействием выше
рассмотренного прозападного партикулярного глобализма. За
пределами зоны фиксации (исторического ареала) по
преимуществу действует уже виртуальная социо-культурная
идентификация online. Нередко ее нельзя считать
самоидентификацией в собственном смысле, поскольку
выстрадать и выпестовать свою персонификацию по интернету
вообще невозможно. Внутри виртуального пространства можно
только конструировать фрагменты своей идентичности из
«контентов», заранее предложенных нередко анонимными
разработчиками этих контентов.
Но главная проблема даже не в этом, а в том, что социо-
культурная идентификация online начинает вытеснять первичную,
т.е. искреннюю и обычно выстраданную самоидентификацию
людей. Первичная же по природе социо-культурная
самоидентификация парадоксальным образом превращается в
нечто «архаичное, неадекватное», т.е. в самоидентификацию
off-line, которая в рамках Интернет-идеологии рассматривается
как «суррогат» для всех тех, кто не умеет или не хочет
интегрироваться в Интернет-параметры того или иного
виртуального шаблона «личности».
8
Как видим, одним из самых серьезных вызовов
глобализации является ранее неизвестный феномен под
названием «Интернет-идеология». Речь идет не просто о еще
одной идеологии в традиционном смысле, т.е. в духе К. Маркса
или К. Мангейма.7 Продуктом этого феномена являются
разноцветные революции по всему миру и, прежде всего,
«национальные» идеологемы этих революций. В этих условиях
существенно сокращается поле для первичных, т.е.
традиционных идеологий, приспособленных лишь к режиму off-
line.
Любая традиционная идеология начинает испытывать все
возрастающее давление со стороны «своего» виртуального
«двойника». Гибкость параллельного виртуального контента не
знает границ: идеологический двойник из интернета начинает
диктовать оригиналу условия off-line функционирования
последнего. В результате виртуальный социализм online может
приобрести фрагменты из контента либертарной идеологии, а
Интернет-фашизм может приобрести некоторые характеристики
традиционного анархизма off-line и т.п.
Одним из самых распространенных и востребованных мифов
Интернет-идеологии является бренд о «всемирной паутине» как
идеологически нейтральном пространстве, а именно потому, что
виртуальное пространство открыто для любой идеологии, и7 Marx K. Die deutsche Ideologie // Marx K., Engels F. Werk., Dietz Verlag: Berlin/DDR. Band 3. S. 5 – 530. 1969; Mannheim, K. Ideology and Utopia. London:Routledge, 1936
9
каждый волен в любой момент покинуть любой сайт и тут же
открыть любой другой. Это далеко не так, поскольку главной
идеологией виртуальной коммуникации является идеология
глобальной демократии.8
Здесь не место разбирать контент этой идеологии, но
название говорит о том, что она никак не может быть
нейтральной. Как бы то ни было, даже отказ от идеологии в
рамках всемирной паутины можно легко превратить в инструмент
пропаганды определенной мировоззренческой позиции, например,
социального индифферентизма. Таким образом, сама возможность
идеологически нейтральных установок для кого бы то ни было
становится крайне иллюзорной. Остается лишь признать, что
идеологическое государство Нового времени уже не в состоянии
контролировать собственные идеологии, которое перестали быть
национальными и превратились в контент всемирной
идеологической паутины.
Конституционно-правовая модель «деидеологизации»
государства на примере федерации
Реалистичный прогноз на будущее не обещает нам
«реституции» ни одной из материальных идеологий в их
традиционном смысле: каждая из них, так или иначе, насильно
обручена со своим – часто ложным и коварным - «Интернет-
аватаром». Вместе они будут тлеть во всемирной паутине и
8 Cohen J., Sabel Ch. F. Global Democracy?// International Law and Politics. 2005. Vol. 37
10
периодически разгораться off-line вплоть ad finem seculorum.9
Однако это не основание для того, чтобы впадать в крайний
пессимизм. Выше мы видели, что фактор «Интернет» фактически
лишил большинство традиционных идеологий их настоящего
межперсонального измерения. Соответственно, их претензии на
«исключительное право» эксплуатировать те или иные
идеологемы в традиционом межперсональном режиме общения
несовместимы с таким феноменом, как глобализация и
взаимопроникновение идеологий в Интернет-пространстве.
Другими словами, глобальная экспансия любого идеологического
контента, его вездесущность во всех закоулках «глобальной
деревни» происходит только за счет утраты содержательного
богатства, оскудения номенклатуры идеологем базовых
(традиционных) идеологий. Более того, порой это даже
приводит к утрате идеологического ядра, что например,
произошло с современным коммунизмом, превратившимся просто в
«радикальную версию» социализма.
Оскудение многих традиционных идеологий (возьмем,
например, «интеллектуальное качество» современного
либерализма,10 не говоря уже о социализме, анархизме или,
тем более, фашизме), характеризует все возрастающую
беспомощность и интеллектуальную заброшенность традиционного
идеологического государства. Проблема уже не в том, что
9Лат. «до скончания веков»
10Ср. Wolfe A. The Future of Liberalism. New York: Random House. 200 11
правящие элиты всех государств мира не знают, что делать
дальше (это, кстати, норма для большинства политиков во все
времена). Проблема заключается в том, что правящие элиты уже
не знают, во что верить - либерализм, социализм,
национализм, интернационализм? В условиях, когда виртуальное
пространство начинает диктовать правила игры для реального
пространства, уже трудно отличить контент одной идеологии от
любой другой.
Но социальные науки, как раз и существуют для того,
чтобы формулировать возможные решения для актуальных
социальных проблем. Нейтрализовать указанные проблемы
Интернет-дезинтеграции традиционных идеологий можно было бы
посредством их де-этатизации. Термином «де-этатизация» я
обозначаю, систематический процесс политической
нейтрализации традиционных (материальных) идеологий, их
структурную «депортацию» из всех институтов государственной
власти. Но как достичь этой цели, если, как выяснилось,
любая идеология в принципе бессмертна, особенно, в
виртуальном пространстве?
Здесь нам поможет прием, который я применил, так
сказать, a propos и, наверно, не совсем к месту еще в
кандидатской диссертации, предложив собственную
классификацию федераций.11 Для указанной классификации я11 Королев С.В. Федерализм в развивающихся странах: Индия, Малайзия, Пакистан. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридически наук. М., 1996. С.11
12
использовал известную метафору позднего Виттгенштейна, а
именно понятие «семейное сходство» (Familienähnlichkeit).12
Ядро этой метафоры носит явно идеологический - и даже -
полемический характер: при помощи этой метафоры Виттгенштейн
критикует склонность человеческого интеллекта искать при
сопоставлении, или сравнении каких-либо явлений т.н.
существенную общую черту, которая часто фиксируется на
интуитивном и даже подсознательном уровне.
Соответственно, помимо традиционных идеологий ту же
(концептуально-интегративную) функцию может выполнять лишь
уловимое - обычно нерефлексивное - семейное сходство
сопоставляемых явлений. Например, у Ивановых близко
посаженные глаза, но не у всех. Далее, у Ивановых тонкие
верхние губы, но не у всех, Далее, у Ивановых, кривые ноги,
но не у всех и т.п. Таким образом, зная набор этих семейных
черт, мы можем - разумеется, без гарантии на стопроцентный
успех, - идентифицировать кого-то в качестве «Иванова»
(например, по близко посаженным глазам или по тонкой верхней
губе и т.п.). Таким образом, метафора «семейное сходство»
просто указывает на некий известный перечень сходных черт,
которые в разной комбинации могут быть реализованы тем или
иным представителем семьи. При этом, как правило, не
12Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Blackwell Publishing. (1953/2001). §§65-71
13
существует такой семейной черты, которая была бы присуща
всем из этого семейства без исключения.
Однако нам, юристам, форма нередко дороже содержания.
Отсюда, нас не может полностью удовлетворить мысль, которую
трудно формализовать, даже если это идея самого
Виттгенштейна. Ясно, что «семейное сходство» как инструмент
познания теряет всякий смысл, если мы не имеем никакого
представления о содержании списка конкретных (неформальных)
семейных черт. Соответственно, традиционная идеология теряет
всякую функциональность, если ее содержание размыто,
затеряно или разграблено другими идеологиями и в современную
эпоху отчуждено посредством различных виртуальных двойников
этой идеологии.
Если под «деиделогизацией» понимать разложение или даже
«гниение» идеологического контента, то мы можем смело
утверждать, что являемся современниками заката традиционного
идеологического государства, которое вынуждено питаться
продуктами идеологического распада. Если же под
«деидеологизацией» понимать формальную процедуру, что
гораздо приятнее и нам, юристам, понятнее, то проблема
элиминации традиционных (материальных) идеологий решается
относительно просто: надо лишь формализовать само понятие
«идеология». В результате, вместо идеологии в традиционном
14
материальном смысле, мы можем сконструировать идеологию в
формальном смысле.
Традиционная (материальная) идеология всегда берет свое
начало с определенного контента,13 т.е. конкретного
содержания, например, «мужчины и женщины равны» (феминизм),
«евреи коррумпируют арийскую расу» (нацизм), «государство
несовместимо со свободой личности» (анархизм), и затем
пытается нормативизировать этот контент. Нормативизация
контента означает, что идеология берет на себя функцию
регулировать или даже контролировать поведение людей.
Формальная (нетрадиционная) идеология, напротив, всегда
начинает с предельно абстрактных или универсальных
понятий.14 Они могут символизировать пространственные
отношения (выше-ниже), количественные (больше-меньше),
порядковые (первый, второй), хронологические (раньше-позже)
и т.п. Отсюда, в основе формальной идеологии могут лежать
такие понятия, как субординация, координация,
субсидиарность, бинарность, троичность. Лишь сформировав
список таких понятий, формальная идеология по необходимости
придает им содержательный характер. Таким образом, категория
«формальная идеология» вовсе не означает, что в ней никакого
содержания. Данное понятие просто индексирует примат формы13 См. Duncker Chr. (Hg.) Ideologiekritik Aktuell – Ideologies Today. Bd. 1. London. 2008
14 Ср. Kelsen H. Reine Rechtslehre. 1. Aufl., Leipzig und Wien 1934 (2. Aufl.: Wien 1960)
15
над содержанием в отличие от традиционных идеологий, где
содержание всегда довлеет над формой (за исключением,
либерализма).
Юристы в принципе могут конструировать идеологии без
традиционного контента. Более того, юристы нередко находят
весомые аргументы как раз в пользу таких «бессодержательных»
идеологий. В современной России одним из первопроходцев в
этой области является профессор А.П. Любимов, который в
рамках антикоррупционного проекта убедительно демонстрирует
преимущества лоббизма как исключительно прагматической
идеологии.15
Профессор Любимов известен своей исключительной
политкоректностью и, вероятно, не станет разделять моих
выводов по поводу полезности лоббизма как идеологии именно
для России. Однако я считаю, что преимущества лоббизма
заключаются как раз в его честном «цинизме», т.е. в
откровенности без всякого ложного пафоса, характерного для
традиционных (материальных) идеологий. Я полагаю, что для
современной Российской Федерации могли бы подойти две
формальные национальные идеологии, полностью соответствующие
политико-территориальному устройству России:
Формальный (процессуальный) федерализм и
Формальный (процессуальный) регионализм.
15 Любимов А.П. История лоббизма в России. М.: ¨Фонд Либеральная миссия. 200516
Они не имеют традиционной идеологической начинки и
поэтому практически неуязвимы для атак из Интернета с целью
их насильственного преображения. В принципе эти идеологии
так же, как и лоббизм, можно назвать прагматичными или
функциональными. Ведь их «сущность» (Что? Почему?) совпадает
с их инструментальностью (Где? Когда? Каким образом?).
В качестве дефиниции формального федерализма можно
предложить следующую редакцию: «Формальный федерализм
является идеологией партии федералистов». Аналогичную
тавтологию можно предложить и для юридического определения
регионализма. На данном этапе анализа пока еще непонятно,
как эти две партии могут и должны взаимодействовать в рамках
политической системы государства. Интуитивно – на уровне
метафоры - ясно лишь одно, что для федералистов союзное
государство что-то вроде бесшовного покрывала, а для
регионалистов федерация - это, скорее, лоскутное одеяло,
причем родной «лоскут» иному регионалисту ближе и дороже чем
все остальные «лоскуты» вместе взятые.
К счастью, у конституционалистов есть возможность
внести заметное оживление в банальную скуку исходных
противоборствующих идеологем. Среди юристов эти средства
хорошо известны романистам, которые по преимуществу являются
цивилистами. Что касается публичников, то нам эти средства
(см. ниже) дороги и близки, прежде всего, как инструменты
17
конституционного права Пятой республики. Речь идет о
принципе функционального раздвоения (dédoublement
fonctionnel)16 и принципе бицефализма (bicéfalisme).
Названия обоих принципов достаточно красноречивы.
В случае бицефализма одна и та же функция
распределяется на двух носителей. Например, и Президент, и
Премьер-министр Франции обладают – каждый в отдельности –
неотчуждаемыми полномочиями исполнительной власти. Принцип
бицефализма не исключает асимметрии полномочий. В
приведенном примере эта асимметрия явно не в пользу
Президента Республики.
При функциональном раздвоении один и тот же орган
власти выполняет две – порой трудно совместимые – функции.
Обычно приводят в пример префекта как главу французского
департамента.17 Но можно найти примеры буквально на
последних ступенях административной системы. Например, любой
французский мэр является высшим исполнительным органом
местной власти - и в этой части обладает политической
самостоятельностью и существенной свободой усмотрения. С
другой стороны, этот же мэр одновременно замыкает систему
государственной власти снизу – и в этой части является
16Scelle G. Précis de droit des gens. Principes et systimatique Vol. 1. 1932 pp. 43, 54-56, 217
17 Quermonne J.-L., L'appareil administratifde l'Etat // Points Seuil, Nr. 143 (1991), p. 304
18
исполнительным органом любого министерства Франции и уже не
пользуется никаким существенным усмотрением.
Ничто нам не мешает применить оба принципа для
оживления изначально скучного политического ландшафта
гипотетической федералистско - регионалистской федерации.
Сначала попробуем применить принцип функционального
раздвоения к обеим партиям с добавлением известного критерия
романо-германской правовой семьи, а именно дихотомии
«публичное право – частное право». В результате получим
следующую двоичную структуру каждой из партий:
Федералисты de jure publico (федералисты-публичники)
Федералисты de jure civilis. (федералисты-цивилисты)
Соответственно, партия регионалистов получит
аналогичную структуру:
Регионалисты de jure publico (регионалисты-публичники)
Регионалисты de jure civilis. (регионалисты-цивилисты)
Теперь попробуем применить к нашим партиям принцип
бицефализма. В результате получаем две кросс - партийные
коалиции (1+2; 3+4):
Федералисты de jure publico + Регионалисты de jure
publico и
19
Федералисты de jure civilis + Регионалисты de jure
civilis.
Как ни парадоксально покажется на первый взгляд, но
применив метафору «семейного сходства» по Виттгенштейну
(Familienänlichkeit), на четырех политических игроков из
двух политических партий мы получаем четыре «политические
семьи», а именно:
Семью федералистов (публичники + цивилисты)
Семью регионалистов (публичники + цивилисты)
Семью политических публичников (соответствующие фракции
федералистов и регионалистов) и
Семью политических цивилистов (соответствующие фракции
федералистов и регионалистов).
Нетрудно заметить, что две последние семьи формально
являются «трансграничными», или кросс-партийными, так как
формируют свой контингент «поперек» границ двух официальных
партий – партии федералистов и партии регионалистов.
Основанием выделения третьей и четвертой семьи в отдельные
политические и, быть может, парламентские структуры является
общая для каждой из них семейная черта. Так, политические
публичники обычно узнаваемы по склонности к централизации
политической власти, концентрации государственных
полномочий, к принципу субординации и - в тенденции - к
20
авторитаризму. Напротив, семейной чертой политических
цивилистов является их наклонность к децентрализации
политической власти, деконцентрации государственных
полномочий, к принципу координации и – в тенденции – к
анархизму.
Теперь следует решить вопрос о (де)централизации18 и
(де)концентрации политической власти как партии
федералистов, так и партии регионалистов в пределах одного и
того же союзного государства. На первый взгляд, по поводу
пространственного совмещения партии федералистов и партии
регионалистов в одних и тех же структурах государственной
власти возникают три существенных возражения:
1/ Двусмысленны, прежде всего, сами словосочетания
«региональный федералист» и «федеральный регионалист». С
точки зрения классической логики они вообще бессмысленны,
так как нарушают, как минимум, закон тождества и закон
непротиворечия.
2/ Далее, федералист в любом российском регионе – чисто
интуитивно с этим трудно спорить – скорее всего, станет
заложником соответствующего регионального истеблишмента,
т.е., строго говоря, перестанет быть федералистом. С другой
стороны, регионалист «в столице» легко может стать жертвой18Furniss N. The Practical Significance of Decentralization // The
Journal of Politics. (1974), Nr. 36 (4): 958–82; Ohnet J.-M. Histoire de la
décentralisation française. Paris: Librairie générale française. 1996 21
синдрома д’Артаньяна и вместо того, чтобы защищать «малую
родину», начнет ею торговать, чтобы «завоевать Париж».
3/ Относительно, регионалиста «в столице» есть еще
дополнительное, причем, исключительно доктринальное
возражение, ставшее классикой теории конституционного права.
Речь идет о т.н. запрете императивного мандата. Согласно
этому принципу никто не вправе давать народному избраннику
каких-либо наказов или указаний. Это, в частности, означает,
что регионалист в органе федерального уровня просто обязан
перестать быть представителем своего региона.
Но, с другой стороны, к чему нам сохранять лояльность в
отношении запрета императивного мандата? Если мы решили
нейтрализовать политический потенциал традиционных
материальных идеологий, то это решение, не в последнюю
очередь, касается и пресловутого запрета императивного
мандата. Ведь этот запрет не что иное, как идеологема
руссоизма, точнее, инструмент французского национализма в
духе Ж.-Ж. Руссо.19
Каковы же выводы? С одной стороны, невозможно допустить
взаимную институционально - организационную изоляцию партии
федералистов и партии регионалистов. Это неизбежно приведет
к иррациональному и поэтому недолговечному двухъярусному
однопартийному режиму. При таком режиме федералисты будут
19 См. Rousseau, J.-J. Du Contrat social. Ed. 1762 22
какое-то время контролировать федеральную систему публичного
управления, а регионалисты - региональную, причем, последние
- только в рамках соответствующего «лоскута» общего
«одеяла». В результате, союзное государство, вероятно,
распадется, по крайней, мере, на несколько самых крупных
«лоскутов».
С другой стороны, как можно терпеть оксюмороны типа
«федеральный регионалист» и «региональный федералист»,
которые разрушают всю архитектонику нашей модели формально-
процессуальной политической системы? С этим вопросом надо
разобраться более подробно. Действительно, невозможно
допустить интеграцию двух указанных оксюморонов в нашу
модель (формально-процессуальной) двухпартийной системы
федерации. Но в этом и нет необходимости. Достаточно задать
себе простой вопрос: Откуда вообще берутся будущие
федералисты?
Я не уверен, что кто-то может родиться регионалистом,
но я абсолютно убежден в том, что федералистами точно не
рождаются. У каждого «федералиста» есть своя малая родина. И
каждый «федералист» имеет региональные, точнее, локальные
корни. Другое дело, что любой гражданин союзного государства
может стать федералистом со временем, по мере социализации и
политического взросления, и тогда уже общегосударственные, а
не исключительно земляческие интересы начинают выходить на
23
первый план. При таком подходе, главная задача заключается
не в том, чтобы «вытеснить» федералистов из регионов, так
как эта затея несовместима со здравым смыслом. Задача
заключается в том, чтобы продумать и инструментализовать
защиту конкретного представителя партии федералистов,
представленного и, более того, политически ангажированного в
том или ином регионе.
Здесь на помощь приходит китайский принцип
межрегиональной ротации.20 Скажем, каждый представитель
партии федералистов в той или иной региональной легислатуре
автоматически переводится в другую региональную легислатуру
(например, каждые пять лет). Можно даже предусмотреть
механизм, когда на выборах в региональные парламенты
полностью заменяется контингент депутатов-федералистов. Для
этого, разумеется, придется синхронизировать региональные
выборы. Во-вторых, потребуется установить пропорцию между
депутатами, подлежащими ротации, и «свежей кровью», т.е.
федералистами, вновь избираемыми в региональные парламенты.
На мой взгляд, нет непреодолимых препятствий и для
того, чтобы в принципе заблокировать и другой оксюморон под
названием «федеральный регионалист». Я думаю, что серьезным
противоядием для развития синдрома д’Артаньяна у того или
иного регионалиста, ставшего депутатом федерального уровня,20 Worthley J.A. Public Administration in the People’s Republic of China: An Overview of Values and Pracitices // Public Administration Review. Vol. 44. No.6 (Nov. - Dec., 1984). pp. 518-523
24
может стать институт коалиционного межрегионального пакета
(требований). Разумеется, такой институт имеет некоторое
отдаленное сходство с императивным мандатом.21
Однако, во-первых, различия все-таки превалируют:
коалиционный межрегиональный пакет (требований) регионалисты
федерального уровня формируют самостоятельно путем
переговоров с другими регионалистами, хотя и в рамочном
контексте доминирующих проблем своего собственного региона.
Во-вторых, институт коалиционного межрегионального пакета по
определению заставляет соответствующего регионалиста,
ставшего депутатом федерального уровня, стремиться к
укреплению связей собственного региона с другими регионами,
имеющими аналогичный вектор доминирующих проблем.
Иначе говоря, институт коалиционного межрегионального
пакета (требований) заставляет регионалиста, ставшего
депутатом федерального уровня, устанавливать и укреплять,
прежде всего, связи по горизонтали, а не по вертикали
властеотношений. Нельзя не отметить и другой важный аспект
рассматриваемой модели федерации с точки зрения экономии
государственного бюджета: формирование федерального
парламента по принципу двух партий (федералистов и
регионалистов), на мой взгляд, делает избыточной систему
21 См. Van der Hulst M. The Parliamentary Mandate: a Global Comparative Study.Geneva: Interparliamentary Union. 2000
25
бикамерализма, так как регионалисты и так уже представлены
на федеральном уровне.
Как же в общих чертах может выглядеть однопалатная
модель двухпартийного (федералистско - регионалистского)
союзного государства? И главное: о чем могут спорить
федералисты и регионалисты? С учетом указанных выше
принципов функционального раздвоения и бицефализма следует
подчеркнуть двойной статус каждого депутата любого уровня. В
результате получаем четыре бинарные комбинации:
Федералист-публичник
Федералист-цивилист
Регионалист-публичник
Регионалист-цивилист.
Таким образом, каждый депутат как регионального, так и
федерального уровня, во-первых, принадлежит к
соответствующей политической партии (либо партии
федералистов, либо партии регионалистов). Во-вторых, этот же
депутат принадлежит к соответствующей кросс-партийной
коалиции, которая также имеет свою организацию и
парламентскую структуру (председателя и т.п.). При
голосовании по тому или иному вопросу каждый депутат делает
свободный выбор либо в пользу своей официальной политической
принадлежности (=федералистская или регионалистская опция),
26
либо в пользу своей кросс - партийной принадлежности
(=публично-правовая или цивилистическая опция).
Тем не менее, всякий федералист любого уровня
представительства при обсуждении любого вопроса всегда
связан принципом федерального стандарта, от которого он не
может «отказаться», мотивируя это своими кросс-партийными
аргументами. Соответственно, регионалист в любой официальной
дискуссии связан принципом социо-культурной специфики
(собственного региона) и не может торпедировать этот
принцип, ссылаясь на свою кросс-партийную принадлежность.
Иначе говоря, федерально-региональная дихотомия политической
системы превалирует над её публично-частноправовой
дихотомией.
Список литературы
Королев С.В. Федерализм в развивающихся странах: Индия, Малайзия, Пакистан. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридически наук. М.,1996.
Любимов А.П. История лоббизма в России. М.: ¨Фонд Либеральная миссия. 2005.
Bhagwati J.In Defense of Globalization. Oxford UniversityPress: Oxford, 2004.
Cohen J., Sabel Ch. F. Global Democracy?// International Law and Politics. 2005. Vol. 37.
Duncker Chr. (Hg.) Ideologiekritik Aktuell – Ideologies Today. Bd. 1. London. 2008.
27
Furniss N. The Practical Significance of Decentralization// The Journal of Politics. (1974), Nr. 36 (4): 958–82.
Kelsen H. Reine Rechtslehre. 1. Aufl., Leipzig und Wien 1934 (2. Aufl.: Wien 1960).
Mannheim, K. Ideology and Utopia. London: Routledge. 1936.
Marx K. Die deutsche Ideologie // Marx K., Engels F. Werke. Dietz Verlag: Berlin/DDR. Band 3. S. 5 – 530. 1969.
Ohnet J.-M. Histoire de la décentralisation française. Paris: Librairie générale française. 1996.
Quermonne J.-L., L'appareil administratifde l'Etat. Points Seuil Nr. 143. 1991. p. 304.
Rehbein B., Schwengel H. Theorien der Globalisierung. Konstanz, 2008.
Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-
Heterogeneity, in: Global Modernities (eds.
Featherstone M., Lash S., Robertson R. ), London: SAGE,
1995
Rousseau, J.-J. Du Contrat social. Ed. 1762.
Scelle G. Précis de droit des gens. Principes et systimatique Vol. 1. 1932.
Shahin O. The Muslim Family in Western Society: A Study in Islamic Law. South Bend: Cloverdale Coprporation. 2007.
28
Scholte, J. A. Globalization: A Critical Introduction. New York: St. Martin's, 2000.
Tomlinson, J. Globalization and Culture. Cambridge: PolityPress, 1999.
Van der Hulst M. The Parliamentary Mandate: a Global Comparative Study.Geneva: Interparliamentary Union. 2000.
Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Blackwell Publishing. (1953/2001). §§65-71
Wolfe A. The Future of Liberalism. New York: Random House. 2009.
Worthley J.A. Public Administration in the People’s Republic of China: An Overview of Values and Pracitices// Public Administration Review. Vol. 44. No. 6 (Nov. -Dec., 1984). pp. 518-523.
29