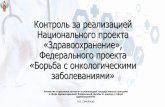ИНТЕРВЬЮ С П.М. КОЖИНЫМ / INTERVIEW WITH: PAVEL M. KOZHIN
Transcript of ИНТЕРВЬЮ С П.М. КОЖИНЫМ / INTERVIEW WITH: PAVEL M. KOZHIN
1
ИНТЕРВЬЮ С П.М. КОЖИНЫМ
INTERVIEW WITH: PAVEL M. KOZHIN
Проект: Китаеведение – устная история
Выполнено при поддержке международного гранта РГНФ – Национальный
Научный Совет Тайваня (ННС) 2012, проект № 12-21-10000, 8122100100007
Supported by the Russian Humanitarian Scientific Foundation – National Scientific
Council of Taiwan (NSC), the international research grant "China Studies – the
Epistemology of the oral history, project № 12-21-10000, 8122100100007
Павел Михайлович Кожин (ПК)
Д. ист. наук, востоковед, китаевед,
культуролог, главн. науч. сотр. ИДВ
РАН.
Дата интервью: 26.09.2012
Место интервью: г. Москва
Запись интервью и комментарии:
Кузнецова-Фетисова М. Е. (К-Ф),
мнс ИВ РАН
Продолжительность: 4 ч
Объем текста с комментариями: 143
185 знаков с пробелами, 80 с. по
1800 зн., 3,6 а.л.
Pavel M. Kozhin
Dc. of Sc. (equiv. Habilitation),
historian, archaeologist, Chief
Researcher, the Institute of Far East,
RAS
Date of the Interview: the 26Th
of Sept.
2012
Place: Moscow
Interviewed and commented by:
Marina Kuznetsova-Fetisova, IOS RAS
Duration: 4 h
Text volume (with comments): 80 р.
Кожин Павел Михайлович (род. 18.09.1934). Окончил
Истфак МГУ в 1959. До 1976 работал в Институте
Истории Материальной культуры (позднее Институт
Археологии) АН СССР. Затем – в Институте Дальнего
Востока АН СССР (ныне ИДВ РАН), где работает по
настоящее время главным научным сотрудником и
ответственным редактором. Доктор историч. наук (1990).
Научные интересы включают проблемы истории,
философии, религиоведения, культурологии, филологии,
этнологии, археологии, исторической и социальной антропологии. Большая часть
исследований связана с Китаем, но немало публикаций затрагивают проблемы Евразии и
Северной Америки. Автор более 400 научных работ (статьи, обзоры, заметки, рецензии и
др.), в т. ч. 4-х монографий. Научный редактор десятков сборников, монографий и
информационных изданий
2
Полный текст интервью:
К-Ф: Представьтесь, пожалуйста, кто Вы, где и когда родились?
ПК: Я, Кожин Павел Михайлович, родился в Москве 18 сентября 1934 г.,
в семье старых большевиков, принадлежавших к комсоставу Красной Армии.
Отец по болезни был уже в запасе. Родители жили тогда на Арбате, и
поэтому я появился на свет в известном родильном доме Грауэрмана.1
Родители мои были военными, и отец2 в то время был давно в отставке, болел.
Он был намного старше матери, родился в 1886 г. Поэтому работала в это
время в основном мать.3
Отец занимался очень многими вещами. Он был и инженер, и архитектор,
и инженер-мебельщик, уж не говоря о том, что по современным чинам он
был адмиралом флота. Последним отцу пришлось стать потому, что после
революции 1917 (он участвовал во всех революциях, начиная с 1905),
естественно, специалистов было мало. Уже в 1-ю мировую войну он служил
во флоте – и кого было назначить? Отец был заместителем военного
комиссара по военно-морскому флоту, руководил военными операциями во
время наступления Антанты на север. Вначале воевал в Латвии в 1919, а в
1920 его назначили «замком по морде» (заместитель военного комиссара по
морским делам), как он говорил, и отправили в Архангельск и Мурманск, и
прочие места, где он остался без единого зуба. Так что я в некотором роде
повторяю его судьбу – у меня осталось 5 зубов. У отца их не было из-за
цинги – в 30 с чем-то лет человек остался без ничего. Тогда никаких протезов
не делали, и ему так привычно было. Так он и прожил всю жизнь без зубов.
Но здоров был невероятно. В общем, несмотря на все эти болести, как-то
выпутался и дожил до 80 лет с совершенно ясной головой и полной
работоспособностью. Вернулся к своей ранней профессии театрального
художника, насколько это было возможно.
Отец даже успел получить Орден Ленина за первую русскую революцию
1905, потому что он тогда руководил двумя боевыми дружинами, которые
охраняли все демонстрации и, в частности, знаменитые похороны товарища
Баумана Николая Эрнестовича.4 В дальнейшем он руководил ГУВУЗ’ом –
Главным Управлением высших учебных заведений РККА. Так и хоронили
его как старого большевика и старого «морского волка» – «отпевали» в
Музее Революции с матросами и салютом на кладбище.
Все семейство отца, большой клан тогда еще был – они все были
монархистами. А человек обиделся и пошел в революцию.
1 Григорий Львович Грауэрман (1861-1921). Известный врач, акушер-гинеколог. Его имя
было присвоено родильному дому №7 на Б. Молчановке (пр. Новый Арбат) 2 Кожин, Михаил Владимирович (1886-1966). Советский партийный, государственный и
военный деятель, художник, заслуженный деятель искусств РСФСР 3 Кожина Клеопатра Константиновна (1905-1985)
4 Бауман Николай Эрнестович (1873-1905). Профессиональный революционер, большевик.
Убит во время демонстрации 18 октября 1905.
3
К-Ф: Когда Вы впервые узнали, что существует такая страна, как Китай, и
как это произошло?
ПК: О существовании Китая я узнал в самом Китае. В возрасте 10
месяцев я попал в Харбин, и мои воспоминания начинаются в Харбинской
больнице (мне был год), где мне делали операцию. Вообще, как я выяснил,
если человек оказывается в каких-то очень трудных ситуациях, у него могут
сохраняться очень ранние воспоминания. А в моем случае воспоминания
остались очень отчетливые. Первое, что я помню в своей жизни – как няня
носит меня на руках в больнице после операции на гландах.
Ребенка просто нельзя перевозить в таком раннем возрасте. Каждый раз,
когда это происходило, я потом очень тяжело болел, чуть не помирал. В
итоге я выживал. Но тот испуг взрослых, какая-то суета вокруг –
вспоминаются. Там же, в Харбине, я научился говорить. Это произошло
примерно в 2 года. Говорить я начал по-русски, что достаточно странно, ибо
в Харбине, в августе 1935 – апреле 1937 гг., окружение было многоязычным,
и вокруг звучали разные языки.
К-Ф: 3. Каким был изначальный образ Китая в Вашем восприятии, еще в
то время?
ПК: Конечно, никакого «образа Китая» у меня тогда не могло сложиться.
Но и теперь, когда мне уже под восемьдесят, я продолжаю утверждать: как
можно плохо относиться к людям, которые носили тебя на руках? Хоть они и
придумали мне китайское имя, что-то вроде «Сына богатых родителей» (富贵
子 -?). А когда вернулись в Москву и картонный черный репродуктор-
«тарелка» дребезжал очередные тяжелые военные новости из Китая, мне
всегда было жаль тех людей, которые остались там.
К-Ф: Вы прожили в Харбине до 1937?
ПК: В 1937 мы уехали из Харбина на родину. Эту поездку с японскими
проверками бесконечными я тоже помню. И, конечно, запомнил прекрасно,
как нас встречали на станции Отпор5 советские пограничники. Помню, как
мы приехали в Москву, а затем – парад первомайский. Мы жили в гостинице
«Москва», на 10-м этаже, и я смотрел этот парад, всякую военную технику,
как она выезжала на Красную площадь. Очень здорово!..
К-Ф: Может, у вас всё же остался от той поездки какой-нибудь
изначальный образ Китая – запомнившиеся детские впечатления от
пребывания там, какие-то яркие моменты, помимо больницы?
ПК: Что Вам могу сказать? Ведь я находился в Китае в момент
формирования речи у ребенка, и у меня сам по себе речевой образ китайского
населения, видимо, внутри сформировался. Поэтому для меня никогда не
была чужой ни сама китайская речь, ни произношение. Я ее не понимал, но
она все равно во мне как-то жила.
К-Ф: Ваша матушка владела китайским языком?
5 После конфликта на КВЖД в 1929 Забайка льск был переименован в станцию «Отпор»;
по просьбе Китайского правительства в 1958 «Отпор» был вновь переименован в
«Забайкальск».
4
ПК: Нет. Как все работники ее ведомства, она проходила работу в очень
разных местах. Европейские языки она знала (немецкий, французский), а
Китай – это и было-то недолго. Тем более, в МГУ она училась на инженера-
химика... Когда мы были в Китае, моим крестным оказался служивший там
комкор Павел Иванович Берзин.6 Но я знаю это только по рассказам старших.
К-Ф: Даже партийным крестины были еще не чужды!
ПК: Тут были совершенно другие критерии. Это было необходимо,
потому что, когда мы там были, нельзя было нанять хорошую няньку,
которая бы возилась с ребенком некрещеным.
К-Ф: В Харбине ?
ПК: Да. И поэтому меня крестили в первый раз. Второй раз меня
крестили (тоже, кстати, домработница) в Угличе, в 1938, кажется, году. А
первый раз крестили под именем Алексея.
К-Ф: Как интересно!
ПК: Ну, ладно, это было слишком давно. Самое главное, что у меня уже в
раннем детстве, когда только язык у человека формируется, очень сложное
восприятие языковой среды получилось. Я очень поздно начал говорить.
Мама говорит, что я сам с собой разговаривал до двух лет. Сам себе что-то
говорил, отвечал. А вслух не говорил, с людьми я не общался никак. Именно
потому, что вокруг говорили по-разному. Случаи задержки такого рода я
знаю, но они часто связаны с тем, что человек угнетенным становится. Но со
мной этого не получилось, слава Богу.
К-Ф: Кто повлиял на Ваши интересы и выбор профессии? Родители,
друзья, знакомые?
ПК: Интерес к Китаю проявился у меня очень рано и присутствовал в
моей жизни постоянно. Тем более, что до и отчасти после войны я рос в
окружении китайских вещей. Очень много было всего, потому что через год
после приезда нам прислали целый вагон имущества, которое у нас там было
нажито. И вот, старшие с ним разбирались... Но я с детства думал о военной
профессии, наследственной в семье «с незапамятных времен». Я был уверен,
что тоже буду военным. И всё выбирал – идти мне в Нахимовское училище
или в Суворовское училище. К несчастью, после приезда в Москву из
Средней Азии я в очередной раз заболел от поездок, и заболел очень тяжело.
Потом выяснилось, что это был костный туберкулез. Почти год я лежал в
туберкулезной больнице. И ясно было, что к военной службе я уже не гожусь.
Правда, я не хотел в таком состоянии оставаться, поэтому после больницы
стал упражняться. Костыли бросил, палку бросил и стал нормально ходить. А
когда вошел в нормальный юношеский возраст, то всё притихло, все эти мои
болезни. Я даже думал, что выкарабкался. Но, оказалось, не совсем. В общем
я был вынужден думать о мирной профессии, о научной работе, которую
6 Ян Ка рлович Бе рзин (Бе рзиньш, латыш. Jānis Bērziņš; наст. Пе терис Я нович Кю зис;
партийная кличка – «Старик»; 1889-1938). Советский военный и политический деятель,
один из создателей и руководитель советской военной разведки, армейский комиссар 2-го
ранга (1937). Стал жертвой репрессий. Реабилитирован посмертно
5
обычно в той или иной мере вели офицеры Императорского и Советского
Генштаба...
Единственно, о чем мог всерьез думать юноша, лишь в 17 лет начавший
нормально передвигаться на двух ногах – это гуманитарные и отчасти
естественноисторические (в «старинных классификациях») науки. Тут
старшие надоумили меня, что есть две вещи – языки и история – то, чем
человек может заниматься не будучи, скажем так, вполне здоровым
физически. Все родственники, друзья и сослуживцы родителей либо учились,
либо жили и работали за рубежами страны, часто многие годы. Отец после
Революции 1905 г. долгие годы мог бывать в России только «неофициально».
Он учился во многих университетах Германии, участвовал как
профессиональный театральный художник в «Дягилевских сезонах» в
Париже, а затем стал главным инженером одной шведской мебельной фирмы.
И широта его образования (искусство, архитектура, электротехника,
механика, деревообработка, стандартизация производства и пр.), и знание
восьми европейских иностранных языков, облегчили для меня и
сознательный выбор профессии, и знакомство с языками и языковой
подготовкой. Я не мог ориентироваться в ней на активное речевое общение.
Меня интересовало чтение национальной и специальной литературы на
немецком французском, английском, голландском языках. Позже к ним
присоединились итальянский, латынь, древнегреческий, польский. В
эвакуации в Ташкенте, в школе, нас начали учить узбекскому языку, в чем
помогало знание матерью бытового крымско-татарского языка (наряду с
немецким и французским, необходимыми ей по работе). Это дало мне очень
рано представление о различных языковых семьях и подготовило не только к
освоению китайского языка (так же в частном порядке), под руководством
очень известного и заслуженного профессора Московского института
востоковедения (МИВ), а также к началу знакомства с древними семитскими,
иранскими и прочими языками.
К-Ф: Кто ещё, помимо родителей, повлиял на Ваш выбор профессии?
ПК: Очень большое значение, как личность, имел один выдающийся
человек, начальник Разведуправления Павел Иванович Берзин, которого
расстреляли 29 июня 1938. Расстреляли "по должности", потому что никакой
вины за ним не было. Да он сам говорил об этом фаталистически, что, мол,
полагается. Даже помню, что когда его забирали, он как раз обещал придти к
нам на праздник. Целая группа собралась, мы его ждали все, а он уже не
пришел. Это было 7 ноября 1937, а его, как мы выяснили, забрали 3-го числа.
Но, как мне потом передавали, он сам считал и говорил, что для него тут
другого выхода нет. И человек, которого ещё при царизме в первый раз в 15
лет приговорили к расстрелу, был расстрелян уже своей властью. Ну, ладно,
это все "поэзия". А тогда это был очень тяжелый праздник, 7 ноября 1937. Ян
Карлович был очень яркий человек, он дружил с родителями. Так что,
несмотря ни на что, память о нем в семье всегда сохранялась.
6
Его вообще интересовали общие крупные проблемы взаимоотношений
больших человеческих групп и возможности их взаимодействия. Сейчас
очень много чепухи пишут ужасной. А среди партийных работников, среди
руководителей партии, было очень много убежденных людей. В круг
общения, в котором я находился в детстве, входили представители 3-го
Интернационала. Во-первых, они говорили на самых разных языках. Во-
вторых, это были не купленные люди, а люди с очень серьезными,
действительно глубокими убеждениями. И Берзин был такой тоже. И как раз
проблема Китая его занимала очень. Ему и работать в Китае приходилось, и
встречаться с тогдашними китаистами специально. Кто остался живой, его
помнили и рассказывали о его интересе к стране.
Среди своих работников отношения были, как в большой семье, потому
что сама работа была очень сложная, очень опасная. В общем, если вы на
войне, то там снаряд попал, вас убьют. А здесь, как и где вас убьют, и
вообразить невозможно. Был и совсем другой характер отношений, и другой
характер людей. Потому что тут – не деньги, не карьера, тут – убеждения.
К-Ф: Выходит, влияние взрослых и проблемы со здоровьем подтолкнули
Вас заняться изучением Китая?
ПК: Как видите, картина первых шагов получается весьма нетипичная. Я
не собирался изначально заниматься китаеведением как профессией, что
избавило меня от мытарств, пережитых многими коллегами, после того как
Н.С. Хрущев умудрился «отменить» китаеведение в нашей стране. Но пока в
моем рассказе до этого еще далеко. Собственно, моя подготовка к будущей
научной работе начиналась с книг (а в течение года пребывания в
туберкулезных больницах ими и ограничивалась. При этом мне пришлось
еще выдержать большую борьбу с администрацией одной из больниц, где
думали, что из пользования энциклопедическим словарем я могу извлечь
информацию по возрасту для меня преждевременную). Мне была интересна
литература, из которой я получал комплексное представление о природе и
людях разных ареалов и регионов Евразии. Т.е. в моих уже систематичных
занятиях присутствовали этнологический, геолого–географический,
природоведческий, филологический, литературоведческий и
общеисторический интересы. Впрочем, в области истории были эпохи,
которые меня занимали особо. В русской истории – Киевская Русь до
татарского нашествия, эпохи Ивана III и Ивана IV Грозного, Петра I и
Александра III. В Европе – христианизация, нормандская проблема,
Реформация, политическая (а не художественная) жизнь эпохи Ренессанса,
колониальная история, деятельность Ост-Индских компаний Голландии и
Англии, борьба за свободу вероисповедания, а потом и свободу совести, в
основном, во Франции после середины ХIХ в.7
Изучение дипломатической деятельности в разные периоды истории,
начиная с эпохи Древнего Востока, чтение опубликованных посольских
7
Именно эта тематика привела меня к первоначальному знакомству с первобытной
археологией и политическими аспектами индоевропейской истории.
7
документов разных эпох делали меня крайне недоверчивым читателем, вечно
занятым поиском истины, которая, как становилось понятно, далеко не
просто открывается во многих сферах, связанных не только с
международным общением, но и с внутренней жизнью каждой страны,
каждого народа. И вот, я, человек весьма доверчивый в бытовых отношениях,
привыкший верить и доверять людям, уже в своих ранних историко-
культурных наблюдениях осваивал навыки и правила историка-
профессионала. Вера – ничто. Может быть достоверен и убедителен только
факт – взвешенный, всесторонне оцененный, прошедший многостороннюю
комплексную проверку. Для меня постепенно становилась ясной прямая
связь профессий историка-обществоведа и высококвалифицированного
юриста-практика и историка права. Только мы, историки, часто
останавливаемся в своем поиске несколько раньше, доказав правду или
опровергнув ложь. И к тому же сохраняем право на некоторые
эмоциональные оценки. Юрист же должен еще думать об обязательном
выигрыше процесса.
В предуниверситетский период на меня сильно повлияли методические
научные принципы юриспруденции, работы историка России А.Е.
Преснякова8 и особенно М.М. Богословского,
9 также через своего учителя
П.Г. Виноградова10
(будущего английского историка Средних Веков – сэра
Пола Виноградова) признававшего всевластие достоверного факта. С таким
багажом знаний и кругом интересов я и пришел на Истфак МГУ в 1953.
К-Ф: Вы поступали на китайское отделение?
ПК: Когда в 1953 году я поступал в Университет (МГУ), то был уверен,
что смогу поступить на китайское отделение. Наличие медали тогда
избавляло от экзаменов и опасений. Но меня сразу оглушили тем, что я не
смогу пройти медкомиссию. И я пошел просто на истфак, в расчете на то, что
всё же буду заниматься Китаем. Нереализованным оставался опыт
использования китайского языка. Но за первый же год обучения я убедился,
что в пределах письменной истории фактические данные по древним эпохам,
которые меня наиболее интересовали, практически очень слабо пополняются,
и я стал склоняться к занятиям археологией... Самое важное в любой
профессии – добиться адекватного понимания того, что происходило. Мы
занимаемся прошлым, поэтому мы должны понимать, как прошлое
существовало. Причем для того, чтобы это установить, нам недостаточно
обобщенных соображений: «А вот, может, было так, а, может, было этак».
Нужно искать обоснования, которые бы позволили однозначно представлять
себе уже произошедший процесс. И когда я с этим вопросом внутри себя
8 Алекса ндр Евге ньевич Пресняко в (1870-1929). Российский историк, член-корреспондент
РАН (1920) 9
Михаи л Миха йлович Богосло вский (1867-1929). Российский историк, академик
Российской академии наук 10
Па вел Гаври лович Виногра дов (Paul Vinogradoff; 1854-1925). Крупнейший русский
историк-медиевист и правовед, либерал
8
столкнулся, то понял, что большинство исторических наук очень ограничены
в своих источниках. Вот письменные источники – их вроде много, но они
дискретные. Они не создают для вас сплошной последовательной картины
развития. Так я пришел к выводу, что если и стоит чем-то заниматься, то
заниматься поздней доисторической археологией. И пошел на эту кафедру.
Благо, там не требовалось ни бегать, ни прыгать. У меня была жуткая
гипертония – иногда я шел на экзамен после того, как отлеживался. У меня
кровь хлестала из носа. А после экзамена я приходил, и это начиналось снова.
Жизни – никакой. Когда лежишь и что-то читаешь, это тоже довольно
противно. Правда, я привык к ней еще до этого в больницах. Потом это
прошло, кстати говоря, помогли экспедиции. К 3-му курсу у меня гипертония
осталась, но уже не была такой отвратительно острой. Первые же экспедиции
в Прикамье, а затем в Хакасию вовлекли меня в новую весьма разнообразную
тематику. В это же время я нашел, наконец, своего подлинного Учителя и
старался всеми силами восполнить те образовательные, идейные,
профессиональные лакуны, которые мешали мне в полном объеме
воспринимать и усваивать то, что мне регулярно показывали и объясняли.11
К-Ф: Кто стал этим учителем, и как вы его нашли?
ПК: Конечно, мне повезло, потому что в 1955 я поехал в экспедицию в
Хакасию. Руководил этой экспедицией Сергей Владимирович Киселев,12
который был совершенно удивительным специалистом по эпохе бронзы.
Член-корреспондент АН СССР С. В. Киселев, зав. Отделом эпохи бронзы
ИИМКа13
и профессор МГУ, был ученым необычайно широкого
гуманитарного профиля. Он до своей кончины в 1962 руководил журналом
«Вестник Древней Истории», был членом редколлегий многих исторических
серий и изданий, участвовал в написании и редактировании 10-томной
«Всемирной истории» (с 1955).
Одним из серьезнейших интересов и увлечений Сергея Владимировича
была поздняя первобытная и средневековая история Китая. Он очень
интересовался Китаем, прекрасно знал тогдашнюю китайскую археологию.
Ему перевели в свое время японские тома по археологическим
исследованиям Великой стены – то, что было. Ну, естественно, были книги
Йетмара,14
Лёра15
и других уже работавших специалистов. Он сам
поддерживал, насколько мог, после 1949, связи с китайскими учёными, в том
11
Важно было научиться четкому пониманию тех философских построений и логических
связей 12
Сергей Владимирович Киселёв (1905-1962). Советский историк и археолог. Чл.-корр.
Академии наук СССР(1953), лауреат Сталинской премии(1950) 13
Институт Истории Материальной культуры, позднее Институт Археологии АН СССР,
где и я работал с 1959 по 1976 14
Карл Йетмар (1918-2002). Немецкий ученый, этнолог, востоковед, исследователь
древних культур Центральной и Восточной Азии 15
Loer, Max (1903-1988). Западный синолог, историк, искусствовед, профессор
Гарвардского университета
9
числе с Го Мо-жо.16
Они [китайские учёные] признавали двух наших
специалистов: Алексея Павловича Окладникова17
и Сергея Владимировича
Киселева, который к тому же проводил большие исследования в 1947-1948 в
Монголии. А потом он работал в Хакасии, когда я к нему попал. Дальше он
исследовал в Читинской области монгольские памятники. К сожалению, эта
часть его работ – я недавно с коллегами вспоминал – осталась практически
неопубликованной. А там был обнаружен большой монгольский центр.
Сам Киселев, будучи учеником и сотрудником одного старейших русских
и советских археологов В.А Городцова,18
начал свои необычайно
плодотворные работы в Сибири, которой в поздние годы жизни
заинтересовался его учитель. И с 1928 вел их в разных регионах, на Алтае, в
Забайкалье, в Хакасии, но также в Казахстане, МНР, повсеместно делая
открытия, порою имеющие мировое значение. В этом он мог успешно
состязаться с нашим коллегой академиком А.П. Окладниковым (1908-1981), с
которым и мне в дальнейшем доводилось эпизодически работать.
К-Ф: Окладников тоже был одним из Ваших учителей?
ПК: За время учебы мне также довелось познакомиться и часто общаться
с ним. Советская наука обязана Алексею Павловичу созданием сибирской
школы китаистов, которая и поныне пополняется выпускниками
Новосибирского Государственного Университета, и в виде Сектора включена
в состав Института Археологии и Этнографии СО РАН. Фактически школу
востоковедной археологии у нас создал, конечно, Окладников, а не Киселев.
Хотя последний более глубоко интересовался соответствующими научными
проблемами, это были выборочные проблемы, и у него не было людей,
которых он мог бы использовать для этой работы. А Окладников работал с
Восточным факультетом Ленинградского университета. Кстати, очень Вам
благодарен за книжечку с воспоминаниями.19
Они дурацкие совершенно,
абсолютно примитивные, но вводят в тот период. Это тем более важно для
меня, потому что мне довелось работать потом, уже в сознательном возрасте
и уже обученным, с этими ребятами – с В.Е. Ларичевым,20
В.С.
Кузнецовым,21
с Е.И. Кычановым,22
А.М. Решетовым.23
Это тот круг людей, 16
Го Мо-жо 郭 沫 若 (1892-1978). Китайский писатель, поэт, историк, археолог и
государственный деятель, первый президент Академии наук КНР (1949-1978) 17
Алексе й Па влович Окла дников (1908-1981). Археолог, историк, этнограф. Академик АН
СССР, член-корр. Британской академии, лауреат Сталинской премии и Государственной
премии СССР, герой Социалистического Труда 18
Василий Алексеевич Городцов (1860-1945). Выдающийся русский археолог 19
Воспоминания выпускников Восточного факультета Ленинградского (Санкт-
Петербургского) государственного университета. СПб., 2001 20
Ларичев, Виталий Епифанович (1932 г.р.). Известный археолог-востоковед, доктор
исторических наук(1971), ак-к Российской Академии Естественных Наук(1992) 21
Кузнецов Вячеслав Семёнович (1932 г.р.). Д.и.н., доцент, главн.науч.сотр. ИДВ РАН 22
Евге ний Ива нович Кыча нов (1932 г.р.). Китаевед, тангутовед. д.и.н., профессор.
Главн.науч.сотр. Института восточных рукописей (ИВР) РАН в Санкт-Петербурге 23
Александр Михайлович Решетов (1932-2009). Китаевед, к.и.н., сотрудник МАЭ им.
Петра Великого
10
которые действительно интересовались страной. И тут первым делом надо
помнить и бережно и с уважением относиться к фигуре Рудольфа
Фердинандовича Итса.24
Рудик Итс – это была удивительно яркая фигура. Он
был одно время директором МАЭ – Музея антропологии и этнографии. Круг
ребят, с которыми я потом общался, сложился благодаря Итсу, потому, что у
нас с ним очень доверительные, хорошие отношения образовались. В 1969 он
мне помог опубликовать первую статью, посвященную китайским
материалам: «К вопросу о происхождении иньских колесниц».25
Эта большая
статья, очень ответственная, была сделана в 1962. С 1962 она болталась
повсюду, и ее нельзя было опубликовать даже при том, что в 1967 на нее дал
очень хороший отзыв С.Л. Тихвинский,26
который сказал, что вполне
публиковать можно. Это была статья памяти моего учителя Сергея
Владимировича Киселева. Я ее сдал в «Советскую археологию» и, конечно,
она там валялась долго-долго. За это время вышла другая статья, близкая по
тематике, которая называлась «Гобийская квадрига»,27
она была посвящена
другому моему учителю – Алексею Павловичу Окладникову. А эта в 1969
только вышла. И только благодаря Рудику – он к ней нашел китайский лубок
в коллекциях МАЭ. Он говорил: надо же, чтобы что-то было из коллекций
нашего музея.
Итс был очень хороший и интересный человек. Работать с ним всегда
было большое удовольствие. Когда я приезжал в Ленинград еще до
поступления в этот Институт, мы с ним очень много общались именно по
китайской тематике. Как раз вторая половина 1960х совпала со временем
возрождения китаеведения нашего. Даже не возрождения, а в некотором роде
восстановления после того погрома, который устроил Никита Сергеевич. И
Рудик был, конечно, одним из самых ярких специалистов. Ну, и потом, это
был удивительный человек, который легко со всеми общался. Понимаете, это
так важно, чтобы была объединяющая сила, живая. Сейчас мы все
разобщены ужасно, мы же никак не общаемся! По делу – еще туда-сюда. А
часто и по делу общение протекает не очень активно и интересно... Умер Итс
совершенно нелепо, во время выступления на чьей-то защите во
Владивостоке.
К-Ф: Сердце?
ПК: Да, думали, что у него был инсульт. Он был здоров, но перегрузки
огромные, и многочисленные перелеты. Он должен был быть у меня
24
Рудольф Фердинандович Итс (1928-1990). Китаевед, этнограф, д.и.н., профессор ЛГУ,
член Союза писателей СССР. Как писатель-фантаст известен также под псевдонимом Р.
Демидов 25
Кожин П.М. К вопросу о происхождении иньских колесниц // Культура народов
зарубежной Азии и Океании. Сборник Музея антропологии и этнографии. Т.25. Л., 1969 26
Сергей Леонидович Тихвинский (1918 г.р.) Китаевед, дипломат, д.и.н, академик АН
СССР(1981). Чрезвычайный и Полномочный Посол(с 1966). Интервью для проекта
«Китаеведение – устная история» см. на сайте ИВ РАН: http://www.ivran.ru/project-
modernization-models/57 27
Кожин П.М. Гобийская квадрига // Советская археология. №3, 1968
11
оппонентом в 1990, на защите докторской диссертации. Как я посчитал, я с
ней задержался на 14 лет – потому, что работа у меня была готова в 1974. В
это время многие мои однокурсники защищались, но у меня был конфликт с
директором ИА АН СССР, академиком Б.А. Рыбаковым. И вместо защиты
мне пришлось перейти в Институт Дальнего Востока в мае 1976. С тех пор у
меня появилась возможность работать в двух направлениях.
К-Ф: Если, вернуться к университетским годам, чему учил Вас Киселев?
ПК: Формально, я, как и мои однокурсники и коллеги, прослушал у С.В.
Киселева два спецкурса по бронзовому веку Китая и значению региона в
истории Евразии. Но, начиная с 1955, с участия в многомесячной экспедиции
в Хакасии, когда С.В. Киселевым был раскопан гигантский погребальный и
ритуальный комплекс раннего железного века (тагарская эпоха, IV-III вв. до
н.э) – курган Салбык в Уйбатской степи, я всегда имел возможность
обратиться к Сергею Владимировичу за разрешением любого серьезного
профессионального вопроса. Именно С.В. Киселев весной 1959 дал мне
возможность выступить на ежегодном Пленуме отделения Истории АН
СССР и Института Археологии с сообщением о сделанном мною открытии в
области изучения среднерусской фатьяновской культуры бронзового века, о
месте ее в системе амфорных культур и культур шнуровой керамики
бронзового века Европы (начало II тыс. до н.э.). При этом, хотя мои курсовые
работы и диплом были выполнены на материалах восточно-европейского
прошлого, именно Киселев вернул меня к полноценной работе над
китайскими археологическими материалами. Он также обращал мое
внимание на то, что занятия Китаем – тематика комплексная, что
традиционная китайская культура не прекратила своего существования, что
она полностью жизненна и продолжает полноценно существовать, находя
эмоциональный, моральный, этнокультурный отклик в душе и сознании
каждого представителя великого китайского народа. Таким образом, я
впервые подошел к проблеме этнических традиций, теме кардинальной в
исследовании большинства аспектов прошлого, в равной мере связанной и с
материальной, и духовной составляющими культуры каждой в той или иной
степени монолитной людской общности. Позднее, при переходе на работу в
1976 в ИДВ АН СССР, эта тематика стала частью моих исследований,
первоначально проводившихся под руководством Л.С. Переломова.
Конечно, Сергей Владимирович меня заинтересовал и своим лекционным
курсом по Китаю в 1960. Это было уже после окончания мною
университета – его пригласили приехать китайцы, и тогда он издал общий
обзор археологии бронзового века в журнале «Советская археология» (1960,
№4). Большой обзор, очень своеобразный. Для своего времени это было
большое событие.
Вообще, на вопрос об учителях мне отвечать довольно трудно. Как-то
перед одной неприятной операцией, когда планы было разрабатывать
несвоевременно, я стал составлять список своих учителей за многие годы (до
1998). К числу упомянутых, необходимо, конечно, добавить этнографа-
12
археолога В.Н. Чернецова.28
К счастью, о нем мне приходилось неоднократно
писать. Нужно добавить и выдающегося советского антрополога проф. В.В.
Бунака, о котором тоже и говорить, и писать удавалось много.
Но учиться можно и у людей, которых уже невозможно было увидеть, но
оставались книги, письма. О воспоминаниях не говорю: редко в них речь
серьезно идет о деле, которому посвятил себя тот или иной специалист.
Причем часто в воспоминаниях кто-то задает тон, а затем присоединяется
слаженный, восторженный, многоголосый и порою весьма неумный фон.
Многие научные разработки тонут в этих одобрительных восклицаниях. И
проекты умерших ученых не воплощаются именно из-за того, что их
удушают эти волны бессмысленного восхищения. Посмотрите на
публикации таких изданий, как ЖЗЛ.29
Они становятся похожи на какие-то
заздравно-мемориальные тосты. А ведь для каждого открытия, научного
успеха, изобретения существовала своя эпоха, среда, окружение ученого, его
сторонники и критики. С этим я особенно серьезно столкнулся, занимаясь
проблемами, разрабатывавшимися Т.Р. Мальтусом.30
Как серьезнейшего
специалиста в области политических, экономических, статистических
исследований, добродетельного христианина, приоткрывшего человечеству
некоторые вневременные общечеловеческие законы развития (антропология,
этнология, экология, политическая экономия, право и т.д.) превратили чуть
ли не во врага человечества. Превратили тогда, когда он встал на пути
распространения безответственных социально-политических сказок о, якобы,
безоблачном прекраснодушном мире, который пригрезился некоторым
политикам, и целенаправленная пропаганда которого вовлекала в
безответственные поиски «моделей будущего счастья» гигантские
невежественные массы. А ведь китайские политики учитывали «закон
народонаселения Мальтуса» при выработке в КНР своих законов
народонаселения, ограничения рождаемости и пр. У Мальтуса было и есть
чему учиться, кроме гражданской смелости, честности и принципиальности.
Но его учение в последующие столетия требовало серьезной научной
разработки в свете дальнейшего развития биологических и социальных наук.
В частности, с позиций физической, воспитательной, социальной
антропологии. Но его идеи использовали преимущественно как некие
лозунги в политической борьбе, экономической пропаганде. Я и поныне
работаю с его трудами и, конечно, учусь у него.
Также учишься у нашего отдаленного теперь уже предшественника
академика В.П. Васильева (1818-1900), у крупнейших русских востоковедов: 28
Вале рий Никола евич Чернецо в (1905-1970). Этнограф и археолог, угровед 29
ЖЗЛ – знаменитая в России серия биографических книг "Жизнь замечательных людей" 30
Томас Роберт Мальтус (Thomas Robert Malthus, 1766-1834). Английский священник и
учёный, демограф и экономист, автор теории, согласно которой неконтролируемый рост
народонаселения опережал возможности человечества предоставить всем достойные
условия жизни. Вопрос об исчерпании «земных благ» ошарашил человечество в Х1Хв.
Впрочем подробнее: Кожин. Т.Р. Мальтус – Новая философская энциклопедия. Т.2.
М.,2001, с. 486-487. Статья сильно сокращена
13
барона В. Р. Розена (1849-1909), П.К. Коковцова,31
В.В. Бартольда32
и многих
других. Наконец, сама история науки – это не просто перечисление научных
открытий, как часто она воспринимается. В действительности, для каждой
эпохи это подробнейшая разработка проблем, касающихся потребностей,
забот и интересов человечества, которые на том или ином уровне в каждую
новую эпоху должны быть решены средствами науки. Входя в ХХ век
человечество лучше сознавало свои коллективные задачи, чем впоследствии.
Иллюстрацией этому могут служить задачи, поставленные Д. Гильбертом33
перед математикой наступающего века, разрешение которых способствовало
всеобъемлющему росту возможностей, достижений науки, упрочению её
позиций во всех сферах хозяйственной и социальной жизни. Как было не
учиться у таких людей?! Как возможно было не изучать их подлинные труды,
прослеживая их методологические приемы и доказательную силу их
аргументов?! Чувствую, что здесь надо остановиться, а иначе я не смогу
выбраться из вопроса о своем ученичестве. Учиться ведь к тому же очень
приятно. И не только скорбь, как говорил Екклезиаст, умножают познания.34
К-Ф: Как складывались Ваши отношения с китайским языком, и кто Вам
его преподавал?
ПК: Это очень существенно. Вот, что получилось. Когда я решил что мой
выбор – язык и история, мама меня постаралась образовать. Она нашла мне
преподавателей по немецкому, французскому и английскому языкам.
Польский язык мне преподавали с детства, славянские языки более широко,
чешский и прочие.
К-Ф: То есть, комплексно подошли к вопросу языков.
ПК: Да-да. Моя мать была человеком решительным, так сказать, военным.
Какая-то уже семейная черта такая появилась. У неё-то семья совсем другая,
потому что она была наполовину татаркой, и её татарские родственники
жили в Бахчисарае – огромный татарский клан. А в революцию она пошла
потому, что в 14 лет пережила стресс. Стресс состоял в том, что когда
проходит религиозная конфирмация женщин не пускают в алтарь. Ее это
оскорбило. Вот человек! Она 1905 г. рождения, а это был 1919 год. Она
возмутилась совершенно – понимаете, как это может быть? Женщин не
пускают в алтарь! Это первая обида. А вторая обида – она стала взрослой
девушкой по татарским законам, и родственники перестали принимать ее так,
как они принимали ее ребенком. В детстве она туда могла приехать, и ей
выделяли нукера, который с ней ходил повсюду, водил. Она мне показывала,
как он ее водил к Бахчисарайскому фонтану. Она могла ходить свободно к
любым родственникам – там их было множество, потому что у её деда, у 31
Павел Константинович Коковцов (1861-1942). Востоковед-семитолог 32
Васи лий Влади мирович Барто льд (1869-1930). Востоковед, тюрколог, арабист,
исламовед, историк, архивист, филолог, академик С.-Петербургской Академии наук (1913) 33
Дави д Ги льберт (David Hilbert; 1862-1943). Немецкий математик-универсал, внёс
значительный вклад в развитие многих областей математики 34
У Экклезиаста (1, 18): Кто умножает познания, умножает скорбь. Я же (ПК)
подчеркиваю, что не только скорбь умножают познания
14
моего прадеда, был гарем. И он, соответственно, оставил огромное
наследство из дядюшек, тётушек.
И, обидевшись, человек ушел в революцию. Так что, она с 14 лет
вступила в Партию. Потом сделали поправку, что она вроде как в комсомоле
была, хотя тогда никакого комсомола не было в Крыму. Но она в эту нашу
военную семью Кожиных вписалась, и сама она человек волевой и
решительный, и знающий, что почем.
И вот она, ни больше ни меньше, как пошла в МИВ (Московский
институт востоковедения, учебный институт) и попросила декана китайского
факультета, это был Вячеслав Иванович Пеньковский,35
со мной заниматься.
Его знали Л.С. Переломов,36
А.Г. Яковлев,37
недавно умерший С.П.
Поляков,38
Э.В. Никогосов,39
– все кто учился там на китайском и на
уйгурском отделениях. И мама договорилась, что он будет мне преподавать
язык.
К-Ф: А сколько Вам лет в это время было?
ПК: Сейчас я Вам скажу: это был 1947. До 1949 он занимался со мной, с
перерывами, потому что я еще в больнице успел полежать. Задания я
выполнял, лёжа там. Мне было 13 лет. То есть, до 15 лет я учился китайскому
языку. Учился я ещё по старому военному учебнику, Ошанинскому
учебнику.40
И это было мое китайское образование. Этим все кончилось.
Дальше я уже только читал, и никогда не пытался учиться дальше
разговорному языку. А вот письменная классика меня очень всегда
привлекала. А, главное, поражало, что так немного нужно звуков, чтобы
передать все многообразие вещей, ситуаций, чувств.
К-Ф: Кто из китаеведов учился вместе или одновременно с Вами?
ПК: Когда меня приняли в МГУ, я учился с А.А. Бокщаниным,41
с О.Е.
Непомниным.42
Из предшествующих выпусков был у нас Ф.Б.
Белелюбский,43
Слава Иовчук44
1956 г. выпуска, с ними общались. Заметных
35
Более подробные сведения о В.И. Пеньковском не найдены 36
Переломов Леона рд Серге евич (1928 г.р.). Китаевед, д.и.н.(1970), глав.науч.сотр. ИДВ
РАН 37
Яковлев Александр Григорьевич (1928-2003). Китаевед, д.и.н., профессор, сотрудник
ИДВ РАН 38
Сергей Петрович Поляков (1932-2012). Этнограф и археолог, д.и.н., профессор МГУ 39
Никогосов Эдуард Васильевич (1933-1994?). Журналист-международник. Окончил
МИВ. Участник событий на Даманском в 1969. Позднее – консультант-переводчик ИДВ АН СССР. Один из авторов Ошанинского словаря (БКРС). Специалист по Гунсунь Луну
(Древнекитайская философия. Т.2 М.,1973, С.58-65) 40
Ошанин И.М. Учебник китайского языка中国国语初步. Часть 1. Военное Издательство
Министерства Вооруженных Сил СССР, 1946 41
Бокщанин Алексей Анатольевич (1935 г.р.). Китаевед, д.и.н., профессор, зав. отделом
Китая ИВ РАН(1990-2011). Интервью для проекта «Китаеведение – устная история» см.
на стайте ИВ РАН: http://www.ivran.ru/project-modernization-models/57 42
Непомнин Олег Ефимович (1935 г.р.). Китаевед, д.и.н., главн.науч.сотр. ИВ РАН 43
Белелюбский Феликс Борисович (р.1934-2004). Китаевед, историк, журналист, к.и.н. 44
Станислав Михайлович Иовчук (1933-2005). Китаевед, к.эк.н.
15
китаеведов того времени из московского университета почти не осталось.
Все же центр был настоящий в Ленинграде. Как он был от Василия
Михайловича Алексеева,45
так он и остался там. Конечно, преподаватели
хорошие и у нас были: Л.Д. Позднеева,46
Л.В. Симоновская47
и др.
К-Ф: Чем для Вас памятны годы обучения в МГУ?
ПК: В науке того времени остро проявлялись новые веяния. Они
коснулись проблем происхождения Человека, начала гуманитарной эпохи в
истории Земли. Многие догмы в науках начали пересматриваться.
Антропологические и этнологические (тогда это была только этнография –
этнология же сближалась с «буржуазными лжеучениями») знания стали
более конкретными и медленно выходили из-под пресса догм, которые
создал «русский марксизм» за предшествующие четверть века своего
«всевластия». Все это стало интересно изучать и, помимо личных библиотек
друзей моих родителей, я широко пользовался богатствами университетской
библиотеки, которая открылась для меня с 3-го курса обучения. В ней,
конечно, не было марксистских поисковых работ 1920-30х, хотя их никто и
не запрещал, а у меня были возможности с ними знакомиться.
Запомнились широкие дискуссии по многим проблемам первобытного
общества. Не стану их описывать, они подробно отразились на страницах
журнала «Советская этнография». А кое-что дошло до «Вопросов
философии» и даже вновь созданного в 1957 журнала «Советская
археология». Последний был более ортодоксален: профессионалы, зрелые
специалисты не забыли итогов «дискуссий» 1920-30х, проводившихся в
периодике и монографиях ГАИМК48
и её отделений, а также обсуждение
«проблем языкознания» с 1950 и «экономических проблем социализма» с
1952. Впрочем, последняя проблема резко активизировалась еще до ХХ
съезда КПСС в связи переоценкой роли денег при социализме, подступам к
освоению Целины и не слишком толковыми рассуждениями о различных
социально-экономических и политических проблемах «социалистического
общества», которое начали срочно и самоуверенно «реформировать», забыв
еще совсем свежий завет о необходимой осторожности при проведении
реформистских экспериментов на живом массовом человеческом материале.
Сложное, головоломное было время. Трудные годы переживал
Университет. Особенно, конечно, экономический, юридический,
философский факультеты и Истфак. Готовилось первое за долгие годы
крупное международное массовое мероприятие – Московский
Международный Конгресс Молодежи 1957. Я упоминаю об этом могучем
фоне нашей повседневной жизни не потому, что сам в чем-то активно
участвовал (кроме археологических экспедиций в Западной Сибири, на
45
Алексеев Василий Михайлович (1881-1951). Китаевед, академик (1929), преподавал в
СПбГУ(ЛГУ) 46
Поздне ева Любо вь Дми триевна (1908-1974). китаевед, литературовед, д.филол.н. 47
Симоновская Л.В. (1902-1972, Харбин). Китаевед, д.и.н., профессор 48
Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК)
16
Урале, в Среднеевропейских районах СССР и командировок в музеи для
знакомства с этнографическими и археологическими богатствами Страны), а
потому, что во всех сферах жизни чувствовалось оживление. Идеология, с
которой тесно были сближены все сферы науки, начала сдавать свои позиции
и проявляла себя какими-то импульсами, то становясь непомерно жесткой и
ортодоксальной, то в ней обозначались явления «оттепели» (о которых так
любят теперь рассуждать некоторые старикашки).
К-Ф: Какие проблемы интересовали лично Вас в университетские годы?
ПК: Уже в 1955 я составил список проблем и направлений исследований,
в разрешении которых я хотел (и, как мне казалось) мог бы принять участие.
Список где-то у меня случайно сохранился, но искать сейчас не стану.
Записал случайно: было время на лекции. Перескажу «своими сегодняшними
словами», что мне представлялось необходимым изучить для того, чтобы
стать активным полноценным и полноправным исследователем в
намеченных областях. Программа эта мною и поныне реализуется, но в ней
произошли многие изменения и дополнения, которые отразились, так или
иначе, в моей библиографии. Кстати, непосредственно и исключительно
Китаю в ней принадлежит не более 40% публикаций.
I. Расселение человечества по основным регионам Евразийского
пространства в послеледниковую эпоху и последующие его перемещения,
переселения, миграции, вплоть до «Великого переселения народов» (V–VIII
вв. – мне так представляются датировки этих событий)
II. Перемещения различных языковых групп (особенно, дистанционно
отдаленные по отношению к центрам данной языковой семьи)
III. Связь всей системы указанных явлений с особенностями и развитием
материальной культуры (а также с резкими изменениями такой культуры), а
через эти проявления с развитием, изменением, разрушением,
переориентацией духовной культуры и языковой среды
IV. Зависимость материальной культуры от формирующегося и
развивающегося производства49
выражается для исследователей в выявлении
областей,50
где все51
материальные остатки группируются в серии
однотипных предметов, производство которых осуществлялось по сходным
технологиям, а функциональное их применение было в пределах каждой
серии одинаковым. Такие области, где также выражены единые тенденции в
домостроительстве, обрядах, погребальных и праздничных ритуалах и т.п.
сложной мозаикой своих территорий и их границ перекрывали все пригодное
для относительно неугнетенного проживания людских коллективов
49
Изменение производственной культуры далеко не всегда означает смену биологической
популяции (имеется в виду, что более раннее население бывает уничтожено или
практически полностью вымирает, как считалось ранее), а всего лишь указывает на
переход политической (насильственной) власти к коллективам иного этнокультурного
происхождения, имеющим иной историко-культурный опыт хозяйственного,
производственного и духовного развития 50
Географических регионов, ареалов 51
Или хотя бы основные их виды
17
пространство Евразии. Они изменяли, при переходе от одного
хронологического периода к другому, как в калейдоскопе, свои параметры и
конфигурации, и получили название археологических культур52
V. Следующий массив проблематики связывался с самим производством и
производственными технологиями, сходство которых в пределах
археологических культур и целенаправленное единообразие развития дают
наиболее надежные основания для того, чтобы за материальным единством
видеть культурное, духовное единство.
Впрочем, даже в изначальном (учебном, студенческом) варианте мой
подход имел некоторое своеобразие. Во-первых, я считал бессмысленными и
нелепыми попытки моделировать внешние параметры древних изделий с
помощью современных технологий, пусть даже и простых, которые казались
исследователям доступными для древнего мастера. Моей целью становилась
фиксация и объяснение древней технологии, как визуальными, так и
инструментальными средствами. Во-вторых, классификация древних
предметов материальной культуры должна осуществляться с учетом сходства,
идентичности, аналогичности, применяемых для их изготовления
производственных технологий. Чисто формальное сходство, часто при
отсутствии данных и реальных знаний о функциях предметов, делает
классификацию зыбкой, а значение ее для реконструкций культуры –
ничтожным. В-третьих, к 1955 в научной среде еще не возникло такое слепое
доверие к любым формам статистики, которое стало буквально поветрием,
начиная со следующего десятилетия. Но в некоторых областях это
воздействие статистики уже проявилось и было, как минимум, бестолковым.
В том числе определение процентных отношений и попытки считать их
достоверными, когда многие серии археологических находок исчисляли
числами, не превышающими десятка экземпляров (и это даже при развороте
археологических работ на крупнейших «стройках коммунизма» – гигантских
гидростанциях). В-четвертых, я исходил из положения, что каждая наука
должна иметь полный самостоятельный набор исследовательского
инструментария, который позволял бы при использовании методов других
наук (в том числе, и точных – технических), подвергать их данные анализу и
проверке собственными надежными и объективными средствами.
Кажущееся столь чрезмерно подробным перечисление особенностей
первобытной археологии как исторической дисциплины подводит к вопросам,
прямо касающихся древней истории Китая. Они связаны со степенью и
формами культурной изоляции Китая от всего Евразийского пространства и
особенностью его контактов с ближайшими древними соседями, точнее, с
народами, особенно кочевыми, населявшими Центральную, Северную и
Южную Азию. Древним китайским ученым и современным исследователям
было свойственно представлять свою Родину как стойкий политико-
культурный изолят, лишь эпизодически иррадиировавший вовне на другие
52
В этнологии нечто подобное связывается с понятием культурных кругов. Но эта
проблема требует неуместных здесь многосложных разъяснений
18
народы и государства отблески света своей культуры, культуру Великой
Срединной Империи или Поднебесной (Чжунго, Тянься). И хотя известно,
что Китай в историческую пору и в древние времена подвергался
неоднократным нашествиям «варваров», постоянно предпринимались
попытки хотя бы ослабить значимость таких непривлекательных эксцессов.
То «варвары» были «родственным населением», то жили поблизости и, тем
самым, приобщились к высокой культуре. По сути, оба эти эффекта
отражают совершенно определенное состояние народной духовной культуры,
когда в дихотомии: «свой–чужой» обязательно отражается скрытый смысл:
«свой – хороший» – «чужой – плохой», а чем дальше, тем хуже. Отсюда
следует, что и своя «домашняя» культура, в том числе и материальная – самая лучшая. И только ее мы признаем, а потому не берем ничего чужого.
Так возникли мифы о местном начале бронзового века, об исконно местной
культуре расписной керамики, о местном возникновении коневодства и,
наконец, о самостоятельном изобретении легкой боевой колесницы в Китае.
Так проблема появления боевых колесниц в Китае в ходе развития там
культур бронзового века, становления и развития государственности, стала
одним из основных моментов, связывавших мои археологические53
и
исторические интересы, сфокусировала мое внимание на более общих
китаеведческих проблемах.
Мое внимание всё больше стали привлекать тексты китайской древней
классики. Так уж получилось, что изданная в 1950 работа Ян Хин-шуна о
Лао-цзы54
привлекла мое внимание к тексту Даодэцзина, изучением которого
я занимаюсь уже около 60 лет. За ним последовало в 1960 издание
академиком Н.И. Конрадом55
работы Ю.К. Щуцкого56
по И-цзину, которое
меня весьма разочаровало не только своим «марризмом», но и каким-то
духом модернизма, подспудной попыткой выделить этот памятник из общего
массива древнейших нарративных текстов.
Позже, знакомясь с литературой эпохи Чжаньго, я узнал, что все
сакральные, религиозно-магические знания и «профанная» литература, через
сложные и многообразные формы речевого общения изначально сливались в
единый мощный поток нарастающего рационального сознания, восходящий к
духовному своеобразию общекитайской народной культуры,
складывавшейся у населения, концентрировавшегося в бассейне среднего
течения Хуанхэ, начиная, по всей видимости, еще с неолитических времен.
Но чтобы прийти к такому заключению, понадобились многие годы работы,
знакомство с современными формами традиционной культуры, длительный
период работы в ИДВ среди специалистов страноведов, дипломатов, 53
Становление производственно-технических объединений, обособление
профессиональных производственно-отраслевых группировок в гончарстве,
металлообработке, работах с камнем, деревом, кожей, костью и т.п. 54
Ян Хиншун. «Древнекитайский философ Лао-Цзы и его-учение», Москва, 1950 55
Никола й Ио сифович Ко нрад (1891-1970). Востоковед, академик АН СССР (1958) 56
Юлиа н Константи нович Щу цкий (1897-1938). Востоковед-филолог, философ,
переводчик, профессор(1935), д.филол.наук.(1937)
19
экономистов, часто прошедших огромный путь практической работы в Китае.
А еще, что не менее важно, понадобилось не только прочитать, но и начать
глубоко изучать книгу Чжуан-цзы и творческое наследие Сыма Цяня.
К-Ф: Чему была посвящена Ваша дипломная работа?
ПК: Заканчивая тему своего университетского образования и становления как специалиста в сфере гуманитарных знаний,
57 сообщу, что диплом я
защищал по археологической теме. По времени и территории он относится к
бронзовому веку Европы. Руководителем работы стал один из крупнейших
советских археологов – профессор А.Я. Брюсов,58
сводный брат поэта В.Я.
Брюсова, несколько комично представленный в дневниках последнего:
полиглот, аматёр в сфере русской истории, прекрасный знаток жизни и быта
русского, особенно московского и петербургского, дворянства и купечества,
порубежных десятилетий XIX-XX вв. Ни от кого я не слышал такого
количества былей, басен, анекдотов о той уже смешанной, а не обособленной
сословной жизни того времени, как от этого очень грамотного, но крайне
недоброжелательного человека. Никто из моих родных никогда не позволял
себе подобного, хотя опыт и «знания» в этой области могли быть
равноценными. Но для диплома Брюсов дал мне возможность использовать
материалы фатьяновского могильника, раскопанного им в окрестностях г.
Ногинска. Я уже говорил тут о фатьяновской культуре и не стану трактовать
эту стороннюю для китаеведения тему. Не знаю, сознавал ли Брюсов
возможный эффект своего благородного поступка.59
Мне же эта работа, и вся
связанная с ней тематика «стала боком». Собственно, с этого диплома и
начинается мой долгий и тяжелый путь к моей нынешней профессии.
К-Ф: Куда Вас распределили после окончания МГУ, и как складывалась
Ваша профессиональная карьера?
ПК: Я был распределен в Институт археологии, директором которого был до
1987 академик Б.А. Рыбаков. В силу возникших у меня с ним сложных
противоречий, мы не только не смогли найти с ним общий язык, но со
временем наши отношения обрели характер для меня весьма угрожающий. А
противоречия эти были сосредоточены как раз вокруг фатьяновской
культуры, т.к. в моих занятиях этой проблемой Рыбаков видел угрозу
научным интересам одного из своих протеже. И вот, восемь лет, до
57
Я не случайно употребляю этот расширительный термин: он соответствует тематике
моих публикаций, а также работ, в которых я был научным, ответственным и даже
издательским редактором. Мне было бы стыдно перед коллегами, по работам которых я
выступал оппонентом на диссертационных защитах или рецензентом по многочисленным
монографиям и сборникам, если бы я постоянно не стремился, хотя бы пассивно,
овладевать тем объемом знаний и научных методов, которым обладали специалисты,
доверявшиеся моим непредвзятым оценкам 58
Александр Яковлевич Брюсов (1885-1966). Российский археолог 59
Специалисты такого уровня обычно не предоставляют молодежи права свободно
распоряжаться результатами своей полевой, да и научной работы: Брюсов уже
опубликовал, что тогда было крайней редкостью, этот памятник в шведском журнале
20
утверждения моей кандидатской диссертации в ВАКе60
в январе 1968,61
я
проработал лаборантом-реставратором. Тогда был такой порядок, что
Министерство выделяло на каждого распределенного в научные учреждения
ставку м.н.с. А директора имели право разделить эту ставку, чтобы оставить
«молодому специалисту» оклад лаборанта, а превышавшие его 46 руб.
разделить между старослужащими. В 1962 нам даже присудили звания
«младший научный сотрудник». На зарплате, понятно, это никак не
отражалось, как и на реальном статусе. Спасибо, что не запрещали
заниматься наукой. Мне даже позволяли быть секретарем Иностранной
группы института и быть титульным редактором нескольких сборников.
Впрочем, овладение профессией реставратора керамики, когда через мои
руки проходили материалы от античного времени до неолитической эпохи из
разных регионов СССР, делало более серьёзными и полноценными мои
научные работы.
Но такое "благоденствие" не могло долго продолжаться. После перехода
из Лаборатории в Сектор неолита и бронзы мне порекомендовали сменить
тему. О публикации моей кандидатской работы, посвященной, естественно,
происхождению той самой фатьяновской культуры, и речи не заходило. Хотя
и сейчас, по прошествии почти 46 лет, продолжая работу и в той области
(большая статья должна выйти в 2013, гранки я уже видел), я могу уверенно
утверждать, что монография была полезная, своевременная и могла резко
изменить направления исследований этой культуры.
В итоге, я выбрал новую тему по изучению происхождения и развития
колесного транспорта. Тогда, после работ английского ученого В.Г.
Чайльда,62
тема казалась исчерпанной. А мои статьи 1966-1972: «Кносские
колесницы»,63
«К вопросу о происхождении иньских колесниц», «Гобийская
квадрига» и др., касались вроде бы частных вопросов. Написаны, правда,
были здорово. А «Гобийская квадрига» вызвала у академика Рыбакова
настолько отрицательные эмоции, что он поссорился со своей любимой
ученицей и прогнал её из редакции «Советской археологии». Но сделал это
вовсе не из-за содержания статьи, а из-за того, что эта статья, посвященная
60-летию ак. А.П. Окладникова (СА,1968, №3), вышла, по недосмотру этой
ученицы, точно к моменту юбилея. Статья, посвященная памяти С.В.
Киселева, тоже «врага номер один», была напечатана в ленинградском
сборнике Музея антропологии и этнографии (т.25, 1969). Хоть она и
60
После повторной защиты 61
К тому времени я был уже членом КПСС и председателем месткома Института 62
Вир Гордон Чайлд (Vere Gordon Childe, 1892-1957). Британско-австралийский историк-
марксист, один из ведущих археологов XX в., член Британской академии с 1940, автор
понятий «неолитическая революция» и «урбанистическая революция», основоположник
антропологического неоэволюционизма (Прим. ред.) Я бы не называл Чайльда историком-
марксистом, этого не делала даже международная энциклопедия политических наук 1968.
Чайльд поверил не в марксизм, а в безапелляционные заявления советских археологов. Об
этом он писал в редколлегию «Советской археологии» незадолго до смерти (Прим. ПК) 63
Кожин П.М. Кносские колесницы. «Археология Старого и Нового Света», М., 1966
21
пролежала 7 лет в портфеле «Советской археологии», но не попалась на глаза
Рыбакову даже в напечатанном виде.
К счастью для меня, не были замечены тезисы и доклад, практически
представлявший основные положения будущей монографии о транспорте,
который я делал чуть ли не в день своей кандидатской защиты в Институте
этнографии АН СССР (11.05.1967). Ну, просто, видимо, такой «наглости» от
диссертанта никто не ожидал. Смешно, но это факт! Когда меня начали
ограничивать, то ограничивали именно керамику, бронзу, вообще,
производство: кто знает, что он там напишет. Но поначалу Рыбаков не
воспринял колесный транспорт как серьезное дело. Как раз я заканчивал
первый вариант своей докторской диссертации.64
И когда я попросил
несколько командировок в кавказские и прибалтийские музеи, мне было
«милостиво» сказано: «А – это Вы турусами на колесах занимаетесь? Ну,
поезжайте!». И с этими турусами он меня отправил. Однако через год после
этого он уже в ярости топал ногами перед Б.А. Фроловым,65
моим другом и
учеником А.П. Окладникова: «Что это Вы пишете, что этот Ваш Кожин про
транспорт что-то пишет. Я уже про это всё написал!»66
В ноябре 1974 я представил Сектору свою законченную плановую
монографию «Проблемы историко-культурных и этнических контактов
населения Евразии с IV тыс. до н.э. по первые века н.э. (Происхождение и
древняя история колесного транспорта)» (25 п.л.). Обсуждение вылилось в
поношения. Перед этим кто-то распустил слух, что я собираюсь эту работу
защищать как докторскую. Что, кстати, было бы вполне закономерно, хотя я
сам с такими вещами никогда не торопился. Но уже успели поторопиться за
меня, объявив мне строжайший партийный выговор, непонятно за что. Даже
формулировка была окончательно придумана лишь когда его снимали (в
Черемушкинском РК КПСС в 1975). В марте 1976 Рыбаков провел для меня
переаттестацию с отрицательным результатом.67
Но как раз после этого
пришло для меня разрешение на перевод со ставкой в ИДВ АН СССР. Куда я
и был зачислен по решению президиума Академии с 2.05.1976.
К-Ф: Наверно, получить такое разрешение на перевод в другой институт
было в то время непросто?
ПК: Вопрос об этом переходе был согласован через РК КПСС еще в
самом конце 1975, но процедура оформления была долгой. Я глубоко
признателен за объективность и доброжелательное отношение 1-му
секретарю Черемушкинского РК КПСС В.Т. Полунину, директору ИДВ РАН,
членкору АН СССР М.И. Сладковскому68
(позднее, при наших кратких
64
Она лежит в ИНИОНе, депонирована, причем не полностью, и без иностранной
библиографии. Там иностранной библиографии раза в 4 больше, чем русской 65
Борис Алексеевич Фролов(1939-2005). Археолог, д.и.н. 66
Это была, простите, какая-то болтовня в «Вопросах истории» 67
Чтобы не обижать Институт археологии, отмечу, что голосование было отнюдь не
единогласным. 68
Сладко вский Михаи л Ио сифович(1906-1985). Китаевед, экономист. Член-корр. АН
СССР(1972), директор ИДВ АН СССР (с 1966)
22
рабочих беседах, я узнал, что он учился во Владивостоке у профессора
Харнского,69
по монографии которого я начал систематически изучать
историю Китая). Я благодарен всем участникам собеседования70
(дек. 1975),
которое определяло мою профессиональную пригодность для работы в ИДВ.
К-Ф: Как сложилась для Вас работа в новом институте?
ПК: Я с радостью и энтузиазмом принялся за новые для себя аспекты
гуманитарных знаний, работая под началом профессора Л.С. Переломова,
при доброжелательной поддержке руководителя сектора Т.Р. Рахимова и зам.
директоров В.А. Кривцова и М.Н. Данилина. Но, как историк, я извлек из
ситуации практический урок, показавший мне, насколько литературная
бытовая драма, с ее условными акцентами и переломными моментами
действия, может быть близка к повседневной действительности.
К-Ф: Выходит, Вам пришлось снова менять темы исследований?
ПК: Окончательное решение моей судьбы в Институте археологии
определил момент, когда под конец обсуждения моей монографии я сказал,
что раз тема транспорта не является для собравшихся убедительной,71
то я
вынужден буду вернуться к своей прежней фатьяновской теме. Такого не мог
допустить мой директор! Это был прямой ущерб его авторитету и
достоинству. Как давно все это было! И, даже, учитывая все наши перемены,
в «другой стране»! Я люблю свою родную страну. Глубокие исторические
корни связывают меня с ней, и возлагать на неё, на специфику её
общественного и политического строя ответственность за действия
непорядочных людей, да и хаять этих людей, уже ушедших из жизни, я не
намерен. Поэтому буду краток, коли опустить эти моменты пути в
профессию я не могу.
К-Ф: И все же, темы и планы своей научной Вы выбирали сами?
ПК: Свои рабочие темы я всегда определял сам. Это не значит, что я не
готов выполнить посильный для меня заказ, указание или поручение
руководства. Я вполне адекватный и законопослушный человек. Но для того,
чтобы с пользой для дела и с профессиональной грамотностью выполнить
какое-то задание, я должен сам, осознанно, а не по принуждению, освоить
всесторонне тот предмет, с которым предстоит иметь дело, а коли этого не
смогу, то честно откажусь.
К-Ф: Но темы Ваших профессиональных интересов и исследований не
всегда совпадали с официальными планами...
69
Харнский Константин Андреевич(1884-1943). Китаевед-историк, преподаватель
Восточного института во Владивостоке 70
Некоторых из них уже нет в живых. Когда я писал в 2006 мемориальную заметку о зам.
директоре ИДВ В.А. Кривцове для ПДВ, то надеялся передать в ней реальные
воспоминания об этом замечательном человеке и ученом, выразить благодарность за его
внимание и поддержку, которые он проявлял ко мне, начиная с первой встречи в Райкоме.
Но непарадная тональность, как выяснилось, противоречит духу журнала, и из
воспоминаний о человеке получился едва ли не бюрократический официоз 71
Дальнейшие события подтвердили ее актуальность и перспективность
23
ПК: Я всегда шучу, что моя профессиональная подготовка обошлась
нашей стране минимальными расходами. Я не отбывал аспирантуру, не был в
докторантуре. Более того, лишь два раза в двух Институтах, где я работал,
мои плановые темы были основным предметом моих профессиональных
интересов. В 1968-1974, в Институте Археологии – это была тема по
сухопутному колесному транспорту, завершившаяся двумя монографиями.
Первая из них была депонирована в 1982, благодаря тому, что дирекция ИДВ
дала средства на перепечатку текста и русской библиографии. Это был
сокращенный вариант работы, к тому же лишенный ссылок на иностранные
источники.
В 1976-1993 – первые 17 лет работы в ИДВ, я действительно, в качестве
основных занятий придерживался предписаний планкарты: вначале это были
проблемы идеологической и политической жизни современного Китая,
связанные с соответствующими аспектами традиционной жизни Страны. Это
направление работ отчасти отражено в исследованиях, проведенных
небольшим, но слаженным и дружным коллективом, состоявшим из Л.С.
Переломова, Г.Ф. Салтыкова, П.М. Кожина. Нами были выполнены
несколько совместных и индивидуальных статей на эти темы, вошедших в
подготовленные нами же объемные сборники «Информационных
бюллетеней ИДВ»,72
а также опубликованных в ПДВ.73
Итоговая
обобщающая глава по этой теме содержится в коллективной монографии
1994 «Традиции в общественно-политической жизни и политической
культуре КНР». Работа по традициям Китая была выполнена в форме
монографии и также опубликована в 1982.74
Параллельно я продолжал
исследовательскую работу по всем темам, разрабатывавшимся мною в
предшествующие годы: жизнь действительно коротка и любое начатое
серьезное дело нельзя бросать, коли ты его начал. Это невероятная
расточительность и безответственность, бросать работу в ее разгаре, да и
просто на полдороге.
И еще, с самого начала моей трудовой деятельности в числе моих
общественных обязанностей оказалась атеистическая работа (с 1960). Я
никогда не проникался вольтерианским духом, и вопли «великого
просветителя» Ж.-Ф. Вольтера75
о церкви, которая его обучила и ввела в
жизнь: «Раздавите гадину!» – мне были омерзительны.
Я занимался тем, что позднее стали называть сравнительным
религиоведением и его историей. В ИДВ у меня появилась возможность
расширить эту проблематику за счет китайского и восточноазиатского
материала. Отношение к религиозным учениям здесь было совершенно иным,
по сравнению с западными традициями, и мне было важно объяснить это
72
1980, № 20; 1982, №33 73
1983, №1; 1984, №2 74
ИБ №32, 1982 75
Вольте р (Voltaire; 1694-1778). Крупнейший французский философ-просветитель XVIII
в.: поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник
24
различие, чтобы отвергнуть глупую по сути своей идею сквозного
«всемирного» сопоставления «форм религиозности», будто бы определявших
«народный дух», которая после легкомысленного постулирования ее М.
Вебером,76
стремительно вошла в моду к середине ХХ в. Собственно, такой
именно подход я использовал и в своих лекциях по линии общества «Знания»,
где мне довелось быть председателем секции научного атеизма в
Севастопольском районе с начала 1980х, и в работе комиссии по научному
атеизму, которую до 1990 возглавлял в Севастопольском РК КПСС. Т.е., я не
занимался «разоблачением магии», наглядно во всем его идиотизме
показанном М.А. Булгаковым,77
а старался предъявить аудитории различные
точки зрения на проблемы, порожденные именно «народным духом».
В моем личном мировоззрении соединялись проблемы региональных,
этнокультурных, национальных путей развития духовной культуры с
общемировыми константами человеческого разума и духа. В научном плане
это отражено в написании обширной монографии «Социально-культурные
проблемы религий в Китае», законченной в 1984. Она не сразу попала в
издательский план, сначала из-за трудностей перепечатки78
и, в дальнейшем,
уже в связи со сменой идеологических акцентов, отказа от идеологии и
необходимостью редакторской правки,79
из плана как бы самоисключилась.
Осталось несколько статей, обзоров, тезисов, глав во 2-м томе
«Энциклопедии духовной культуры Китая» (2007), обзоров и
биографических справок в словаре «Китайская философия» (1994). Правда, в
этих двух последних изданиях моим разделам здорово «досталось» от очень
вольной редакторской правки, в основном, исполненной неким А.Г.
Юркевичем,80
ставшим среди китаистов «ученым-энциклопедистом», но не
по объему и качеству знаний, а по назойливому внедрению во все виды
особенно никудышных энциклопедий и словарей, которые стали поистине
стихийным бедствием нашей «постсоветской» эпохи. В основном, эти
издания показывают, как легко великие достижения человечества превратить
в неосмысленную жвачку. Может, с их помощью будет легко сдавать ЕГЭ?
К-Ф: Какую научную тему Вы всё же считаете главной для себя?
ПК: Есть несколько уровней подхода к этому вопросу. На практическом
уровне для меня важно развитие производства, причем в самом широком
76
Максимилиа н (Макс) Карл Эми ль Ве бер (Maximilian Carl Emil Weber; 1864-1920).
Немецкий социолог, политолог, историк, экономист. Я – историк, и профессионально
отношусь к датам. Поэтому и указываю годы жизни людей, имеющих значение для
распространения, утверждения и развития тех или иных социально-политических идей и
учений, которые могли эпидемически воздействовать на человечество 77
Михаи л Афана сьевич Булга ков (1891-1940). Русский писатель, драматург, театральный
режиссёр и актёр 78
В ней был чрезмерно сложный многоязычный сносочный аппарат и библиография из
более чем пары тысяч изданий 79
В основном технической, т.к. у меня не было оснований отказываться от текста,
написанного на основе стойких здравых убеждений 80
Юркевич Александр Геннадьевич (1952 г.р.) – синолог, к.и.н., доцент
25
плане. Развитие производства не только как общая, постепенно
возвышающаяся колонна, а развитие производственных отраслей. Потому
что развиваются они очень по-разному, и постоянно в каждом хозяйственном
организме и политическом организме это развитие происходит по-разному. И
в то же время в самом развитии эти производственные отрасли бывают очень
сложно взаимосвязаны, возникают взаимосвязи в разных типах производств.
Я-то занимаюсь не только Китаем. Китай для меня – важная, но не
единственная область приложения моих знаний и моих интересов. Я
занимаюсь и массой евразийских древних и этнографических традиционных
культур. И менее важными для меня оказались в этом отношении северо-
американские индейцы. Там у меня интересы ограниченные, потому что я
занимался там очень тщательно плетеными изделиями. Я их изучал в МАЭ и
публиковал коллекции оттуда. Другая производственная сфера, которой я
там занимаюсь – керамика. Ну, и сама культура индейская, с точки зрения её
деградации, с одной стороны, и с другой стороны – её изменение под
влиянием европейской колонизации. По этой тематике я читал лекционные
курсы на кафедре этнологии (1992-1998) и археологии (1992-93) МГУ. Это
один из вопросов, которые сразу же объединяют евразийскую проблему с
индейской проблемой. Здесь мы имеем редкий случай: наблюдения
тщательно зафиксированы и опубликованы. Подобная или близкая к этому
ситуация, хотя во много более гуманных формах была в нашей стране, когда
с XV в. русские выходят за Урал и начинается медленное освоение Сибири и
прилегающих территорий. С индейцами это, несомненно, ярче и очень
подробно изучено, хотя очень жестоко. Там масса данных.
К-Ф: Задокументированных, в отличие от нашей страны.
ПК: Да. Там очень много данных, поэтому эти проблемы я мог
рассматривать как пример конкретной живой истории. Еще с индейцами
связана проблема освоения лошади. Мне это необходимо было для того,
чтобы к каким-то обобщениям приходить. Вот, значит, это практический
уровень.
Следующий уровень – это возможность представления о процессе
развития культуры на основе, с одной стороны, производственного опыта, а с
другой стороны, роста объема духовных знаний человека. Это
обстоятельства, которые постоянно имеешь в виду. Здесь приходится
постоянно дополнять исследования языковыми наблюдениями, которыми я
пользуюсь очень бережно, очень аккуратно, и стараюсь лишний раз их не
давать. Потому что, понимаете, я привык работать в подлинно научном плане
с материалом, которым полностью всесторонне владею. Я не всесторонне
образованный лингвист, для меня эти знания – в положении прикладных, что
и по работам можно увидеть. Это – второе.
И третье, обобщающая сфера. То, что меня интересует, это законы –
частные, общие, конкретные и обобщающие. Законы развития человека, как
общественного существа. Это очень важная для меня сфера, и я говорю о ней,
подчеркивая то, что никогда не рассуждаю о вещах, нетвердо мне знакомых.
26
В этой сфере работ у меня немного. У меня был доклад на одном из
очередных юбилеев одного из моих очень уважаемых учителей, антрополога
Виктора Валерьяновича Бунака,81
посвященный переходу биологических
отношений в коллективах в общественные. Как это происходило и
развивалось, и как мы подходим к рубежу, с которого начинается
непрерывное развитие, ведущее к Новому времени. До этого я писал о
происхождении языка, от языка жестов к звуковому языку. Звуковой язык
потребовал очень больших физиологических преобразований в человеке, и
он связан уже с homo sapiens. Потому что до homo sapiens, что доказал Бунак,
просто невозможно было создать систему артикуляции, которой мы
пользуемся, не было возможности такого различения звуков, которые
образовали бы всё языковое богатство мира.
Это культурологическая проблема, которая имеет выход на современную
политику. Я не могу сказать, будто считаю, что у нас, да и вообще, в целом,
наука может повлиять на политические пертурбации. Но небольшую нишу в
образовательном процессе и познавательном развитии она имеет. Сейчас эта
ниша резко сужается за счет двух обстоятельств. Во-первых, это изменения
нашего образования, системы, ужасно глупое. Но тут уже никуда не
денешься. И второе – это, конечно, невероятное, совершенно
противоестественное в XX в. возвышение Церкви, которое не оправдано
состоянием общественного сознания. Общественное сознание очень далеко
ушло от церковных интересов и церковных идей. И расхождение между
реальной жизнью и церковными установлениями, касающимися истории
человечества, с каждым годом растет всё больше.
Это не нападки на православие. Подразумевается религия, как таковая.
Религиозная и этнические составляющие противопоставляются
общегражданским конституционным принципам и создают дополнительные
стимулы к разобщению общества, разделению его на консолидирующиеся
внутри себя сегменты. И то, что С.Е. Кургинян82
поверил в роль православия
на Руси – ещё не причина искусственно возвеличивать православие.
Мученики были и у противников церкви. Теперь же их старательно
затаптывают, доверившись церковной агитации за своих новоиспеченных
святых. Я понимаю, что вторгаюсь в неположенную сферу, но я привык
говорить то, что думаю. И говорю всегда только так, потому что, когда
человек начинает делать вид, притворяться в чем-то, это самое противное и
самое бесполезное. Потому что нельзя людей убедить, если ты сам не
убежден, и даже нельзя пытаться их убедить. Давать им надо то, что ты
думаешь, а не то, что ты хочешь им навязать, скрывая то, что ты думаешь.
81
Бунак В.В. (1891-1979). Выдающийся антрополог, один из основоположников советской
антропологической школы 82
Сергей Ервандович Кургинян, 1949 г.р. Советский и российский политический деятель,
театральный режиссёр, политолог и лидер движения «Суть Времени»
27
У Стендаля есть такая ссылка, эпиграф: «Язык дан нам затем, чтобы
скрывать наши мысли» и подпись: «Преподобный отец Малагрида83». Меня
это очень заинтересовало – кто такой отец Малагрида? Потому что в
примечаниях было сказано, что Стендаль его придумал. Но ничего он не
придумал! Это был иезуит, который в XVIII в. достаточно широко всем
занимался и, занимаясь политическими заговорами, так выразил «свой
метод». Фраза действительно имеет большое значение в истории культуры. И
с этим отцом Малагрида я бы хотел познакомиться поподробнее, как в свое
время знакомился с историей Хуана Марианны.84
Это иезуит, который в 1600
г. издал книжку.85
Я ее видел и кусочки прочитывал в старых академических
библиотеках, поскольку официально ее не существовало. А книжка касалась
проблемы о цареубийстве. Это был период борьбы протестантизма с
католицизмом, и Хуан Марианна рассматривал вопрос о том, что убивать
врагов настоящей веры, кем бы они ни были – это всё очень хорошо,
достойно и надо это делать, как можешь.
К-Ф: Это своеобразный Мандат Неба – вот, ежели это Враг, то…
ПК: Да – то его надо уничтожать любыми способами, любыми
средствами.
К-Ф: Потерял мандат Неба – всё, до свидания!
ПК: Всё, да, пошел вон!.. Я завел этот разговор не из-за любви к иезуитам
или старческой болтливости. Важен пример периодизационных показателей
в истории (мы всё же не биографию мою обсуждаем, а то, что можно
несколько напыщенно назвать «творческий путь»).
И вот, хотя эти показатели могут быть на первый взгляд мелки, их
историческое значение, в конце концов, оказывается огромно. Политика
прямого утверждения идей, это переход от XVI к XVII в. – первые века
протестантства в Европе, когда толпу понуждают к действию. А затем казнь
Карла 1, и революция кончаются реставрацией Стюартов (1660). И
начинается эпоха обхода основной цели, блуждания в тумане, уклонение в
молчание. Это многие десятилетия откровенной лжи. Помните, как все
масоны уверяли французскую королевскую семью в любви. Тот же А. де
Токвиль 86приводит данные 1788 в «Ancient regime…»
87 об этом. А что
случилось через год?! Вот Вам прямая иллюстрация к тезису Малагриды.
Знать верила в эту высказанную любовь, а кончилось все множеством
убийств: французская революция, шведский король Густав III, Павел I и т.п.
83
Малагрида, Габриэль (1689-1761). Священник-иезуит, в Португалии вел борьбу с
партией короля, возглавляя там иезуитскую организацию 84
Хуа н де Мариа на (1536-1624). Испанский иезуит и историк 85
Хуа н де Мариа на. "О короле и институте королевской власти" De rege et regis institutione
(Toledo, 1598) 86
Алекси с- арль-Анри Клерель де Токви ль (Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville;
1805-1859). Французский политик, министр иностранных дел Франции(1849) 87
О незадачливом министре и пронырливом писателе Токвиле. Название книги: Alexis-
Charles-Henri Clérel de Tocqueville. L’ancien Régime et la Révolution(1856)
格式化: 英文 (美國)
格式化: 英文 (美國)
格式化: 英文 (美國)
格式化: 英文 (美國)
格式化: 英文 (美國)
格式化: 英文 (美國)
28
В Китае такими моментами маскировки, сокрытия истины занимался
Цензорат. Его значение не поняли многие наши прошлые исследователи.
Академик В.П. Васильев,88
умнейший человек и проницательный специалист,
смеется над ним в присущей ему вульгарной манере. Ранее, Тюрго,89
кажется,
и вовсе его не заметил. А ведь цензоры занимались именно анализом
настроений народа, до чего в Европе социологическая статистика
додумалась всерьез лишь к середине XIX в.
Возвращаясь к Хуану Марианне и другим: это были очень интересные
люди. И, главное, что это эпоха огромная. Каждый историк, он должен иметь
наивысшую цель, очень высокую задачу. Потому что, если этой высокой
задачи не иметь, то фактически наша работа должна сводиться к одному – к
регистрации: а вот, было то-то, а вот, было это.
Я сейчас писал про Сыма Цяня обзор, и выясняется одна очень
интересная вещь. К сожалению, это всё не написано, опять же всё запущено.
Потому что при том, что люди хотят сделать, они ставят перед собой
практическую, низкую цель, а не ставят более высокую. И это очень часто
играет очень плохую службу. Потому что с Сыма Цянем, понимаете, первое,
что приходит в голову людям – его сравнивают с западными историками,
всеобщими историками, типа Полибия, Плутарха, Тита Ливия, Геродота и
Фукидида даже, которого, к сожалению, мало изучали, знали очень мало. А
он много выше из этих, скажем так, древних специалистов. Сравнивают, не
думая о том, что китайская историческая наука – это, прежде всего, наука
политики. Это наука, которая должна вести людей в определенных
направлениях развития. Она не фиксирует прошлое автоматически. Она,
рассматривая прошлое, определяет то, что должно быть. И это начинается
очень давно. Это начинается фактически с уцзина.90
Для меня, с точки
зрения изучения, Ицзин91
и ицзин,92конечно, не основные объекты.
Основные – это уцзин и Сыма Цянь. Потому что в них отражено развитие
за очень большой период. Конечно, изменения в уцзине производились. И,
вообще, до-ханьское время – это время достаточно свободного
использования письменных памятников. То есть, их пополняли, их
исправляли, их переделывали, перекраивали, и так далее.
Цинь и-хуан недаром заставил все организовать в едином ключе. Эта
вот идиотская история: якобы закопал конфуцианцев. Самое главное, книги
88
Васильев Василий Павлович (1818-1900). Китаевед, профессор, действ. член
Императорской Российской Академии наукПетербургской Академии наук(с 1886) 89
Анн Робер Жак Тюрго (Anne Robert Jacques Turgot, 1727-1781). Французский экономист
и государственный деятель 90
у-цзин 書 經 («Книга истории» или «Книга документов»). Одна из китайских
классических книг, входящая в состав конфуцианского «Пятикнижия» 91
; И цзин 易經 (Книга Перемен или Канон Перемен). Является наиболее ранним из
известных историй китайских философских текстов; входит в состав конфуцианского
«Пятикнижия» 92
ицзин詩經(«Книга песен»). Один из древнейших памятников китайской литературы,
входит в состав конфуцианского «Пятикнижия»
29
собирал и жег, прямо как Гитлер! Так ничего подобного, простите! Потому
что ему досталось жуткое письменное наследие из разных этих прежних
царств. Каждое царство претендовало на очень многое. Ему не нужно было,
чтобы эти претензии осуществлялись. Ему нужно было иметь общую
официальную историю. Поэтому он потребовал, чтобы все книги ему
представили, и поэтому их надо изъять. А написать что-то общее он просто
не успел. И, собственно, благодаря тому, что в конце царствования началась
склока. А так, если бы он успел… Ну, смотрите, меры весов он ввел единые,
так? Иероглифику он ввел единую? И масса других вещей, которые
действительно явились мироустроительными действиями с точки зрения
имперского правления. Это унификация, это стандартизация всего.
К стандартизации у меня отношение особое, потому что отец долгое
время был заместителем председателя комитета стандартов СССР, уже после
отставки из армии. Я этой проблеме обучался достаточно подробно, и
понимаю ее значение и пользу. Китайцы стандартизацию начинали в период
разброда, а Цинь и-хуан вывел ее на имперский уровень и потребовал,
чтобы она была всеобщей. Но, опять же, не успел. Но замысел был отличный!
То есть, я не хочу сказать, что государь-император все сделал. Ли Сы93
и кто-
то другой еще, много народу там, если поискать. Это надо изучать. А изучать
надо как?
Когда я столкнулся с переводом «Исторических записок» Сыма Цяня, то
первое, что мне пришло в голову – что у нас нет сводного китайского текста
Сыма Цяня. Должен быть критический текст – вот так, как мы публиковали
начиная с XIX в. Мы – это европейская наука, а не «мы» непосредственно.
Хотя мы, специалисты – допустим, академик барон В.Р. Розен,94
участвовали
в публикациях, но в основном это делалось в Европе. Публиковали
критические издания текстов средневековых. Причем не только европейских,
но и ближневосточных – это арабские, персидские и т.д. А дальневосточных
текстов мы не имеем сводных. Собственно, и в XX в. мы их не получили.
Потому что единственный специалист, который пытался это дело частично
решить, это был Бернард Карлгрен,95
который изучал параллели, но не с
точки зрения китайского подхода, а с точки зрения их текстологического
значения, и пытался создать что-то вроде китайской текстологии.
К-Ф: У меня есть еще вопрос, поскольку от вашего творческого пути мы
действительно несколько отходим в сторону. Теперь, когда вы рассказали о
трех основных уровнях ваших исследований. Расскажите, пожалуйста, что
Вы считаете достижениями в каждой из этих областей?
93
Ли Сы 李斯 (280-208 до н.э.). Влиятельный сановник при дворе императора Цинь и-
хуана, занимавший должность главного советника в государстве Цинь между 246 до н.э. и
208 до н.э. 94
Ви ктор Рома нович Розе н (1849-1908). Русский востоковед-арабист, академик
Петербургской Академии наук(1890), вице-президент АН(1900) 95
Бернхард Карлгрен (Klas Bernhard Johannes Karlgren; 1889-1978). Выдающийся
шведский синолог-лингвист
30
ПК: Вы понимаете, тут я оказался неподходящей, негабаритной фигурой.
Потому что не имел определенного круга китайских интересов. Вот, как,
например, А. А. Бокщанин. Он занимается минской эпохой: на кораблях
плавали, экономика была такой-то, есть товарищ-основатель, который всем
мозги промывал, – всё здорово, полезно. Н.П. Свистунова – тоже: аграрная
политика минской эпохи, и все такое.
Я неудобен тем, что у меня темы не только китайские. Я университет
кончал с темой по эпохе бронзы на территории от северного верхнего
Поволжья до Казани. Получилось так, что я в этой области сделал одно очень
большое открытие, которое до сих пор мне не удалось в полном объеме
опубликовать. Это связано с моими отношениями с академиком
Б.А.Рыбаковым96
и тем, что он меня выставил из института, т.е. фактически
выставил из археологии, потому что он был главный советский археолог. Это
папа Ростислава Борисовича,97
но мы с последним почти не общались. В
общем, он смутно помнил, что папа очень воевал с этим проклятым, со мной,
то бишь. Но ничего, он стерпел, когда в 1996 я у него вел секцию на
конференции, посвященной религиоведению. Потому что умерла Гордон-
Полонская,98
и некем было ее заменить, и пригласили меня. Я вел эту секцию
как специалист по атеизму. Секция была посвящена языческим религиям и
культам, и так далее. Не только языческим, конечно, там ходили и
кришнаиты, и прочая публика. Он (Р.Б. Рыбаков) всё это стерпел, так сказать,
нормально, как человек, хотя папа еще был живой...
В отношении Китая – ну, что я Вам могу сказать? Я считаю, что
достаточно много сделал в вопросах древней керамической технологии и
керамической работы, работы по бронзе, ее классификациям и, главное, по
вопросу о происхождении бронзовой культуры.
Что еще мы с вами можем здесь назвать? Очень много у меня работ,
касающихся колесного транспорта. Это достаточно сложная тематика. Но она
важна не только исключительно с точки зрения Китая. Она важна с точки
зрения евразийского пространства. И в евразийском пространстве она
сливается с проблемой языковых миграций, расселения и т.д. То есть, это те
проблемы, которыми я занимаюсь и сейчас. Не могу сказать, что здесь я все
сказал. Сейчас нужно подводить итоги, и я это делаю. И сказать, что что-то
закончено, я изготовил, и всё, я не могу.
К-Ф: Над какой темой Вы работаете сейчас?
ПК: Вот, сейчас пишу работу, которая называется «Истоки нового
времени», от неолитической эпохи до современности. В атомный век мне,
сами понимаете, путь заказан, я там многого не понимаю. Это, конечно,
плохо, потому что XX в. – время страшное не только с точки зрения атомных
96
Бори с Алекса ндрович Рыбако в (1908-2001). Археолог и историк, академик РАН(1991;
академик АН СССР(с 1958) 97
Ростисла в Бори сович Рыбако в (1938 г.р.). Индолог, д.и.н., директор ИВ РАН(1994-2009) 98
Людмила Рафаиловна Полонская (Гордон; 1922-1996). Востоковед, д.и.н., профессор,
сотрудник ИВ АН СССР (с 1950)
31
и прочих взрывов. Он страшен и тем, что подчинил очень многие области
наших знаний новым канонам. И в ряде случаев эти каноны – с одной
стороны, непререкаемы, с другой стороны – расплывчаты, а с третьей
стороны – их можно поворачивать то так, то этак. И вот это (новейшее)
время – его, конечно, касаться толком невозможно. Я же выхожу на время
ээтого самого перелома, когда с одной стороны уже устоялись религиозные
противоречия в христианстве, и они получили легитимацию в политической
жизни, и когда сложилась подоснова современной технологической
цивилизации, и начали складываться установления и политические круги
современной жизни. Они постепенно отделяются, благодаря торгующей
публике, от прежних политических образований, этнокультурных и прочее.
Они приобретают другой вид, совершенно другие отношения вступают в
силу. Так вот, я останавливаюсь на этой самой стадии перехода.
Фактически я дохожу в своих наблюдениях до стадии культурной
французской революции: вот как подведены были итоги французской
революции. То есть, ее итоги подвели еще до ее свершения – их подвела
Энциклопедия.99
Этим периодом такого энциклопедического уравнения, хотя
и очень гнусным периодом, мне приходится заканчивать. Потому что дальше
начинается совершенно новая жизнь, которую, прежде чем описывать по-
настоящему, ее надо досмотреть. Я уже досмотреть ее не успеваю. Не знаю,
успеете ли Вы, простите за такое нахальство! Но такая концовка связана с
общей глобальной проблематикой, а практически новый культурный мир
начинается после 2-й мировой войны. Вот где, по настоящему, кончаются
истоки Нового времени, и начинается само это Новое время.
Очень трудно описывать общие процессы своего времени. Можно
уловить общую тенденцию, и здесь надо уметь себя остановить, ограничить и
не браться за детальные разработки. Людям обычно кажется сегодняшнее
событие самым важным. А в действительности мы не знаем – может, это
самое важное, переломное событие, которое все определило, было 40 лет
назад или 100 лет назад. Мы с вами знаем, что фактически сегодняшнее
состояние экономической, общественной и прочей жизни определили две
войны. Дальше, со 2-й мировой войны, мы начинаем отсчет сегодняшнего
дня, потому, что с этого момента создалась политическая картина Европы.
Прежде всего Европы, а, в общем-то, и всего мира.
Сейчас вот, мир без войны вроде бы. А я-то считаю, что война – 3-я
мировая война – уже идет. Идет она уже точно с 1999, с Югославии. Но это
далеко не общепринятое положение. Но, если его не принимать, то
получается, что без войны у нас начался новый период развития на рубеже
2000х. Совершенно, абсолютно не похоже на предыдущее развитие. Это –
как небо и земля. Это совершенно другой расклад отношений, совершенно
другие установки, другие отношения между людьми. И, что еще хуже, это
99 «ЭНЦИКЛОПЕ ДИЯ, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел» («Encyclopedie,
ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers»), одно из самых знаменитых
универсальных справочных изданий, памятник французской культуры XVIII в.
32
другое отношение власти к человеку. Собственно, ведь это самый основной
вопрос истории. Этот огромный перелом я уже описать не успеваю, не могу
за него браться просто. Я могу подводить итог на том, что о чем уже сказал.
То есть, французская революция и какие-то возможные в дальнейшем
развороты, но в самом обобщенном виде.
Книжка, которая вышла в 2011,100
во-первых, очень фрагментарна. Во-
вторых, она кончается на полуслове. Я и пишу, что не подвожу общего итога
именно потому, что надеюсь продолжать. Вы понимаете сами, что в моем
возрасте выражать надежды на продолжение, я бы сказал, чрезмерно
оптимистично. Но человек, пока он живой, должен что-то делать. А что
может делать человек, который всю жизнь занимается определенным, но
очень обширным делом? Он должен его продолжать. Я это и делаю, и очень
многие вопросы мне приходится пересматривать.
Мне удалось сейчас пересмотреть вопрос об отношении законника
Монтескье101
к китайской действительности его времени. Потому что человек,
ничего не зная, опорочил страну, с которой его же современники брали
пример. Удивительно, но это факт. Причем, самое смешное: то, что брали
пример – это проходит молчаливо, но принимается. А то, что, понимаете ли,
он ее опорочил – это, так сказать, с восторгом рассказывается. Да, вот, какой
Монтескье был хороший, и так далее. Опять же, тут скажете, что я мизантроп.
Но тут не в мизантропии дело. А дело в том, что Монтескье был
представителем определенной группы, которая хотела власти, и она ее
добивалась. Судебная власть – это не власть, это фикция, потому что суд
может определять отношения сторон, но не может устанавливать эти
отношения. Устанавливает их власть исполнительная, как все и писали и до
Монтескье, и после Монтескье. Это момент, кстати говоря, очень для меня
важный именно с точки зрения объединения истории близкой к
современности и истории древней.
К-Ф: Вы говорили, что участвуете в написании 10-томной Истории Китая.
ПК: Да. В настоящее время сотрудники Института археологии и
этнографии Сибирского отделения РАН завершают работу над 1-м томом 10-
томной «Истории Китая», включающем доисторический и
раннеисторический периоды, до образования первых империй Цинь и Хань.
Эту работу возглавляет директор института, академик Анато лий Пантеле евич
Деревя нко (историк, археолог, д.и.н.). Его заместителями по редколлегии
данного тома являются академик Вячесла в Ива нович Моло дин (археолог) и я.
К-Ф: Ваши интересы необычайно широки. К какой школе Вы себя
причисляете? В каких научных сообществах состоите?
Единственная школа, к которой я принадлежал и принадлежу – это
школа здравого смысла. Нельзя заниматься наукой, досконально не изучив
100
П.М. Кожин. Китай и Центральная Азия до эпохи Чингисхана: проблемы
палеокультурологии. М., 2011 101
арль-Луи де Секонда , барон Ля Брэд и де Монтескьё (Charles-Louis de Seconda;1689-
1755). Французский писатель, правовед и философ
33
ее основы. Нельзя доверять догмам, выработанным на уже пройденном этапе
развития и данной отрасли науки, и научного мировоззрения в целом. А
мировоззрение ученому необходимо. Его отсутствие всегда порождает
безответственность, самоуверенность, «релятивизм», излюбленные формы
«американских наук»: прагматизм, бихевиоризм, и такие науки, как «я –
самый лучший», «я всегда прав», «я все могу сделать сам и лучше всех».102
Недавно я увидел удивительную формулировку: «изучение китайских наук»
– немыслимую с позиций интернационального научного мировоззрения,
без которого даже помыслы о каком-то там глобализме представляются не
более чем научной фантастикой.
Что же касается научных сообществ, то в начале 1980х, как и многие
коллеги, я вступил в Ассоциацию востоковедов, а потом во вновь созданную
Организацию китаеведов, возглавленную первоначально М.И. Сладковским,
а затем и поныне руководимую академиком М.Л. Титаренко.103
В 2000 я
вступил в Российскую академию естественных наук, в отделение Археологии
и антропологии. Получилось так, что наше Отделение стало быстро
вымирать. А когда в 2004 «нас оставалось только трое» (Б.Я Стависский,104
С.
Р. Кучера105
и я), Стависский, прервав деятельность нашей секции в Доме
ученых и договорившись о нашем включении в гуманитарное отделение
РАЕН, передал мне формальное руководство Отделением, которое
практически прекратило существование с 2006. Я не хочу оценивать
деятельность этой общественной Академии. К ней предъявляется много
претензий и из-за культивирования лженаучных областей, и из-за ее состава
(Петрик,106
Грабовой,107
его подруга, Кадыров108
и пр.). Но замысел таких
102
Меня никогда не привлекали, а, тем более, не радовали образчики «холуйских» наук,
типа писем графа Честерфильда, сочинений Карнеги и всяких полезных брошюр «Как
стать богатым и преуспевающим» и тому подобные сочинения, особенно расплодившиеся
в постиндустриальную эру в связи с упадком крупной, особенно поддерживаемой
государством «рациональной» общеполезной промышленности, сменяющейся в нашей
стране «индивидуальной трудовой деятельностью», самоценность которой определяет сам
субъект подобного «творчества» 103
Михаи л Лео нтьевич Титаре нко (1934 г.р.). Китаевед, д.и.н., директор ИДВ РАН,
академик РАН 104
Ставиский Борис Яковлевич (1926-2006). Специалист в сфере иранистики, археологии,
истории культуры и искусства народов Средней Азии, д.и.н., действ. член РАЕН,
профессор 105
Кучера, Станислав Иосифович (1928 г.р.). Китаевед-историк, археолог. Д.и..н.,
профессор МГУ, академик РАЕН, главн.науч.сотр. ИВ РАН 106
Ви ктор Ива нович Пе трик (1946 г.р.) — российский предприниматель, автор ряда
лженаучных (неакадемических) исследований (в том числе в области очистки воды),
действительный член РАЕН 107
Григо рий Петро вич Грабово й (1963 г.р.) — создатель «Учения о всеобщем спасении и
гармоничном развитии», основатель «партии ДРУГГ», объявивший себя «Иисусом
Христом во Втором пришествии» 108
Рамза н Ахма тович Кады ров (Кадыров Ахьмат-кIант Рамзан; 1976 г.р.). Российский
государственный и политический деятель, глава Чеченской Республики (ЧР), сын первого
президента ЧР в составе РФ Ахмата Кадырова
34
ученых, как Н.Н. Воронцов109
и его единомышленники, был вполне
правомерен, прогрессивен, полезен, хотя он не получил развития и
реализации, как и многочисленные Академии постсоветского периода. Когда
лишь 6 академий были признаны, «узаконены», материально поддержаны
властью, эта академия уже не могла обрести реальный научный авторитет.
Об этом приходится сожалеть, ибо в Стране не было и нет
профессионального объединения научных работников. Ибо профсоюзы
академических институтов были общественными объединениями,
построенными по территориально-производственному признаку и включали
всех служащих академических учреждений, не имея в виду объединение (или
объединения) ученых, как единого профессионального сообщества или в
соответствии с отраслями наук, в которых они заняты именно научной
деятельностью. Я считаю, что такие объединения не элитного, а
профессионального плана совершенно необходимы, ибо научные работники,
если осознавать их полезность в решении любых государственных
политических, экономических, общественных, технических и хозяйственных
задач, должны иметь организации, реально отстаивающие их общие
правовые интересы. Впрочем, в отношении науки со времен Хрущева,
действенным и неизменным остается лишь один лозунг: "Денег нет!
Потеснитесь!" Слишком много отраслей современного постиндустриального
государственного хозяйства, требующего комплексности, технической и
прочей грамотности, системного подхода и направляющего управления,
оставлены властью в условиях «управления по бытовому разумению».
К-Ф: С кем из известных китаеведов Вам приходилось вместе работать?
Что вас объединяло?
ПК: Некоторых я уже перечислил, добавлю к ним своих однокурсников
А.А. Бокщанина, О.Б. Непомнина, известного и авторитетного правоведа-
китаиста Л.М. Гудошникова,110
академиков В.С. Мясникова111
и С.Л.
Тихвинского, М.В. Крюкова,112
В.Я. Сидихменова,113
В.Г. Бурова114
и Г.А.
Степанову115
– специалиста глубокого, знающего, хотя и не столь яркого на
фоне упомянутых ранее, но представляющую среди нас целую династию
синологов, включающую ее отца – А.П. Рогачева116
и брата И.А. Рогачева.117
109
Никола й Никола евич Воронцо в (1934-2000). Учёный-зоолог, эколог и генетик,
государственный деятель 110
Гудошников Леонид Моисеевич (1927г.р.). Китаевед, д.ю.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ 111
Влади мир Степа нович Мяснико в (1931 г.р.). Китаевед, востоковед, академик РАН,
д.и.н., профессор 112
Крюков, Михаил Васильевич (1932 г.р.). Китаевед, востоковед, д.и.н., профессор 113
Сидихменов Василий Яковлевич (1912 г.р.). Китаевед, к.эк.н. 114
Буров, Владилен Георгиевич (1931 г.р.). китаевед, востоковед, д.филос.наук. Главн.
науч.сотр. ИФ РАН 115
Степанова Галина Алексеевна (1933 г.р.). Китаевед, к.и.н., ведущ.науч.сотр. ИДВ РАН 116
Рогачев Алексей Петрович (1900-1981). Китаевед, профессор ИСАА при МГУ 117
Рогачёв И горь Алексе евич (1932-2012). Китаевед дипломат, Чрезвычайный и
полномочный посол СССР и России, д.и.н.
35
Нельзя из этого, теперь уже старшего поколения, не упомянуть такого
специалиста и прирожденного организатора науки, как Р.Ф. Итс, который
еще задолго до моего прихода в ИДВ посвящал меня в сложные проблемы
политической жизни КНР и знакомил со многими учеными, глубоко
проникшими в области культурного наследия Страны. Работал я также с
академиком Б.Л. Рифтиным,118
И.С. Лисевичем,119
С.Е. Яхонтовым,120
Л.Н.
Меньшиковым,121
Г.Я. Смолиным,122
В.С. Колоколовым,123
А.М.
Решетовым,124
Е.И. Кычановым,125
М.В. Воробьевым,126
В. А. Вельгусом,127
И.Э. Циперович,128
Е.И. Лубо-Лесниченко,129
Н.В. Ивочкиной,130
М.В.
Софроновым.131
Нельзя не упомянуть и работу с молодыми (по сравнению со
мной) учеными, уже составившими себе имя в науке: А.В. Островским,132
А.В.О. Виноградовым,133
А.Е. Лукьяновым,134
А.Д. Воскресенским,135
В.М.
Крюковым,136
А.И. Кобзевым137
и многими другими, кто постоянно
участвовал в проводимых Л.П. Делюсиным138
ежегодных конференциях
отдела Китая ИВ РАН – «Общество и государство в Китае».
118
Рифтин Борис Львович (1932-2012). Китаевед-литературовед, академик РАН, д.филол.н. 119
Лисевич Игорь Самойлович (1932-2000). Китаевед, д.филол.н. 120
Яхонтов Сергей Евгеньевич (1926 г.р.). Китаевед, к.филол.н., преподаватель СПбГУ 121
Лев Никола евич Ме ньшиков (1926-2005). Китаевед, востоковед, переводчик, профессор,
д.филол.н. 122
Смолин Георгий Яковлевич (1930-2011). Китаевед, д.и.н., профессор Восточного
факультета СПбГУ (ЛГУ) 123
Всеволод Сергеевич Колоколов (1896-1979). Китаевед, к.филол.н., профессор 124
Решетов, Александр Михайлович (1932-2009). Востоковед 125
Евге ний Ива нович Кыча нов (1932 г.р.). Китаевед, тангутовед, главн.науч.сотр. ИВР
РАН, д.и.н., профессор 126
Михаил Васильевич Воробьёв (1922-1995). Востоковед, д.и.н.(1972) 127
Виктор Андреевич Вельгус (1922-1980). Китаевед, к.филол.н. 128
Изольда Эмильевна Циперович (1918-2000). Китаевед, к.филол.н. 129
Лубо-Лесниченко Евгений Иосифович (1929-2001). Китаевед, искусствовед, д.и.н.,
член-корр. РАЕН (1997), зав. отделом Дальнего Востока Государственного Эрмитажа 130
Ивочкина Нина Владимировна ( 1936-2004 ). Китаевед, к.и.н., специалист по китайской
нумизматике, сотрудник Эрмитажа 131
Софронов Михаил Викторович (1929 г.р.). Китаевед , д.филол.н., профессор МГУ 132
Островский Андрей Владимирович (1949г.р.). Китаевед, д.э.н., профессор, заместитель
директора ИДВ РАН 133
Виноградов Андрей Владимирович (1962 г.р.). Д.полит.н., зав.отделом ИДВ РАН 134
Анатолий Евгеньевич Лукьянов (1948 г.р.). Китаевед, профессор, руководитель Центра
сравнительного изучения цивилизаций Северо-Восточной Азии ИДВ РАН 135
Воскресенский Алексей Дмитриевич (1960 г.р.) синолог, д.полит.н., декан Факультета
политологии МГИМО. 136
Василий Михайлович Крюков (1962-2008). Китаевед, доцент, д.и.н. 137
Артём Игоревич Кобзев (1953 г.р.). Китаевед, д.ф.илос.н., профессор, зав. отделом
Китая ИВ РАН( с 2011) 138
Делюсин Лев Петрович (1923 г.р.). Китаевед, ученый и журналист, д.и.н., зав. отделом
Китая ИВ АН СССР(1967-1990). Интервью с Л.П. Делюсиным для проекта
«Китаеведение – устная история» см. по ссылке: http://politics.ntu.edu.tw/RAEC/act02.php и
http://www.ivran.ru/project-modernization-models/57
36
К-Ф: Как Вы относитесь к этой конференции?
ПК: Эти конференции, особенно активные в 1970-80х, во многом
способствовали более широкому вовлечению обществоведов в китайскую
тематику. Важно было, что историко-культурный, общесоциологический,
филолого-литературоведческий и философский подход делал их трибуной
свободного обмена мнениями, открытой для широких общедоступных
дискуссий. Они возбуждали научную мысль и вовлекали в обсуждения
большое количество молодежи, благодаря приобретенным на них знаниям и
опыту, вливавшейся в ряды китаистов. Это было особенно важно для
возрождения советского и российского китаеведения. Подобную же роль
стали играть проводившиеся в ИДВ конференции «Китай и мир», по
проблемам внутренней и международной жизни Китая, по китайской
философии и многим другим актуальным проблемам.
К-Ф: Кого Вы считаете своими учениками?
ПК: Вот вопрос, на который ответить «по правилам статистической
социологии» очень легко: никакими приказами никогда я не назначался
ничьим руководителем, ни по какой теме и докторский статус тут ничего не
изменил. Раз за людей, которых я индивидуально, а не «в стаде» чему-то
учил, я не получал плату, значит, по закону, по правилам – учеников у меня
нет. Возможно, так случилось просто потому, что за аспирантов и
докторантов платили деньги. Мне никто никогда никаких лишних денег не
предлагал, и я их никогда не вымогал. И, вообще, ничего не вымогал.
Поэтому учеников, как таковых, у меня нету. Формально я никого не выучил.
Сам же я этих правил не придерживаюсь и тех, у кого реально чему-то
учился, признаю своими учителями. Даже таких древних, как Фукидид,
Полибий, Сыма Цянь, Саллюстий, Лукреций, Цезарь, Тацит.139
К-Ф: Я имела в виду не формально.
ПК: Есть, если вдуматься, есть много десятков людей, и Вы в том числе,
которым я так или иначе помогал в освоении профессии, часто на уровне
подготовки к квалификационным защитам от дипломов до докторских.. И я
это делаю не потому, что обязан это делать, не потому, что хочу
прославиться или вообще чего-то хочу. Я хочу, чтобы эти люди занимались
своим делом возможно более хорошо. Это меня вполне устраивает. Есть
какое-то количество людей, профессионалов, специалистов, которые просто
мне говорят, что я их учил, и они это ценят.
Кто-то сгоряча благодарил, а потом забывал об этом, или, что всегда
обидно, уходил из гуманитарных профессий и терялся из виду. Но кто-то
проходил со мною всю свою дальнейшую жизнь, как мой младший друг,
упомянутый уже Б.А. Фролов. Кто-то даже помнил, чему именно у меня
научился, как опять же ныне покойный археолог и полиглот д.и.н. А.К.
139
Теперь бы я Тацита в учителя не зачислил. Он был эпигоном предшественников, как
Цицерон. Но я познакомился с творчеством Тацита раньше, чем узнал его учителей, и
действительно долго учился у него стилю Саллюстия.
37
Амброз.140
А один совсем уж молодой коллега по одной из профессий,
прошедший все свое научное становление при моем участии, добился, что в
его докторской диссертации я был представлен как консультант. Но это
всегда очень большая ответственность: чужие судьбы!141
КФ: Это круг людей, которые в связи с общением с Вами развивают
сходные методологические принципы, общие темы…
ПК: Вы понимаете, Марина. Во-первых, я должен Вам сказать, что у меня
каких-то общих принципов очень немного. Я считаю основным правилом
всякой работы – прежде всего, дотошное полное освоение источников,
которыми мы пользуемся.
К-Ф: Дотошное и непротиворечивое...
ПК: Совершенно верно.
К-Ф: Чтобы они, эти источники, образовывали общую систему...
ПК: Прежде чем выявить систему, нужно определиться ещё с одним
моментом, с одной вещью. Ваш источник должен быть "чистым". Вы должны
понимать, что получаете первичную информацию, а не искажение. Это,
пожалуй, самое основное, что было для меня важно в любой работе.
Второй момент, который я считаю необходимым и обязательным в нашей
работе – это составление представления о перспективе того явления, того
события, которое вы изучаете. А уже на этом, когда вы представляете, как
это развивается – вы можете строить прогноз. Этот момент прогноза для
меня наиболее важен, особенно в тех областях, касающихся современности,
которыми я занимаюсь. Это такие области, как традиции, политическая
культура...
Достоверность информации – то есть, информационное обеспечение как
таковое. С этим постоянно приходится сталкиваться, потому что в последнее
время я работал почти исключительно на материалах сессий ВСНП – до 2010.
Я работал с ними начиная с прихода в отдел информации в 1994. Конечно, за
это время китайская информационная служба преобразилась невероятно. В
ней появились некоторые, хотя и очень немногочисленные, достоверные
сведения. Первое, что она сделала – она перешла от исчисления процентов к
некоторым реальным данным, которые приводятся в ежегодных сводках за
соответствующий год. Появились реальные данные, которые можно
использовать очень широко. Но и к ним надо относиться очень осторожно.
Если вы не имеете фактов, не знаете и даже не хотите их знать, что очень
часто бывает, то вы никогда не разберетесь в общих высоких рассуждениях и
не найдете даже десятой доли той истины, которая в них все равно
содержится. Без прогноза наша работа совершенно неинтересна. И если вы
не можете себе представить, что произойдет через 20-30 лет, то лучше не
140
Анатолий Константинович Амброз (1929-1985). Советский археолог, д.и.н.,
ст.науч.сотр. Института археологии АН СССР 141
Жаль, не придумали знаков для вздохов, и приходится прибегать к восклицательным.
Впрочем, не дай бог придумают какой-нибудь гнусный «смайлик», и о нем уже чуть ли не
диссертации защищают
38
браться. Вы обязательно должны представлять себе реалии, должны
представлять себе ситуацию, обстановку, которая должна сложиться через
какое-то время. Если вы представите себе эту обстановку, то могут
сложиться и какие-то намеки на это будущее. Сейчас в этом плане
существует одно очень большое упрощение. Наука всюду очень резко
снизилась, поэтому на крупные открытия, преобразующие человеческое
общество и человеческое хозяйство, рассчитывать не приходится...
Мы живем в тяжелую переломную эпоху. Нам нужно стремиться
сохранять то лучшее, чего мы достигли, что мы реально имеем. От того, что
и сколько, и в каком виде, мы сохраним зависит наше гуманистическое
будущее. Какими бы ни были установки науки будущего, они должны идти
от человека, все от того же биологического существа, которое уже создало
свой особый материальный, физический и моральный, идеальный мир...
К-Ф: Павел Михайлович, можно мне тогда задать следующий "мировой"
вопрос? Ваше отношение российскому китаеведению: как Вы считаете,
какова роль российского китаеведения в мировом масштабе? И какие есть у
неё особенности, сильные и слабые стороны?
ПК: В целом, российское востоковедение – очень важная область, это
действительно область высокой науки. Но это не российское востоковедение,
это русское востоковедение, заложенное в XIX в. в чисто практических целях.
Эти практические цели осуществлялись до сер. XX в., и действительно были
практическими целями.
Задача любого востоковедения – служить своей стране. Вообще, любая
наука должна служить своей стране. Наука, связанная с международными
отношениями, с контактами разных цивилизаций – она должна обязательно
быть на страже интересов своей страны. После сер. XX в. нас постепенно всё
сжимали, сжимали. И интересов постепенно почти никаких не осталось. Так
что всё современное востоковедение, как и все нероссийское востоковедение,
я бы сказал, потихоньку скудеет, потому, что с ним мало считаются власти.
Понимаете, что происходит? Востоковедение русское осуществлялось
русскими специалистами. Я понимаю, что сейчас это все полукрамола такая:
ну, как это? Вот ученые, мировое сообщество... Начинается болтовня,
которая, в общем, сложилась на противопоставлении, так сказать, добра и зла.
Добром было все, что против фашизма, злом был фашизм. Дело дошло до
того, что никто не задумался, что мы включали в фашизм, и что мы включали
в антифашизм. Сейчас, вот, все эти понятия переплелись, перепутались, их
надо распутывать…
К-Ф: Исправление имен.
ПК: Да, совершенно верно. И тут, пожалуй, редкий случай, когда мы
можем быть очень важной научно-политической областью знаний.
Что такое китайская наука, которая 2 тысячи лет назад сообразила, что
нужно на своем уровне современной политики определять термины и
определять четко, что такое истина, а что такое вранье. Вот, пожалуйста, это
ярчайший пример. А сейчас мы ничего такого не имеем. Мы начинаем
39
развивать какие-то научные области. Вот, антропологическая книжка лежит
какого-то Маркова. Он биолог, но он решил подзаняться человеком. В
человеке он мало понимает, но он понимает в американской науке.
Американская наука – очень сложное образование, которое имеет сугубо
прагматические установки. Это люди, которые низвели всю науку до уровня
такого полуживотного эксперимента. Ну, эта чепуховина по поводу
выделения желудочного сока – Павловские штучки… Это же все настолько
низкопробно, настолько примитивно, настолько не имеет никакой
общенаучной, общефилософской базы, что это просто нельзя воспринимать
как решение. Когда у вас в основе науки лежит положение, что все могут
думать по-разному, то, простите, это не наука, это гадание. Потому что либо
у вас в основе науки лежат…
К-Ф:..сходная методология
ПК: …определенные положения, связанные с объективными реалиями,
которые установлены достоверно в ваше время. Не когда-то, что, в общем,
сейчас опять надо доказывать, а именно в ваше время. Когда, вдруг, какие-то
идиоты строят 28-километровую железную дорогу под землей – этот
коллайдер – и начинают выдумывать, что они с помощью него установят
пузон или еще какую-то "хреновину" – разве это все не чепуха? Прежде, чем
строить железную дорогу, надо подумать – зачем вы это делаете; надо
определиться жестко: что вы делаете, и что вы хотите получить? А в данном
случае начинается крик: ах, может быть, мы получим…
В общем, все люди должны думать по-разному, у них у каждого своя
голова. В то же время существует мнение, что наши мозги опираются на
такие-то и такие-то процессы, такие-то и такие-то вещества, от которых они
полностью зависимы. И поэтому мы думаем вот таким-то образом. Это,
кстати, и тот биолог нам тоже преподносит, по вопросу о свободе воли. Нету
свободы воли, потому что вы скушали, понимаете ли, омлет.
Есть вещи которые смахивают на идиотизм или на профанацию. Но,
когда их подают «настоящие ученые», в кавычках, конечно, то это как
откровение! Завтра это все забудется. Это как в свое время Лысенко выдумал,
что кукушка происходит от малиновки. И все – да, смотрите, какое открытие!
Потом его разоблачили. Но, простите меня, разоблачать надо каждый день:
идиотов, подлецов, мерзавцев, которые хотят к чему-то приспособиться.
К-Ф: Павел Михайлович, это я понимаю. Но Вы опять мизантропию здесь
несколько разводите
ПК: Да.
К-Ф: …Но я понимаю, с чем связано Ваше воззрение – с тем, что любая
наука должна служить своему государству в частности. Ну, не в частности, а
в первую очередь.
ПК: Служить человечеству, полезным целям человечества и, конечно,
своей стране.
К-Ф: Я с этим согласна, что в первую очередь должны быть полезные
цели человечеству, потом уже – своя страна. И я хотела бы спросить, что Вы
40
считаете всемирным вкладом Китая в сокровищницу мысли? Если говорить
не о порохе и о прочих вещах; а про духовные какие-то вещи…
ПК: Самое большое дело, которое сделал Китай, это организация
человеческих масс. Большего сделать было нельзя. Достигнуть такой степени
организованности населения при огромном его переизбытке никому не
удавалось. Нигде нет таких соотношений объемов популяции с их
территорией, полезной территорией. Не с общей территорией, а с полезной
территорией, на которой можно жить, и чтобы эти массы людей могли на ней
уживаться относительно спокойно. Вот этого нигде в другом месте никогда
не было достигнуто! И достигнуто это региональной цивилизацией. Это не
всемирная цивилизация, но это мечта для других. Вот, в региональной
цивилизации Китай этого достиг.
Но все же позволю себе докончить то соображение, с которого начал
раньше. Я считаю, что очень большая потеря произошла тогда, когда мы все
стали считать, что развивать науку, науку о стране и науку страны, может
только сама родная популяция.
К-Ф: Это, конечно, не так.
ПК: Да, но, простите, к этому все и идет. Вы посмотрите, что делается в
Америке. Ведь китаеведы в основной своей массе – китайцы, или
родственники китайцев. Или, как Нидем,142
человек, окитаившийся через
контакт с китаянкой. Понимаете, так нельзя. Должен быть взгляд со стороны.
Этот взгляд со стороны мы до сер. XX в. и собственно несколько позже, до
того момента, как советское китаеведение разогнали в 1960, мы этот взгляд
со стороны осуществляли. Возвращение китаеведения – это уже
половинчатая вещь, мы уже снизили свой уровень. Мы уже не были
сторонними наблюдателями, свободными от очень многих ограничений
своей культуры, своей веры, своего народа. Мы смотрели на это на все через
призму событий глобализованных.
Глобализация – это не то, что сейчас объявили. Глобализация – это
процесс невероятной сложности. И это очередное великое событие. Вот, как
было великое переселение народов в IV-VI и VII даже веке нашей эры – и
сейчас мы имеем такое же великое переселение, только в другой форме. Оно
не военное. Формально не военное, но оно экономическое. И это огромный
экономический процесс, который прокатывается по всему миру, когда
страны обирают, чтобы дать жизнь чему-то далеко не перспективному или
чему-то, что завтра придет вас убивать. Это не для печати, но об этом надо
помнить.
Чтобы больше не возвращаться к этому на сегодняшний день. Может, я
еще вернусь к этому с своих работах: мы снизили уровень советского
востоковедения и китаеведения в том числе, пытаясь совместить многие
142Ноэль Джозеф Теренс Монтгомери Нидэм (Noel Joseph Terence Montgomery 1900-1995).
Выдающийся британский учёный широкого профиля: биохимик и эмбриолог, синолог,
член Королевского общества и Британской академии наук, профессор и почётный член
множества университетов мира, почётный советник ЮНЕСКО
41
ингредиенты. Когда мы взаимопонимания достигаем не между двумя
цивилизациями, а между цивилизациями и каким-то слоем, который стоит
уже между ними, между этими цивилизациями. Это очень сложные
представления, очень сложные понятия и очень сложная ситуация. Потому
что, вот, вы меня простите, если вы сейчас приезжаете в Сычуань. Вы с
сычуаньским китайцем найдете не больше возможностей
межцивилизационных контактов, чем с каким-нибудь тамошним пандой.
Китаец вас не будет понимать. Панда вас по определению не понимает,
потому что он – медведь. Он хочет жрать бамбук и ничего больше не хочет.
Так же и китаец – хочет жить так, как он живет, и ничего больше не хочет.
Вот о чем должна идти речь. Здесь я уже закончил с той темой, она очень
важная. Не просто важная, это центральная тема для нашей работы.
Согласны?
К-Ф: Пожалуй, пожалуй… Может, Вы скажете несколько слов о
последних школах российского китаеведения. Вы говорили о прошлом – до
1960. А что Вы скажете о современном состоянии китаеведения?
ПК: Вы знаете, Мариночка, простите за такое ласкательное обращение –
оно не случайно, потому что мне нас с Вами жалко. Очень жалко, потому что
возвращение китаеведения со второй половины 1960х и дальше – это поиск
места этого китаеведения в политической жизни страны. Мы возродили его
только потому, что, вдруг, оказались в совершенно идиотском положении. У
нас, как оказалось, в том же ЦК и прочих местах некому проанализировать то,
что происходит в Китае. Были моменты, очень смешные моменты. Вы этого
не могли видеть воочию, а я-то это видел воочию. Понимаете, с 1955 по 1957
китайцы нас учили марксизму. У нас в «Правде» появлялись китайские
статьи о том, что такое настоящий марксизм и т.д. Причем уже к 1957
расхождение стало чувствоваться. Поначалу они не встали на дыбы из-за
Сталина. А потом они поняли, что, оказывается, это судьба современного
политического деятеля – при жизни его возносят, а только он помер, его
начинают топтать ногами. И вообще, всячески уничтожать. И, естественно,
Мао Цзэ-дун, как очень умный человек, очень быстро это все сообразил. Он
был политик блестящий и стратег, который знал, как вот эту массу заставить
делать то, что он хочет. Не просто заставить делать, а она будет делать это…
К-Ф: …самозабвенно.
ПК: …упоенно, да. И он понял, что если продолжать нашу хрущевскую
линию, то этому его подходу конец, что это нужно изживать. И они начали –
он, Чжоу Энь-лай – особенно они. Дэн Сяо-пин участвовал в этом. Он всегда
был человеком второго плана, но он соображал тоже, дай Боже! И, в
результате, мы получили уже не китаеведение, а некую отрасль
политической идеологии. Мы ее получили.
Вот почему наш институт (ИДВ РАН) создали? Нужны были справки
позарез! Справки, обобщения по поводу того, что происходит в Китае, и что
с этим делать. Тем более, тут "культурная революция", головы летят. Куча
народу, который мы воспитали – они вдруг оказались либо в лагерях, либо
42
вообще убитые. Кто-то остался, но затаившись на "перевоспитаниях". У меня
были друзья китайские. Как только начала нагнетаться обстановка, я
перестал им писать. Они еще писали, а я уже не отвечал. Я понимал, что для
них это опасно. Но я не знаю их судьбу. Думаю, что, скорее всего, она просто
трагична. Очень жалко!
И, в конце концов, это не китаеведение, это политическая наука, это часть
политической науки. Язык здесь имеет, с одной стороны, решающее
значение, потому что без него ничего не узнаешь. И, с другой стороны, чисто
подсобное значение, потому что как только это становится на своем языке
понятно, то из этого можно делать что хочешь. В этом плане современное
российское китаеведение мало отличается от советского китаеведения. Оно
продолжило тематику, проблематику, методологию и методику последнего.
Так же относилось к вопросам изучения китайского языка, как основного
инструмента китаеведческой науки. Единственным в этом плане отличием
являлось большее внимание к разговорному языку и расширившиеся
возможности его практического изучения и применения, усиливавшиеся по
мере возобновления связей с Китаем по разным направлениям, в т.ч. после
заключения с КНР в 2001 Договора о добрососедстве ним договора и многих
соглашений, имеющих экономическое, стратегическое ( ОС) и культурное
значение. Приходится при этом с сожалением констатировать, что роль
китаеведов во всех этих вопросах не так уж значительна. Это видно хотя бы
потому, что большинство работ наших сотрудников все больше тяготели к
историческим и историко-культурным направлениям, а экономическая и
международно-политическая, идеологическая тематика имели большее
значение в констатационной, информационной, реже – теоретико-
методической сферах, чем в сфере востребованных прогнозов и различных
материалов, документов и исследований, направляющих, организующих,
ориентирующих власти и граждан в вопросах устойчивого, организованного,
дружелюбного массового общения с Китаем и его гражданами.
Эти вопросы передо мной вставали постоянно вплоть до конца 2010,
когда я был освобожден от постоянного научного и издательского
редактирования всей информационной продукции Отдела информации и
документации ИДВ РАН, и с разрешения нашего директора, академика М.Л.
Титаренко, приступил к более легкой и посильной работе по редактированию
отдельных, хотя и весьма разнообразных изданий в редакционно-
издательском отделе ИДВ. Об объеме и направлениях информационной
работы можно составить представление по моим опубликованным в
юбилейном издании 2006 и в ПДВ за 2008 статьям, написанным в
соавторстве с Е.Н. Румянцевым.143
В 2006-2009 группа работников ЦНИД, и
143
Румянцев Евгений Николаевич. Китаевед, к.филол.н. В н.вр. – работник Российского
посольства в Пекине. Его углубленный интерес к языку, идеологическим, партийным,
военным проблемам Китая имели для меня огромное значение, т.к. расширяли эту сферу
моих знаний в областях, которые никогда не казались мне достаточными и, к тому же, как
всякие проблемы текущей современной сиюминутной жизни требовали постоянного
43
я среди них, во главе с Е.Н. Румянцевым, а затем – к.и.н. В.Н.
Барышниковым,144
провела работу по гранту РГНФ, по теме представлений о
Китае и китайцах в России. Тогда этим занимались многие. Мы как бы
подводили итоги, касающиеся объема и качества информации. Специально
рассматривать здесь эти вопросы вряд ли целесообразно.
К-Ф: Выходит, идеология оказала огромное влияние на современное
отечественное китаеведение, как науку.
ПК: Вы спрашиваете, признаю ли я идеологию движущей силой
современной политической и научной жизни. Для всякого здравомыслящего
человека145
жизнь не может представляться в виде хаоса, в котором он
каждодневно бессмысленно барахтается, ничего не понимая и ни за что не
отвечая. Человек построил свою сознательную жизнь на основании
убеждений, идей, целесообразных действий – все это основания идеологии.
Пока есть национальные государства, идеология – это осмысленная сила,
придающая населению, а, тем более, гражданам, центростремительные
тенденции. Правда, только тогда, когда ее подкрепляет уверенность людских
масс, что данные убеждения и действия, ими вызываемые, ведут к лучшей
жизни, к благоденствию, хотя бы в пределах нынешней взрослой
популяции.146
К-Ф: Приходилось ли Вам заниматься наукой или преподаванием в
третьих странах?
ПК: Думаю из того, что мною рассказано, ясно, что в сознательном
возрасте я не был «в других странах». Преподавать иностранцам мне
приходилось в качестве лектора-почасовика и в РУДН в 1960х и в МГУ, на
родном Истфаке. На кафедре этнографии у меня была большая группа
эфиопов.
25. Каково влияние на Вас западной мысли, науки (Gegel, Marx, Weber,
Parsons, etc.)и западного китаеведения?
Нет смысла разделять эти вопросы. Даже если считать «русский
марксизм» исконно нашим русским явлением, формой русской социал-
демократии и признавать русские переводы трудов Маркса, Энгельса, К.
обновления. А я уже много лет не мог, по состоянию здоровья, рассчитывать на поездки в
Китай. 144
Виктор Николаевич Барышников (1929 г.р.). Китаевед, вед.науч.сотр. ИДВ РАН 145
Прежде всего человека, сознающего, что наличие разума и стойких констант в самом
сознании, поведении и видовых особенностях человека и в окружающей его среде, в том
числе и в искусственной среде созданной им самим [хозяйство, промышленность, города,
государства и т.д.] 146
В условиях современной жизни человек не обладает достаточными досуговыми
возможностями, поголовной образовательной и культурной подготовкой, чтобы уверенно
и самостоятельно решать не только проблемы Смысла жизни, до сих пор не разрешенные
и не разрешимые однозначно. Не разрешенные с того момента когда биологический вид
сумел взять свои судьбы в собственные руки [именно к этому привел нас разум], но и
большинство проблем общежития в невероятно усложненном бытии современного
человечества. А ведь многим приходится думать и о будущих судьбах своих детей
44
Каутского,147
Ф. Лассаля148
и пр. деятелей ХIХ в. – первоисточниками, то
такое, как форма научного и философского багажа, могло существовать
только в рамках дореволюционных (до 1917) познаний, когда основной
«народной» научной книгой, источником «дотюремного образования
русского марксиста» могла быть брошюра «Пауки и мухи»,149
и в пределах
реального существования советской власти, т.е. время с середины 1920х до
сер. 1970х, когда люди «пустились в разные помыслы» и начали осознавать,
что «марксизим», как выражался Н.С. Хрущев, к нашей жизни прямого
отношения не имеет. А как социальное учение марксизм состоит из
фрагментов социальных наук ХIХ в., адаптированных к идеологии
определенной группы стран.
До середины ХХ в. в Европе и России было очень мощное китаеведение.
Практически каждая страна, значимая на международной арене, имела тогда
свою школу китаеведения. Огромное значение еще с ХVII в. имела работа
христианских католических миссионеров. В начале ХVIII в. к ним
присоединились сотрудники русской религиозной православной миссии, а к
середине ХIХ в. – и протестантские миссионеры. Труды иезуитов и
сотрудников русских миссий составили золотой фонд европейского
китаеведения.
В первые десятилетия ХХ в. основные древние китайские сочинения
были изданы на английском (переводы Дж. Легга,150
в основном),
французском (старые переводы иезуитов и о. Куврэра151
), немецком
(переводы Р. Вильхельма152), итальянском (Дж. Туччи
153) языках. Русских
переводчиков больше интересовали практические документы соседней
страны, издание словарей и страноведческой литературы. Хотя были и такие
гиганты китаеведения, как о. Иакинф,154
о. Палладий (Кафаров) 155
и
147
Карл Ка утский (Karl Kautsky; 1854-1938). Немецкий экономист, историк и публицист,
теоретик классического марксизма 148
Фердинанд Лассаль (Lassalle; родители его писались Lassal; 1825-1864). Немецкий
философ, юрист, экономист и политический деятель 149
Либкнехт, Вильгельм. Пауки и мухи. (Пер. с нем.) С.-Петерб. ком., 1903. Либкнехт
Вильгельм (Wilhelm Liebknecht; 1826-1900). Немецкий революционер и парламентский
политик, социал-демократ 150
Джеймс Легг (James Legge,; 1815-1897). Выдающийся британский синолог, миссионер 151
Серафэн Куврёр (Séraphin Couvreur; 1835-1919).Французский священник-иезуит,
миссионер в Китае, синолог 152
Рихард Вильгельм, (Richard Wilhelm; 1873-1930). Немецкий синолог, востоковед,
миссионер 153
Джузе ппе Ту ччи (Giuseppe Tucci; 1894-1984). Итальянский тибетолог, индолог и
религиовед, академик Италии 154
Архимандрит Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин; 1777-1853). Один из
основоположников российского китаеведения, востоковед и путешественник, дипломат,
архимандрит Православной российской церкви, член-корр. Императорской Санкт-
Петербургской академии наук 155
Архимандрит Палла дий (Пётр Ива нович Кафа ров, 1817-1878). Китаевед,
священнослужитель Православной Российской Церкви, начальник 13-й Русской
45
академик В.П. Васильев. По мере «открытия» Китая и развития в нем
протестных движений и по отношению к «своим» властям, и к иностранной
экспансии, китаеведение все больше нуждалось в развитии прикладных
отраслей. И, конечно, в кадрах, способных понимать «состояние народного
духа» Страны и политические процессы в ней, которые, начиная с движения
тайпинов, делали обстановку все более взрывоопасной. Из этой ситуации
проистекает стремление наиболее ярких и мудрых китаистов использовать
возможно более серьезные и прогрессивные, политические, экономические и
социальные учения для понимания Страны, выведения ее из кризисов.
Отсюда идет обращение к престарелому Г. Спенсеру156
и ранние работы Я. де
Гроота,157
стремящегося внедрить социологический анализ в изучение
китайской действительности и прошлого Страны. М. Гранэ158
оказывается
здесь лишь эпигоном, ограничившим изучение социальных проблем
исключительно прошлым и придавшим этим исследованиям внешность
равнодушно-красивого академизма.
Колониальный Амой в Фуцзяни оказался могучей интернациональной
школой практического китаеведения.159
Все выдающиеся умы, которых Вы называете (Gegel, Marx, Weber,
Parsons, etc.), слишком далеки от Китая и реальных знаний о нем. Конечно,
им со времен ученичества запомнились китаеведческие «шалости» Ф.
Вольтера, . де Монтескье, Ж.-Ж. Руссо.160
А реально, «по-деловому», они о
Китае ни черта не знали! Американские китаеведы, не буду перечислять,
сами посадили себе на шею таких «знатоков Китая», как М. Вебер, Т.
Парсонс161
и др., а затем, за счет их теорий, построенных162
на «вторичных
знаниях», старались вогнать Китай в систему западных, европоцентричных
теорий и познаний.
Пожалуй, одной из наиболее ярких работ по истории духовной культуры
и идеологических, религиозных и пр. течений в Китае является книга
покойного уже немецкого исследователя Вольфганга Бауэра163
«Китай и
православной миссии в Пекине. Возглавлял также 15-ю миссию (1865-1878) до самой
смерти. Создатель китайско-русского словаря и транскрипционной системы 156
Ге рберт Спе нсер (Herbert Spencer; 1820-1903). Английский философ и социолог, один
из родоначальников эволюционизма, основатель органической школы в социологии;
идеолог либерализма 157
Яан Якоб Мария де Гроота (Jan Jakob Maria de Groot; 1854-1921). Немецкий синолог,
религиовед 158
Марсель Гранэ (Marcel Granet; 1884-1940). Ффранцузский синолог 159
К тому же, уже основывающейся на научной базе, на профанных знаниях, без
тенденции к поискам во всей человеческой культуре религиозной подоплеки 160
Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau; 1712-1778). Французский писатель, мыслитель 161
Толкотт Парсонс ( Talcott Parsons; 1902-1979). Американский социолог-теоретик, глава
школы структурного функционализма, один из создателей современной теоретической
социологии и социальной антропологии 162
А у Вебера даже, как всегда, недостроенных 163
Вольфганг Бауэр (Wolfgang Leander Bauer; 1930-1997). Немецкий синолог
46
надежда на счастье»164
(1971). Ее, к счастью для многих специалистов,
перевели на английский. Но все это слишком огромная и животрепещущая
тема, чтобы о ней говорить впопыхах, в пределах чьего-то curriculum vitae.
Об этом, если захотите, стоит поговорить особо, тем более, что этой западной
литературой я много и специально занимался в связи с изучением
политической культуры Китая, традиций, истории исследований культуры,
этнических проблем, искусства Страны и многих других проблем, а сейчас
вновь вынужден это рассматривать совсем под особым углом зрения в связи
с работой над первым томом «Истории Китая». Я ведь очень мало пишу о
том, что просто изучал и знаю, ибо считаю, что всякое практическое знание
должно быть прикладным и говорить о нем уместно лишь тогда, когда есть
уверенность, что оно окажется уместным в рассмотрении, трактовке и
особенно доказательном пересмотре какой-либо крупной и актуальной
проблемы. А что абстрактно говорить о китаеведах! Надо знать их работы и
взвешено (но обязательно доброжелательно) оценивать их выполненные в
прошлом серьезные работы, всегда имея в виду, зачем в каких условиях и для
чего они написаны.
К-Ф: Имеется ли у Вас опыт прямого личного общения и сотрудничества
с китайцами?
ПК: Что касается общения, то такого рода контактов, которые можно
было считать деловыми, продуктивными и т.п., я не имел. К тому же, обратил
внимание, что о подобных вещах любят рассуждать торговцы – мешочники,
которые по завершении какой-нибудь постоянной службы и, поездив туда-
сюда с бартером ли или чем-то более прибыльным, вдруг находят тихий
уголок в каких-либо социологических, прогностических и подобных
исследованиях.
К-Ф: Как и где обычно публикуются Ваши исследования?
ПК: Как я уже говорил, у меня имеется более 400 работ, написанных по
разным поводам. Статьи, даже сравнительно большие, хотя я, скорее,
сторонник малых жанров, я стараюсь писать, приурочивая их к различного
рода издательским проектам, где мне предлагают участвовать (сборники,
тематические посвященные конференциям, юбилеям и пр.). Вряд ли я за все
годы своей работы насчитаю больше пяти статей, которые так и остались
неопубликованными.
С монографиями труднее: опубликованы, можно считать, четыре: 1982,165
1983166
, 2007,167
2011.168
Из них первая и последняя посвящены Китаю
164
Wolfgang Leander Bauer. China und die Hoffnung auf Glück. 1971 165
Кожин П. М. Проблемы изучения традиций КНР. М., 1982 166
Кожин П.М. Проблемы историко-культурных и этнических контактов населения
Евразии с IV тыс. до н.э. по первые века н.э. (происхождение и древняя история колесного
транспорта). М.,1982. Депонирована ИНИОН АН СССР №13481. 30.06.1983. 273 с. 167
Кожин П.М. Этнокультурные контакты населения Евразии в энеолите – раннем
железном веке (палеокультурология и колесный транспорт). Владивосток, 2007 168
Кожин П.М. Китай и Центральная Азия до эпохи Чингисхана: проблемы
палеокультурологии. М., 2011
47
полностью: одна – современным традициям; другая – различным периодам и
проблемам прошлого. В монографии 2007 непосредственно Китаю
посвящена лишь последняя четверть. Публикация эта как бы случайная, ее
удалось издать во Владивостоке О.В. Дьяковой,169
которая когда-то под моим
руководством осваивала проблематику древнего керамического производства.
Я глубоко благодарен ей и тронут таким вниманием. К сожалению, в тексте
оказалось много корректорских ошибок и следов не всегда толковой работы
неизвестного мне литературного редактора. Ну что же, получается – это моя
вина, и я уже извинялся за нее перед читателем.
Сейчас я работаю над продолжением монографии 2011, которое
предварительно названо «Истоки нового времени». Вот о его издании я пока
ни с кем не говорил. Это трудно, пока работа не закончена. Но, при том, что у
меня остались неопубликованными, как минимум, семь монографий (кое-что
из них и публиковать-то уже не стоит), в последние два года помимо
больших разделов в первом томе «Истории Китая», я работаю над большим
набором очень разнообразных тем, касающихся, как древности, так и
современности.170
Чтобы показать разброс тематический и временной этих
работ, отмечу их крайние хронологические пределы: это – происхождение и
распространение евразийской расписной керамики эпохи неолита и роль
государства в создании, утверждении и распространении определенных
реальных стандартов, эталонов и художественных разновидностей
металлического монетного чекана.
К-Ф: Из каких источников финансируется Ваша научная деятельность?
ПК: За последние 36 лет основной источник финансирования был один –
моя служба (в тех или иных формах и объемах) в ИДВ РАН. И в последние
годы – выплаты за «Историю Китая». В 1994-1995 был небольшой грант
Сороса, а также участие в каких-то немногих грантах РГНФ, оплаты
оппонирования диссертаций и рецензирования работ по грантам РФФИ,
оплата параграфа о Китае и Монголии в учебнике основ этнологии в МГУ и
почасовых лекций в МГУ (1992–1997), в РГГУ (1997–1998). О некоторых из
этих выплат я знаю только по сообщениям пенсионного фонда о
накопительной части пенсии. А денег я не получал, хотя бы потому, что не
мог за ними поехать, тем более, что расходы на автомобиль могли превышать
размеры самой оплаты.
К-Ф: Каковы Ваши самые большие профессиональные достижения и
самые большие разочарования?
ПК: Думаю, что во всех работах ставлю и разрешаю актуальные вопросы.
Глупая критика, а другой не встречал, меня не задевает. Отвечать иногда
приходится: глупая критика чиновного дурака страшнее пистолета. «Петр
169
Дьякова Ольга Васильевна (1949 г.р.). Историк, археолог,, д.и.н., профессор 170
См., например: Молодин В.И., Кожин П.М. Молодин В.И. Начало эры металлов //
Вестник НГУ. Сер. История, филология – 2012, Т.11, Вып.10. С.6-13; Основы этнологии:
учебное пособие под ред. Проф. В.В. Пименова. М., изд. МГУ, 2007. 696 с. Гл.16, С.302-
314
48
Иваныч может говорить только рафинированные истины». Стараюсь
поименно не критиковать молодежь. У них есть резерв времени, чтобы
поумнеть. Только крайнего идиотизма не прощаю.
Сожалею, что не смог побывать в некоторых зарубежных музеях. В
веции, в Музее дальневосточных исследований, в Музее г. Ираклеона на
Крите, где хранится нечитаемый Фестский диск, о котором впервые писал
еще 66 лет назад (по всей видимости, полную детскую чепуху). А, особенно,
в Американских музеях: Смитсонианского института, фильдовском и др., где
хранятся коллекции плетенных изделий американских индейцев, которые
изучал и писал о них большую часть жизни. Этим вожделения не
ограничиваются, но это уже невосполнимо. А вот закончить работу о Ч.
Диккенсе, написать о своем учителе Киселеве – эти пока невыполненные
обязательства хотелось бы снять со своей души.
К-Ф: Участвовали ли Вы в переводах и публикации каких-либо
письменных источников или документов по Китаю? Участвуете ли в каких-
либо коллективных исследовательских проектах?
ПК: Буквально месяц назад вышел мой перевод и, естественно, трактовка
2 и 3 чжанов Даодэцзина. Это вопросы об альтернативах и часть теории увэй
– недеяния. Я занимаюсь переводами классики много лет. И, конечно,
каждый из 81 чжана Даодэцзина давно мною проработан и объяснен, с
позиций общей моей рационалистической концепции в трактовке китайской
классики. Что касается дальнейшего текста, то я поднялся теперь на одну
ступеньку, а теперь исследую вопрос, на какой чжан приходится её
верхний край. Это, конечно, не космическая скорость перевода. Но я не
могу иначе! Поэтому и участвовать в коллективных проектах переводов я не
могу, да и не хочу, чтобы не подводить коллег.
Я много переводил для себя. Это тексты из уцзина, из Священного
эдикта Канси и Юнчжэна, из Лицзи.171
Из Сыма Цяня мое внимание всегда
привлекали спорные главы о гаданиях и глава, на которой строились
исследования древнекитайских экономических теорий (гл. 127-129), конечно,
главы с которыми работал о. Иакинф и их аналоги в последующих историях.
Но, я думаю, все коллеги прошли через это.
О коллективных проектах я, кажется, все сказал. В содружестве всегда
работать веселее и эффективнее, если, конечно, не разгадываешь ребусы
древнего текста. Занятие это плохо уже тем, что в каждом знаке постепенно
начинаешь видеть историю Китая – а тогда, прощай, перевод.
К-Ф: Каковы самые большие проблемы современного китаеведения?
ПК: Самая большая проблема науки сегодняшнего дня – это кадровый
вопрос. Он требует толковых и спорых решений. Организовывать жизнь в
такой огромной и многообразной (во всех мыслимых и немыслимых смыслах)
стране могут только грамотные, практически подготовленные и достаточно
молодые люди. Это не значит, что наш опыт никому не пригодится, кто-то
171
Это было очень давно. Я забросил памятник, считая его вторичным, а зря: по нему,
полагаю, изрядно прошлась кисть Конфуция
49
должен говорить младшим простые истины: что огонь обжигает, а, если
биться головой о стену, может случиться сотрясение мозга и т.п. Но для того,
чтобы молодые пользовались нашими знаниями без предубеждения и опаски,
не нужны бестолковая, бесперспективная «толерантность» и табуирование
отрицательных явлений и тенденций, к чему мы всегда были склонны.172
К-Ф: Раз уж речь зашла о молодых, какие качества необходимы для того,
чтобы стать профессиональным китаеведом?
ПК: Качества, которые нужны китаеведу, как научному работнику, я знаю.
О том, что требуется китаеведу-практику рассуждать не стану – не испытал.
А что может сказать сторонний наблюдатель?
В той науке, которая формировалась в Европе, начиная с ХII в., не было
разделения по языковому признаку. Основным языком науки была латынь, в
меньшей степени присутствовали греческий, арабский, древнееврейский. Но
это все были инструменты, необходимые среди многих других. Главное была
сама наука – познание, высвобождающееся из-под давления инстинкта,
традиций, религиозных страхов и т.п. А потому в науке нужна, прежде всего,
честность перед этой наукой и перед самим собой, трудолюбие, вера в
возможности человека, отход от эгоцентризма, даже ограничение эгоизма. Я,
к сожалению, только в переводах знаю катрен Омара Хайяма о научном
труде. Специально искать было недосуг, а случайно персидский его текст на
глаза не попадался. Там, вроде, представления, похожие на перечисленные.
Но хотелось бы услышать в авторском варианте, потому как считаю любой
перевод поэзии профанацией, авторизованным подражанием на чужом языке.
Мало кто способен, влезть в шкуру иностранного поэта, как бы воплотиться в
этого поэта. Вроде удавалось Пушкину, а больше никого не знаю. Итак, все
перечисленное, а главное упорство, даже доходящее до упрямства,
способность неизменно отстаивать свои идеи, если уверен в них. Впрочем,
все это нужно в любом творческом труде!
К-Ф: Ваши пожелания молодым китаеведам?
ПК: Что можно пожелать людям, взявшимся за тяжелый и нужный труд?
Не отступать и идти вперед, несмотря ни на что. Слишком велики издержки
от этого дела для вашей жизни. Могу пожелать сил, изобретательности,
находчивости, умения работать с собеседником, коллегой, даже
единомышленником, ... быть всегда во всеоружии своего опыта, знаний,
способностей. Уж если взялись за это дело, возврата быть не должно. Идите
вперед!..
P.S. от П.М. Кожина: Я с интересом прочел отредактированный текст, но прошу учесть: я ни на чём не настаиваю, ни за что не борюсь. Для этого я
слишком стар, и моим убеждениям и констатациям это противоречит. Только
сам человек может прийти к определенным выводам о чём-то, если поверит
во что-то, что осознал, что в своем разуме объяснил, что принимает как
172
Вспомните, юбилейную болтовню о благодатном 1913 в честь 300-летия дома
Романовых
50
истины. Думаю, что дело ученых, одна из самых актуальных для них задач –
остерегать людей от ложных истин, демагогических призывов, болтовни о
том, что якобы можно получить что-то без затруднений, без усилий, без
затраты труда и серьезной аналитической работы разума. И еще, в каждом
периоде своего «прижизненного» существования общество состоит из как
минимум десятка возрастных групп. Их становится больше, они становятся
более антагонистичными по отношению друг к другу в периоды и моменты
крупных ломок и перемен, но подлинные знания и правильно поставленные
цели позволяют снижать этот антагонизм. Ведь никому не доставляет
удовольствия (и редко кто может испытывать даже удовлетворение) жить
среди обломков прошлого, о которые вечно спотыкаются ретивые
«строители счастливого будущего». Китайский опыт, подкреплённый всей
двухтысячелетней историей, неоценим в отношении урегулирования
подобных кризисных состояний. И если я больше обращаюсь к прошлому, то
не потому, что именно оно влечёт меня. Просто в прошлом временная
Вертикаль периодически фиксировала определенные виды разрешения
противоречий и позволяла увидеть какие-то звенья поступательного
движения и развития человека, общества, властных структур, облечённых в
формы государств с их разнообразными методами управления крайне
разнородными человеческими сообществами. На склоне жизни Люсьен Леви-
Брюль попытался обобщить свои идеи о «пралогическом мышлении» и,
представляется, правильно расставил акценты в своем подходе к истории
общества его идей, институтов, свершений (собственно, в это отношении он
развил выводы О. Конта в его поздних работах). Он не стал настаивать на
утверждении прямой зависимости эволюции мышления от биологических
изменений мозга гомо сапиенса, а сосредоточился на проблемах историко-
культурного и историко-психологического опыта у разных популяций
ойкумены.
Думаю, это пригодно в качестве концовки текста. Кожин