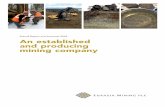ILLEGAL EURASIA: ПРИЧИНЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЙ...
Transcript of ILLEGAL EURASIA: ПРИЧИНЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОЙ...
83
Ab Imperio, 3/2013
Булат НАЗМУТДИНОВ
ILLEGAL EURASIA:
ПРИЧИНЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ*
Существовала ли “евразийская”1 юриспруденция и была ли она воз-можна? Совместима ли правовая наука с метанаучной историософией евразийства? Можно ли выявить в классическом евразийстве правовые аспекты?
Действительно, многие направления юридической мысли сфор-мировались на базе идеологий. Либерализму импонировали есте-ственно-правовые и позитивистские школы права. В идеологической оппозиции к либерализму сформировалась историческая школа права. Евразийская историософия также не отрицает возможности правовой школы. Персонологическое учение о Евразии как о цельном культур-ном пространстве (с присущей ему уникальной судьбой) не только не упраздняет юридического момента такого пространства, но, напротив, делает его необходимым. Мир Евразии должен скрепляться единой
* Автор выражает признательность анонимным рецензентам статьи за их замечания и предложения.1 Под “евразийским” в статье понимается то, что относится к “классическому ев-разийству” – идейному течению 1920–1930 гг., родоначальниками которого были Николай Трубецкой, Петр Савицкий и др. “Неоевразийство” 1990–2000 гг. в статье не рассматривается.
84
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
властью, осуществляемой в том числе в правовых формах,2 и их нужно исследовать и осмыслять.
Восприимчивость к праву во многом объясняется послереволюци-онным контекстом происхождения евразийства. Революции 1917–1918 годов вызвали в странах Европы не только пресловутый “кризис”,3 о котором заявили Рудольф Паннвиц и Освальд Шпенглер, но и идейное оживление. В эмиграции создавались кружки ветеранов войны, как сторонников, так и противников социализма, проводились собрания, принимались программы, создавались многочисленные журналы.4 События того времени вдохновляли различные идейные течения, со-общая им импульс к действию. Частичная реализация большевистского замысла или воплощение “чехословацкой идеи” Масарика вселяли уверенность в возможность построить государство “из теории”. В Европе снова зазвучали апелляции к естественному праву как основе новых государств.5 Идея предшествовала телесности, повелевала по-следней. Евразийцы следовали этой логике: для них было важно вы-строить схему, создать идейный плацдарм для практики, в том числе политической. Петр Савицкий и Петр Сувчинский пытались скрестить “слово и дело” в евразийской идеологии, настаивали на пластичности мира, на возможности его обустройства.
Подобная жажда “строительства” и даже прогрессизм парадоксаль-ным образом сочетались у евразийцев с пониманием идеала не как конструируемого, а как реального. Они призывали не создавать новый мир, а вернуться к утраченному наследию, восстановить его.6 Право-2 Евразийский манифест 1927 г. отстаивал принцип безусловного верховенства закона, ограничивающего произвол государственной власти. См.: Евразийство (формулировка 1927 г.) // Основы евразийства. Москва, 2002. С. 172.3 “Тема кризиса [прежде всего, в Германии] стала ритуальной и вместе с тем пре-вратилась в наваждение. Социально-политические тревоги переплелись с интел-лектуально-культурными. Говорилось о политическом кризисе, кризисе социальной политики, культурном кризисе и, разумеется, о кризисе науки. Смешались все методологические новации последних лет; все области науки были охвачены ‘кри-зисом’” (Фриц Рингер. Закат мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890–1933. Москва, 2008. С. 46).4 Пьер Бурдье. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. Москва, 2003. С. 96-97.5 А. Бобраков-Тимошкин. Проект “Чехословакия”: конфликт идеологий в Первой Чехословацкой республике (1918–1938). Москва, 2008. С. 37-40.6 В этом проявилась так называемая “консервативная революционность” на-ходившихся в поиске “третьего пути” классиков евразийства, сближавшая их с межвоенными течениями XX в.
85
Ab Imperio, 3/2013
вая структура России вновь должна была стать проявлением общей структуры Евразии – реально существующего, а не сконструированного образования.7 Отказ от номинализма объяснялся евразийцами тем, что “организационная идея” пронизывает не только человека, но и сами вещи. Человек выявляет картину миру, а не создает ее, он вскрывает то общее, что есть и в природе, и в познающем субъекте: человек и при-рода сопричастны друг другу, поскольку они причастны общей идее.
В евразийском учении слышен отголосок натурфилософии конца XVIII в.:
…если в каждом органическом целом все служит друг другу опорой и поддерживает друг друга, то такая организация должна существовать раньше, чем ее части – не целое возникает из частей, а части возникают из целого. Следовательно, не мы знаем природу априорно, а природа есть априорно, т.е. все единичное заранее определено целым или идеей природы вообще.8
Исследователи находят и более ранние истоки евразийских суж-дений, например в философии неоплатонизма, утверждавшей особое бытие идей, первичность “Единого”.9 Из переписки Савицкого с Львом Гумилевым также следует, что, отвергая позитивизм, они сочувствовали неоплатоникам – Ямвлиху и Плотину.10
Холистские устремления объединяли в евразийстве столь разных авторов, как Лев Карсавин и Петр Савицкий. Первый писал о “всеедин-
7 См. работы, повествующие о своеобразном “онтологическом структурализме” евразийцев: Патрик Серио. Структура и целостность: Об интеллектуальных ис-токах структурализма в Центральной и Восточной Европе. Москва, 2001; Рустем Вахитов. Онтологический структурализм евразийцев // Записки русской академи-ческой группы в США. 2011–2012. Т. 37. С. 281-303.8 Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг. Соч.: В 2 тт. Москва, 1987. Т. 1. С. 188-189. Патрик Серио, тем не менее, оспаривает “натурфилософичность” евразийских исканий: Савицкий и Трубецкой искали не “целое”, а различные “целостности”. См.: Патрик Серио. Структура и целостность. С. 249-250. Сергей Глебов, напро-тив, настаивает, что холистские устремления евразийцев имели своим основанием прежде всего “натурфилософскую традицию российского естествознания”, в том числе почвоведческую концепцию Докучаева. См.: Сергей Глебов. Евразийство между империей и модерном: История в документах. Москва, 2010. С. 120.9 Патрик Серио. Структура и целостность. С. 282, 312; Марлен Ларюэль. Идеология русского евразийства, или Мысли о величии империи. Москва, 2004. С. 53; Сергей Глебов. Евразийство между империей и модерном. С. 102. 10 Письма П. Н. Савицкого Л. Н. Гумилеву. 1956 год // Геополитика и безопасность. 2008. № 4. С. 94.
86
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
стве”, о первичности целого по отношению к частям,11 второй стремился выявить “периодическую систему сущего”, создать глобальную систему наук, которая бы описывала не только “месторазвитие” (геосоциальное пространство) Евразии, но и “месторазвития” других культур. В такой когнитивной системе география и правоведение, лингвистика и эконо-мика должны были, дополняя, обогащать друг друга.12
Если евразийская юриспруденция и могла состояться, то только как цельный аспект тотальной системы, в основе которой есть нечто единое, общая закономерность. Хаотичное совпадение элементов, слу-чайные комбинации разных идей были для евразийцев недопустимы. Наиболее успешно евразийство как “целостная” система воплотило себя в языкознании и истории.13 Правовая теория также должна была отражать черты целостной идеи Евразии: единство судьбы (в рамках единого “месторазвития”), специфический способ хозяйствования (“го-сударственно-частная система хозяйства”), особую структуру власти (“идеократия”) и т.д. Однако именно в плоскости права евразийская идеология разбилась на части, на “правовые идеологии”, став сово-купностью разных идей. Для того чтобы понять причины этого несо-впадения, важно проследить возникновение и развитие юридических воззрений евразийцев.
О правовой составляющей евразийства написано не так много. Ис-следователи чаще всего говорят о евразийстве как о сложносоставном культурном и даже художественном явлении.14 Реже пишут о нем как “феномене политической культуры”,15 рассматривают государственные
11 См.: Л. П. Карсавин. Философия истории. Берлин, 1923. 12 П. В. Логовиков [псевдоним П. Н. Савицкого]. Научные задачи евразийства // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Кн. 7. Париж, 1931. С. 56.13 Филологи Николай Трубецкой и Роман Якобсон противопоставили языковой семье, сплоченной единством происхождения, языковый союз, основанный на единстве пространства общения, “месторазвития”. См. об этом: Н. С. Трубецкой. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. Берлин, 1923. Кн. 3. С. 107-124; Р. О. Якобсон. К характеристике евразийского языкового союза. Прага, 1931. Георгий Вернадский представил историю единого евразийского “ме-сторазвития” как чередование доминант “леса” и “степи”. См.: Г. В. Вернадский. Начертание русской истории. Прага, 1927.14 См. о “евразийском” направлении в музыке (и отчасти в музыковедении): И. Г. Вишневецкий. Евразийское “уклонение” в музыке 1920-х–1930-х годов. Москва, 2005.15 А. Б. Шатилов. Евразийство как феномен политической культуры (двадцатые годы ХХ века) / Дис. ... к. полит. н. Москва, 1999.
87
Ab Imperio, 3/2013
аспекты евразийской теории.16 И лишь в некоторых случаях вспомина-ют о правовых взглядах евразийцев и о философии права евразийства. Чаще всего речь ведется об общеевразийском понимании права,17 хотя это противоречит тому, что взгляды ведущего юриста движения Нико-лая Алексеева существенным образом отличались от суждений о праве его соратников – Льва Карсавина и Владимира Ильина. Не случайно, выявляя у евразийцев общее стремление к обоснованию права религи-озно и геополитически, исследователи часто не могут объединить их воззрения в рамках единой правовой школы, которую характеризовало бы относительное институциональное и идейное единство.18 К инсти-туциональным аспектам формирования научной школы часто относят возникновение связи “учитель – ученики”, наследование традиций,19 формирование устойчивых горизонтальных связей, противопоставление собственной школы другим. Идейная общность научных исследований имеет в контексте школы сущностное значение, поскольку благодаря ей и возможен новый подход к праву, новый тип юриспруденции. В рам-ках школы могут существовать разногласия по отдельным вопросам, возможны расхождения в методологии, однако общими должны быть видение права, суждения об основных правовых понятиях (“субъекте права”, “правомочии” и др.) и ключевых принципах права.20
16 См.: А. В. Крымов. Евразийская идеократия и государственно-правовое уче-ние В. С. Соловьева / Дис. … к. ю. н. Мытищи, 2008; А. Г. Палкин. Концепция государства в учении евразийцев / Дис. … к. ю. н. Омск, 2009; О. А. Сухорукова. Формирование концепции государства во взглядах евразийцев: 1920–30-е гг. / Дис. … к.и.н. Тверь, 2004. 17 См. попытки рассмотреть философию права евразийства как “целое”, а не мно-жество различных “философий права”: Otto Böss. Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeshichte des 20. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1961. S. 85-94; И. А. Исаев. Политико-правовая утопия в России: Конец ХIХ – нач. ХХ в. Москва, 1991. С. 203-233; А. В. Ахматов. Философия права евразийства. Историко-философский анализ / Дис. ... к. филос. н. Москва, 2009.18 Е. З. Мирская выделяет “социальную” (возникновение научной связи учитель – ученики) и “когнитивную” (выявление общей научной проблемы) составляющие возникновения научной школы. См.: Е. З. Мирская. Научные школы как форма организации науки (социологический анализ научной проблемы) // Науковедение. 2002. № 3 (15). С. 14.19 Наследование традиций предполагает как минимум существование двух или трех поколений участников “школы”. См.: Д. Ю. Гузевич. Научная школа как форма деятельности // Вопросы истории естествознания и техники. 2003. № 1. С. 74; Мирская. Научные школы. С. 14. 20 Исходя из этих параметров выделяют школы “правового реализма” в США и Скандинавии, “школу свободного права” во Франции, историческую школу права
88
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
Если прикладывать эти критерии к “евразийской” правовой школе, становится очевидным, что она так и не оформилась, хотя правовые начала в теории евразийства были достаточно развиты. В этой статье речь пойдет о причинах несостоятельности евразийской юриспруден-ции как системы, о соотношении правовых взглядов Николая Алексеева с евразийской идеологией и о том, почему холистские проекты евра-зийцев не воплотились на почве права. Для этого важно исследовать институциональные и особенно идейные предпосылки формирования евразийской юриспруденции, уделив внимание не только процессам внутри евразийства, но и современным ему духовным течениям (“кон-сервативным революционерам” и пр.), а также идеям предшественников евразийцев (славянофилов, веховцев и др.).
Институциональные предпосылки формирования евразийской юриспруденции
Институциональным плацдармом евразийской юриспруденции могло стать возникшее в начале 1920-х гг. евразийское движение, к концу десятилетия разбросанное по всей Европе. Евразийские круж-ки существовали в Праге, Париже, Риге и т.д. На правовую тематику писали ассоциировавшие себя с евразийством, пусть и в разное вре-мя, юрист Николай Алексеев, философы Лев Карсавин и Владимир Ильин, историк Георгий Вернадский.21 Вопросов права также касались лидеры евразийцев Николай Трубецкой и Петр Савицкий, юристом по образованию был Константин Чхеидзе. Названные авторы печатались в общих евразийских изданиях (временниках, хрониках, тетрадях), подчеркивали принадлежность к общему движению, соблюдали идей-ную иерархию, чтили лидеров. Так, очень трогательно, с большим почтением “ученик” Константин Чхеидзе писал “учителю” Николаю Алексееву, заявляя о своей лояльности:
в Германии, дискутируется существование школы “экономического анализа права” (Law and Economics). См.: Ejan MacKay. Schools: General // Encyclopedia of Law and Economics. Vol. 1. Cheltenham, 2000. P. 402.21 Г. В. Вернадский издал “Очерки истории права Русского государства XVIII–XIX вв.” (1924), основой которых стал лекционный курс, прочитанный на Русском юридическом факультете в Праге. Позже ученый опубликовал работу “О составе Великой Ясы Чингисхана” (1939), важную в связи с осмыслением монгольского фактора в истории русского государства и права. Оба труда переизданы, см.: Г. В. Вернадский. История права. Санкт-Петербург, 1999.
89
Ab Imperio, 3/2013
Дорогой Николай Николаевич. Каждый, кто слушал Вас – разве может относиться к Вам иначе, чем с чувством высокой гордости за отечественную науку; с чувством беспредельной признательности за то, что Вы с таким изяществом и с такой доброжелательностью вводите своих учеников в аналитические лабиринты подземелий, чтобы потом вознести их на блистательные и на всю жизнь запо-минающиеся синтетические вершины.22
Но Алексеев и Чхеидзе сотрудничали не только в рамках евразий-ской иерархии. Как и многие евразийцы, они были институционально связаны в рамках Русского юридического факультета Праги (далее – РЮФ), принятого в 1922 г. под протекторат Карлова университета. С 1922 по 1925 г. Николай Алексеев являлся секретарем РЮФа, вплоть до 1929 г. преподавал на факультете государственное право,23 а Чхеидзе был его учеником и написал выпускную работу “Опыт анализа социальных норм”. Георгий Вернадский читал в РЮФе курс по истории русского права, этот же курс вел Мстислав Шахматов, о котором мы скажем особо. Петр Савицкий числился приват-доцен-том на кафедре политической экономики и статистики.24 Студентами РЮФа также числились менее известные евразийцы Николай Дунаев, Яков Садовский и др.
Многие евразийцы тепло отзывались о первом декане РЮФа Павле Новгородцеве. Трубецкой писал о нем очень сочувственно: “Новгород-цев действительно льнул к нам и стоял к нам ближе всех других людей того же возраста и того же биографического типа”.25 Учениками Новго-родцева в разное время были Николай Алексеев (в начале 1900-х гг.) и Георгий Флоровский (в начале 1920-х гг.). Своеобразная академическая диахронность, проявившаяся и в этом случае, стала одной из причин, по которой евразийство не могло избрать своей базой РЮФ. Факультет можно сравнить с коммунальной квартирой: жильцы выходили гулять в “коридор” евразийства, но гуляли там разными группами и в разное время, что в целом неудивительно, учитывая их вынужденную мобиль-ность. Многие из них даже не были лично знакомы друг с другом: в
22 ГАРФ. Ф. Р 5911. Чхеидзе К. А. Оп. 1. Д. 5. Переписка Чхеидзе К. А. с Алексе-евым Н. Н. Л. 8.23 См. об этом: Н. Н. Алексеев. Из Царьграда в Прагу. Русский юридический фа-культет // В. Т. Пашуто. Русские эмигранты в Европе. Москва, 1991. С. 205-224.24 ГАРФ. Ф. Р 5765. Русский юридический факультет в Праге. Оп. 1. Д. 92. Список профессоров и преподавателей Русского юридического факультета. Л. 2. 25 Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому: 1921–1928. Москва, 2008. С. 92.
90
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
отличие от Флоровского, некоторые студенты РЮФа (Дунаев и пр.) заканчивали учебу в начале 1930-х гг.
Вместе с тем важно отметить сам факт обучения и преподавания в РЮФе большинства евразийцев, писавших на правовую тематику. Одна-ко подлинно евразийского преподавания и обучения здесь быть не могло. Многие учебные курсы РЮФа посвящались уже не действовавшему праву имперской России,26 к которой у основателей евразийства было в целом негативное отношение. К советскому праву преподаватели РЮФа также в целом относились отрицательно. В 1925 г. усилиями сотрудников факультета был издан двухтомник “Право Советской России”, в котором профессор уголовного права Александр Маклецов иронизировал по поводу применения статьи 21 Конституции РСФСР 1918 г.:
РСФСР предоставляет право убежища всем иностранцам, подвергающимся преследованию за политические и религиоз-ные преступления. Можно считать, однако, установленным, что действительным правом убежища в советской России пользуются исключительно лица, примыкающие к III Коммунистическому Интернационалу.
Сходные инвективы содержались в статьях Сергея Завадского и Николая Тимашева.27 26 Содержание программ испытаний по уголовному праву (автор А. В. Маклецов) ограничивалось изучением имперского законодательства, последним по времени “российским” актом значилось Уголовное Уложение 1903 г.; упоминался Уголов-ный кодекс Чехословакии 1921 г., но о советском законодательстве речи вообще не шло; в качестве научной литературы учащимся рекомендовали работы классиков уголовного права XIX в. Н. С. Таганцева, И. Я. Фойницкого и др. В программах испытаний по гражданскому праву (автор С. В. Завадский) советское законода-тельство не упоминалось: в них не было ссылок на акты; рекомендовалось изучать труды дореволюционных цивилистов Г. Ф. Шершеневича, К. А. Победоносцева и др. Программа по государственному праву заканчивалась на актах времен первой русской революции. См. соответственно: ГАРФ. Ф. Р 5765. Оп. 1. Д. 46. Программа государственных испытаний по русскому уголовному праву. Л. 2., 16, 28об.; ГАРФ. Ф. Р 5765. Оп. 1. Д. 33. Программы по гражданскому праву. Л. 2об, 4об., 8; ГАРФ. Ф. Р 5765. Оп. 1. Д. 31. Учебные программы по государственному праву. Л. 2об.27 А. В. Маклецов. Уголовное право // Право Советской России. Прага, 1925. Т. 2. С. 144; А. В. Завадский. Гражданское право // Там же. С. 18; Н. С. Тимашев, М. И. Ганфман. Процессуальное право // Там же. С. 219. На таком фоне сдержанная критика Алексеевым государственного строя СССР выглядела едва ли не апологией; примечательно, что ряд тезисов “Русского народа и государства” (1927), подчер-кивавших органический характер русской революции, изначально уже содержался в этой статье из сборника 1925 г. См.: Н. Н. Алексеев. Государственный строй // Право Советской России. Прага, 1925. Т. 1. С. 29-120.
91
Ab Imperio, 3/2013
Многие преподаватели РЮФа открыто заявляли не только о своей антисоветской, но и антиевразийской позиции. Среди них Георгий (Жорж) Гурвич, занимавшийся международным правом, Александр Кизеветтер, преподававший русскую историю, Евгений Спекторский, проводивший занятия по философии права.28 Кизеветтер и Гурвич известны как решительные и острые на язык критики евразийства,29 в органическом неприятии евразийства с ними соперничал разве что Иван Ильин.
Таким образом, недостатки РЮФа как институциональной почвы евразийской юриспруденции могли компенсироваться лишь идейно-правовым единством евразийской концепции, единством правовой терминологии и общими подходами к ключевым правовым проблемам. Посмотрим, удовлетворяло ли евразийство этим критериям.
Идейные предпосылки формирования евразийской юриспруденции
На уровне общих понятий евразийцы пытались сохранить термино-логическое единство, вводя в оборот новые термины или придавая иное значение существующим. Специфическими терминами-маркерами в евразийстве стали “месторазвитие” (Савицкий), “правящий отбор” (Карсавин), “идеоправство” или “идеократия”, (Савицкий и Трубецкой), “правообязанность” (Алексеев). Однако все эти социальные термины за исключением “правообязанности” не входили в состав собственно правовой терминологии: даже “идеократию” Савицкий характеризовал как понятие “селекционной социологии”.30 Ни Алексеев, ни Ильин, ни Карсавин не сформировали нового корпуса правовых понятий. Пер-28 Е. В. Спекторский был принят на кафедру истории философии права уже после смерти П. И. Новгородцева и по сути – на его место. Благожелательную характе-ристику ему дал Н. Н. Алексеев, к тому времени еще не присоединившийся к ев-разийству. См.: ГАРФ. Ф. Р 5765. Оп. 2. Д. 869. Профессор Е. В. Спекторский. Л. 7.29 См.: Г. Д. Гурвич. Пророки // Дни. 1925. № 796. 23 июня. С. 2-3; Он же. Русская философия первой четверти XX века (1926) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2006–2007 [8]. Москва, 2009. С. 495-517; Он же. Социализм и собственность // Современные записки. Париж, 1928. № 26. С. 346-382; А. А. Кизеветтер. Евразийство // Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Москва, 1993. С. 266-278; см. также: ГАРФ. Ф. Р 5911. Оп. 1. Д. 105. Он же. Кон-спект лекции “Славянофильство и евразийство”, прочитанной в Русском научном институте в Праге. Л. 1-6.30 П. Н. Савицкий. Споры о евразийстве // Тридцатые годы. Утверждение евразий-цев. Париж, 1931. Кн. 7. С. 25-26.
92
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
вый из них был слишком сильно связан дореволюционной правовой традицией, о чем мы скажем позже, а философы Ильин и Карсавин не уделяли вопросам права внимания, необходимого для осуществления “научного прорыва”.
Наблюдалось ли среди евразийцев единство или хотя бы единообраз-ность воззрений на природу права, его сущность, ключевые правовые понятия и явления? Сама по себе проблематика права могла бы стать важной для евразийства, ведь, по словам Трубецкого,
для ученых, принимающих участие в евразийском движении, главным предметом описательного исследования является та многонародная личность, которую в совокупности с ее физиче-ским окружением (территорией) евразийцы называют Евразией.31
Эта “многонародная личность” неизбежно должна была иметь определенную социальную организацию, основанную на правовой системе, которая бы воплощалась в нормах публичного права, затра-гивающего статус высших органов власти, а также в частном праве, регламентирующем повседневную жизнь человека в семье, на рынке, в трудовых отношениях и т.д. Между тем в систематизированном виде проблематика личности-Евразии была обозначена Трубецким лишь во второй половине 1920-х гг. Вопросы права изначально не привлекали особенного внимания евразийцев. Первым проблему права в изданиях евразийцев поставил тот, кого они своим не признавали – пражский магистрант, приват-доцент РЮФа Мстислав Шахматов, спустя два года заявивший о своей непричастности к чуждому ему движению.32
31 Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания // Н. С. Трубецкой. Наследие Чингисхана. Москва, 2000. С. 98.32 Шахматов был приглашенным “спецом”. Его попросили написать на обо-значенную тематику, не допустив до участия в движении. Сам Шахматов также подчеркивал, что никогда не отстаивал концепт “Евразии” (в котором, по его мнению, сквозил “географический детерминизм”) и всегда стоял на позиции “самобытничества” – защите православного и преимущественного славянского начала в российской культуре. После выхода своей второй (и последней) статьи в евразийских изданиях в 1925 г. Шахматов заявил: “Я счел возможным поместить эти статьи нейтрального научно-философского содержания в евразийских изданиях несмотря на то, что евразийцем я никогда не был и по ряду вопросов всегда с ними не соглашался” (Мстислав Шахматов. Евразийство и русское самобытничество. Письмо в редакцию // Возрождение. 1925. № 4. 6 июня. С. 1). Интонация заявления созвучна тону письма Владимира Ильина, опубликованного 25 октября 1934 г. также в газете “Возрождение”, в котором он написал, что давно прервал все отношения с евразийством. Однако Савицкий “вдогонку” напомнил Ильину о его “евразийской
93
Ab Imperio, 3/2013
“Право” и “правда”: Мстислав Шахматов и Владимир Ильин
Между тем в “Исходе к Востоку” (1921) – первом коллективном издании евразийцев – отношение к праву уже было заявлено, пусть и неявно. Презрительной снисходительностью к “юридизму” наполнена статья “Хитрость разума” Георгия Флоровского. Осуждая безжизнен-ный рационализм и “законничество” европейской науки, восходящие к “еврейскому духу” и католической несвободе, Флоровский возвраща-ется к старой дихотомии “закона и благодати” митрополита Илариона. “Благодать” для Флоровского – в подлинной жизни, не расщепляемой ratio; “закон”, как и “естественное право”, – в безжизненных схемах рационализма. Критикуя открыто неокантианские подходы к праву (в лице Рудольфа Штаммлера) и поддерживая (без упоминания имени) Павла Новгородцева и его труд “Кризис современного правосознания”, Флоровский дискриминирует “право” как рациональный конструкт, симпатизируя лишь “скромному интуитивизму” исторической школы права.33
Так, с самых первых шагов евразийство отбросило “право” как своеобразный конструкт романо-германской цивилизации. Вероятно, на это влияло и то, что среди евразийцев не оказалось юристов, а евра-зиец Андрей Ливен, получивший юридическое образование, теорией права не занимался.
Лишь спустя несколько лет евразийство перешло от созерцательного осмысления кризиса, как европейского, так и внутрироссийского, к идее активного преображения мира, точнее к идее “возвращения” мира Евразии к его “основам”. Евразийцы признали важность деятельного начала,34 осуществляемого в том числе и в правовых формах. Именно поэтому им стали необходимы юристы: к работе над сборниками при-влекаются “спецы”, в том числе и Мстислав Шахматов.
деятельности”, чего в случае Шахматова не было. См.: П. Н. Савицкий. Открытое письмо В. Н. Ильину // Евразийская хроника. Берлин, 1935. Вып. 11. С. 101-102. Отрицательно о Шахматове как магистранте РЮФа высказался Николай Алексеев: “Шахматов готовился к магистрантским испытаниям под моим руководством, но я нашел его совершенно неспособным к усвоению истории политических учений и государственного права по моей программе и от руководства им отказался” (Н. Н. Алексеев. Из Царьграда в Прагу. С. 221).33 Г. В. Флоровский. Хитрость разума // Исход к Востоку. Москва, 2008. С. 80. 34 Об обстоятельствах этой перемены см.: А. Г. Гачева. Неизвестные страницы ев-разийства конца 1920–1930-х годов. К. А. Чхеидзе и его концепция “совершенной идеократии” // Вопросы философии. 2005. № 9. С. 157-159.
94
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
Статья Шахматова “Подвиг власти” была опубликована в третьем “Евразийском временнике” (1923). Задачей сборника являлось переос-мысление крушения старой России не как политико-правовой пробле-мы, но религиозно-нравственной. Петр Савицкий писал о “подданстве идеи”, превращая политико-правовое понятие в нравственно-идеологи-ческое.35 Николай Арсеньев в заметке “Живые камни”, соседствовавшей со статьей Шахматова, подчеркивал, что кризис затронул не столько “плоскость социально-государственную”, сколько “внутреннюю жизнь русского народа”.36
Подобные тезисы “Временника” были созвучны мнениям “вехов-цев”, которых евразийцы яростно критиковали, называя “старыми грымзами”. В предисловии к “Вехам” (1909) провозглашалось, что для авторов сборника “общей платформой является признание теоретиче-ского и практического первенства духовной жизни над внешними фор-мами общежития”.37 Хотя среди “веховцев” были и те, кто не принимал этот подход – к примеру, Богдан Кистяковский, писавший о важности права как внешнего ограничителя человеческого поведения, которым русская культура традиционно пренебрегала,38 – политический про-жектизм в “Вехах” отрицался. Однако “Евразийский временник” был направлен на создание новой “утопии”: политическая проблематика в нем осмыслялась, хотя и как “второстепенная”. Отрицая политику, евразийцы вводили ее в свою дискуссию. Именно поэтому от сборни-ка отвернулся Флоровский, которому претило всякое “политическое” обсуждение.39
“Веховцы” писали в условиях царской России, подданными кото-рой они являлись, в то время как евразийцы, потеряв правовую связь с родиной, были вынуждены вынашивать “идею государства” в соб-
35 Впоследствии “идеоправство” Савицкого стало основой для “идеократии” Тру-бецкого.36 Н. Арсеньев. Живые камни // Евразийский временник. Берлин, 1923. Кн. 3. С. 52.37 Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. Москва, 1991. С. 9-10. 38 По Кистяковскому, отсутствие внешней дисциплины, оберегающей внутреннюю свободу от посягательства, ведет к внутренней, духовной беспорядочности, что не менее опасно, чем инфляция права – вторжение юридических норм в чуждые для них области. См.: Вехи. С. 122-123.39 “Не о Руси старца Филофея надлежит ныне взыскующе мечтать, а о Руси преп<одобного> Сергия и святителя Филиппа. Просто потому, что ‘Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть’ ”. Письма Г. В. Флоровского П. П. Сув-чинскому (1922, 1923) // Записки русской академической группы в США. 2011–2012. Т. 37. С. 224. См. письмо от 3 декабря 1923 г.
95
Ab Imperio, 3/2013
ственной голове. Отвергая чуждый им строй имперской России, они стремились найти идеал в российской истории и, опираясь на прошлое, сконструировать новую политическую реальность. Именно поэтому в своих “евразийских” статьях Шахматов отрицал и государственный строй царской России, и правовую идеологию, его оправдывавшую. Этой идеологией оказывался юридический позитивизм в версии го-сударственной теории права, утверждавшей происхождение права из государственной воли, а в контексте России – из воли монарха. Отрицая государственную теорию права, Шахматов пытался найти “органиче-ские” начала в русской истории и русском праве доимперского периода. Если к “неорганическому” относились романовский абсолютизм и юридический позитивизм, то к “органическому” – религиозное про-исхождение права и связанность монарха этическими ограничениями. Монарх, по Шахматову, не может быть источником права, он лишь транслятор; подвиг правителя – подвиг служения.
Примером праведного правления Шахматов посчитал Московскую Русь XIV–XVI вв., в которой воля монарха якобы ограничивалась “высшим законом”. Так Шахматов сконструировал “органический” идеал правления и эпохи, приняв летописную риторику, облагора-живающую русских князей, за политическую реальность. Отсюда и снисходительное остроумие Флоровского, писавшего о “мифических” bluffs (блеф) у Шахматова, о его фантазиях на тему древнерусского благочестия.40
Защищая свой идеал, Шахматов отвергал секуляризованные концеп-ции права Нового Времени, а обсуждению метафизических оснований власти предпочитал анализ “технического” устройства государственно-го аппарата, включая вопросы о формировании государственных орга-нов и наделении их полномочиями, их соотношением и пр.41 Шахматов полагал, что наиболее важный для права вопрос не “технический”, а “нравственный”: вопрос о мотиве создания властных органов, их назна-чении, о качествах тех людей, которые стоят у власти.42 По Шахматову, право, регулирующее публичную сферу жизни общества, должно не
40 Письма Г. В. Флоровского П. П. Сувчинскому (1922, 1923). С. 224.41 Именно поэтому в Новое Время стало возможным появление полноценных от-раслей публичного права. Отрасль гражданского права сформировалась раньше. См. об этом: Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. Москва, 2009. С. 56-58.42 Мстислав Шахматов. Подвиг власти // Евразийский временник. 1923. Кн. 3. С. 78-79.
96
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
только являть собой логичную и внутренне непротиворечивую систему. Оно должно мыслиться в ясной связи с теми задачами, для которых оно создавалось. Форма права неотделима от его содержания, право должно быть причастно “правде” – не столько “правде людей”, которые договорным путем решают вопрос о содержании, сколько “правде Бо-жьей” – своему метафизическому основанию.43 Именно поэтому право-понимание Шахматова можно назвать, с серьезными ограничениями, “естественно-правовым” − именно в том смысле, какой Лео Штраус вкладывал в термин “классическое естественное право”, определяя им античные и средневековые доктрины, связывавшие естественное право с божественным. Эти доктрины представляли
…режимы не столько в терминах учреждений, сколько в терминах целей, действительно преследуемых обществом или его автори-тетной частью… они [классики естественного права] считали наилучшим режимом тот, чьей целью является добродетель, и они полагали, что хотя надлежащие учреждения действительно необходимы для установления и сохранения правления, но их важность только вторична по сравнению с “образованием”, т.е. формированием нравов.44
Сходные мысли содержатся и в статье Шахматова, однако сами концепции естественного права, в том числе правовые теории Нового Времени, тесно связанные с теорией общественного договора, ученый, разумеется, отрицал.
Шахматов развил положения “Подвига власти” в статье “Госу-дарство правды” (1925), опубликованной в четвертом “Евразийском временнике”. Его новая работа в буквальном смысле соседствовала со статьей Владимира Ильина, рассматривавшей взаимоотношение права и нравственности. Хотя Ильин и отталкивался от взглядов Шахматова,
43 Воззрения Шахматова, безусловно, наследуют славянофильской традиции – как в исторической плоскости (идеализация уклада Московской Руси), так и теоре-тико-правовой: тезисы автора созвучны высказываниям Хомякова о вторичности внешнего закона по отношению к закону внутреннему: “Для того чтобы сила сде-лалась правом, надобно, чтобы она получила свои границы от закона, – не от закона внешнего, который опять не что иное, как сила (как, например, завоевание), но от закона внутреннего, признанного самим человеком. Этот признанный закон есть признанная им нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека значение права” (А. С. Хомяков. Мнение иностранцев о России // А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений. Москва, 1861. Т. 1. С. 14).44 Лео Штраус. Естественное право и история. Москва, 2007. С. 186.
97
Ab Imperio, 3/2013
о чем упоминалось в примечании к статье,45 еще большее влияние на его правовые взгляды оказала “Метафизика нравов” Канта. Право, по мнению Ильина, в отличие от морали, регулирует внешне выраженное поведение людей, но оно не может определять квалификацию вну-тренних мотивов и целей, в терминах Канта – “материи произвола”.46 Именно поэтому Ильин считал, что политические режимы, стремя-щиеся принудительными средствами регулировать мысли людей, ис-кажают принципы права: право как внешнее регулирование начинает вторгаться в чуждую для него область мыслей и убеждений.47 Ильин отрицал “правовой” характер советского государства, именуя его “ком-мунизмом, смягченным уголовщиной” и “уголовщиной, сдержанной коммунизмом”.48 Основанием “права” и “нравственности”, по Ильину, являлась “правда” – причем, правда божественная, христианская. В этом положении автор отдаляется от Канта и его секулярной морали и приближается к точке зрения Шахматова. И Шахматов и Ильин право-вое определяли через религиозное.
Позиции Шахматова и Ильина подверглись уничтожающей крити-ке – как внутри евразийства (со стороны Флоровского), так и извне. Георгий Гурвич в статье “Пророки” едко высмеивал Шахматова за то, что тот, абстрактно описывая цели правления (“стремиться к правде”), не пояснил, каким именно способом нужно организовать государство и какие правовые установления следует воплощать в жизнь.49
45 “Последующие замечания [т.е. сама статья] составлены В. Н. Ильиным по просьбе редакции, в связи с вопросами, затронутыми М. В. Шахматовым в статьях ‘Подвиг власти’ (‘Евраз. временник’, кн. III-ья) и ‘Государство правды’… Примыкание этих строк к статьям М. В. Шахматова не исключает, конечно, разницы в идеях М. В. Шахматова и В. Н. Ильина. При том, однако, М. В. Шахматов и В. Н. Ильин, независимо друг к другом, пришли к аналогичному определению права” (В. Н. Ильин. К взаимоотношению права и нравственности // Евразийский временник. Берлин, 1925. Кн. 4. С. 305).46 Иммануил Кант. Метафизика нравов: В 2 ч. // Иммануил Кант. Критика практи-ческого разума. Санкт-Петербург, 2007. С. 285.47 В. Н. Ильин. К взаимоотношению права и нравственности. С. 307-308.48 Он же. Евразийство и славянофильство // Евразийская хроника. Прага, 1926. Вып. 4. С. 16. Важно, при рассмотрении вопроса о границах применения права Ильин сослался на Бориса Чичерина, т.е. автор, вероятно, использовал воззрения Канта и Гегеля не напрямую, а опосредованно. В отечественной литературе рас-пространено суждение о Чичерине как о “канто-гегельянце”. См.: Д. И. Чижев-ский. Гегель в России. Санкт-Петербург, 2007. С. 328; В. Д. Зорькин. Чичерин. Мосва, 1984. С. 38.49 Г. Д. Гурвич. Пророки. С. 2.
98
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
Праведное правление, очевидно, нуждалось в обосновании в полити-ческих терминах. Этот вектор в евразийской правовой мысли наметился после присоединения к движению в 1926 г. Николая Алексеева. Важно понять, чем обусловливалось это присоединение, поскольку Трубецкой отрицательно относился к Алексееву,50 в то время как он сам поначалу также негативно отзывался о евразийстве.51 Для этого следует оценить общее состояние евразийства в конце 1920-х годов.
Феноменологическое движение: Николай Алексеев
Политизация евразийства в середине 1920-х гг., вызванная “бес-подданным” статусом его участников, оставшихся без отечества, а также – на чем настаивает ряд ученых – вовлечением их в операцию “Трест”,52 привела к необходимости формулирования собственной политико-правовой программы. Возникла необходимость поставить проблему права не абстрактно, как это сделали Шахматов и Ильин, а в практической плоскости: определение понятия права указывало
50 В письме Сувчинскому Трубецкой отрицательно отзывается о Вышеславцеве (“карьерист” и пр.), упоминая, что тот у него ассоциируется с Алексеевым. См.: Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому: 1921–1928. С. 108-109. Негативно отношение Трубецкого к Алексееву и после присоединения последнего к евра-зийству. Авторы расходились, в частности, в интерпретации “идеократии”. См.: Там же. С. 260.51 Согласно заметке в “Руле”, после доклада Савицкого в рамках Русского акаде-мического союза, прочитанного 10 марта 1925 г. в Берлине, с критическим ком-ментарием выступил именно Алексеев. Он заявил, что “в основе идеи евразийства лежит не историческое, а эмоциональное начало, родившееся в результате нашего [русского] разочарования в Западе. Подъем национального чувства следует привет-ствовать, решительно отвергая, однако, как несостоятельный исторический подход докладчика [Савицкого], так и его максимализм” (Россия как особый исторический мир // Руль. 1925. № 1309. 24 марта. С. 4). Газета “Дни” упомянула, что в том же комментарии Алексеев отметил “своеобразный национализм евразийства без нации” (см.: О евразийстве // Дни. 1925. № 722. 22 марта. С. 7). “Национализм без нации”, вероятно, следует толковать в том смысле, что Савицкий отстаивал само-бытность Евразии, ее государственную уникальность без упоминания “нации” как субстрата государства. (За указание на библиографические данные заметок благодарю М. Байссвенгера. – Б.Н.)52 Б. Степанов. Спор евразийцев о церкви, личности и государстве // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2001–2002. Москва, 2002. С. 87; Мартин Байссвенгер. Как Прага стала “евразийской” столицей // Русская акция помощи в Чехословакии: история, значение, наследие: к 90-летию начала русской акции помощи в Чехословакии. Прага, 2012. С. 121.
99
Ab Imperio, 3/2013
пути реформы советского права, превращения его в подлинно “евра-зийское”.
В апреле 1926 г. Трубецкой пишет Петру Сувчинскому, что евразий-цам “…предстоит теперь заняться прикладничеством, созданием идео-логий строительства во всех областях жизни”.53 В этом же письме под-черкивается, что движению нужны специалисты в области экономики и права, в противном случае исследование Евразии как “многонародной личности” будет неполным. 12 ноября того же года Трубецкой пытается убедить Савицкого, что евразийству необходимо “…разрабатывать свою теорию права, свою теорию экономики и т.д. и т.п. вплоть до деталей и заботиться о том, чтобы все эти теории увязывались друг с другом в одну систему”.54 Позже Роман Якобсон назвал это “методом увязки”.55
Именно в это время с движением начинает сотрудничать Николай Алексеев.56 В декабре 1926 г. он выступает на Евразийском семи-наре в Париже с докладом “О советском строе и его политических возможностях”.57 Позже появляются его статьи, посвященные соот-ношению правомочия и юридической обязанности и характеристикам советских конституций, о которых мы скажем позже. Алексеев пришел к евразийству в зрелом возрасте, с уже сформированном пониманием права. Он был сравнительно известным русским правоведом, о кото-ром упоминали, пусть даже и в негативном ключе, классики советской юриспруденции.58 Дисциплинарность правоведческой мысли Алексеева
53 Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому. С. 199.54 Письмо Н. С. Трубецкого П. Н. Савицкому 12 ноября 1926. ГАРФ. Ф. 5783. Оп. 1. Д. 312. Лл. 38-40. Цит. по: Политическая история русской эмиграции. Москва, 1999. С. 151.55 Р. О. Якобсон. К характеристике евразийского языкового союза. Париж, 1931. С. 5. 56 Савицкий подчеркнул, что Алексеев “…вошел в евразийскую работу (через по-средство Сувчинского и Л. П. Карсавина) около времени ‘съезда’ в Трагвайне, т.е. в августе-сентябре 1926 г.” (ГАРФ. Ф. 5783. Оп. 1. Д. 359. Л. 172). Благодарю за ссылку на реквизиты архивного дела Л. И. Новоженину (см.: И. В. Новоженина. Государственно-правовое учение Н. Н. Алексеева / Дис. … к.ю.н. Уфа, 2002. С. 22). В австрийском селении Трагвайн (Trugwein) у Трубецких располагалась “дача”, где, по версии М. Байссвенгера, и состоялась встреча Савицкого с Трубецким и Сувчинским. См.: Мартин Байссвенгер. Хронология жизни Петра Николаевича Савицкого (1895–1968) // Петр Николаевич Савицкий (1895–1968): Библиография опубликованных работ. Прага, 2008. С. 30.57 Н. В. Татищев. Евразийский семинар в Париже // Евразийская хроника. Париж, 1927. Вып. 7. С. 44.58 Е. Б. Пашуканис. Общая теория права и марксизм // Е. Б. Пашуканис. Избранные труды по общей теории права и государства. Москва, 1980. С. 91.
100
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
отчасти объясняла тот факт, что, в отличие от Шахматова и Ильина, он прямо не заявлял о метафизических, религиозных основаниях права. Алексеев отстаивал уникальность правовой структуры, состоявшей из правового субъекта (носителя сознания), правовых ценностей, опознаваемых этим субъектом, и специфического отношения между ценностями и субъектом, выражаемого в базовых правовых связях, – правомочии и юридической обязанности.59
На философию права Алексеева существенное влияние оказала феноменология. Как сформулировал Эдмунд Гуссерль, феноменология представляет бытие как коррелят сознания.60 Исходя из этой посылки Алексеев заявлял, что, вопреки мнению юридических позитивистов, сознание не направлено непосредственно на право как на нечто от него не зависящее. Сознание устремляется к ценностям и пытается соотнести себя с ними, в результате чего возникают мораль и право. Поэтому сущность права не обусловлена деятельностью государства; последнее лишь придает праву обязательную силу.
При этом Алексеев своеобразным образом синтезировал феноме-нологию и психологическую теорию Льва Петражицкого. Последний также стремился обосновать право без отсылки к велениям государства, основам морали и т.д. “Императивно-атрибутивный” характер права, по Петражицкому, выражается в том, что лицу, осознающему обязанность (императив) что-либо сделать, соответствует другое лицо, ощущаю-щее притязание (атрибутив), правомочие требовать выполнения этого действия. В координатах морали, напротив, “правомочных” лиц не существует, человек осознает лишь свою “связанность”, свой “долг”.61 Влияние Петражицкого отразилось в третьей составляющей правовой структуры Алексеева – его понимании правомочия и обязанности как базовых правовых соответствий. Однако, по мнению Алексеева, клю-чевым в контексте права являлось не эмоциональное переживание, на чем настаивал Петражицкий, а рассудочное восприятие ценностей. И в морали, и в праве существуют специфические “правомочия” и “обя-занности”, однако степень их переживания в морали гораздо глубже, чем в праве, мораль не рассудочна.
Кроме того, если Петражицкий подчеркивал первичность “атрибу-тивного” начала в праве, то Алексеев, напротив, писал о равновесности 59 Н. Н. Алексеев. Основы философии права. Санкт-Петербург, 1998. С. 73.60 Эдмунд Гуссерль. Философия как строгая наука // Эдмунд Гуссерль. Избранные работы. Москва, 2005. С. 198-199.61 Л. И. Петражицкий. Теория права и государства в связи теорией нравственности. Санкт-Петербург, 2000. С. 124-125.
101
Ab Imperio, 3/2013
правомочия и обязанности и отрицал борьбу за права, которая, по его мнению, характеризовала правовую историю европейской цивилиза-ции. Подобные высказывания Алексеева позволили Леониду Люксу уподобить воззрения евразийцев взглядам таких “консервативных революционеров”, как Артур Мюллер ван ден Брук и др.62 Однако следует заметить, что Алексеев не утверждал приоритет обязанности перед правомочием, на чем настаивали другие представители “кон-сервативной революции” – к примеру, группа Эрнста Никиша.63 Образ военного лагеря, где первенствует “долг”, казался Алексееву чуждым России: в таком лагере, подчеркивал автор, действует уже не право, а технические нормы, правила целесообразности,64 а потому подобная модель государственного устройства недопустима.
Хотя современные интерпретаторы евразийства и пытаются пред-ставить Алексеева апологетом “обязанности”, сторонником “тяглового государства”,65 классики евразийства придерживались более умерен-ных взглядов. Они не примыкали в этом вопросе к консервативным революционерам, гораздо более вдохновленным примером СССР, где “этика долга” ставилась выше “этики права”. К тому же евразийцам был чужд “воинский дух” немецких идейных вождей, их милитаристская эстетика, превращавшая даже рабочего в воина.
Важность “субъективного права”, значимость “прав индивида” в концепции Алексеева объясняется влиянием на него Павла Новгород-цева, сторонника теории “возрожденного права”. Последний возглавлял московскую школу философии права, к которой изначально примыкал Алексеев. (Влияние Петражицкого на него – более позднее.66) Как и Новгородцев, Алексеев исходил из того, что подлинным правовым 62 См. русское издание: Леонид Люкс. Евразийство и консервативная революция: соблазн антизападничества в России и Германии // Форум новейшей восточноев-ропейской истории и культуры. 2009. № 2. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss12.html.63 Мартин Байссвенгер. “Консервативная революция” в Германии и движение евразийцев: точки соприкосновения // Консерватизм в России и мире. Воронеж, 2004. Ч. 3. С. 62-63.64 Н. Н. Алексеев. Теория государства // Николай Алексеев. Русский народ и госу-дарство. Москва, 1998. С. 522.65 Александр Дугин. Теория евразийского государства // Н. Н. Алексеев. Русский народ и государство. Москва, 1998. С. 13. 66 Алексеев в начале 1910-х даже написал резко критическую статью в адрес психо-логической теории права, что, вероятно, было связано с “кампанией” Новгородцева и его учеников против школы Петражицкого. См. об этом: Анджей Валицкий. Философия права русского либерализма. Москва, 2012. С. 341-343.
102
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
субъектом может быть лишь индивидуальная личность. Однако ученик не принял базовую идею наставника об индивиде как высшей (в том числе правовой) ценности. Алексеев подчеркивал, что не сам человек как личность самоценен (тогда бы ценилось и зло в человеке), но лишь определенные свойства личности могут быть “предметом правовой защиты и правового признания”.67
Именно влияние феноменологии, а также Петражицкого и Новго-родцева объясняет то, что ключевым правовым субъектом Алексеев считал не “многонародную личность” Евразии, а индивидуума. Та-кая трактовка отдаляла ученого от других евразийцев. Так, Николай Трубецкой и Лев Карсавин основным субъектом развития считали своеобразные коллективные, “симфонические” образования – народы и “многонародные личности”.68 Алексеев же даже в “евразийский пе-риод” своего творчества объявлял государство и общество порядками общения, а не субъектами.69 Тем самым он подрывал основы сложив-шейся к тому времени евразийской юриспруденции. В сфере права, по Алексееву, действовали личности, а не народы: именно личности заключают сделки, издают приказы, признают ценности. Все остальные несоответствия его правовой теории базовым положениям евразийцев были лишь следствием этого расхождения.
К последним следует отнести и отличную от евразийского мейн-стрима трактовку правового обычая. Среди источников права обычаем считается то, что в большей степени причастно “традиции” вообще. Именно “традицию” как стержень цивилизации евразийцы защищали, противостоя европейской “модернизации”,70 проводимой в том числе посредством “романо-германских” источников права – договоров, 67 Н. Н. Алексеев. Основы философии права. С. 111.68 Там же. С. 69; Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания // Н. С. Тру-бецкой. Наследие Чингисхана. Москва, 2000. С. 94-98; Л. П. Карсавин. Философия истории. Москва, 2007. С. 98. 69 “Множество… людей, живущих, умерших и еще не родившихся, является не-которой особой социальной реальностью, представляет как бы некоторый кол-лективный индивидуум. Для выражения особой природы таких индивидуумов можно в некотором переносном смысле применить понятие ‘личности’, памятуя, однако, что здесь дело идет о явлениях, весьма отличных от того самосознающего единства актов, которые мы именуем личностью человеческой (persona). Точнее называть их самостоятельными, социальными, культурными и т.п. единствами” (Н. Н. Алексеев. Теория государства // Н. Н. Алексеев. Русский народ и государство. Москва, 1998. С. 441-442).70 Важно, однако, что отношение евразийцев к “традиции” не было однозначным. В предисловии к “Исходу к Востоку” евразийцы заявляли о том, что они совмещают
103
Ab Imperio, 3/2013
нормативных правовых актов и т.д. Алексеев оценивал источники права, используя понятие “нормативного факта”, заимствованное у Петражицкого:
На самом деле, существуют такие факты, которые по внутрен-ней своей необходимости, по присущему им логосу, обязывают к определенным действиям и требуют их. К ним принадлежат прежде всего те фактические, во времени и пространстве совер-шающиеся события, которые являются порождением человеческой деятельности и именуются актами. Сюда относятся, например, та-кие акты, как обещание, договор, соглашение, учредительные акты и т.п. (именно здесь Алексеев упоминает о феноменологе Адольфе Райнахе, также писавшем об обязывающей силе договора. – Б.Н.) <…> Названные факты можно назвать “нормоустановительными” или “нормативными” в чисто объективном смысле этого слова.71
Исходя из этой посылки договор и закон как источники права провозглашались действующими в силу того, что их обосновывали нормативные факты. Правовой же обычай (“старина”, “пошлина” в древнерусских источниках) казался не совсем обоснованным, по-скольку он соблюдался, по словам Алексеева, не в силу особенности его фактического установления, а в силу психической инерции че-ловека:
Повседневный опыт убеждает нас, что привычка способна “об-условливать” наше поведение, однако обусловленность эта имеет не логический, а чисто автоматический характер. Вытекающие из привычки действия обычно обнаруживают не эйдетическую, а механическую необходимость.72
Такая прогрессистская оценка правового обычая обособляла Алексе-ева от других евразийцев, положительно относившихся к допетровской “старине”. Однако он не довел свой тезис до логического завершения,
“…славянофильское ощущение мировой значимости русской национальной стихии с западническим чувством относительной культурной примитивности в области экономической и со стремлением устранить эту примитивность” (Предисловие // Исход к Востоку. Философия евразийства. Москва, 2008. С. 34). По этой причине евразийство приветствовало советскую индустриализацию, которая, на их взгляд, не порывала с исконно русским хозяйствованием, но развивала его в техническом отношении, “переводила” на новый уровень. Трубецкой даже писал о том, что не нужно держаться за “сельскую общину”, если опыт докажет ее неэффективность.71 Н. Н. Алексеев. Основы философии права. С. 145.72 Там же. С. 145-146.
104
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
допуская, что в правовом обычае проявляется правовой этос, нечто причастное не только случайности, но и разумному, “ценному”. Здесь он приближался к позициям исторической школы права (Г. Пухте и др.). Непроговоренность многих тезисов, проявлявшаяся у Алексее-ва и до его присоединения к евразийству,73 позволяла воспринимать его позицию как компромиссную. Алексеев не был в чистом виде ни “индивидуалистом”, ни “коллективистом”, ни “консерватором”, ни “либералом”.74 Русскую духовно-религиозную традицию, в частности старчество, Алексеев сочетал со светской правовой традицией, одна сторона его творчества дополняла взгляды основателей евразийства,75 другая – нет. Сам концепт “правообязанности” (“органического сочета-ния правомочия и обязанности”), введенный в евразийскую терминоло-гию Алексеевым, отражает двусмысленность его подхода к правовым понятиям и явлениям. Он не был фанатиком евразийства, каким был, например, Савицкий. Этим во многом и объясняется его постепенный отход от движения.
Учеником Алексеева в РЮФе был Николай Дунаев; рекомендацию на его диплом Алексеев написал в 1930 г.76 Спустя год Дунаев опубли-ковал в евразийском сборнике “Тридцатые годы” статью “Правомочие и его виды”, представлявшую собой обновленную версию диплома. Весьма вероятно, что этой статьей вклад автора в развитие правовых аспектов евразийства и ограничивается. В статье Дунаев полемизировал с Алексеевым касательно сущности полномочия. По мнению первого, полномочие государственного органа представляло собой “служебное право”, по версии второго – “правообязанность”.
Выстраивая свою аргументацию, Дунаев также использовал класси-фикацию Льва Петражицкого: последний различал “лично-свободные”
73 Алексеев подчеркивает, что “Основы философии права”, датированные 1924 г., опубликованы в 1923 г. в издательстве Е. А. Ляцкого “Пламя”. См.: Н. Н. Алексеев. Из Царьграда в Прагу. С. 216.74 Данное обстоятельство не помешало Анджею Валицкому упомянуть о “либе-ральном характере” правовых взглядов Алексеева. См.: Анджей Валицкий. Указ. соч. С. 555. Трубецкой также писал, что в работах Алексеева много “неизжитого либерализма” (Н. С. Трубецкой. Письма П. П. Сувчинскому. С. 226).75 В частности, в “Основах философии права” не объясняется природа ценностей, на которые устремляется сознание человека; Алексеев подчеркивал, что их со-отношение может меняться. Евразийская концепция “месторазвития” объясняла аксиологические различия между культурами, приходила на помощь этой неза-вершенной, разомкнутой концепции права.76 ГАРФ. Ф. Р 5765. Оп. 2. Д. 264. Н. А. Дунаев. Л. 86.
105
Ab Imperio, 3/2013
и “служебные” власти.77 Следуя данному вектору, Дунаев выделял “лично-свободные” и “служебные” правомочия, подчеркивая, что полномочие государственного органа есть “служебное” правомочие, а не “правообязанность”. При этом Дунаев отказался от другой клас-сификации Петражицкого, который всю систему права разделил на “лично-свободное” и “служебное”, отвергнув при этом старое деление на частное и публичное право.
Дунаев уточнял, что различение двух видов правомочия не заменяет деления норм на публичные и частные, тогда как проф. Петражицкий имен-но взамен этого деления, не выдерживающего, по его мнению, критики, и создал свое новое деление права на лично-свободное и социально-служебное. Но переход от различения двух видов властных отношений к различению двух видов норм является, по нашему мнению, логически неоправданным скачком с одного объекта деления на другой, т.е. с деления права в субъективном смысле к делению права в смысле объективном.78
Дунаев различал “объективное право” (совокупность действитель-ных норм права) и “субъективные права” (правомочия), которые и закрепляются в “объективном праве”, устанавливаемом государством. Защищая концепт “объективного права”, ученик Алексеева расходился во взглядах с учителем, поскольку следовал логике правового позити-визма. Алексеев же яростно критиковал правовой позитивизм, в том числе в той статье, которая, как и в случае с Шахматовым и Ильиным, в буквальном смысле соседствовала со статьей Дунаева.79
Для Алексеева, как “феноменолога”, право, принятое государством, являлось не “объективным”, а “установленным”. “Объективностью”
77 Петражицкий считал “служебными или социальными властями… такие власти, с которыми сочетаются (правовые) обязанности заботиться о благе подвластных или об общем благе известного общественного союза (семьи, рода, племени и т. д.) и которые подлежат осуществлению в пределах этой обязанности и как средство ее исполнения… В области…[служебных] властей субъект власти исполняет служеб-ную роль по отношению к подвластным или к общественной группе, в которой он наделен властью для заботы об общем деле; в области властей второго рода име-ется противоположное положение; субъект власти является целью, а подвластные являются средством, играют служебную роль” (Л. И. Петражицкий. Теория права и государства. С. 168).78 Н. А. Дунаев. Правомочие и его виды // Тридцатые годы. Утверждение евразийцев. Париж, 1931. Кн. 7. С. 278. 79 Н. Н. Алексеев. К учению об объективном праве // Тридцатые годы. С. 221-254.
106
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
обладает лишь правовая структура (субъект, ценности, их взаимоотно-шение), государство не играет ключевой роли в ее создании. Именно поэтому он считал, что понятие объективного права нужно убрать “из русской юридической терминологии – в силу внутренне присущих ему логических недостатков”.80 Отрицая позитивное право как “объектив-ное”, “право как оно есть”, Алексеев не использовал термин “субъектив-ное право”, предпочитая ему “правомочие”, поскольку “субъективное право” предполагает наличие права в “объективном” смысле.
Таким образом, трансляции принципиальных правовых воззрений от Алексеева к Николаю Дунаеву не произошло. Здесь сказалась позити-вистская “закваска” русского юридического образования, проявившаяся и в эмиграции, в Праге. Всякое общение между авторами естественно прервалось после гибели Дунаева в 1931 г. Идея “объективности” правовой структуры, которая бы стала проекцией общей “структу-ры” Евразии, у Алексеева не получила последовательного развития. В “Русском народе и государстве” он попытался наметить контуры “структуры”, выявить правовые и политические архетипы Евразии81 и обосновать “ценности” ссылкой на “месторазвитие” общности. Однако последовательного учения о “правовой структуре” Алексеев так и не создал, что осложнило формирование какой-либо целостной евразийской юриспруденции.
Право как нижний предел нравственности: Лев Карсавин
Несмотря на поддержку Савицкого, правовые взгляды Алексеева не стали общепризнанными среди евразийцев. Противореча Алексееву, Лев Карсавин настаивал на первичности “Целого” − коллективной личности по отношению к индивидуальному субъекту. Подобные за-явления, встречавшиеся не только у Карсавина, но и Трубецкого, были популярны в 1920–1930-е гг., в европейской философии того времени они встречаются довольно часто. Ярким примером здесь служит “уче-ние о Целом” (Ganzheitslehre) австрийского философа Отмара Шпанна. Однако сам Карсавин объяснял близость евразийства и концепции Шпанна не общностью “поля”, в котором формировались эти идеоло-гии, а общими идейными корнями – влиянием немецкого идеализма и романтизма.82 Эта оценка во многом справедлива, поскольку концеп-80 Там же. С. 253.81 Н. Н. Алексеев. Русский народ и государство. С. 83.82 Л. П. Карсавин. По поводу трудов Отмара Шпанна // Евразийская хроника. Па-риж, 1926. Вып. 7. С. 53.
107
Ab Imperio, 3/2013
ция “симфонической личности” появилась у Карсавина до изгнания из России и полноценного приобщения к идейному полю Европы.83
Концепции Шпанна и Карсавина действительно сближало общее идейное основание – традиция “всеединства” и тесно связанные с ней концепции политического и правового органицизма. В связи с этим особого внимания заслуживают правовые взгляды Карсавина, изложен-ные на последних страницах его “Основ политики”, опубликованных в пятом “Евразийском временнике” (1927). Карсавин рассматривал право в общем контексте социального бытия “симфонической личности”. Он стремился обосновать возможность права как идеи и позитивного права как ее воплощения. По мнению Карсавина, право создавало практи-ческое поле религиозно-нравственной деятельности, регламентируя, в каких организационных формах она будет осуществляться. Право тем самым было обосновано абсолютно, через высшие ценности. Но поскольку право все-таки являло собой эмпирическую форму, оно было связано и с низшей идеей нравственности – справедливостью.84
Последнее высказывание отсылает к теории, считавшей право этиче-ским (нравственным) минимумом. В Германии данную теорию развивал Георг Еллинек, в России в несколько ином, уже религиозном ключе – Вл. Соловьев.85 Учитывая, что и Карсавин и Соловьев были причастны учению о “всеединстве”, трудно предположить, что Карсавин не знал работ Соловьева, хотя его отношение к ним было неоднозначным.86 Наиболее заметно сходство “Основ политики” с “Оправданием добра” Вл. Соловьева. Как писал Соловьев,
всякое ограничение, принципиально допущенное, противно природе нравственной заповеди и подрывает ее достоинство и значение: кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается от самой нравственности, покидает нравствен-
83 “Философия истории” датирована 1923 г., однако ее содержание сформирова-лось до изгнания Карсавина из России в 1922 г. Эта работа наследует “Введению в историю”, опубликованному автором в 1920 г. 84 Л. П. Карсавин. Основы политики // Евразийский временник. Париж, 1927. Кн. 5. С. 234.85 Е. А. Прибыткова. В поисках этического минимума: Г. Еллинек, Э. фон Гартман, Вл. Соловьев // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2006–2007 [8]. Москва, 2009. С. 307-345.86 Можно выделить отдельные негативные высказывания Карсавина о Соловье-ве. Последнего именуют “латинствующим”, сторонником “теократии”, которую Карсавин отвергал. См.: Л. П. Карсавин. Ответ на статью Бердяева о евразийцах // Путь. 1926. № 2. С. 126.
108
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
ную почву. Напротив того, закон собственно правовой, как ясно во всех случаях его применения, по существу ограничен; вместо совершенства он требует минимальной степени нравственного состояния, лишь фактической задержки известных проявлений безнравственной воли.87
По Карсавину, право также есть низшая сфера нравственности. Исходя из того, что право – граница, оберегающая от зла, оно охра-нительно, нормативно, формально и принудительно.88 Однако, сбли-жаясь с Соловьевым в вопросе о праве как нравственном минимуме, Карсавин расходился с ним в вопросе о ключевом правовом субъекте. Соловьев считал основой права “свободу, обусловленную равенством”, но свободной полагалась именно индивидуальная личность. Еллинек, напротив, объявлял основным субъектом социум, который бы вменял индивиду нормы социального целого.89 Позиция Еллинека в этом вопросе была Карсавину ближе. Симфоническая (коллективная) лич-ность, по Карсавину, − это духовное и социальное целое, и поэтому задача права состоит в том, чтобы определить меру свободы человека в рамках этого целого. Карсавин писал, что жизнь индивида есть не толь-ко осуществление собственной специфичности (индивидуальности), но и осознание принадлежности к целому. Индивид может, а значит, и должен реализовать в своей жизни оба момента – принадлежность к целому и утверждение собственной уникальности. Реализация этих начал и есть подлинная нравственная “право-обязанность” человека: с одной стороны, лицо обязуется действовать в рамках целого, поскольку это позволит реализовать собственные права, а с другой – получает правовые полномочия, поскольку обязуется действовать в рамках целого.90
Все иные обоснования прав и обязанностей, не проистекающие из связи индивида с коллективным субъектом, Карсавин отбрасывал. Так, он отрицал воззрения Гоббса: homo Hobbesicus, по Карсавину, не способен осознать долг по отношению к социальному целому, по-скольку он есть целое лишь для себя, у него нет никаких подлинных прав и обязанностей. Лишь в государственном состоянии суверен мо-жет заставить его что-либо сделать, что-то ему гарантировать, однако воздействие государства все равно останется внешним.87 Вл. С. Соловьев. Оправдание добра. Москва, 2010. С. 503.88 Л. П. Карсавин. Основы политики. С. 234.89 Е. А. Прибыткова. В поисках этического минимума. С. 311.90 Л. П. Карсавин. Основы политики. С. 236.
109
Ab Imperio, 3/2013
Важно отметить, что термин “право-обязанность”, словосочетание “и право, и обязанность” приводятся Карсавиным не в качестве харак-теристик позитивного права, а в контексте интерпретации идеи права Гегелем. Право не создается для отдельного индивида, право мыслится в свободной связи человека и целого, поэтому, по Гегелю,
права отца семейства над его членами суть в такой же мере обя-занности в отношении к ним, как и обязанность послушания детей есть их право стать благодаря воспитанию свободными людьми.91
Нечто подобное, по Карсавину, можно сказать и об отношениях государства и человека. Идея “права-обязанности”, сформулированная Карсавиным в “Основах политики”, перекочевала в опубликованную годом позже статью Алексеева “Обязанность и право” (1928). Мо-делируя идеальные отношения между государем и его подданными, Алексеев полагал, что отношения, в которых обе стороны “правообя-заны”, являются предпочтительными для государя и подвластных ему. Правитель осознает свою власть не только как право, но и обязанность, подвластные же относятся к реализации своих прав так же внимательно и осознанно, как и к несению обязанностей.92
Но Алексеев шел дальше и использовал концепт “правообязан-ности” не только по отношению к широкому этическому контексту, т.е. к идее права, но и в практической плоскости. Правообязанность в публичном праве, по Алексееву, обозначает полномочие государ-ственно-властного органа, к примеру по сбору налогов. Сборщик налогов не просто имеет право на изъятие определенной суммы, он обязан собрать налог в силу предписаний закона, поскольку это одно-временно является его правовой обязанностью. Важно, что подобное понимание “правообязанности” обозначилось в “евразийской” статье Алексеева. В доевразийских “Основах философии права” (1924) он считал “правообязанностью” лишь правовую обязанность. Именно в таком значении термин использовался русскими дореволюционными юристами, противопоставлявшими “правообязанность” (правовой долг) и “правопритязание” (правовую возможность).93 91 Г. В. Ф. Гегель. Философия духа. Москва, 1978. С. 328.92 Н. Н. Алексеев. Обязанность и право // Н. Н. Алексеев. Русский народ и госу-дарство. Москва, 1998. С. 159.93 По всей видимости, “правообязанность” изначально калька с немецкого: die Rechtspflicht – “правовой долг, правовая обязанность”. Учитывая близость русской и германской юриспруденции, неудивительно, что о “правообязанности” как “право-вой обязанности” упоминает Николай Коркунов, считая ее, а не “правомочие”
110
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
В экономической сфере началу “правообязанности”, по мнению евразийцев, должно было соответствовать понятие “функциональной собственности”. Эта конструкция, с одной стороны, стала итогом раз-вития идей Савицкого о “добром хозяине”,94 а с другой – своеобразной интерпретацией идей французского солидариста Леона Дюги, счи-тавшего собственника связанным интересами общества и писавшего о собственности как о “социальной функции”. Ссылку на понятие “солидарности”, выдвинутое Дюркгеймом и с оговорками поддер-жанное Дюги, содержит евразийский манифест 1926 г., написанный Карсавиным, где также подчеркивалось “функциональное” значение собственности.95 Чуть позже появилась работа Алексеева “Собствен-ность и социализм” (1928), в которой автор детально рассматривал вопросы “функциональной собственности” и связанной с ней “госу-дарственно-частной системы хозяйства”.96
Тем не менее евразийская интерпретация идеи Дюги была весьма своеобразной. Во-первых, они вычленяли идею о собственности как со-циальной функции из контекста рассуждений Дюги. Последний считал, что в “цивилизованном мире”97 имеет место некая единая юридическая эволюция, характеризующаяся
преимущественным началом в публичном праве. Однако уже Аркадий Елистратов пишет о “строгих правомочиях-обязанностях”, которые “обыкновенно” сочетаются с дискреционной властью администрации. Чуть позже о “правообязанности” как сочетании права и обязанности упоминает Яков Магазинер. В значении “органи-ческого единства права и обязанности” термин, вслед за Алексеевым, использует современный российский юрист Юрий Тихомиров. См.: Н. М. Коркунов. Лекции по общей теории права. Санкт-Петербург, 1898. С. 140; А. И. Елистратов. Понятие о публичном субъективном праве. Москва, 1913. С. 7; Я. М. Магазинер. Лекции по государственному праву (Общее государственное право). Петроград, 1919. С. 101; Ю. А. Тихомиров. Публичное право. Москва, 1995. С. 142. 94 П. Н. Савицкий. Хозяин и хозяйство // Евразийский временник. Кн. 4. С. 406-445. Важно, что эта работа отчасти наследует “Философии хозяйства” С. Булгакова. 95 Евразийство. Опыт систематического изложения // Основы евразийства. Москва, 2002. С. 151, 160. 96 Савицкий даже подчеркивал, что эта работа “есть наиболее новое и наиболее полное изложение евразийской государственно-частной системы хозяйства” (Ме-морандум 1929 г. (Из архива П. Н. Савицкого) // Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому: 1921–1928). С. 297). Название работы “Собственность и социализм”, как отчасти и ее содержание, отсылает к статье Семена Франка, опубликованной в 5-м “Евразийском временнике” (1927).97 Под таковым понимались Европа и страны Латинской Америки. Именно в Ар-гентине Дюги прочел курс лекций, ставший основой его работы о преобразовании понятия собственности в странах Европы; см. о ней ниже.
111
Ab Imperio, 3/2013
…непрерывной и поступательной заменой юридической системы характера метафизического и индивидуалистического, иной си-стемой, характера реалистического и социалистического.98
Евразийцы же, отрицая принадлежность России к этому миру и вообще линейность истории, вписывали развитие функциональной собственности в цивилизационный контекст российской культуры.99 Во-вторых, “социальная функция” (ключевое понятие у Дюги) подраз-умевает примат “обязанности” и “долга” над “правом” и “свободой”. Функциональная собственность сменяет собственность как абсолют-ную власть над вещью,100 поскольку “долг” как реалистическое поня-тие вытесняет “субъективное право” как понятие метафизическое. В отличие от французского автора, Алексеев отказывался считать идею обязанности первичнее идеи правомочия.101
Трубецкой также участвовал в развитии концепции “функциональ-ной собственности”. Некоторые исследователи, основываясь на его письмах, склонны преувеличивать влияние на его понимание этого концепта идей Отмара Шпанна. Трубецкой, действительно, обнаружил некоторые сходства евразийства и учения Шпанна, после чего попро-сил Сувчинского содействовать тому, чтобы кто-либо из евразийцев написал об австрийском авторе в одном из изданий движения.102 В
98 Леон Дюги. Общие преобразования гражданского права со времени Кодекса На-полеона. Москва, 1919. С. 3. Это высказывание Дюги датировано 23 января 1912 г.99 Николай Устрялов, обсуждая манифест 1926 г., приветствовал заимствование евразийцами формулы “собственность-функция” у Дюги, но подчеркивал, что они зря попытались придать ей “специфически евразийский характер” (Н. В. Устрялов. Письма к П. П. Сувчинскому. 1926–1930. Москва, 2010. С. 24).100 “…собственность – не право. Она – социальная функция. Собственник, иначе обладатель богатства, должен, в силу факта обладания этим богатством, исполнять социальную функцию” (Леон Дюги. Общие преобразования. С. 19).101 Н. Н. Алексеев. Религия, право и нравственность. Париж, 1930. С. 49. 102 “…Совпадения с нами [евразийцами] совершенно поразительные: примат культуры (‘главной задачей государства является не охрана имущества отдель-ных граждан, а организация культуры’…), государство, покоящееся на цеховых организациях, … обусловленная (функциональная!) собственность (gebundenes Eigentum) и т. д. Философия с сильным религиозным упором. В связи с этим от-вержение современной европейской цивилизации и установка на Средневековье, понимаемое по-новому и очень своеобразно: восприятие Ренессанса как эпохи упадочной. Национализм, но без империалистических тенденций. При этом всем любопытно, что пришел он ко всему этому своим путем, с виду даже противо-положным нашему: он шел, отталкиваясь от индивидуализма, и потому все свое учение называет ‘универсализмом’. Главное исходное положение его философии
112
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
итоге рецензию на его труды написал Карсавин, хотя на “Истинное государство” (Der wahre Staat), опубликованное Шпанном в 1921 г., Алексеев ссылался еще в доевразийских “Основах философии права”.103 В 1928 г. Алексеев критически отозвался о “ленной (феодальной) собственности” Шпанна, настаивая на внутренней противоречиво-сти этой концепции. Автор считал, что подобный конструкт лишь внешне напоминает “феодальную” собственность. По сути же, это была современная концепция, наделяющая государство публично-правовыми полномочиями по контролю за распоряжением имущества индивидов.104
Алексеев отрицательно относился ко всяким попыткам реаними-ровать феодальную концепцию собственности, раздроблявшую право собственности на множество различных правомочий, принадлежавших сеньору, вассалу и пр. Алексеев противопоставлял “ленной собствен-ности” Шпанна, обремененной частноправовыми ограничениями, “функциональную собственность” евразийцев, выполнявшую важные публичные функции. Государство, к примеру, должно реализовывать свое “право на долю предпринимательского дохода с тем, чтобы воз-вращать эту долю трудящимся”.105
Карсавин и Алексеев опирались на иную линию мысли, сочетав-шую в себе консервативное и прогрессистское начала. Сходные идеи существовали и в советской юриспруденции. Так, активным сторон-ником Дюги был известный советский юрист Александр Гойхбарг, автор первого Гражданского кодекса РСФСР (1922), существенно ограничившего, но еще не запретившего окончательно частную соб-ственность.
это – что ‘целое (логически) раньше своих частей’… В применении к социологии, – общество раньше своих частей. Отсюда отвержение теорий, рассматривающих общество как агломерат отдельных людей и утверждение теории органическо-го единства общества. Впрочем, когда мы с ним разговаривали и я изложил ему наше учение о симфонической личности, он сказал, что под ‘целым’ в социологии разумеет именно такую симфоническую личность. Главное отличие его от нас со-стоит, конечно, в том, что он немец. Поэтому он все-таки не может избавиться от известной моветонности, присущей немецкому национализму” (Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому: 1921–1928. С. 223-224).103 Н. Н. Алексеев. Основы философии права. С. 112. 104 Н. Н. Алексеев. Собственность и социализм // Н. Н. Алексеев. Русский народ и государство. Москва, 1998. С. 259-260.105 Там же. С. 274.
113
Ab Imperio, 3/2013
Заключение
Эволюция понятий “правообязанности” и “функциональной соб-ственности” свидетельствует о взаимовлиянии правовых взглядов Карсавина и Алексеева, которые были знакомы с трудами друг друга.106 Однако терминологическое и в ряде случаев идейное взаимовлияние не могло устранить ключевых разногласий. Если Алексеев считал пер-вичным правовым субъектом индивидуального субъекта, наделенного сознанием и способного признавать ценности, то Карсавин – коллек-тивную личность. К тому же после “кламарского” раскола 1928–1929 гг. взаимовлияние Карсавина и Алексеева не могло быть существенным.
Взгляды Карсавина были ближе позициям Шахматова и Ильина: последние трактовали право как то, в чем воплощается “правда”. Они сходились в том, что право само по себе несамодостаточно. Но, в отли-чие от Карсавина, Ильин не полагал право нижней границей нравствен-ности, считая эти сферы не соподчиненными, а коррелирующими.107
Несмотря на то что многие евразийцы были связаны друг с другом в рамках различных, в том числе правовых, институтов, отождест-вляли себя с одним направлением, идейной общности в вопросах о сущности права между ними не возникло. Нельзя говорить даже о “правовом движении” евразийцев. Евразийское движение выражало себя через общие термины и смыслы, но в правовых трудах евразий-цев этого уникального единства не наблюдалось. Если расхождения между такими евразийскими правоведами, как Дунаев и Алексеев, по поводу “правообязанности” не были фундаментальны, то различия в понимании ими права имели принципиальный характер, в частности Алексеев отказывался признавать государство создателем права.
Евразийская юриспруденция не сформировалась во многом потому, что Николай Алексеев, избранный главным юристом движения, отдавал дань “правовому индивидуализму”, отдаляясь тем самым от холистских основ евразийской идеологии, склонной скорее к правовому органи-цизму. Идея “правовой структуры”, которая могла бы стать отражением общей “структуры” Евразии, не получила развития в его работах, хотя при иных условиях ее развитие могло стать существенным вкладом в правовую аксиологию.106 В 5-м “Евразийском временнике”, посвященном преимущественно политико-правовым проблемам, “Основы политики” соседствовали с “Евразийским феде-рализмом” Алексеева. На работу последнего “На путях к будущей России” (1927) Карсавин также ссылался. См.: Л. П. Карсавин. Основы политики. C. 216.107 В. Н. Ильин. К взаимоотношению права и нравственности. С. 306.
114
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
SUMMARY
The article discusses a little-studied aspect of the history of the Russian émigré Eurasianist movement of the 1920s and 1930s: namely, an attempt to develop holistic “Eurasianist” jurisprudence. The task proved to be much more complex than merely applying Eurasianist ideology to the field of law, as the latter was not a single phenomenon, and had different institutional and especially conceptual dimensions. Eurasianists themselves differed in their approaches to law. These distinctions were based on metalegal grounds, whether in phenomenological sources of the works of Nikolai Alekseev, who argued for legal individualism, or alleinheit theory in the writings of Leo Karsavin, or positivist theory informing the approach by Nikolai Dunaev. Based on Eurasianists’ published works and unpublished archival materi-als, this article argues for the fundamentally contradictory legal views by members of the Eurasianist movement. These contradictions suggest that it was impossible to create a particular “Eurasianist” legal theory on the basis of their writings.
BiBliograpHy
Akhmatov, A. V. Filosofiia prava evraziistva. Istoriko-filosofskii analiz. Candidate of Sciences in Philosophy Dissertation. Moscow, 2009.
Alekseev, N. N. Iz Tsar’grada v Pragu. Russkii iuridicheskii fakul’tet // V. T. Pashuto. Russkie emigranty v Evrope. Moscow, 1991. Pp. 205-224.
Alekseev, N. N. K ucheniiu ob ob’ektivnom prave // Tridtsatye gody. Ut-verzhdenie evraziitsev. Vol. VII. Paris, 1931. Pp. 221-254.
— Osnovy filosofii prava. St. Petersburg, 1998.— Religiia, pravo i nravstvennost’. Paris, 1930.— Russkii narod i gosudarstvo. Moscow, 1998.Arsen’ev, N. Zhivye kamni // Evraziiskii Vremennik. Berlin, 1923. Vol. 3.
Pp. 52-54.Beisswenger, Martin (M. Baissvenger). “Konservativnaja revoliutsiia” v
Germanii i dvizhenie evraziitsev: tochki soprikosnoveniia // Konserva-tizm v Rossii i mire. Part III. Voronezh, 2004. Pp. 49-73.
— Kak Praga stala “evraziiskoi” stolitsei // Russkaia aktsiia pomoshchi v Chekhoslovakii: istoriia, znachenie, nasledie. Prague, 2012. Pp. 117-124.
115
Ab Imperio, 3/2013
— Khronologiia zhizni Petra Nikolaevicha Savitskogo (1895–1968) // Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): bibliografiia opublikovannykh rabot. Prague, 2008. Pp. 23-47.
Bobrakov-Timoshkin, A. Proekt “Chekhoslovakiia”: konflikt ideologii v Pervoi Chekhoslovatskoi respublike (1918–1938). Moscow, 2008.
Borshch, I. V. Filosofiia prava N. N. Alekseeva. Candidate of Juridical Sci-ences Dissertation. Moscow, 2005.
Böss, O. Die Lehre der Eurasier. Ein Beitrag zur russischen Ideengeshichte des 20. Jahrhunderts. Wiesbaden, 1961.
Bourdieu, Pierre (P. Burd’e). Politicheskaia ontologiia Martina Haideggera. Moscow, 2003.
David, Rene and Camilla Geoffrey-Spinozi (R. David, K. Zhoffre-Spinozi). Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti. Moscow, 2009.
Duguit, Léon (Leon Diugi). Obshie preobrazovaniia grazhdanskogo prava so vremeni Kodeksa Napoleona. Moscow, 1919.
Dugin, A. Teoriia evraziiskogo gosudarstva // N. N. Alekseev. Russkii narod i gosudarstvo. Moscow, 1998. Pp. 3-20.
Dunaev, N. A. Pravomochie i ego vidy // Tridtsatye gody. Utverzhdenie evraziitsev. Paris, 1931. No. 7. Pp. 255-284.
Elistratov, A. I. Poniatie o publichnom sub’ektivnom prave. Moscow, 1913.
Florovskii, G. V. Khitrost’ razuma // Iskhod k Vostoku. Moscow, 2008. Pp. 71-85.
Gacheva, A. G. Neizvestnye stranitsy evraziistva kontsa 1920–1930-kh godov. K. A. Chkheidze i ego kontseptsiia “sovershennoi ideokratii” // Voprosy filosofii. 2005. No. 9. Pp. 157-159.
Glebov, S. Evraziistvo mezhdu imperiei i modernom: Istoriia v dokumen-takh. Moscow, 2010.
Gurian, W. Totalitarianism as a Political Religion // Totalitarianism. New York, 1964. Pp. 119-137.
Gurvich, G. D. Proroki // Dni. 1925. No. 796. Pp. 2-3.— Russkaia filosofiia pervoi chetverti XX veka (1926) // Issledovaniia po
istorii russkoi mysli. Ezhegodnik za 2006–2007 [8]. Moscow, 2009. Pp. 495-517.
— Sotsializm i sobstvennost’ // Sovremennye zapiski. Paris, 1928. No. 26. Pp. 346-382.
Guzevich, D. Iu. Nauchnaia shkola kak forma deiatel’nosti // Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki. 2003. No. 1. Pp. 64-93.
Hegel, G. V. F. Filosofiia dukha. Moscow, 1978.
116
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
Husserl, Edmund (E. Gusserl). Filosofiia kak strogaia nauka // E. Gusserl. Izbrannye raboty. Moscow, 2005. Pp. 185-240.
Iakobson, R. O. K kharakteristike evraziiskogo iazykovogo soiuza. Paris, 1931.
Il’in, V. N. K vzaimootnosheniiu prava i nravstvennosti // Evraziiskii vre-mennik. Vol. IV. Berlin, 1925. Pp. 305-317.
Isaev, I. A. Politiko-pravovaia utopiia v Rossii: Konets XIX – nach. XX v. Moscow, 1991. Pp. 203-233.
Kant, Immanuel. Metafizika nravov v dvukh chastiakh // I. Kant. Kritika prakticheskogo razuma. St. Petersburg, 2007. Pp. 259-505.
Karsavin, L. P. Filosofiia istorii. Moscow, 2007.— Osnovy politiki // Evraziiskii Vremennik. Paris, 1927. Vol. V. Pp. 174-
239. — Otvet na stat’iu Berdiaeva o evraziitsakh // Put’. 1926. No. 2. Pp. 124-
127.— Po povodu trudov Otmara Shpanna // Evraziiskaja hronika. Paris, 1926.
Vol. 7. P. 53.Kizevetter, A. A. Evraziistvo // Rossiia mezhdu Evropoi i Aziei: Evraziiskii
soblazn. Moscow, 1993. Pp. 266-278. Korkunov, N. M. Lektsii po obshchei teorii prava. St. Petersburg, 1898.Krymov, A. V. Evraziiskaia ideokratiia i gosudarstvenno-pravovoe uchenie
V. S. Solov’eva. Candidate of Juridical Sciences Dissertation. Mytishchi, 2008.
Laruelle, Marlene. Ideologiia russkogo evraziistva, ili Mysli o velichii imperii. Moscow, 2004.
Luks, Leonid. Evraziistvo i konservativnaia revoliuciia: soblazn antiza-padnichestva v Rossii i Germanii // Forum noveishei vostochnoevro-peiskoi istorii i kul’tury – Russkoe izdanie. 2009. No. 2. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss12.html.
Magaziner, Ia. M. Lektsii po gosudarstvennomu pravu (Obshchee gosu-darstvennoe pravo). Petrograd, 1919.
Mirskaia, E. Z. Nauchnye shkoly kak forma organizatsii nauki (sotsio-logicheskii analiz nauchnoi problemy) // Naukovedenie. 2002. No. 3 (15). Pp. 8-24.
Novozhenina, I. V. Gosudarstvenno-pravovoe uchenie N. N. Alekseeva. Candidate of Juridical Sciences Dissertation. Ufa, 2002.
O evraziistve // Dni. 1925. No. 722. March 22. P. 7. Palkin, A. G. Kontseptsiia gosudarstva v uchenii evraziitsev. Candidate of
Juridical Sciences Dissertation. Omsk, 2009.
117
Ab Imperio, 3/2013
Pashukanis, E. B. Izbrannye trudy po obshchei teorii prava i gosudarstva. Moscow, 1980.
Petrazhitskii, L. I. Teoriia prava i gosudarstva v sviazi s teoriei nravstven-nosti. St. Petersburg, 2000.
Pis’ma G. V. Florovskogo P. P. Suvchinskomu (1922, 1923) // Zapiski russ-koi akademicheskoi gruppy v SShA. 2011–2012. Vol. 37. Pp. 200-228.
Politicheskaia istoriia russkoi emigratsii. Moscow, 1999.Pravo Sovetskoi Rossii: V 2 t. Prague, 1925.Pribytkova, E. A. V poiskakh eticheskogo minimuma: G. Ellinek, E. fon
Gartman, Vl. Solov’ev // Issledovaniia po istorii russkoi mysli. Ezhe-godnik za 2006−2007 [8]. Moscow, 2009. Pp. 307-345.
Raev, M. Rossiia za rubezhom: Istoriia kul’tury russkoi emigracii: 1919–1939. Moscow, 1994.
Ringer, F. Zakat mandarinov: Akademicheskoe soobshhestvo v Germanii, 1890–1933. Moscow, 2008.
Rossiia kak osobyi istoricheskii mir // Rul. 1925. No. 1309. March 24. P. 4.Savitskii, P. N. Khoziain i khoziaistvo // Evraziiskii vremennik. Vol. IV.
Berlin, 1925. Pp. 406-445.— Otkrytoe pismo V. N. Il’inu // Evraziiskaia khronika. Berlin, 1935. Vol.
11. Pp. 101-102.Seriot, P. Struktura i tselostnost’: Ob intellectual’nykh istokakh struktural-
izma v Tsentral’noi i Vostochnoi Evrope. Moscow, 2001.Shakhmatov, M. Evraziistvo i Russkoe Samobytnichestvo. Pismo v redakt-
siiu // Vozrozhdenie. 1925. No. 4. June 6. P. 1.— Podvig vlasti // Evraziiskii Vremennik. Berlin, 1923. Vol. 3. Pp. 55-80. Shatilov, A. B. Evraziistvo kak fenomen politicheskoi kultury (dvadtsatye
gody XX veka). Candidate of Pedagogic Sciences Dissertation. Moscow, 1999.
Shtraus, L. Estestvennoe pravo i istoriia. Moscow, 2007. Solov’ev, V. S. Opravdanie dobra. Moscow, 2010. Stepanov, B. Spor evraziitsev o tserkvi, lichnosti i gosudarstve // Issledo-
vaniia po istorii russkoi mysli: Ezhegodnik za 2001–2002. Moscow, 2002. Pp. 74-174.
Sukhorukova, O. A. Formirovanie kontseptsii gosudarstva vo vzgliadakh evraziitsev: 1920–30-e gg. Candidate of Sciences in History Disserta-tion. Tver, 2004.
Tikhomirov, Iu. A. Publichnoe pravo. Moscow, 1995.Trubetskoi, N. S. Nasledie Chingiskhana. Moscow, 2000.— Pisma k P. P. Suvchinskomu: 1921–1928. Moscow, 2008.
118
Б. Назмутдинов, Illegal Eurasia
Ustrialov, N. V. Pisma k P. P. Suvchinskomu. 1926–1930. Moscow, 2010.Vekhi. Sbornik statei o russkoi intelligentsii. Moscow, 1991.Vernadskii, G.V. Istoriia prava. St. Petersburg, 1999.Vishnevetskii, I. G. “Evraziiskoe uklonenie” v muzyke 1920-kh – 1930-kh
godov. Moscow, 2005.Walicki, Andrzej (A. Valitskii). Filosofiia prava russkogo liberalizma.
Moscow, 2012.
arcHivEs
State Archive of the Russian Federation (GARF). F. R 5765. Op. 1. D. 31, 33, 46, 92; Op. 2. D. 264, 869;
— F. R 5783. Op. 1. D. 359; — F. R 5911. Op. 1. D. 5, 105.