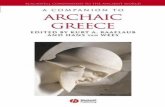Archaic Greek Pottery from the Berezan Settlement (in Russian)
Transcript of Archaic Greek Pottery from the Berezan Settlement (in Russian)
Часть III. Расписная греческая керамика архаического времени
(на материалах Березанского поселения)
Расписная греческой керамика архаического времени встречается на разных
археологических памятниках Северного Причерноморья, однако наиболее полно и
разнообразно она представлена в материалах Березанского поселения – наиболее раннем
памятнике греческой колонизации северных берегов Черного моря, наряду с
Таганрогским поселением. Керамическая коллекция из раскопок на острове Березань
включает в себя почти все основные группы расписной греческой посуды архаической
эпохи, в том числе восточно-греческую, коринфскую и аттическую керамику.
Восточно-греческая керамика
Около двадцати разных школ расписной керамики существовало в Восточной
Греции (современное западное побережье Малой Азии) в доклассический период, однако
до сих пор не для всех из них определены центры производства, что объясняется, с одной
стороны, большим количеством находок восточно-греческой керамики в колониях и
эмпориях за пределами Малой Азии, с другой – ограниченностью базы источников,
происходящих из самих метрополий.
Классификация восточно-греческой керамики как прежде, так и сейчас строится по
стилистическим принципам, предложенным Робертом Куком в 1960 г. Существовавшая
параллельно ей классификация Вольфганга Ширинга, делившего эту керамику на три
практически синхронные группы – Камир, Эвфорба и Власто, имела весьма ограниченное
применение, поскольку опиралась на материалы, найденные в основном на Родосе,
который, как выяснилось позднее благодаря анализу глины, являлся лишь импортером
такой керамики, причем в течение определенного периода ее изготовления. Однако в
последние годы Удо Шлотцхауэр и Михель Кершнер предложили новую классификацию
этой посуды, в большей степени опирающуюся на ее региональную специфику, и тем
самым дальше продвинулись в направлении идентификации центров производства такой
керамики.
Особую группу восточно-греческой керамики составляют чаши, так называемые
Bird bowls. Они представляют собой наиболее изысканные изделия восточно-греческого
субгеометрического стиля, использующие традиционные мотивы геометрической росписи
в вычурной и слегка небрежной манере. Их обычный размер не превышает 15 см в
диаметре по краю сосуда. Самые ранние чаши (700–675 гг. до н.э.) имеют загнутый край,
под орнаментальным полем проходит полоса точек, ниже которых чаша покрыта темной
краской. На следующей стадии развития (675–640 гг. до н.э.) изгиб края и точки исчезают.
На третьем этапе (650–615 гг. до н.э.) нижняя часть чаши оставляется в цвете глины и
орнаментируется пятью контурными лучами, а на главной панели небольшие лучи
сменяются заштрихованными треугольниками. В конечном итоге (615–600 гг. до н.э.),
полоса краски, ограничивающая снизу главную декоративную панель, исчезает, а
изображения птиц становятся более небрежными (рис. 1); иногда также кольцевая
подставка заменяется диском с небольшим углублением в центре. Развитие композиции
идет по пути постепенного увеличения ширины главной декоративной панели.
Внутренняя часть сосуда покрыта темной краской, иногда за исключением тондо,
содержащего контурные лучи или какие-либо простые мотивы. На третьем этапе и
позднее внутренняя часть сосуда в центре украшается поясками белой краски и пурпура.
Глина типичной Bird bowl хорошего качества и обычно имеет светло-коричневый цвет,
поверхность порой покрыта беловатой обмазкой, а краска имеет черноватый оттенок.
Обычно считается, что чаши этой группы впервые появились на Родосе, однако об
их производство и в других местах Восточной Греции также хорошо известно. Кроме
того, они широко и часто экспортировались, и даже во вновь основанные колонии, хотя в
последних отсутствуют наиболее ранние типы этой посуды.
Что касается Rossette bowls, сменивших Bird bowls, то они подробно не изучены. Их
изготовление началось в последней четверти VIIв. до н.э. и продолжалось во второй
половине следующего столетия. Они имели такую же форму, как и у их предшественниц,
и кольцевую подставку. Система декорации Rossette bowls очень простая (рис. 2): поле
между ручками украшено розетками из семи точек и ограничено вертикальными
штрихами. Ниже этого поля нарисованы контурные лучи или нанесены простые пояски
краски. Внутренняя сторона чаши покрыта темной краской, иногда для разнообразия
украшена поясками белой краски и пурпура, хотя часто центральная часть сосуда
оставлялась в цвете глины. Качество глины ухудшается, обмазка встречается все реже.
Rossette bowls, как и более ранние чаши, широко распространены в античном мире.
Согласно анализу глины, эти сосуды, как и поздние Bird bowls, были сделаны в Северной
Ионии, в Клазоменах или их окрестностях.
Чаши, известные как Lotus bowls, являются всего лишь вариантом Rossette bowls,
поскольку у них вместо центральной розетки нарисован свисающий вниз
трехлепестковый цветок лотоса (рис. 3). Более самостоятельными являются так
называемые Eye bowls (рис. 4), которые обычно имеют бежевую обмазку. В поле ручек
они украшены парой больших глаз с изогнутыми бровями и коротким носом с ноздрями в
виде спиралей. Согласно анализу глины, эти чаши относились к южно-ионийскому
керамическому комплексу и весьма широко экспортировались. Расцвет их производства
пришелся на начало VI в. до н.э.
Классическая археология обычно делит развитие архаической керамики в
восточной Эгеиде на две фазы. Наиболее ранняя из них часто обозначается как
ориентализирующая (Orientalising; по новой классификации Archaic I). По времени она
охватывает главным образом вторую половину VII в. до н.э., начинаясь на одно или два
десятилетия раньше в некоторых регионах и уходя на несколько лет или даже десятилетий
в начало VI в. до н.э. Следующий за ней период (Archaic II) занимает большую часть VI в.
до н.э. вплоть до конца архаического периода в начале следующего столетия. Эти фазы
определяются заметными изменениями в стилистическом развитии.
Однообразный и непретенциозный Wild Goat style – это второе повсеместное
начинание Восточной Греции. Возникнув незадолго до середины VII в. до н.э., этот стиль
почти на протяжении трех поколений стал определяющим для восточно-греческой
вазописи. Источником, его вдохновившим, по всей вероятности, были ткани, которые
являлись одним из главных предметов торговли этого региона. Так, например, Милет был
особенно известен в греческом мире как производитель шерстяных тканей и их экспортер.
Несмотря на подражание ткацким изделиям, тем не менее, это был вполне совершенный
керамический стиль с хорошо выраженным развитием.
Wild Goat style легко узнаваем. В целом, глина достаточно грубая, обожженная от
светло-коричневого до красноватого цвета; местные различия обычно не видны
невооруженным глазом. Как правило, поверхность сосудов покрыта обмазкой от
кремового до беловатого оттенков цвета, первоначально густо, а позднее тонко
нанесенной на поверхность; наиболее поздние образцы могут быть вовсе без обмазки.
Краска от черноватого до темно-коричневого оттенка, иногда с разводами красного цвета.
Дополнения пурпуром становятся регулярными в средний период, а в более поздний
период также появляется белая краска. По характеру орнаментации Wild Goat style
является звериным стилем, изображения людей встречаются очень редко. И хотя это была
не единственная греческая школа вазописи, которая в это время прибегала к звериному
стилю, ее состав фауны сильно отличался, как, впрочем, и типы растительного орнамента,
среди которых преобладали абстрактные формы. По всей вероятности, моделями для этих
образов послужили восточные образцы, хотя близкие параллели с ними не
прослеживаются ранее среднего периода.
В материалах Березанского поселения, как, впрочем, и во всем Северном
Причерноморье, не представлены образцы раннего ориентализирующего стиля и Early
Wild Goat style (East Greek Archaic Ia) (670–650 гг. до н.э.). Наиболее ранние находки
восточно-греческой керамики на северном побережье Черного моря относятся уже к
периоду Middle Wild Goat style I (East Greek Archaic Ib, а точнее South Ionian Archaic Ib)
(650–630 гг. до н.э.). Это широко известные ойнохои из погребения на Темир-горе (рис. 5)
и из кругана Болтышка (рис. 6), амфора из Немировского городища и блюдо с Березани
(рис. 7).
Наиболее предпочитаемые вазописцами этого периода формы сосудов включали
круглогорлые ойнохои, кратеры, диносы, крышки и чаши с отогнутым краем. Ойнохои с
горлом в форме трилистника только начинают появляться в это время и еще крайне редки.
В системе орнаментации, наряду с фризом с животными на плечиках сосуда, появляется
еще один дополнительный фриз на его тулове. Панель с изображениями животных на
горле сосуда иногда встречается на круглогорлых ойнохоях. Трактовка фризов на
плечиках и тулове различна. Если на плечиках сосуда центр изображения акцентируется
сложной симметричной волютой, окруженной двигающимися в разных направлениях
животными, то на тулове сосуда животные двигаются в одном направлении, как бы по
кругу. Иногда это постоянное движение прерывается единственным животным,
обращенным в противоположную сторону. Животные и птицы разных видов – собаки,
дикие козлы, олени, грифоны, львы, пантеры, быки и гуси – рисуются бегущими или
идущими. Только две ноги показаны, когда животные бегут, и все четыре ноги, когда они
идут. Разнообразные элементы заполнительного орнамента украшают оба фриза.
Следующий период MWG II (SiA Ic и SiA Id) (630–610 и 610–570 гг. до н.э.)
представлен на Березани более разнообразно (рис. 8; 9; 10; 11). Импорт восточно-
греческой керамики особенно заметно возрастает к концу VII в. до н.э. Расписные сосуды
этого периода, экспортируемые в значительно большем количестве, чем прежде,
демонстрируют очевидные признаки серийного производства. Ассортимент расписной
посуды значительно расширяется. Наряду с формами, предпочитавшимися ранее, широко
представлены ойнохои с горлом в виде трилистника, полностью вытеснившие
круглогорлые сосуды, диносы, кратеры, чаши, крышки и блюда. Главной инновацией в
декорации керамики этого времени стало стереотипное применение треугольников и
полукругов, придающих одинаковый ритм фризам животных, в которых неизменно
доминируют постоянно повторяющиеся изображения диких козлов и оленей,
наклонивших головы к земле. В орнаментации почти канонической становится простая
или сложная плетенка, украшавшая горло ойнохой. Горизонтальное деление фризов часто
выполняется простыми полосами. Нижний фриз, как правило, заполняется цепочкой
цветов и бутонов лотосов. Дополнительная красная и белая краска используется для
выделения некоторых деталей замысловатого орнамента и фигур животных, среди
которых наиболее популярными становятся исключительно дикие козлы и олени.
Сфинксы и гуси изображаются на плечиках сосудов.
Вторая половина этого периода характеризуется дальнейшей стандартизацией и
упрощением декоративной схемы. Возрождается прежняя композиция орнаментации в
метопе, однако в новой модифицированной форме: две группы свешивающихся лучей
образуют рамку центральной панели, на которой изображена отдельная фигура – протома
или крупный орнаментальный мотив (рис. 12; 13). Такой тип орнаментации можно найти
на всех типах сосудов, однако чаще всего он встречается на блюдах (рис. 14). На горлах
ойнохой часто можно увидеть орнамент в форме меандра или квадрата. Излюбленным
украшением разделительных полос становится меандр из крючков, зигзагов или
квадратов. Заполнительный орнамент становится более редким. Новый мотив появляется
во фризах на плечиках ойнохой: дикие козлы или олени с подогнутыми передними
ногами, их головы показаны либо приподнятыми, либо склоненными, но
оглядывающимися назад (рис. 15). Протомы людей и животных, помещенные в метопу,
часто встречаются на блюдах и ойнохоях. Дополнительная красная краска применяется
регулярно для доработки деталей изображений.
Late Wild Goat style появился незадолго перед 600 г. до н.э. и закончился около 570
г. до н.э. Анализ глины керамики этого стиля всецело подтвердил его происхождение в
северо-ионийских центрах. Консервативная манера вазописи VII в. до н.э. оставалась
непоколебимой, несмотря на мощный приток коринфского керамического импорта в
восточно-греческий регион (рис. 16). После 600 г. до н.э. северо-ионийские центры
перехватили производство керамики Wild Goat style в свои руки, переняв коринфскую
технику черно-фигурной вазописи. Их керамический экспорт практически заполонил
рынки Причерноморья. Первоначально для этой цели использовались диносы,
расписанные тесно сбившимися изображениями животных и близко расположенными
элементами заполнительного орнамента в виде, главным образом, розеток и полурозеток.
Чернофигурный стиль северо-ионийских вазописцев был грубее и небрежнее, но они так
высоко ценили это новшество, что даже предоставляли ему почетное место на плечиках, а
иногда на горле значительных керамических изделий.
Большая часть Березанской коллекции восточно-греческой керамики состоит из
сосудов, расписанных в этом стиле (рис. 17; 18; 19; 20). Изображения людей появляются
очень редко. Обычная фауна чернофигурного стиля включает львов, кабанов, козлов,
оленей, сфинксов, грифонов, гусей или лебедей в компоновке, традиционной для
коринфской керамики. Коренастые козлы, выполненные в резервном стиле, по-прежнему
занимают место во фризах; на тарелках часто изображены отдельные фигуры сфинксов,
собак, кабанов, быков, козлов и грифонов. Лотосы принимают комковатую форму и
уменьшаются в размерах и значении, длинные пучки листьев растут из углов,
заполнительный орнамент становится застывшим, а разделительные полосы делаются
тяжелее и перемежаются полосками белой краски и пурпура. Ойнохои становятся
длинными и узкими, с овальным туловищем и высоким горлом, и делятся свой
популярностью с амфорами похожей формы. Другими популярными формами были
кратеры, диносы, небрежно моделированные и бедно украшенные блюда на высокой
ножке и на кольцевой подставке (рис. 21) и тарелки (рис. 22). Во второй четверти VI в. до
н.э. роспись керамики сводится к простой растительной орнаментации и едва ли может
быть отнесена к Wild Goat style.
Одна из локальных школ Late Wild Goat style, сложившаяся на рубеже VII–VI вв. до
н.э. в Эолии, представлена в Березанской коллекции группой Лондонского Диноса
(London Dinos group). Первоначально эта группа была выделена среди керамических
находок в Питане, позднее выяснилось, что такие изделия экспортировались в большом
количестве за пределы Эолии. Излюбленной формой мастеров этой группы был динос
(рис. 23), но также использовались тарелки и аски. Роспись этой группы спокойная и
выглядит традиционной, хотя и с некоторыми эолийскими особенностями. Пасущиеся
козлы и, в меньшей мере, собаки – наиболее популярные сюжеты орнаментальной
композиции, в которой также встречаются гуси, кабаны и лани.
В манере изображения заполнительного орнамента наблюдается тенденция сделать
его крупным и жирным. В его репертуаре преобладают квадратные розетки, кресты с
шевронами, большие треугольники, которые то резко разграничивают, то изгибаются, а
иногда и ютятся среди изображений животных. Однако наряду с этими эолизмами
отчетливо заметно влияние северо-ионийской традиции. Среди других орнаментов
наиболее показательны полосы язычков, больших и дважды оконтуренных (рис. 24), и
сплошные, хотя и довольно небрежно выполненные меандры, прямоугольный
петельчатый орнамент. Пурпур применяется повсеместно, порой прямо по глине. В целом
роспись аккуратная и весьма приличная, хотя и без изящества.
Среди местных школ восточно-греческой вазописи выделяется хиосская расписная
керамика, легко отличимая благодаря ее белой обмазке, преобладанию сосудов в форме
кубка, внутренней росписи открытых сосудов, начиная с 600 г. до н.э., изящной манере
росписи, распространявшей на все категории этой керамики. В настоящее время известно,
что существовало несколько мастерских, работавших как в городе, так и в разных частях
острова, пользовавшихся различными глинами и обмазками.
Самые ранние образцы хиосской керамики с Березани, датирующиеся последней
четвертью VII в. до н.э. (рис. 25), можно отнести к группе ранних кубков Early Chalices,
форма которых ведет свои истоки еще от позднегеометрических скифосов VIII в. до н.э.
Ранние кубки – тип I – имеют почти вертикальные или слегка отогнутые наружу стенки,
глубокую чашу и невысокую ножку. Небольшие петлеобразные горизонтальные ручки
помещены в средней части сосуда, где стенки имеют ясно видимый изгиб наружу. Кубки
из раскопок Эмпория и Токры, сохранившиеся лучше всего, представляют вариации этой
формы.
Роспись кубков очень проста: в зоне ручек между горизонтальных поясков
помещены группы из шести–семи вертикальных штрихов и орнамент в виде зубчиков.
Чаша иногда расписана широкими горизонтальными поясками, ножка покрыта снаружи
лаком. Роспись сосудов тщательно исполнена густым черным или темно-коричневым
лаком; реже она наносилась несколько небрежнее оранжево-красным лаком. Эти различия
объясняют тем, что сосуды изготовлялись в разных мастерских.
В начале VI в. до н.э. хиосские мастера продолжали расписывать кубки в
традиционной резервной технике, которые выделены в группу Animal Chalice. Однако их
форма претерпела изменения. Новый тип кубка – тип II – имел высокие отогнутые наружу
стенки и небольшую сравнительно с ними чашу. Зона ручек не выделялась, ручки
сохранили петлеобразную форму. Ножка стала значительно выше. Кубок приобрел
биконическую форму. Характерный для этих сосудов стиль росписи и заполнительный
орнамент свидетельствует о продолжении традиций Wild Goat Style, зародившихся в VII в.
до н.э. В настоящее время все известные кубки Animal Chalice на основе детального
анализа их росписи разделены на пять стилистических групп.
Кубки Animal Chalice представлены на Березани значительным числом фрагментов
(рис. 26; 27), но большинство из них невелики по размерам, а потому их распределение по
стилистическим группам затруднено. Фрагменты пяти кубков (рис. 28) составляют
стилистическую группу, названную Анной Лемос Berezan Animal Chalice, в которую
также включены фрагмент кубка из Токры и обломок закрытого сосуда из раскопок на
Хиосе.
Обломки кубков с изображением льва (рис. 29) можно отнести к стилистической
группе Tocra-Delos. Фрагмент кубка с изображением быка (рис. 30), возможно, относится
к стилистической группе Elaborated Animal Chalices, для которой характерны сосуды с
изображением этого животного.
В отдельную группу Chalice Style выделены кубки с изображениями льва, сфинкса
или человека, исполненными также в резервной технике без заполнительного орнамента.
По форме эти сосуды, отличающиеся небольшими размерами, относятся к типу III.
Манера изображения львов и сфинксов является прямым продолжением стиля росписи
Animal Chalice. Львы, как правило, изображались повернутыми вправо, а сфинксы – влево.
Это правило не распространялось на фигуры людей. Их изображения были повернуты как
вправо, так и влево.
В настоящее время выделено три стилистические группы, к которым можно
отнести наибольшее число фрагментов расписной хиосской керамики, найденной на
Березани. Среди них можно назвать семь фрагментов кубков (рис. 31), относящихся к
четырем последовательным стадиям стилистической группы Simple Figures. Одним из
лучших образцов хиосской керамики из Эрмитажной коллекции является кубок с
изображением мужчины в длинной одежде с цветком в руке (рис. 32). Этот кубок
определяет группу сосудов Worshipers, на которых изображены участники какой-то
церемонии или процессии. К этой же группе можно отнести и фрагменты кубков с
изображением женщин в длинных хитонах (рис. 33).
Среди форм, изредка встречающихся в группе Chalice Style, известны фиалы. Они
представлены на Березани четырьмя фрагментами (рис. 34).
В начале VI в. до н.э., наряду с керамикой, расписанной в традиционной технике
(кубки Animal Chalice Style и Chalice Style), на Хиосе появляются сосуды, выполненные в
чернофигурной технике росписи с использованием гравировки и пурпура для
изображения деталей фигур и заполнительного орнамента (Sphinx and Lion Style). В
составе хиосских керамических изделий этого времени почти полностью исчезают
традиционные кубки, зато появляются чаши на высокой ножке с крышкой, пиксиды на
трех ножках, цилиндрические сосуды с ручкой, ойнохои, сосуды больших размеров
(возможно, диносы), тарелочки и горшочки. Целые образцы этих форм единичны и
известны по находкам из некрополя Питаны. Поверхность этих сосудов делится
горизонтальными поясками на фризы, в которых помещены трафаретные изображения
сидящих львов и сфинксов. Изображения сирен, птиц, быков очень редки. Сосуды,
расписанные в стиле Sphinx and Lion, весьма многочисленны и представлены как наиболее
популярными, так и более редкими формами. По найденным фрагментам керамики очень
трудно определить принадлежали ли они чашам на высокой ножке или пиксидам на трех
ножках. Очевидно лишь то, что к этим типам относится большинство фрагментов
хиосских расписных сосудов, найденных на Березани (рис. 35).
Среди березанских находок следует отметить несколько изделий, в росписях
которых использованы редкие или даже неизвестные ранее изображения. Прежде всего,
это фрагменты писксиды на трех ножках с крышкой (рис. 36). В ее росписи присутствует
изображение птицы с поднятыми крыльями. На одном фрагменте крышки нарисованы
сирены, на другом – изображен бык (рис. 37). Фрагмент еще одной чаши или пиксиды
украшен изображением утки с повернутой назад головой (рис. 38). Крышки таких сосудов
иногда завершались пластическими женскими головами (рис. 39).
Некоторые фрагменты хиосской керамики могли принадлежать цилиндрическим
сосудам с ручкой или большим сосудам типа диносов (рис. 40). Ряд фрагментов (рис. 41)
принадлежит ойнохоям. Единственная целая хиосская ойнохоя была найдена в некрополе
Питаны. Форма этого сосуда, вероятно, была заимствована у вазописцев Северной Ионии,
работавших в смешанной технике Late Wild Goat Style в первой трети VI в. до н.э.
К редкой форме сосудов в составе хиосской керамики с Березани следует отнести и
фрагмент небольшой тарелки (рис. 42) с изображением сидящего сфинкса. К поздней
группе следует приписать фрагмент горшочка с изображением гуся (рис. 43). К ней также
относится обломок крышки с изображением уток (рис. 44).
Часть хиосской керамики принадлежит группе Comast, тесно связанной с группой
Sphinx and Lion. Она представлена исключительно кубками типа III. Сосуды Comast Group
расписаны изображениями пляшущих комастов, которые подразделяются на шесть
стилистических групп. Среди березанского материала можно выделить образцы,
относящиеся к трем поздним стилистически группам. В их росписи заметны черты
деградации – отсутствие заполнительного орнамента или использование только простых
его типов; небрежность в исполнении рисунка и гравировки, которая применяется для
выделения деталей более скупо, чем на кубках ранних групп. Особый интерес вызывает
фрагмент кубка, в росписи которого – в заполнительных розетках и в деталях рисунка
комаста – использована белая накладная краска (рис. 45).
В отдельную группу Poultry выделены кубки с изображением петуха и курицы
(рис. 46). Стиль их росписи очень однороден, рисунок на лучших образцах аккуратен,
обильно используется гравировка и пурпур. Все известные сосуды можно разделить на
четыре подгруппы, которые соответствуют отдельным мастерам. Все березанские
фрагменты принадлежат перу одного мастера, работы которого отличаются четкостью
рисунка и использованием гравировки для выделения одних и тех же деталей.
Кубки групп Comast и Poultry, расписанные в чернофигурной технике, вероятно,
изготовлялись в одной мастерской, так как для их росписи в зоне ручек и на краях
применялись одни и те же элементы орнамента. Не исключено, что кубки Chalice Style,
расписанные в традиционной резервной технике, могли изготовляться в той же
мастерской. Основаниями для этого предположения послужили близость размеров
сосудов и использование орнамента в виде меандра для росписи пояса в зоне ручек.
Однако это предположение не вполне подтверждается имеющимися керамическими
материалами, поскольку в декоре края кубков используются различные элементы
орнамента, и только самый простой из них – в виде двух узких горизонтальных поясков –
встречается на сосудах, расписанных как в той, так и в другой технике.
Особо следует отметить группу чернофигурных хиосских канфаров. Сосуды
подобной формы так же расписывались и в традиционной резервной технике. Лучшим из
них является фрагмент канфара с изображением птиц и дельфинов (рис. 47).
Стилистически близкие изображения птиц и похожий заполнительный орнамент можно
увидеть на плечиках небольшой гидрии позднего варианта Sphinx and Lion Style. Сходные
изображения дельфинов применялись в росписи кубка группы Poultry и канфара,
относящегося к позднему варианту хиосского чернофигурного стиля. Стилистическое
сходство с росписью сосудов группы Poultry также прослеживается и в изображении
протомы курицы на крае другого канфара с Березани (рис. 48).
Среди образцов хиосской керамики, расписанной в чернофигурном стиле,
уникальным является фрагмент большого диноса (рис. 49). К сожалению, сохранились
только венчик и часть верхнего фриза, по которым можно судить о стиле росписи сосуда.
На венчике помещена сложная плетенка с точками в центре; между повторяющимися
элементами с двух сторон изображены небольшие розетки из трех или четырех точек на
дугах. На плечиках сосуда в верхнем фризе – пояс из цветов и бутонов лотоса,
соединенных дугами, под ним – широкая полоса коричневого лака. Ниже помещался
центральный фриз, от которого сохранилась верхняя часть изображения едущих
навстречу друг другу всадников с копьями в руках. За спиной правого всадника видна
плохо сохранившаяся часть фигуры воина. Детали изображения выделены гравировкой.
Диносы с широким, слегка выступающим над плечиками венчиком характерны для
ионийской керамики и известны в хиосской керамике стиля Wild Goat последней четверти
VII – первой четверти VI в. до н.э. Позднее, в 540–520 гг. до н.э. сосуды этой формы
расписывались в чернофигурной технике. Роспись березанского диноса ярко
свидетельствует о том, что ориентализирующий стиль ионийских мастеров успешно
сочетается с заимствованной ими у вазописцев Коринфа и Аттики чернофигурной
техникой, в которой была выполнена роспись центрального фриза диноса с Березани.
Наряду с расписной керамикой производилась и более простая посуда, украшенная
поясками лака. Большим числом экземпляров на Березани представлены высокие чашки с
плоским дном и слегка расширяющимися стенками (рис. 50), которые по материалам
Эмпория датируются последней третью VII в. до н.э., а по материалам раскопок на Эгине
– первой половиной VI в. до н.э., т.е. так же, как и на Березани. Определенный интерес
представляют фрагменты чаш на высокой ножке, украшенные поясками (рис. 51). Сосуды
этой формы, расписанные в чернофигурном стиле, хорошо известны в хиосской керамике.
Различные тарелки на высокой ножке с горизонтальным отогнутым наружу краем и
глубокие миски на кольцеобразной подставке с горизонтальными ручками (рис. 52)
демонстрируют формы сосудов, хорошо известных не только на Хиосе, но также
изготовлявшихся другими ионийскими центрами керамического производства. Канфары с
плоским дном представлены на Березани своим поздним типом без посвятительных
надписей (рис. 53). Их сравнительно позднюю дату подтверждают находки таких же
сосудов в некрополях Ольвии и Нимфея. Небольшие кувшинчики с плоским дном и
вертикальной ручкой (рис. 54) представлены на Березани значительным числом
экземпляров. Аналогичные им сосуды из некрополя Ольвии свидетельствуют о том, что
их изготовление не прекращалось вплоть до конца VI в. до н.э.
Березанское поселение является единственным центром в Северном
Причерноморье, где найдена хиосская расписная керамика последней четверти VII в. до
н.э. Ее количество здесь столь же невелико, как в Навкратисе, Токре, Смирне и других
греческих городах, и, вероятно, объясняется тем, что объем ее экспорта в то время был
еще незначительным. Однако уже в первой половине VI в. до н.э. торговля этой
керамикой достигает своего пика, что отражается в значительном и повсеместном росте
числа находок этой керамики, представленной практически всеми известными ее
стилистическим группам. Заметное уменьшение экспорта хиосской керамики во второй
половине VI в. до н.э., вероятно, связано как с утратой ведущей роли ионийских центров в
торговле расписной керамикой, так и с уменьшением ее производства в целом. Почти
полное прекращение выпуска хиосской расписной керамики приходится на конец VI в. до
н.э.
Клазоменская керамика являются наиболее близким продолжателем
чернофигурной технике восточно-греческой вазописи. Изысканный чернофигурный стиль
с большой склонностью к дополнительным цветам, особенно белому, часто нанесенному
прямо на глину, был главным результатом клазоменского керамического производства.
Клазоменская керамика – наиболее крупная группа восточно-греческой керамики
чернофигурного стиля, производившаяся в мастерских, расположенных не только в самих
Клазоменах, но и в других североионийских городах. Исследователи не исключают и того,
что некоторые мастера этой школы могли работать в Египте. Мастерские по производству
керамики чернофигурного стиля находились в Смирне, а также на острове Самос, где в
этой манере расписывали килики Little Master cups.
В клазоменской керамике принципы чернофигурного стиля нашли свое наиболее
полное и последовательное отражение. Поверхность вазы воспринималась мастерами не
как плоскость, имевшая два измерения, а как нечто, имевшее пространственную глубину,
в которой следует расположить композицию. Это был основной принцип чернофигурного
стиля, характерный для аттической вазописи, диктующий иные законы построения
композиции и расположения декора на сосуде. В этой связи очень важно замечание,
сделанное Робертом Куком, о том, что стиль клазоменских мастеров – это скорее разрыв,
нежели продолжение старых традиций восточно-греческой вазописи. Стиль клазоменских
ваз на наиболее ранних сосудах демонстрирует много общего с чернофигурными
росписями хиосских мастеров.
Первое детальное исследование клазоменской керамики было сделано Робертом
Куком. Предложенные им классификация и датировки практически и сейчас остаются в
силе. Вся известная клазоменская керамика делится на пять классов: Тюбинген, Петри,
Урла, Энман, Книпович и смешанный. Первые три объединяют наиболее типичные по
сюжету и стилю росписи сосуды. Они связаны стилевой и временной преемственностью.
Две группы Энман и Книпович стоят особняком. Считается, что это скорее имитация
клазоменского стиля, чем его непосредственное развитие. Не случайно эти две группы
носят имена русских исследовательниц, поскольку большинство таких сосудов найдено в
Северном Причерноморье. В cмешанный класс выделены сосуды, не укладывающиеся в
традиционное представление о клазоменском стиле.
На Березани клазоменская керамика встречается в небольшом количестве. По
сравнению с находками клазоменской керамики в других центрах Северного
Причерноморья березанские образцы отличаются большим числом и стилистическим
разнообразием. К сожалению, большинство находок клазоменской керамики представлено
во фрагментированном виде, что часто затрудняет их атрибуцию.
На Березани найдены образцы клазоменской керамики, относящиеся
исключительно к трем основным группам – Урла, Энман и Книпович. Из них к группе
Урла относится все лишь несколько фрагментов (рис. 55). Сосуды этой группы редки для
Северного Причерноморья. В свою очередь, группы Энман и Книпович представлены
наиболее полно как на Березани так и во всем Северном Причерноморье. Считается, что
они являются скорее имитацией клазоменского стиля, а не его непосредственным
развитием. В стилистическом отношении группа Энман неоднородна. Сюжеты росписей
очень разнообразны: изображения различных животных и фантастических существ,
сатиров (56–59). Напротив, группа Книпович весьма однородна по стилю и сюжетам
росписи, куда входят изображения протомы коня или орнаменты из чешуек (60–62).
Другая местная школа Восточной Греции, выросшая из стиля Wild Goat, известная
под названием керамики Фикеллура, является результатом творческих поисков
вазописцев Милета. Начало этого стиля относят к 560–550 гг. до н.э. и связывают с
работами так называемого Альтенбургского мастера (рис. 63). В этом легко узнаваемом
стиле с характерными декоративными мотивами, такими как полумесяцы и шашки,
свободно размещенными на поверхности сосудов и без заполнительного орнамента,
расписывались амфоры, амфориски, ойнохои, гидрии, стамносы и чаши (рис. 64–76).
Иконография объектов этого стиля бросает вызов и намекает на особенности
юмора, более всего на вазах с комастами и со сценами симпосиев. Сцены охоты
встречаются редко. Милетский стиль действительно заинтриговывает в своем
использовании оригинальных и не поддающихся расшифровке сцен и даже отдельных
персонажей. Однако эта керамика с невероятными изображениями животных и людей
практически не попадала в Северное Причерноморье, куда, в основном, экспортировались
сосуды, украшенные более простыми композициями и орнаментальными мотивами, что
подтверждает состав Березанской коллекции керамики Фикеллура, наиболее
многочисленной по сравнению с другими собраниями археологического материала.
Расписная керамика Материковой Греции архаического периода представлена в
Северном Причерноморья, в основном, изделиями Коринфа и Афин – крупнейших
центров керамического производства в античной мире. Между тем, в отличие от
аттической посуды, коринфская расписная керамика попадала на северное побережье
Черного моря в небольшом количестве и в ограниченном ассортименте, скорее все, через
посредничество ионийских торговцев. В Государственном Эрмитаже хранится более
двухсот тридцати произведений художественной керамики древнего Коринфа из раскопок
на острове Березань. Самые ранние из них – линеарные котилы (рис. 77) – можно
датировать последней третью VII в. до н.э., а наиболее поздние – чернолаковые котилы,
ойнохои и одноручная чаша (рис. 78) – вплоть до конца V в. до н.э. Значительную группу
составляют круглые арибаллы (рис. 79) конца VII–VI вв. до н. э. По сравнению с сосудами
других форм, среди арибаллов и аналогичных по назначению алабастров имеется
наибольшее количество памятников раннего коринфского периода (620/615 – 590 г. до
н.э.). В этих формах представлены образцы всех декоративных техник коринфской
вазописи – чернофигурной, черно-полихромной, линейной, силуэтной, контурной и с
резным декором. Многочисленны также миниатюрные котилы с поясками VI – первой
половины V вв. до н. э. и с силуэтной росписью первой половины VI в. до н.э. (рис. 80).
В художественном отношении бóльшую часть березанских ваз можно оценить как
рядовые изделия основных стилистических типов: с чернофигурной росписью, с
орнаментальным декором шаблонного стиля (рис. 81), беглого стиля, чернолаковые.
Выделяются фрагменты крупных сосудов, особенно обломки чернофигурных кратеров,
среди которых наиболее ранний без плакеток на ручках (рис. 82) относится к рубежу VII–
VI вв. до н.э., а наиболее поздние с красной облицовкой (рис. 83) созданы между 570 и 550
гг. до н.э. Еще несколько чернофигурных ваз высокого качества были расписаны
ведущими мастерами коринфского Керамика: крупная ольпа 590-х – 580-х гг. до н.э. (рис.
84), амфориск 590-х – 570-х гг. до н.э. (рис. 85), арибаллы конца VII – начала VI вв. до н.э.
(рис. 86) и 560-х – 550-х гг. до н.э. (рис. 87). Несколько фрагментов принадлежат сосудам,
имитировавшим коринфские, как, например, арибалл из яркой розово-оранжевой глины с
многочисленными золотистыми блестками (рис. 88).
Афинский керамический импорт заполонил рынки Северного Причерноморья в VI
в. до н.э., постепенно вытеснив с них продукцию ионийских гончаров. Изящный
чернофигурный стиль аттических мастеров пришелся по вкусу населению
северопричерноморских колоний, а разнообразие форм аттических сосудов и сюжетов их
росписи, близких и понятных, делало их удобными для использования в быту и
приятными с эстетической точки зрения. Благодаря этим достоинствам сосуды из Аттики
уже во второй половине VI в. до н.э. составляли большую часть столового сервиза
практически каждой семьи в греческих городах Северного Понта, в том числе и
Борисфена (Березанского поселения).
Самые ранние экземпляры аттической керамики на Березанском поселении,
датируемые первой четвертью VI в. до н.э., происходили из мастерских Софилоса (Sophilos)
(рис. 89), Gorgon Painter, Komast Group (рис. 90) и Polos Painter. Самые поздние образцы,
которые более многочисленные, принадлежат последней значительной фазе чернофигурного
стиля конца VI – начала V вв. до н.э. и связаны с работами Theseus Painter (рис. 91), CHC и
Heron Class skyphoi (рис. 92), Class of Athens 581 (рис. 93) и Haimon Group (рис. 94; 95).
Наибольшее число аттических ваз на Березани демонстрируют совершенную
чернофигурную технику: фигуры людей и животных нарисованы в виде черных силуэтов с
гравированными и дорисованными цветом деталями. Исключением являются шаблонные
лекифы, чаши и скифосы, миниатюрные сосуды и вазы, украшенные фризами с
исключительно черными силуэтами животных, такие как Droop Cups и сосуды, относящиеся
к Swan Group. Сцены из мифов и литературы, выбранные для росписи, нарисованы по
аттической схеме и украшали привычные формы в привычной манере. Звериный стиль,
включающий мифологические существа (сирены и сфинксы) преобладал в первые годы VI в.
до н.э. в основном на кратерах (рис. 96), амфорах (рис. 97), подставках, леканах, крышках и
лекифах (рис. 98). Эта тенденция продолжается на Little-Master cups (рис. 99; 100), где сцены
с животными очень популярны.
Мифологическая иконография представлена как в повествовательной манере, так и
наоборот. Среди определяемых персонажей Пелей и Нереиды, амазономахия, подвиги
Геракла, кентавромахия (рис. 101), Тесей и бык (рис. 102), летящие Горгоны, возвращение
Елены, Европа на быке (рис. 103) и, вероятно, Ахилл и Мемнон. Персонажи, появляющиеся
в связи с вышеперечисленными сценами, включают Гермеса, Афину, Аполлона (рис. 104),
Пегаса (рис. 105) и юную пару, возможно, Диоскуров (рис. 127). Пляшущие сатиры и
менады, иногда в присутствии Диониса изображаются на большом количестве разных по
форме сосудов.
Образы повседневной жизни рисуют батальные сцены, атлетику и пирушки. Боксеры,
борцы и бегуны, также колесничие (рис. 107) частые персонажы вазописи. Изображения
гуляк и комастов, в частности, очень распространены на чашах и сосудах других форм (рис.
108). Сюда же относятся сюжеты со сценами симпосиев, а также эротического и
гетеросексуального содержания. Несколько более необычными оказываются изображения
свадьбы (рис. 109), загадочной и редкой является сцена с женщинами, укрывающихся
плащом (рис. 110). Часть повседневных сюжетов, популярных на протяжении VI в. до н.э. не
подпадают ни под мифические, ни под литературные упоминания – это всадники, сражения
и дуэли, процессии (рис. 111; 112), а их фрагментарное состояние делает их последующий
анализ невозможным.
Рекомендуемая литература
Cook R.M. Fikellura Pottery // BSA 34, 1933/34.
Cook R.M. A List of Clazomenian Pottery // BSA 47, 1952.
Boardman J. Athenian Black Figure Vases (London), 1974.
Cook R.M. Greek Painted Pottery (London; Routledge), 1977.
Lemos A. Archaic Pottery of Chios. The Decorated Style (Oxford), 1991.
Cook R.M., Dupont P. East Greek Pottery (London; Routledge), 1998.
Kerschner M., Schlozhauer U. A New Classification System for East Greek Pottery // Ancient West
& East 4.1 (Leiden; Brill), 2005.