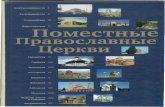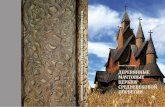ТЕРЕЩЕНКО О.В. Зображення Десятинної церкви на мініатюрах Радзивіллівського літопису: до питання
Андрей Дьячков. О ЖЕНСКОМ СЛУЖЕНИИ В ЦЕРКВИ // Вып. 3....
Transcript of Андрей Дьячков. О ЖЕНСКОМ СЛУЖЕНИИ В ЦЕРКВИ // Вып. 3....
95
последнее время роль женщины в жизни Церкви становится все заметней. А ведь в те-чение многих столетий ее голос был едва слы-шен. Например, известное изречение ап. Павла: «Жены ваши в церквах да молчат1, ибо не позво-лено им говорить, а быть в подчинении, как и закон2 говорит» (1 Кор. 14:34), — привело к тому, что до конца XIX в. даже хоры в наших церквях были исключительно мужскими. «Знаменитые блоковские строки: „девушка пела в церковном хоре…“, — это свидетельство об уже начавших-ся переменах: к концу XIX в. ситуация начала меняться»3. Но несмотря на эти перемены, на Соборе 1917–1918 гг. женщины (даже игуменьи!) не обладали правом голоса.
1 Буквально: «женщины в церквях пусть молчат».2 «К мужу твоему влечение твое, и он будет го-
сподствовать над тобою» (Быт. 3:16).3 Источник: Диакон Андрей Кураев. Женщина
в Церкви // Православие.ру
О ЖЕНСКОМ СЛУЖЕНИИ В ЦЕРКВИ
Андрей Дьячков
В
96
Впервые в истории Русской Православной Церкви женщины становятся полноправными участницами Поместного Собора лишь в 1971 году. Таким образом, сегодня, когда женщина не только поет в церковном хоре, но занимается катехизацией, пишет богословские статьи и даже защищает диссертации на богословские темы, более того — когда она порой преподает мужчинам богословие и литургику, мы наблюдаем кардинальное изменение ее положения в Церкви. И это происходит в Церкви православной. Если же взять, например, англи-канскую Церковь, то там уже не одна женщина рукоположена в свя-щенники. Более того, в некоторых протестантских деноминациях те-перь существуют даже женщины-епископы.
О чем же свидетельствуют такие изменения в традиционном слу-жении женщин? Об отклонении от церковного Предания или же о сво-еобразной коррекции, порой весьма неудачной, но все-таки попытке вернуться к истокам христианства?
Давайте попробуем выяснить, может ли женщина быть священ-ником, и хотя бы отчасти разберемся с женским служением в Церкви.
Апостол Павел о женщинах
Существенную роль в формировании традиционного для христиан-ства взгляда на женщин сыграли послания ап. Павла. Поэтому начнем наше исследование с размышления над одним из таких текстов:
«Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и держите предания
так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос,
жене глава — муж, а Христу глава — Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою голо-
вою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророче-ствующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене стыдно быть остриженной или об-ритой, пусть покрывается.
Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею, для Ангелов. Впро-чем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; все же — от Бога.
Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то
97
это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала?
А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии» (1 Кор. 11: 1–16).
О чем говорит этот текст?
Традиционный комментарий, который в том или ином виде можно найти в разных источниках, легко подытоживается словами свт. Иоан-на Златоуста: «Мужу и жене дано много различных знаков, одному — власти, а другой — подчиненности, между прочим, и тот, чтобы жена покрывалась, а муж был с обнаженной головой. Покрытие есть знак покорности и подчинения; оно побуждает смотреть вниз, смиряться и пребывать в послушании. Мужу не предписывается это делать, так как он — образ самого Владыки»4.
В комментариях к «брюссельской» Библии написано: «Здесь про-является зависимость Павла от нравов его времени, вследствие чего эти заключения относительны»5.
Как же нам следует понимать слова апостола?
«Вы все мое помните и держите предания так, как я передал вам»
Отметим, что речь идет о церковном Предании. Следовательно, то, о чем говорит апостол — это не просто его личное мнение или обычай того времени, но Предание, учение Церкви, содержащее Божественное откровение6. Оно, конечно, связано с определенными обычаями, но на этом нельзя останавливаться. За ними надо уметь распознавать само Откровение. Иначе все Писание может превратиться в «описание обы-чаев того времени».
Затем апостол выстраивает четкую иерархию:«Всякому мужу глава — Христос, жене глава — муж, Христу гла-
ва — Бог».Мы не станем комментировать эти слова сразу, в отрыве от по-
следующего текста. К ним мы обязательно вернемся, а пока заметим, что греческое слово «κεφαλη» во многих языках, как и в русском языке,
4 Свт. Иоанн Златоуст. Беседа 26 на 1 Послание к Коринфянам.5 Библия, «Жизнь с Богом». Брюссель, 1989. Комментарий на 1 Кор. 1–16.6 Заметим, что в латинском тексте Вульгаты и в древнесирийском тексте
Пешитты здесь стоит слово, означающее «заповеди».
98
имеет двойной смысл: голова и глава, начало. Сделаем еще одно пред-варительное замечание: то, что в синодальном переводе обозначено словами «муж» и «жена» в греческом тексте, скорее, означает «мужчи-на» и «женщина».
Обратимся к дальнейшему тексту:«4 Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою го-
ловою, постыжает свою голову. 5 И всякая жена, молящаяся или про-рочествующая с открытою головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была обритая».
Из последующего текста станет ясно, что мужчина мо-жет молиться с непокрытой головой потому, что он ее стри-жет, ибо «если муж растит волосы, то это бесчестье для него» (1 Кор. 11:14).
Отметим еще раз, что здесь речь идет не просто об обычаях давно минувших дней. Ибо апостол говорит о Предании, основанном на от-кровении. А раз так, то и сказанное должно относиться к христианам всех времен и народов, а это, в свою очередь, означает, что здесь затро-нута символика. Почему?
Да потому, что передача откровения невозможна без символов. Ибо откровение дает представление о том, что человек не может по-стичь сам, исходя из собственного опыта и возможностей. И здесь на помощь приходит язык символов, когда какое-то понятие или предмет из видимого, осязаемого, понятного человеку мира ставит-ся в соответствие с понятием из мира невидимого. И тогда в при-сутствии конкретного, видимого предмета человек получает доступ к невидимой реальности, символизируемой этим предметом. Так, например, елей (масло) становится символом Святого Духа, а по-мазание елеем — означает освящение, схождение Святого Духа. Таким образом, символ становится своеобразным мостиком, свя-зывающим видимый мир с миром невидимым; мостиком, по кото-рому можно перейти на ту сторону. Это хорошо соответствует эти-мологии греческого слова «συμβολον», которое означает буквально: «соединить вместе».
В данном тексте затронута символика волос. Причем она связана, скорее, с чем-то отрицательным, ибо мужчина должен волосы стричь, а женщина — покрывать. И что очень важно — все это относится ко времени общинного богослужения, когда все вместе молятся или про-рочествуют.
При этом выявляется различие между мужчинами и женщинами: если мужчина может волосы стричь и не стыдиться (для него бесче-стье отпускать волосы), то почему-то для женщины бесчестье быть остриженной.
Как же все это может быть связано с символикой волос?
99
В нашу задачу не входит подробное изучение этой сложной и многоплановой символики7. Но чтобы найти ответ на поставленный вопрос, мы просто воспользуемся одним из ее древнейших значе-ний: издревле волосы символизировали жизненную силу человека, связанную с мощью земной природы. Тогда ответ может быть таким: поскольку речь идет о молитве или о пророчестве, т. е. об очень тес-ном общении с Богом, то для этого необходимо отстраниться от всего земного. Вспомним призывы к молитве во время Божественной ли-тургии: «Горé имеем сердца» или «всякое ныне житейское отложи́м попечение». Поступая иначе, мы или отвлечемся или начнем молить-ся земным богам. Избавление от волос или их сокрытие под покры-валом символически может отражать отречение от земного. Правда, пока непонятно, почему мужчина должен волосы стричь, а женщи-на — покрывать.
Перейдем к следующим стихам:«7 Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть об-
раз и слава Божия, а жена есть слава мужа. 8 Ибо не муж от жены, но жена от мужа; 9 и не муж создан для жены, но жена для мужа».
Тут мы имеем целый ряд координирующих выражений, которые отсылают нас к началу Библии, к рассказу о сотворении человека. И здесь мы сталкиваемся с неожиданной проблемой. Дело в том, что в Библии сотворение человека описано дважды.
Первый раз в конце шестого дня творения:«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27).Здесь человек сотворен как единство мужского и женского8. Он
пока еще не разделен на Адама и Еву, и в тексте на иврите человек — это Адам. Следовательно, эту цитату можно переписать так:
«И сотворил Бог Адама по образу Своему, по образу Божию сот-ворил его; мужское и женское сотворил их».
Именно к этому сотворению обращается апостол, говоря, что муж (мужчина) есть образ и слава Божия, так как тут упоминается коорди-нирующее выражение «образ Божий».
Дальше речь идет о женщине: «жена есть слава мужа». И апостол добавляет: «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». Здесь уже под-разумевается второе описание сотворения человека. В этом втором рассказе все выглядит иначе: сначала Бог создает человека (Адама) из праха земного и вдувает в него дыхание жизни, затем из ребра, взято-
7 Подробнее об этом, например, см. Chevalier J, Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles. Jupiter, Paris, 1982.
8 Этот библейский стих можно перевести иначе: «мужское и женское сот-ворил их».
100
го у человека, Бог создает женщину (см. Быт. 2:7–25). Теперь человек предстает как мужчина и женщина (как Адам и Ева).
О том, как согласовать два этих рассказа, существует множество предположений. Мы не станем анализировать это море литературы, а только отметим, что, исходя из текста Писания, в первом рассказе со-творение человека связано с его богоподобием, а во втором отражена связь человека с землей: он создан «из праха земного».
В первом рассказе, где говорится о богоподобии, человек описан как единство мужского и женского. Во втором рассказе, когда Бог созда-ет человека «из праха земного», мы видим разделение человека на муж-чину и женщину. И поскольку речь идет об одном и том же сотворении9, только описанном по-разному, то перед нами возникают два фундамен-тальных аспекта человека: будучи образом Божиим, человек являет со-бой единство мужского и женского, но, будучи погруженным в стихию земного, чувственного мира, являет их различие10.
Теперь уточним библейское понятие «слава». На иврите суще-ствует три слова, которые в Ветхом Завете переведены как «слава». Это слово «кавод», которое происходит от глагола, означающего «быть тяжелым», и всегда относится к «славе Бога», связанной с Его при-сутствием11. Два других слова: «тиферет» и «ход» означают, скорее, красоту, величие. Обычно они употребляются тогда, когда говорится об одеянии священников или, например, о передаче славы от Моисея Иисусу Навину12.
Поскольку в тексте ап. Павла понятие «слава» относится не только к Богу, но и к мужчине и женщине13, то здесь это слово, вероятнее все-го, означает красоту, величие, а не присутствие Божие.
Тогда попробуем перечитать 7 стих:«Мужчина (Адам) не должен покрывать голову потому, что он
олицетворяет единство человека в его богоподобии, являя тем самым красоту Своего Творца.
Женщина, созданная из ребра Адама, олицетворяет собою разли-чие в человеке, являя тем самым красоту человека».
Запомним это и пойдем дальше. Далее апостол говорит:«Жена должна иметь на голове своей знак власти над нею, для
Ангелов».
9 Мы следуем святоотеческой традиции и не рассматриваем представле-ния о том, что здесь описаны сотворения двух разных людей (например, Ада-ма Кадмона и Адама Афара).
10 См. Froger J.-F., Mouret M.-G. Chemins de connaissance. Edition Desiris, 1990.11 Например, слава Господня наполняла Иерусалимский храм (см. 3 Цар. 8: 10–11).12 См. Числ. 27: 20.13 В 15 стихе в греческом тексте сказано, что волосы — это слава женщины.
101
Это не совсем точный перевод. В греческом тексте сказано букваль-но: «Должна женщина иметь власть на голове из-за ангелов». Сложность восприятия этого утверждения связана с употреблением предлога «из-за» (диа). Текст можно понять по-разному. Например: «женщина долж-на иметь на голове знак власти, получаемой от ангелов» или «женщина должна иметь на голове знак власти, которая ее защищает от ангелов». Пока мы оставим эти слова без комментария.
Читаем далее: «13 Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокры-
тою головою? 14 Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, 15 но если жена растит волосы, для нее это честь (точнее, слава. — А.Д.), так как волосы даны ей вместо покрывала?»
Здесь происходит возвращение к теме, связанной с символикой волос. Напомню, что мы остановились на вопросе о том, почему муж-чина должен стричь волосы, а женщина — покрывать?
Теперь апостол говорит, что женщина не может стричь волосы, потому что они — ее слава. Как это понимать?
Думается, что у женщины есть несколько символических причин не стричь волосы.
Первая заключается в том, что волосы, как утверждает апостол, — это ее слава, т. е. красота. Иными словами, это конкретное проявление красоты человека, явленной в женщине.
А теперь вспомним, что женщина олицетворяет собою различие в человеке: это она была взята от Адама. До нее различие не было явле-но, ибо в Адаме существовало и мужское и женское.
Согласно Библии, такое различие связано с сотворением человека из «праха земного», т. е. с его земной составляющей. И поскольку воло-сы символически связаны с земной природой, с ее жизненной силой, то для женщины нет нужды их стричь, потому что она олицетворяет различие, проявляющееся в человеке, когда он погружен в этот мир. Здесь ее волосы являются символом власти человека над землей, об-ладать которой он и был поставлен (см. Быт 1: 28).
Окончание 15 стиха приводит к некоторому замешательству: за-чем женщине покрывало, если «волосы даны ей вместо покрывала»? Непонимание возникает от того, что в русском языке слова «покры-тый» и «покрывало» — однокоренные, и потому оказываются связан-ными друг с другом. Греческое слово, переведенное как «покрывало», означает, скорее, не головной убор, а одежду.
Итак, волосы — это еще и одеяние женщины. А одежда в Библии всегда связана с личностью того, кто ее носит. Помните, когда Елисей просит у пророка Илии духа, почившего на нем, то Илия отдает ему свою милоть, т. е. свой плащ, свою верхнюю одежду (см. 4 Цар. 2:9–13).
102
Таким образом, апостол еще раз подчеркивает, что волосы — это необходимая принадлежность женщины.
Но как же быть с мужчиной?
Апостол утверждает, что мужчина должен стричь волосы, ибо если он «растит волосы, то это бесчестье для него». Может быть, это нужно делать для того, чтобы отличаться своим видом от жен-щины? Может быть, поэтому ему и не нужно покрывать голову? Однако как это согласовать со словами апостола о том, что муж-чина не должен покрывать голову потому, что он олицетворяет единство человека в его богоподобии, являя тем самым красоту Своего Творца?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся к иерархии, вы-строенной апостолом в начале текста. Ее мы расположим в следующем порядке:
«Жене — глава муж, мужу — глава Христос, Христу — глава Бог».В своих рассуждениях семиты всегда шли от конкретного. Что-
бы следовать их логике, используем самое простое значение слова «κεφαλη» — голова. Это позволит наглядно изобразить иерархию в виде простой схемы14 (см. с. 103).
Несмотря на такое примитивное изображение, не забудем, что перед нами схема апостола Павла: голова женщины — мужчина; го-лова мужчины — Христос; голова Христа — Бог. У женщины голова покрыта.
В этой схеме все символично, и покрывало, конечно же, тоже яв-ляется символом. Символом чего? В нашем земном мире покрывало — это, прежде всего, если можно так выразиться, защитная оболочка. Оно предохраняет от того, что находится снаружи, например, от солн-ца, дождя или холода.
А теперь вспомним одно из толкований 10-го стиха: «женщина должна иметь на голове знак власти, которая защищает ее от ангелов». Действительно, ангелы бывают разные, например падшие. С одним из них Ева уже как-то вступила в переговоры. А ведь, исходя из схемы, женщине не нужно обращаться к кому-либо снаружи: она все несет в себе. Все, что необходимо, находится внутри нее: и мужчина и даже Бог. Женщина является своего рода вместилищем, она призвана вына-шивать плод, который находится внутри нее. Само имя «Ева» означает «Жизнь», она становится «матерью всех живущих» (Быт. 3:20). И этим
14 Схема взята из книги: Froger J.-F., Mouret M.-G. Chemins de connaissance. P. 157.
104
плодом может быть не только человек, но и Богочеловек. Поэтому в истории человечества есть только одна Женщина, которая до конца исполнила свое предназначение. Это — Дева Мария, Матерь Божия.
Таким образом, покрывало является еще и символом женщины: ведь она и есть своего рода защитная «оболочка», которая предохра-няет вынашиваемый внутри плод.
Но самое, пожалуй, интересное связано с тем, что эта простая схема дает ответ на вопрос о том, почему мужчина не должен покры-вать свою голову. Если покрыть символическую голову мужчины, изо-браженного на этой схеме, то окажется, что покрывало отделит его от женщины. А ведь, как мы выяснили, мужчина призван олицетворять единство мужского и женского. Следовательно, если он являет образ и славу Божию, то он должен иметь непокрытую голову.
Конечно, приведенная схема и соответствующие ей рассуждения не исчерпывают целиком смысла слов ап. Павла. Безусловно, тради-ционный комментарий, говорящий о подчинении женщины мужчине, тоже отражает сказанное апостолом. Однако не стоит преувеличивать или выделять только этот аспект сказанного. Ибо здесь речь идет не столько об иерархии подчинения, сколько о способе спасения падшего человека. Откуда это следует?
Схема 2
105
Иерусалимский храм
Ответ на этот вопрос оказывается несколько неожиданным, ибо здесь мы сталкиваемся с интересной антропологией первохристиан. Она не похожа на привычную для нас святоотеческую антропологию, в которой человек представлен в единстве духа, души и тела. Антропология ап. Павла имеет библейскую ветхозаветную основу, переосмысленную в свете искупитель-ного служения Иисуса Христа. Что позволяет сделать такой вывод?
Дело в том, что схема ап. Павла напоминает схему Иерусалимского храма. И именно с Иерусалимским храмом Иисус Христос сравнил Свое Тело, когда произнес загадочные слова: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2:19). Ученики поняли смысл сказанного только после смерти и воскресения Спасителя, поэтому ап. Иоанн добавил по-сле этих слов, что «Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2:21). Эта тема развивается в посланиях ап. Павла, в частности, когда он пишет ефеся-нам: вы — «свои Богу, возведенные на основании Апостолов и пророков, а камень краеугольный — Иисус Христос, на котором все строение <…> вырастает в храм святой в Господе» (Еф. 2:19–22). У ап. Павла мы встре-чаем также представление о Церкви как о Теле Христовом: «Тело Хри-стово — есть Церковь» (Кол. 1:24), христиане все вместе — «тело Хри-стово» (1 Кор. 12:27), а «Христос глава Церкви» (Еф. 5:23).
Следовательно, Храм имеет непосредственное отношение не толь-ко к искупительному подвигу Иисуса Христа, но и к устройству Церк-ви. Поэтому, давайте, рассмотрим схему Иерусалимского храма, кото-рую упрощенно можно изобразить следующим образом (см. с. 104).
Построенный по образцу Скинии, описание которой было дано Моисею на горе Синай, Иерусалимский Храм знаменовал собою при-сутствие Бога среди Его народа. Храм был предназначен только для на-рода Израиля, т. е. для тех, кто поклонялся Единому Истинному Богу: всем остальным доступ туда был запрещен под страхом смерти.
Из схемы видно, что основной храмовый комплекс состоял из двух частей: Святилища и двора. Каждая из них, в свою очередь, дели-лась на две части: Святилище — на Святое и Святое Святых, двор — на двор женщин и двор мужчин. Двор женщин занимал самую первую (восточную) часть двора, проходить далее им было запрещено. За по-рядком внимательно следили левиты.
Затем следовал двор израильтян (мужчин). В этом дворе приносили жерт-вы, именно там заколали и сжигали жертвенных животных. Жертвоприноше-ния совершали священники, но мужчины иногда принимали в них участие. Например, им было разрешено самим заколать пасхальных агнцев15.
15 Иногда «во дворе израильтян» выделяют т. н. «двор священников». Мы опускаем это деление, ибо мужчины могли входить во «двор священников».
106
Далее начиналось Святилище. Только священники и левиты мог-ли находиться в его первой части — во Святом. Но во Святое Святых мог входить лишь один первосвященник.
Зачем нужна была эта система запретов?
Всем верующим, наверное, знакомо утверждение о том, что человек принадлежит двум реальностям (двум мирам, двум измерениям). Хри-стиане упоминают их в Символе веры: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Земная реальность, доступная человеческим чувствам, называется чув-ственной или видимой, в отличие от другой реальности, которую назы-вают сверхчувственной или невидимой (небесной, духовной).
С момента грехопадения это невидимое, небесное измерение ста-ло почти недоступным для человека. Как же теперь человеку попасть в недоступное для его чувств измерение? Что нужно сделать, чтобы увидеть невидимое?
Прежде всего, нужно быть уверенным в его существовании. «Вера же есть уверенность в невидимом», — говорится в Послании к Евре-ям (Ев. 11:1). Будучи уверенным в существовании невидимого, можно пойти от обратного, и видимое назначить невидимым, полагая опре-деленный запрет.
Запрет характерен для всего сакрального, освященного, ибо освя-щение — это, в первую очередь, отделение16. Например, освящение суб-боты связано с запретом на работу, который отделяет субботу от других дней недели. И поскольку язычникам вход был запрещен на всю терри-торию Храма, то и весь храмовый комплекс представлял собой сакраль-ное пространство. Однако сакральное — не означает невидимое. Запрет делает из видимого предмета символ, а уже символ позволяет человеку проникнуть в мир, недоступный для его пяти чувств. Запрет на прибли-жение к какому-то месту, на вхождение на определенную территорию, запрет на прикосновение к определенным предметам помогает челове-ку осознать и даже почувствовать реальное существование невидимого мира, несмотря на то, что он невидим.
Схема Храма содержит четыре пространства, отделенных друг от друга, и, соответственно, три границы их разделяющие. Одной из них была та, которая проходила между Святилищем и двором. Она раз-деляла Храмовый комплекс на две территории. Именно здесь прохо-дило деление по признаку видимое и невидимое («земное» и «небес-ное»). Двор, в котором собиралась вся община Израиля (и мужчины и
16 Святой — «кадош» — на иврите буквально означает «отделенный».
107
женщины), еще находился в земном, видимом измерении. Но внутрь Святилища не проникал даже взор мужчин и женщин, стоявших во дворе. Входить в него могли только священники и левиты. И действия, совершаемые священниками во время жертвоприношений во дворе, и служение в Святилище обозначались разными терминами и обладали разной степенью значимости. Поэтому само Святилище, будучи по-строено на земле, для верующих иудеев находилось еще и в невиди-мом, небесном измерении.
Особо отметим, что священники и левиты, имевшие доступ внутрь Святилища, были отделены от остального народа Израиля — и по свое-му происхождению, и по своему посвящению, и по своему одеянию, и по ряду запретов, которые они соблюдали на время богослужений. Та-ким образом, они сами становились своего рода символами.
Усиление запретов соответствовало степени сакральности каждой последующей части храмового комплекса. В самой сакральной его ча-сти — во Святая Святых — согласно представлениям иудеев, пребывала Слава Божия, Его Шехина, Его присутствие. Степень сакральности это-го помещения была такова, что в него уже никто не мог входить, кроме первосвященника, да и то только один раз в год, в день Освящения (Йом Кипур). Здесь посреди двух херувимов ковчега17 Сам Бог открывался че-ловеку (см. Исх. 25:22; 29:42; 30:36). На иврите Святое Святых называ-лось еще Давир, что означает «Слово». Таким образом, в Давире должно было происходить непосредственное общение человека с Богом.
Храм и Человек
Итак, Святое Святых было предназначено для встречи человека с Богом, все Святилище принадлежало невидимой реальности, а двор Святилища напоминал находящимся в нем о том, что видимая реальность — лишь преддверие реальности невидимой. Символы связывали эти реальности, соединяя предметы или понятия видимого мира с предметами или по-нятиями мира невидимого. Таким образом, храмовый комплекс отражал полноту сотворенного мира: видимую его часть и невидимую.
После грехопадения общение человека с Богом стало весьма за-труднительным. Этому способствовало постоянное греховное состоя-ние человека. Из Ветхого Завета нам известны те меры предосторож-ности и те стадии очищения, которые следовало пройти, чтобы войти в Его присутствие. Более того, к этому был допущен лишь один пред-ставитель всего народа Божия — первосвященник. Но и он имел та-кую возможность только раз в году.
17 Во Втором храме ковчег отсутствовал.
108
Еще раз подчеркнем этот контраст: народ и священники молятся Богу по несколько раз в день, а Он только раз в году и только перво-священнику позволяет войти в Свое присутствие.
В Послании к Евреям хорошо показано, что такая форма обще-ния человека с Богом отражала несовершенное, греховное состояние человека, ибо главный атрибут этого состояния — смерть — остава-лась неодолимой, несмотря ни на какие молитвы и жертвоприноше-ния18. Чтобы не скатиться окончательно в греховную бездну, богоиз-бранный народ поддерживал существующее состояние постоянными заместительными жертвоприношениями. Их смысл состоял в том, чтобы регулярно напоминать человеку о его греховности и о смерти, как о неизбежном следствии этой греховности19.
Собственно вся схема Храма символически представляла со-бой образ некоего обобщенного человека, своего рода Адама, пы-тающегося вернуться в состояние общения с Богом, в Его присут-ствие. В видимом, земном измерении его составляли мужчины и женщины, собранные во дворе Храма, в невидимом — священники и первосвященник.
А теперь вернемся к иерархии, выстроенной ап. Павлом в 1 По-слании к Коринфянам:
«Жене — глава муж, мужу — глава Христос, Христу — глава Бог».
Чтобы эта цепь подчинений действительно привела к Богу, не-обходимо, чтобы в ней не существовало того разрыва, который был в Иерусалимском Храме между первосвященником и Богом. А это воз-можно лишь в том случае, если служение первосвященника возьмет на себя не человек, а Богочеловек, в Котором «обитает вся полнота Боже-ства телесно» (Кол. 2:9). Ибо разрыв между человеком и Богом преодо-левается во Христе.
Следовательно, выстраивая эту иерархию, апостол показывает, что Христос возвращает падшего человека в постоянное общение с Богом. Как же первохристиане описывают это искупительное дей-ствие?
18 «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов» (Ев. 10:1–2).
19 Грех обрекает человека на смерть, но человек предает смерти животное, не подлежащее осуждению, которое лежит на человеке. Он проливает перед Богом кровь этой жертвы, т. е. ее жизнь, взамен своей собственной жизни, осужденной Богом на смерть.
109
Христос Первосвященник
Вернемся к Иерусалимскому храму. Мы выяснили, что того общения с Богом, к которому человек был призван и которое он имел до грехо-падения, в Храме не происходило. Оно и не могло произойти, ибо для этого нужен был другой первосвященник.
В Послании к Евреям показано, почему таким Первосвященником мог быть только Иисус Христос:
«Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и со-вершеннейшею скиниею, нерукотворенною, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и при-обрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче (тем более. — А.Д.) Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непороч-ного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сде-ланных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное» (Ев. 9:11–15).
Из текста следует, 1) что Христос является Первосвященником Скинии более совер-
шенной, чем Храм;2) что Он вошел в Ее Святая Святых однажды и навеки;3) что Он вошел туда с собственной Кровью, а не с кровью тельцов и
козлов;4) что в отличие от любого первосвященника Он был непорочен;5) что жертва Его была совершена Духом Святым;6) что Он стал ходатаем (т. е. посредником) нового завета, навеки осво-
бодив человека от наследия преступлений и дел, ведущих к смерти. Обратим также внимание на уникальность, единственность
первосвященника в ветхозаветных установлениях: первосвященник всегда один, двух первосвященников быть не может. Но, тем не менее, история Ветхого Завета знает много первосвященников, ибо все они были смертны. Поэтому и сам Храм и все, что там происходило, было несовершенным. Следовательно, только победивший смерть Христос может быть истинным и всегда единственным Первосвященником.
Но каким же образом Первосвященник Христос возвращает пад-шего человека в общение с Богом, вводит его во Святая Святых совер-шенной Скинии?
Здесь мы возвращаемся к представлению ап. Павла о Церкви как о Теле Христовом: «Тело Христово — есть Церковь» (Кол. 1:24), хри-стиане все вместе — «тело Христово» (1 Кор. 12:27), а «Христос глава Церкви» (Еф. 5:23).
110
Согласно первохристианским представлениям, во Святое Святых Христос вводит всю Церковь, именно поэтому в момент смерти Христа храмовая завеса, отделявшая Святое Святых от остального храмового комплекса, раздирается сверху донизу (см.: Мф. 27:51; Мк. 15:38).
Церковь, представленная схемой ап. Павла, заменяет Храм и пред-стает в виде женщин, мужчин и главы Церкви единственного Перво-священника Иисуса Христа. Если сравнить ее в таком виде со схемой Храма, то возникает вопрос: куда исчезли священники?
Вопрос оказывается не праздным, ибо «во всех списках даров и служений ап. Павла нет указаний ни на харизму священства, ни на слу-жения священства, ни на лиц, которые облечены этими служениями»20. Более того, «эту забывчивость разделяют с ним все новозаветные писания»21. Единственное священство, о котором говорится в Новом Завете (кроме Первосвященства Христа) — это «святое и царственное священство» всех христиан (см. 1 Пет. 2:5–9), ибо Христос «соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему» (Откр. 1:6; 5:10). На осно-ве этого выдающийся православный богослов Николай Афанасьев де-лает вывод: «в Церкви, когда Церковь служит Богу, все — священники и все — имеют священническую харизму, а потому ап. Павлу не было необходимости говорить об этом служении, которым облечены все верные»22. Ибо теперь «весь новозаветный народ служит Богу не в огра-де храма, а в самом святилище, в котором он весь находится»23.
«Странствующая Церковь»
Но если все христиане — священники, то почему в Церкви существует т.н. профессиональное24 священство?
Профессиональное священство тесно связано с иерархической структурой Церкви и восходит к апостольским временам, ибо апо-стольское преемство неотделимо от священнического рукоположе-ния25. При этом трехстепенная иерархическая структура Церкви весь-ма напоминает ветхозаветную храмовую иерархию: епископ — пер-восвященника, священник — священника, диакон — левита. Нет ли здесь своего рода возврата к Ветхому Завету?
20 Афанасьев Н. Церковь Духа Святого // http://www.golubinski.ru/ecclesia/ecclesiacont.htm
21 Там же. 22 Там же. 23 Там же. 24 Его еще называют «институциональным», «таинственным» или «особым».25 Здесь мы не рассматриваем протестантские деноминации.
111
С точки зрения священнодействий во время главного христиан-ского таинства — Евхаристии — никакого возврата нет. Ибо как епи-скоп, так и священник приносят одну и ту же Жертву, претворяя при участии лаиков26 хлеб и вино в Тело и Кровь Христовы. Здесь мы всегда имеем одного Первосвященника — Христа. Поэтому папы, патриархи, епископы и священники оказываются на одном уровне.
Другое дело — иерархия власти, связанная с пребыванием Церк-ви в этом мире. Тут, конечно, епископ стоит выше священника. У него есть власть рукополагать священников и т. д. И здесь мы действительно имеем определенное сходство с Ветхим Заветом, ибо, будучи не от мира сего, пока еще находимся в мире сем. Эта особенность «странствующей Церкви»27 позволяет объяснить многое в христианской жизни.
Мы уже упоминали о том, что человек принадлежит двум реально-стям: видимой и невидимой. Возвращение человека в полноценное обще-ние с Богом связано с реальностью невидимой, с «совершенной Скинией», во Святое Святых которой Христос вводит Свою Церковь. Как известно из Откровения Иоанна Богослова, на небе, в невидимой реальности со-вершается постоянная Литургия хвалы и «благодарения (Евхаристии) Сидящему на престоле, Живущему во веки веков» (Откр. 4:9).
И хотя этот прорыв в «совершенную Скинию» уже произошел в мо-мент смерти Иисуса Христа, человечество продолжает оставаться в зем-ной реальности, пребывающей в греховном состоянии. С воплощением Иисуса Христа невидимый мир стал ближе и доступнее, однако разделе-ние между видимым миром и невидимым все еще сохраняется.
Такое состояние, которое можно охарактеризовать как «уже да», но «еще нет», хорошо сформулировано в «Заповедях блаженства», где сосуществуют два времени — настоящее и будущее (Мф. 5:3–11):
«Блаженны (уже) нищие духом, ибо их (уже) есть Царство Небесное.Блаженны (уже) плачущие, ибо они утешатся (в будущем).Блаженны (уже) кроткие, ибо они наследуют землю (в будущем). Блаженны (уже) алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся
(в будущем). Блаженны (уже) милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны (уже) чистые сердцем, ибо они Бога узрят (в будущем). Блаженны (уже) миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.
26 Лаик — от лаос (народ). Согласно евхаристической экклезиологии Ни-колая Афанасьева царственное священство всего народа Божьего проявляет-ся в сослужении с епископом.
27 Так называется Церковь земная, которая «не имеет здесь постоянного града» (Евр. 13:14) и находится в пути (см.: Послание восточных патриархов. О православной вере, чл. 10).
112
Блаженны (уже) изгнанные за правду, ибо их (уже) есть Царство Небесное».
О том же самом говорится и в первой молитве евхаристического канона: «…и не отступил еси вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и Царство даровал еси будущее…»28, — т. е. уже даровал будущее Царство.
Все мы, члены народа Божьего, уже возведены на небо, где в небес-ной, «совершенной Скинии» служим вместе с херувимами («иже хе-рувимы тайно образующе29…»), но… мы так же все еще пребываем на грешной земле. А следовательно, мы не можем являть в полноте наше царственное священство. Это, в свою очередь, приводит к тому, что церковному собранию необходим священник-предстоятель30.
«Царственное священство — это образ христианской жизни, а профессиональное священство — это форма существования Церк-ви», — утверждает прот. Александр Шмеман31. «Форма существования „странствующей Церкви“, погруженной в стихии мира сего», — мо-жем добавить мы. Поэтому на земле до ее полного преображения, до воскресения человека, когда в нем будет окончательно восстановлен образ Божий32, будут необходимы и профессиональные священники. Или другими словами: здесь, на земле, до ее полного преображения человек не может являть в полноте свою природу, которая, как сле-дует из библейской антропологии, состоит из мужского, женского и священнического начала.
Итак, будучи возведенными на небо, мы уже здесь, на земле, мо-жем являть наше царственное священство («уже да»). Однако пребыва-ние в мире сем («еще нет») ведет к необходимости профессионального священства. Именно это обстоятельство — пребывание в мире сем — роднит с ветхозаветным священника новозаветного, который, несмо-тря на все отличия, по-прежнему является своего рода символом для остальных членов народа Божия, ибо в мире сем по-прежнему сохраня-
28 «…и неотступно делал все, доколе на небо нас не возвел и не даровал нам Царство Твое будущее» (Литургия св. Иоанна Златоуста).
29 «Мы, таинственно херувимов изображающие…». А херувимы — это и есть «исполненные очей» шестикрылые существа, которые служат Литургию «Сидящему на престоле» (см. Откр. 4:6–9).
30 «Без предстоятелей церковное собрание обратилось бы в беспорядоч-ную массу. <…> Харизму предстоятельства имели только те, кто к этому был особо призван Богом и кто был Им поставлен на это служение. <…> Управ-ление было функцией предстоятельства. <…> Через управление сохранялся строй и порядок в церковном теле» (Афанасьев Н. Церковь Духа Святого).
31 Шмеман А. Водою и Духом. Гл. 3. Раздел 5.32 «Когда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы
на небесах» (Мк. 12:25).
113
ется разделение между видимым и невидимым. Здесь мы вплотную под-ходим к вопросу о том, почему женщина не может быть священником-предстоятелем, несмотря на свое царственное священство33.
Почему женщина не может быть священником?34
Мы выяснили, что, говоря о профессиональном священстве, мы по-падаем в сферу непреображенного мира («еще нет») и, следовательно, перед нами встает все та же ветхозаветная проблема: как из мира ви-димого попасть в мир невидимый? И поскольку мы говорим о священ-стве, то это означает, что речь идет о неземной, невидимой реальности, в которой должно проявляться богоподобие человека. Но в каком же качестве или, точнее, в каком виде земной человек сегодня может на-ходиться в этой реальности?
Мы выяснили, что человек, будучи образом Божиим, олицетво-ряет собой мужское и женское начала в их единстве. Однако, будучи погруженным в стихию земного мира, человек разделен и предстает либо как мужчина, либо как женщина.
Это различие в человеке, находящимся в земном измерении, оли-цетворяет женщина, которая была взята от мужчины и тем самым сделала это различие явным. Поэтому она не может олицетворять человека-Адама в единстве его богоподобия. Но мужчина, от которого была взята женщина, при определенных условиях может олицетво-рять человека-Адама в его богоподобии35. Точнее было бы сказать, что на земле только мужчина может быть метонимией36 Адама.
Следовательно, женщина не может быть священником, ибо она олицетворяет человека в земной, видимой реальности. Но и мужчи-на не может быть священником, ибо в невидимой реальности человек, как мы выяснили, един (он и мужское и женское). Поэтому священ-ником может стать такой мужчина, из которого сделан символ, т. е. освященный, «сакрализованный» мужчина. Для сакрализации не-обходимо специальное освящение: в данном случае рукоположение. Но кроме этого еще необходим запрет. Какой же запрет необходим
33 Напомним, что это запрещают церковные каноны. Например, XI пра-вило Лаодикийского собора (середина IV в.), которое гласит: «Не должно по-ставлять в церкви так именуемых пресвитерид».
34 Здесь и далее, говоря о священстве женщины, мы не имеем ввиду ее царственное священство, а исключительно священство-предстоятельство.
35 Здесь можно привести интересную аналогию из биологии: у мужчины есть два типа хромосом X и Y, а у женщины только X-хромосомы.
36 Метонимия — употребление слова в переносном значении, когда часть может обозначать целое.
114
мужчине, чтобы стать священником? Конечно же, запрет быть мужчи-ной. Только тогда он может стать символом человека-Адама и сможет представлять и мужчину, и женщину в невидимой реальности.
Этот запрет, существовавший еще во времена ветхозаветного священства, сохраняется и в христианстве: перед исполнением своих священнических обязанностей священник должен воздерживаться от отношений со своей женой.
Отсюда мы имеем сразу несколько следствий. Во-первых, ста-новится понятным происхождение такой важной составляющей ев-харистического поста как воздержание от супружеских отношений перед Причастием. Ибо евхаристический пост — это подготовка каждого члена народа Божия к его священническому участию в Бо-жественной литургии, которая совершается не только на земле, но и на небе («Иже херувимы тайно образующе…»)37. Во-вторых, стано-вится ясно, почему католические священники вынуждены прино-сить обет безбрачия: в католичестве со временем Месса становится ежедневной.
Итак, мы выяснили, что в «странствующей Церкви» женщина не может нести служение священника-предстоятеля. После воскресения, когда образ Божий будет полностью восстановлен в человеке, каждый человек сможет в полноте реализовать свое священство. Но в этом мире, мире разделения на мужчин и женщин, и в силу этого разделе-ния только мужчина, да и то при определенных условиях может оли-цетворять, выражать, представлять человека в полноте его природы.
Какое же служение может нести женщина? Попробуем ответить на этот вопрос, исходя из современных пред-
ставлений о служении женщин в ранней Церкви.
Женское служение в ранней Церкви
Попытки представить себе жизнь самых первых христиан всегда стал-кивались с недостатком информации об этом периоде времени. Поэто-му самая простая классификация женских служений в ранней Церкви сводится к перечислению того, что о них известно из христианской литературы первых веков. Уже из Нового Завета следует, что в ран-ней Церкви были женщины-пророчицы (Деян. 21:9; 1 Кор. 11:5), ста-рицы (Тит. 2:2–3), вдовы (Деян. 9:39; 1 Кор. 7:8; 1 Тим. 5:3–16), девицы (Деян. 21:9; 1 Кор. 7:33–34) и диаконисы (Рим. 16:1). Небезынтересно существование в Иоппии женской общины, в которой вдовы занима-лись изготовлением одежды (см. Деян. 9:36–42).
37 В этом проявляется царственное священство каждого члена народа Божия.
115
Некоторые женские служения зачастую объединялись в одном лице (например, девицы и пророчицы, см.: Деян. 21:9), но, к сожале-нию, нам неясно, в чем именно состояли сами служения. К IV в. кар-тина повседневной христианской жизни начинает проясняться, но вся беда заключается в том, что зарождающееся женское монашество по-глощает существовавшие в то время женские служения.
Нам неизвестно, что имел в виду ап. Павел, когда он назвал сестру Фиву «диаконисой церкви Кенхрейской» (Рим. 16:1). Однако докумен-ты свидетельствуют, что в дальнейшем диаконис выбирали из дев или вдов. Следовательно, служение диаконисы, так или иначе, оказывается связанным со служением вдов, которое в своем первоначальном виде очень быстро исчезло с исторической арены38.
Согласно сохранившимся документам, служение диаконис в основном касалось женской части христианских общин. Они готови-ли женщин к крещению, затем помогали епископу во время самого крещения, были их восприемницами, а в дальнейшем — наставница-ми39. Однако со временем и это служение постепенно стало исчезать из жизни Церкви. На Западе оно довольно быстро эволюционировало к почетному титулу настоятельницы женского монастыря, а к XII в. и в Константинопольской церкви посвящений диаконис уже не произво-дилось40.
Используя отрывочные сведения, дошедшие до нас от первых ве-ков христианства, мы видим, что вдов, девиц и диаконис объединял обет безбрачия. При этом можно предположить, что в самой ранней Церкви вдовы, девицы и, возможно, старицы составляли одну кате-горию женщин. Прежде всего потому, что арамейское слово, переве-денное на греческий язык как «вдова», означает не «жену, потерявшую мужа», а «женщину, которая не связана с мужчиной». Поэтому, напри-мер, св. Игнатий Богоносец (вторая половина I — начало II в.) обраща-ется к девственницам с несколько странным приветствием:
«Приветствую дома братьев моих с их женами и детьми, и дев-ственниц, именуемых вдовицами»41.
Кроме того в контексте христианской общины речь может идти о вдове как о «незамужней женщине, посвятившей себя Господу». Именно об этом свидетельствуют слова ап. Павла: «И женщина неза-
38 Уже Ориген пишет о вдовах только в связи с толкованиями апостольских посланий, относящихся к ушедшей эпохе (см.: Постернак А. Женское служение в ранней христианской церкви // Материалы V Международной богословской конференции РПЦ МП «Православное учение о церковных таинствах». Мо-сква, 13–16 ноября 2007).
39 См., напр.: Апостольские Постановления, 3:15; 6:17.40 См. Постернак А. Женское служение в ранней христианской церкви.41 Св. Игнатий Богоносец. Послание к Смирнянам. Гл 13.
116
мужняя и дева заботится о Господнем, чтобы быть святой и телом и духом; а вышедшая замуж заботится о мирском, как угодить мужу»42 (1 Кор. 7:33–34).
На примере женской общины из Иоппии (см. Деян. 9:36–42) мы видим, что такие женщины могли объединяться для совместной ра-боты, что, безусловно, включало и совместную молитву. Молитвенное служение, «непрестанное предстательство за всех»43 было первой обя-занностью вдов, ибо «истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь» (1 Тим. 5:5).
Мы видим также, что Тавифа, занимавшая не последнее место в своей общине и воскрешенная ап. Петром, названа «ученицей» — тер-мином, обозначающим в книге Деяний учеников Христовых. А со-гласно обычаям и культуре того времени ученики были носителями определенного корпуса текстов, который они получали из уст учителя и запоминали наизусть44. Следовательно, молитвенное служение таких женщин включало в себя регулярное повторение как традиционных, так и сложившихся к тому времени христианских текстов и размыш-ление над ними.
Интересное наблюдение было недавно сделано при изучении от-рывка из первого Послания апостола Павла к Коринфянам на древне-сирийском языке (текст Пешитто). В синодальном переводе этот от-рывок звучит так:
«Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Хри-ста, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостольства — вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня.
Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада?» (1 Кор. 9:1–7).
Здесь ап. Павел отстаивает право на свое апостольство и, как след-ствие, право на содержание теми верующими, которым он служит. Одна-ко в этом отрывке речь идет не об одном ап. Павле. Мы хорошо знаем, что апостолы проповедовали по двое, — так их научил Сам Иисус Христос. Поэтому ап. Павел отстаивает право не на свое личное апостольское слу-жение, но на совместное с ап. Варнавой. О чем же он говорит?
42 Перевод еп. Кассиана.43 Св. Поликарп Смирнский. Послание к Филиппийцам. Гл. IV.44 Например, согласно Вавилонскому Талмуду, учитель должен четыре раза
повторять урок ученику, затем ученик должен семь раз повторять урок учителю (Шаб. 15а), кроме того, ученик должен говорить словами учителя (Мег. 7b).
117
«Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» (1 Кор. 9:4–6).
О какой «спутнице-сестре-жене» идет речь? Буквально с греческого языка этот стих можно перевести так:
«Разве не имеем власть сестру женщину водить с собой, как и осталь-ные апостолы, и братья Господа, и Кифа?»
Обыкновенно толкователи этого места вспоминают, что у Кифы (т. е. ап. Петра) была теща, а следовательно, и жена. В таком случае можно предположить, что здесь речь идет о том, что ап. Петр брал с собой на проповедь свою жену. Но так ли это важно для ап. Павла? Во-первых, ни в Писании, ни в Предании никогда не говорилось о том, что у ап. Павла была жена (равно, как и у ап. Варнавы). Зачем же ему нужно упоминание о чужой жене при отстаивании своих прав на апостоль-ское служение? И, во-вторых, ап. Павел говорит об одной женщине для себя и для Варнавы!
Последнее утверждение может показаться надуманным, однако древнесирийский текст Пешитто уточняет, что речь идет именно об одной женщине, взятой на проповедь двумя апостолами45.
Кем же могла быть эта женщина?Современные реконструкции апостольского миссионерского слу-
жения I в., основанные на изучении истории Церкви Востока, преда-ния христиан Индии, крещенных ап. Фомой, и современных находок в Китае46, приводят к интересным выводам: в свои миссии апостолы брали специально подготовленных женщин. Именно о такой женщи-не, вероятно, и упоминает в своем Послании ап. Павел. Естественно, они не проповедовали в синагогах, с которых начиналась открытая апостольская проповедь. Но они пребывали в постоянной молитве за апостолов, которые во время своей проповеди часто подвергались смертельной опасности.
Кроме этого, прибыв вместе с апостолами на место, выбранное для христианской проповеди, они собирали вокруг себя небольшую груп-пу из заинтересовавшихся женщин, с которыми проводили первона-чальное оглашение. Их задачей было подготовить место для будущей катехизации — дома, в которых эти женщины были хозяйками. Все это происходило параллельно с открытой проповедью апостолов. Когда же ряд домов оказывался подготовленным для дальнейшей работы с мест-ными жителями, обращенными в результате апостольской проповеди,
45 См. Guigain F. Exegese d’oralite. Cariscript, 2011. P. 28–29.46 См. недавно вышедшие работы P. Perrier: «Th omas fonde l’Eglise en
Chine» и «Le prince Ying et l’apôtre Th omas»; материалы Associatoin EEChO (En-jeux de l’Etude du Christianisme des Origines).
118
то в этих домах начиналась полноценная катехизация как мужчин, так и женщин, которую уже проводили апостолы или их помощники. В результате такой деятельности, продолжавшейся в течение несколь-ких лет, возникала местная Церковь, в которую апостолы, по словам св. Климента Римского, «первенцев из верующих по духовном испытании поставляли в епископы и диаконы для будущих верующих»47.
Чем же еще могли заниматься эти женщины-спутницы, с которых начиналась такая «предкатехизационная» деятельность? Как мы уже отмечали, в условиях устной культуры, носителями которой было апо-стольское поколение, люди заучивали наизусть огромное количество текстов. Для первохристиан это были как ветхозаветные, так и новые тексты, основанные на проповеди Спасителя, на осмыслении Его служе-ния, на исполнении сказанных о Нем пророчеств. Свое служение слóва несли и мужчины и женщины в соответствии с теми дарами, которыми обладали. Мужчины вели открытую проповедь, передавая христиан-ское предание «от четырех ветров, от края земли до края неба». Их слу-жение требовало мужества, оно было связано с постоянным риском для жизни, часто заканчивающимся мученической смертью. Но само предание всегда оставалось в сохранности, потому что его в непрестан-ной молитве постоянно повторяли женщины, ежедневно выверяя, со-ответствует ли истине каждое произнесенное слово.
Исходя из современных реконструкций48, можно предположить, что эти женщины были Живой Памятью христианской общины. По-добно Божией Матери, они хранили предание в своем сердце и в отли-чие от апостолов вели очень незаметную жизнь. Скорее всего, именно этих женщин и называли «вдовами». Возможно, это был основной тер-мин, определявший женское служение в ранней Церкви.
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в ранне-христианской литературе вдову часто сравнивали с «жертвенником»49. В Библии жертвенник всегда символизирует Божественное присут-ствие, особую милость, оказанную Богом50. Это место, посвященное Богу и освященное Им51. Поэтому вдова, будучи «незамужней женщи-
47 Св. Климент Римский. Первое Послание к Коринфянам. Гл. 42.48 В первую очередь, мы имеем в виду работы P. Perrier и F. Guigain.49 См.: Св. Поликарп Смирнский. Послание к Филиппийцам. Гл. IV. Апо-
стольские Постановления, 2:26; 3:6; 3:7.50 Например, Авраам ставил жертвенники на тех местах, где ему являлся
Господь (см. Быт. 12:7; 13:18 и т. д.). Более того, согласно иудейскому преданию на том месте, где Господь когда-то не принял жертву Авраама, заменив ее на овна, в дальнейшем располагалось Святое Святых Иерусалимского храма.
51 Посвященное — означает святое, отделенное для Бога. Освящение, вы-ражаемое зримым образом, например, в помазании елеем, — отражает схожде-ние Святого Духа Божия (см. Быт. 28:18; Исх. 29:36–37; 40:9; 1 Цар. 16:17 и т. д.).
119
ной, посвятившей себя Господу», т. е. особым образом отделенной от других людей, оказывалась, подобно жертвеннику, сугубым вместили-щем Святого Духа.
Здесь мы снова возвращаемся к библейской антропологии. Мы уже отмечали, что единственной в истории человечества Женщиной, кото-рая стала вместилищем Святого Духа настолько, что воплотила в себе Бога, является Божия Матерь. И этим Она до конца исполнила свое предназначение. Более того, Богородица стала «первой человеческой ипостасью, осуществившей в Себе конечную цель, ради которой был создан мир»52. Поэтому, будучи «Началом Церкви прославленной»53, началом человечества, полностью соединенного с Богом, Матерь Бо-жия является образом и началом Церкви. «Церковь, как и Богороди-ца, приемлет Святого Духа, действием Которого рождается Христос, а также приводятся в мир чада нового во Христе человечества»54.
Теперь, давайте, попробуем подвести некоторый итог всему ска-занному и постараемся определить, каким образом в этом земном мире и мужчины и женщины могут по-своему являть дарованное им царственное священство.
Мы выяснили, что в этом мире только мужчина может быть священником-предстоятелем. Мужчина должен по образу Первосвя-щенника Иисуса Христа приносить самого себя в жертву, присоединя-ясь к Жертве Христовой и свидетельствуя о Ней, вплоть до мучениче-ской кончины, если это необходимо.
А женщина должна быть жертвенником, вместилищем Святого Духа, средоточием особого Божественного присутствия, местом, в ко-тором (или вокруг которого) рождается новое человечество во Христе или сохраняется во времена гонений. Ибо во времена гонений, когда мир сей являет полноту своей падшей природы, призвание и мужчин и женщин раскрывается особенно ярко. Так было во времена ранней Церкви и ее первых мучеников, так происходило совсем недавно, а кое-где происходит и сейчас.
Таким образом, освящение жертвенника означало, во-первых, отделение его от всего сотворенного (посвящение) и, во-вторых, схождение на него Святого Духа.
52 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 147.
53 Выражение св. Григория Паламы (цит. по: Лосский В.Н. Очерк мистиче-ского богословия Восточной Церкви. С. 147).
54 Итоговый документ Межправославной богословской консультации «Место женщины в Православной Церкви и вопрос о хиротонии женщин». Встреча православных богословов, обсуждавших эту тему, проходила в пери-од времени с 30 октября по 7 ноября 1988 г. на острове Родос в Греции.
120
Таким образом, мужчина типологически связан с Новым Ада-мом — Христом, а женщина с Новой Евой — Богородицей, имеющей особые отношения со Святым Духом55. Такая типология есть данность домостроительства спасения. Она не содержит ничего умаляющего достоинства ни мужчины, ни женщины. Исходя из этой типологии можно оценить, насколько любое служение в Церкви (как мужское, так и женское) соответствует плану Божественного спасения рода че-ловеческого, и найти ответы на те вопросы, которые сегодня встают перед Церковью в этой области.
55 Об этом еще раз свидетельствует интересное сравнение, дошедшее до нас от ранней Церкви: «А диакон пусть предстоит епископу, как Христос Отцу. <…> А диаконису чтите вы во образ Духа Святого…» (Ап. Пост. кн. 2:26). К этому стоит добавить, что слово «Дух» в иврите и в арамейском языке имеет женский род.