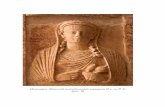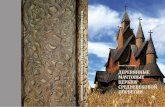Фрески церкви Евангелистрии в Гераки в контексте...
-
Upload
moscowstate -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Фрески церкви Евангелистрии в Гераки в контексте...
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
Исторический факультет
Кафедра всеобщей истории искусства
Фрески церкви Евангелистрии в Гераки в контексте византийской
монументальной живописи последней четверти XII века
Выпускная квалификационная работа
Выполнила:
Студентка IV курса д/о
Позднякова Елена Станиславовна
Научный руководитель:
к. иск. ст. преп. А.В. Захарова
Москва, 2015
1
Содержание
Аннотация. Abstract ................................................................................................... 2
Введение ..................................................................................................................... 4
От неоэллинизма к art nouveau. Терминология позднекомниновского стиля. .... 7
Историография ........................................................................................................ 11
Глава 1. Росписи церкви Евангелистрии в Гераки ............................................... 21
Глава 2. Монументальная живопись Пелопоннеса последней четверти XII в .. 36
Храм св. Софии в Монемвасии. ......................................................................... 36
Церковь Епископии на Мани. ............................................................................ 41
Церковь Зоодохос Пиги (Самарина). ............................................................... 46
Агиос Стратигос в Эпано Буларии (на Мани). ............................................... 53
Глава 3. Росписи Пелопоннеса и эволюция стиля византийской
монументальной живописи в XII в. ....................................................................... 57
Группа росписей Пелопоннеса. ......................................................................... 57
Стиль византийской монументальной живописи XII в. ............................... 60
Заключение .............................................................................................................. 75
Библиография .......................................................................................................... 78
Список иллюстраций .............................................................................................. 85
2
Аннотация
В данной работе анализируются с точки зрения их стиля
малоизученные византийские фрески церкви Евангелистрии в Гераки на
Пелопоннесе, уточняется их датировка, выявляются четыре эстетических
типа образов, присутствующие в росписи, их характеристики соотносятся с
различными аспектами позднекомниновского стиля. Важное место отведено
постановке памятника в соответствующий контекст: в первую очередь
выявляются фресковые ансамбли, соответствующие выбранным
географическим и хронологическим рамкам, при необходимости уточняются
их датировки; разрабатывается проблема стилистической общности этих
росписей и фресок Евангелистрии. Определяется место росписей группы
Пелопоннеса в художественном процессе второй половины XII в.
Исследование группы памятников, организованной вокруг эклектичной
росписи Евангелистрии углубляет наше понимание тесного взаимодействия
экспрессивной и классицизирующей тенденций в последней четверти XII в. и
путей трансформации столичного эстетического идеала в провинции.
Abstract
This paper focuses on a stylistic analysis of insufficiently studied byzantine
frescoes of the church of Evangelistria in the village Geraki in southern
Peloponnese, dating supposedly to last quarter of 12th c. As Evangelistria frescoes
lack the homogeneous quality, we define four aesthetic types or manners (basically
our concept of “type” includes both adopted stylistic and technical approach and
spiritual appearance of characters) and correlate them with different aspects of
later Comnenian style. To place Evangelistria in appropriate context, we form a
group of Peloponnesian monuments that are roughly contemporary and stylistically
related with it. We also investigate the question of stylistic unity of all those fresco
cycles and determine the place of analyzed murals in stylistic development of the
3
second half of 12th c. In conclusion, the paper sheds some new light on the still
little recognized issues of coexistence and interrelationship of expressive and
classicizing stylistic tendencies during the last quarter of 12th c. and the ways of
transformation of metropolitan stylistic trends in province.
4
Введение
Заявленная нами тема достаточно строго обозначает географические и
хронологические рамки исследования. Предметом исследования будут
расположенные в южной части Пелопоннеса (см. илл. 1) фресковые
ансамбли. Центральным памятником мы выбрали роспись Евангелистрии в
Гераки; постановке её в контекст поможет выделение группы
предположительно относящихся к тому же периоду (последней четверти XII
в.) росписей Пелопоннеса: к ним мы относим ансамбли Зоодохос Пиги в
Мессении, св. Софии в Монемвасии, Епископии и Агиос Стратигос на
полуострове Мани. В данном исследовании нам предстоит проанализировать
росписи с точки зрения их стиля, уточнить датировки памятников, приводя
более точные стилистические параллели, найти им устойчивое место в
позднекомниновском искусстве.
Нередко исследователи избегают географического подхода при
подборе контекста, однако в случае Пелопоннеса мы можем говорить о
целостности и непрерывности художественной традиции и, следовательно,
предположить (и доказать) стилистическую цельность группы росписей
Пелопоннеса. Анализ общих характеристик этих росписей будет важен для
понимания живописи второй половины XII в. в целом, как в её
классицизирующем, так и экспрессивном и маньеристическом (т.е.
декоративном) аспектах. В этой работе мы попытаемся показать на примере
группы росписей Пелопоннеса органичное сосуществование, пересечение,
взаимодействие динамической и классицизирующей тенденций в живописи
второй половины XII в. Нам предстоит обобщить опыт крупнейших
исследователей, писавших о позднекомниновском искусстве, и затем
выработать собственный взгляд на структуру художественного процесса
второй половины XII в. и положение в нём группы росписей Пелопоннеса.
Поскольку мы имеем дело с живописью византийской провинции, и
достоверно характеристики столичной живописи нам неизвестны ввиду
5
утраты памятников этого периода в самом Константинополе, перед нами
встаёт вопрос: как идентифицировать в индивидуальном стиле столичное и
провинциальное; согласно каким закономерностям провинция
преобразовывает рафинированную столичную культуру.
***
Евангелистрия в Гераки – памятник малоизученный, хотя не раз
публиковались посвящённые фрескам материалы. Неоднородный,
эклектичный, сложный для анализа стиль росписи приводил исследователей
часто к прямо противоположным выводам о его природе. Чтобы всесторонне
исследовать его, нам потребуется выработать подход, учитывающий все
разные аспекты образов Евангелистрии.
Метод, который мы используем в этом исследовании, основан на
гипотезе о сосуществовании и взаимодействии различных стилистических
течений в византийском искусстве – и, в некоторой степени, на концепции
отдельного памятника (микрокосма) как отражения художественного
процесса, к которому он принадлежит (т.е. макрокосма). Анализируя роспись
Евангелистрии, мы выявим четыре типа образов, соответствующих разным
аспектам стиля позднекомниновской живописи. То есть, нам предстоит
исследовать росписи Евангелистрии одновременно как целостный ансамбль,
и как комплекс нескольких живописных манер. Определив характер образов
в росписи Евангелистрии, мы сможем проанализировать их в контексте
живописи последней четверти ΧΙΙ в.
Важно заранее оговорить, какие критерии мы будем считать
достаточными для выделения стилистической манеры, «типа», в рамках
живописного ансамбля. Нас будут интересовать и формальные, и образные
характеристики: взаимоотношение линии и пластической моделировки, света
и тени, контура и пятна; характер образов, их внутренняя жизнь, выраженные
в них идеалы и устремления. Мы абстрагируемся от понятия «мастера»,
«руки» - поскольку часто образы разного типа будут написаны почти
6
неотличимым способом, иногда без сомнения одним человеком. Нас не будут
интересовать технологические особенности работы артели: расположенные
по соседству персонажи не всегда будут отнесены нами к одной манере.
Каждую определенную нами манеру, каждый тип образа мы
попытаемся сопоставить с основными росписями последней четверти XII в.,
найти место в развитии стиля манере как целостному явлению – но также и
совокупности манер. Таким образом, мы разовьём наше исследование от
характеристики образа к характеру художественного процесса.
7
От неоэллинизма к art nouveau. Терминология позднекомниновского стиля.
Последние десятилетия XII в. были периодом необыкновенно активной
художественной деятельности. Найденные в этот период формы и приёмы в
живописи и с их помощью достигнутая экспрессия образов глубоко
воздействуют на чувства смотрящего. В стремлении лучше понять и
объяснить комплексный феномен позднекомниновского образа и дать ему
достойное название, исследователи искали параллели в искусстве других
эпох – и находили порой крайне удачные. В этой работе мы будем
использовать подобные определения, введённые исследователями XX в., и
чтобы избежать путаницы, нам потребуется разъяснить, какие смыслы
содержатся в таких «межкультурных» понятиях.
В 20-30-е гг. П. Муратов, обратив внимание на «ритмизм и
импрессионизм эллинистической традиции», называл религиозное искусство
комниновской эпохи «неоэллинистическим», подчёркивая слияние в ней
светского и церковного.1 Период «неоэллинизма» в византийском искусстве
по Муратову продолжался до начала XIV в. О. Демус2 соединяет концепцию
наследования античной традиции в XII в. с процессом трансформации,
спиритуализации классической формы. Доминирование линии над
моделировкой, то есть «маньеристическая» тенденция, по его мнению, и
обуславливает приставку «нео-» и приводит его к замене «неоэллинизма»
или «ренессанса античности» в итоге «линейным классицизмом».
Отрицая возможность трактовки стиля второй половины XII в. как
«эллинистического», Э. Китцингер вводит понятие «динамического стиля».3
1 Муратов П.П. Ночные мысли XVII: Византийская живопись //
Возрождение. – 12.04.1928. № 1045. – С. 4. 2 Demus O. The Mosaics of Norman Sicily. - London, 1949. - Р. 417-436. 3 Kitzinger E. Byzantium and the West in the Second Half of the Twelfth Century.
Problems of Stylistic Relationships // Gesta. – 1970. – Vol. 9/2. – Р. 49-58
8
Приобретя в его работах значение термина, эта характеристика вполне точно
отражает тенденцию преобладания декоративного подхода над
натуралистическим. В силу нейтральности этого понятия, мы будем
пользоваться им для обозначения экспрессивного течения в
позднекомниновском искусстве, в противовес «классицизирующему» -
характеризующемуся в целом весомостью и пластически моделированным
объёмом фигур, цельностью и гладкостью поверхности, спокойным
достоинством образов.
Понятие «импрессионизм», введённое в византинистику, по всей
видимости, Милле 4 и Дилем 5 , связано с росписями Нерези: это (как и
импрессионизм XIX в.) подчёркнутая роль мазка, уход от сплавленной
поверхности, трепетность, мерцание красок. Условность этого термина не
вызывает сомнений – однако, поскольку он отражает особое свечение
деконструированной поверхности, им пользуется, к примеру, Джурич в
статье для XV конгресса6 и в фундаментальном исследовании балканской
монументальной живописи византийского времени7, говоря об «эллинском
по духу» классицизме Нерези.
Сложность и неоднозначность маньеризма XVI в., его переходный
характер по отношению к стилям Ренессанса и барокко, допускали
использование термина «маньеризм» относительно позднекомниновского
искусства для обозначения самых разных аспектов стиля. Стилизацию
формы в мозаиках Монреале Демус считал чертой маньеристической, тогда
4 Millet G. L’art chrétien d’Orient du milieu du XIIe au milieu du XVIe siècle // A.
Michel. Histoire de l'Art. - T. III. – Paris, 1908. - P. 951. 5 Diehl C. Manuel d’art Byzantin. – Vol. 2. - Paris, 1926. - P. 825. 6 Djuric V. La peinture murale byzantine XIIe et XIIIe siècles // Actes du ΧVe
CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. - P. 174. 7 Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация,
славянская Македония - М.: «Индрик», 2000 – C. 41.
9
как нарастание подвижности – барочной. Однако, исследуя росписи Кипра,
А. Мего 8 называет извитые, стилизованные драпировки Курбиново и
Лагудера, существующие независимо от тел, остаточными «рокайльными»
эффектами более ранней «барочной» фазы, то есть заменяет понятие
«маньеризма» – возможно, более удачным «рококо». Впоследствии термины
смешались, исследователи отказались от идеи их последовательного
возникновения, и тяжесть фигур в пространстве позволяла характеризовать
стиль как «барокко» - одновременно с признанием наличия
«маньеристической» линейной стилизации. Таким образом, в историографии
поверхностная характеристика стиля Нового времени слилась со сложными
явлениями стиля византийского.
Лирическое настроение росписи Лагудера и акцент на контурах, при
одновременном уменьшении количества внутренних графических разделок,
способствовали присвоению ей (и Курбинову) Демусом 9 ярлыка «art
nouveau» взамен «рококо».
Мурики 10 , отмечая приблизительное совпадение по времени
динамического и «элегантного» (Лагудера, Евангелистрия), более
столичного, направлений, также использует для «элегантного» стиля ярлык
«art nouveau», приписывая различия между этими направлениями местной
провинциальной традиции.
8 Megaw A. Twelfth century frescoes in Cyprus // Actes du XIIe CIEB, Ochride,
1961. - Beograd, 1964. - P. 265-266; Megaw A., Hawkins E. The church of the
Holy Apostles at Perachorio, Cyprus, and its frescoes // DOP – 1962. – Vol. 16 –
P. 348. 9 Demus O. The Mosaics of San Marco in Venice – Vol. 1. – Chicago&London,
1984. - P. 288. 10 Mouriki D. Stylistic trends in monumental painting of Greece during the
eleventh and twelfth centuries // DOP - 1980/1981. – Vol. 34/35 - P. 114-116.
10
На наш взгляд, строгий, эпистемологический подход позволяет
полноценно использовать для средневековой культуры термины, связанные с
искусством Нового времени, только на определённом уровне абстракции,
которого наше исследование не достигает. Тем не менее, говоря о
позднекомниновской монументальной живописи в целом, мы будем
применять термины «динамический стиль», «маньеризм» и
«импрессионизм» в значении, введённом исследователями XX в.
11
Историография
Разрабатывая проблему южных провинций в позднекомниновском
искусстве в целом, мы оказываемся, поначалу, потеряны в бездонном море
научных исследований. Об искусстве второй половины XII в. написано
множество работ, однако, в большинстве своём – это обобщающие, сквозные
исследования, организованные вокруг проблемы так называемого
«позднекомниновского маньеризма». Почти каждый исследователь в
введении к своей работе постулирует: не сохранилось ни одного
константинопольского памятника этого периода, поэтому необходимо как-то
приблизиться к пониманию того, каким было это искусство.
Подводя итог большому этапу своей исследовательской деятельности
в предисловии к книге «Le temps des Anges» (2005), куда включены статьи об
искусстве второй половины XII в., Лидия Адерманн-Мизгиш называет
признаки динамического стиля – экспрессивность, подвижность черт,
напряжённое взаимодействие графики и пластики - общими признаками
позднекомниновского искусства, отмечая в последнем абзаце, что иногда
художники «предпочитали живописные эффекты, чтобы передать объём,
особенно в моделировке ликов. <…> Эта тенденция, более классическая,
восторжествовала в XIII веке.» 11 В этом предисловии ёмко отражена
историографическая тенденция считать, что динамический стиль совершенно
вытеснил любые другие стилистические течения, разрушил их целостность и,
установившись во второй половине XII в., полностью определял собой
характер позднекомниновской культуры. Росписям же классицизирующим
нередко оставляется место «инкрустаций», почти необъяснимых отклонений
от магистральной линии динамического стиля. Значительная сохранность и
11 Hadermann-Misguich L. Le temps des Anges. Recueil d'études sur la peinture
byzantine du XIIe siècle, ses antécédents, son rayonnement. - Bruxelles, 2005. - P.
21.
12
изученность памятников динамического стиля естественно ведёт к таким
выводам. Не стоит забывать также, что все точно датирующиеся росписи
второй половины века – Нерези (1164), Курбиново (1191), Лагудера (1192), –
безупречно вписываются в определение динамического стиля.
В статьях Адерманн-Мизгиш (196512, 197913) рассуждение о живописи
второй половины XII в. организовано вокруг стилей Нерези и Курбинова;
рассматривается только периферия: Македония, Сицилия, Кипр;
классификация памятников основана на степени напряжённости
взаимодействия между линией и объёмом. Тот же признак, взаимоотношение
моделировки и линии, считает одним из важнейших В. Джурич в своей
статье для XV конгресса.14 Несколько спорный социологический подход,
соотнесение стиля росписей с происхождением заказчика из
аристократической или монастырской среды, 15 приводит у Джурича к
неожиданным группировкам по «колористическому» и «пластическому»
(основанному на контрасте пробелов и притенений) подходу. Тем не менее,
он приходит к нескольким важным для нас гипотезам: относит роспись
Евангелистрии к «умеренной традиции третьей четверти XII в.» и с этой же
12 Hadermann-Misguich L. Tendances expressives et recherches ornamentales dans
la peinture byzantine de la seconde moitié du XIIe siècle // Byzantion. – 1965. –
Vol. 35. - P. 429-448. 13 Hadermann-Misguich L. La peinture monumentale tardo-comnene et ses
prolongements au XIIIe siecle // Actes du ΧVe CIEB, Athènes 1976. – Athènes,
1979. – P. 225-284. 14 Djuric V. La peinture murale byzantine XIIe et XIIIe siècles // Actes du ΧVe
CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. - P. 159-252. 15 Что напоминает, в эскизной форме, марксистско-ленинскую диалектику:
независимое существование эстетически различного искусства (упадочного и
прогрессивного) у разных социальных классов.
13
традицией соотносит росписи Агиос Стратигос на Мани и Дмитриевского
собора во Владимире.16
В целом, мы можем говорить о большом влиянии на исследователей
книги Ксингопулоса17 (1955) о роли Фессалоник в развитии «македонской»
школы живописи (расцвет которой относится к палеологовскому периоду),
где он обращает внимание на появление в XII в. первых признаков сочетания
реализма и «линейного декоративизма» в росписях греческой и славянской
Македонии.
Обширный труд С. Томекович (1984) 18 завершил формирование
понятия «маньеризма», очертил круг важнейших памятников стиля. Это
работа почти монографическая, организованная строго вокруг проблемы
признаков и происхождения динамического стиля, посвящённая только
одной тенденции, замкнутой группе памятников. Появление этой работы, на
наш взгляд, также служит в некоторой степени знаком признания
динамического стиля основным для культуры 1164-1204 гг.
Однако, целенаправленное обращение к классицизирующим росписям
изменяет взгляд на развитие стиля. На наш взгляд, поворотным моментом в
византинистике мы можем считать 1985 г. – появление совместного труда19
А. Каждана и Э. Уортон-Эпстейн, посвященного, по большей части,
бытованию античной традиции в византийской культуре. После 1985 г.
мысль об абсолютном преобладании динамики в искусстве второй половины
XII в. навсегда потеряла статус аксиомы.
16 Djuric, V. La peinture murale… P.176. 17 Xyngopoulos, A. Thessalonique et la peinture macédonienne - Athènes, 1955. 18 Tomeković, S. Le “maniérisme” dans l’art mural à Byzance: 1164-1204 - Paris,
1984. 19 Kazhdan, A., Wharton-Epstein, A. Change in byzantine culture in the eleventh
and twelfth centuries - London, 1985.
14
Монографические работы Е. Цигаридаса о фресках Осиос Давид
(1986)20 и М. Панайотиди о росписи Панагии Космосотиры в Феррах (1989)21
организованы уже иначе, чем более ранние исследования.
Показательна эволюция подхода Панайотиди: тогда как в ранней своей
обзорной статье о церквях Гераки и Монемвасии (1975) 22 она считает
роспись св. Софии в Монемвасии памятником середины XIII в. из-за её
нетипичности, несовпадения с признаками динамического стиля, но при этом
– несомненного столичного качества, в статье о росписи Панагии
Космосотиры она очерчивает небольшой круг классицизирующих
памятников 80-х гг. XII в. (росписи Бачковской костницы, пещерного
комплекса Вардзии и, наконец, св. Софии в Монемвасии) и намечает, хотя и
ещё очень разрозненно, развитие классицизирующей тенденции
позднекомниновского стиля. Цигаридас, ставя в контекст роспись Осиос
Давид в Фессалониках, вычленяет два попеременно берущих верх течения:
динамическое, склонное к плоскостности (Нерези, церковь св. Николая
Каснициса, Джурджеви Ступови, фрагменты росписи трапезной в Ватопеде,
Старая Ладога) и классицизирующее, предпочитающее баланс выраженного
объёма и комниновской графической разделки (Хортиатис, Евангелистрия в
Гераки, Дмитриевский собор во Владимире, Самарина, Осиос Давид).
Важной характеристикой его классификации можно считать тезис о
реакционности классицизирующего стиля по отношению к динамическому.
20 Tsigaridas E. Οι τοιχογραφιες της µονης Λατοµου Θεσσαλονικης και η
βιζαντινη ζογραφικη τον 12ον αιωνα - Thessaloniki, 1986. 21 Panayotidi M. The wall-paintings in the church of the Virgin Kosmosoteira at
Ferai (Vira) and the stylistic trends in the 12th century painting // Byzantinische
Forschungen. – 1989. – Vol. 14. – P. 459-484. 22 Panayotidi M. Les églises de Géraki et de Monemvasie // CorsiRav – 1975. –
Vol. 22. – P. 333-355.
15
Совершенно особый случай представляют раздел о стилистическом
своеобразии в книге О. Демуса о мозаиках норманнской Сицилии (1949)23 и
статья Д. Мурики, верной последовательницы Демуса, посвящённая
стилистическим тенденциям в монументальной живописи Греции XI-XII вв.
(1981). 24 Как мы уже упоминали, созданная во многом благодаря
австрийским и немецким византинистам классификация, соотносящая
аспекты позднекомниновского стиля с явлениями в искусстве Нового
времени, позволила иначе взглянуть на ход развития художественного
процесса. Тогда как в работе Демуса для нашего исследования была наиболее
важна концепция увеличения роли светов вплоть до принятия ими
формообразующей функции, в работе Д. Мурики явления
позднекомниновского стиля группируются, последовательно наделяются
подходящими терминами и поднимается проблема воздействия местной
традиции на столичный стиль. Хотя исследовательница относит
Евангелистрию и Мегару к тому же стилистическому направлению «art
nouveau», что и Лагудера, Д. Мурики подчёркивает: они «отражают
столичные модели более верно по сравнению с провинциальными работами
«динамического» стиля».25
В статье О.С. Поповой26 о месте росписей Дмитриевского собора во
Владимире в монументальной живописи XII в. (заключительной в этом
разделе, но далеко не последней по своей важности для нашего
исследования) описаны сложные взаимопроникновения разных
23 Demus O. The Mosaics… 24 Mouriki D. Stylistic trends in monumental painting of Greece during the
eleventh and twelfth centuries // DOP - 1980/1981. – Vol. 34/35 - P. 77-124. 25 Mouriki D. Stylistic trends… P. 115. 26 Попова О. С. Фрески Дмитриевского собора во Владимире и византийская
живопись XII в. — Дмитриевский собор. К 800-летию создания. - М., 1997. -
С. 93–118.
16
стилистических тенденций и значительность классицизирующего
направления для развития позднекомниновского стиля.
Примыкает к ней статья М. Гринберг о фресках церкви свв.
Бессребреников в Кастории: анализируя работу трёх мастеров, автор
приходит к выводу, что «классические и уравновешенные» 27 по стилю
росписи нартекса принадлежат к стилистическому течению,
существовавшему параллельно с «динамическим» стилем и не
прерывавшемуся в течение второй половины XII в.
***
Центральным памятником для этой работы мы выбрали церковь
Евангелистрии в Гераки, как по причине наибольшей сохранности
красочного слоя, так и благодаря стилистической неоднородности росписи,
отражающей сразу несколько художественных тенденций. Стилистическое
своеобразие фресок Евангелистрии привлекало многих исследователей.
Однако, мы не найдём ни одной действительно монографической работы о
памятнике, кроме подробной публикации в обзоре Мутцопулоса и
Деметрокаллеса 28 , в которойавторы подробно описывают, но почти не
анализируют росписи, и останавливаются на (спорной) датировке XIII в.
Остальные исследователи рассматривали Евангелистрию только в
комплексе с другими памятниками, по территориальному или
хронологическому принципу. Исследования нередко абсолютно
противоречат друг другу как в вопросах датировки, так и относительно
стилистических характеристик. Так, мы уже упоминали, что Джурич
27 Гринберг М. Фрески церкви свв. Бессребреников в Кастории. Проблемы
стиля // Лазаревские чтения. - М., 2009. - C. 121-138. 28 Μουτσόπουλος Ν., Δηµητροκάλλης Γ. Γεράκι. Οι εκκλήσιες του οικισµού -
Thessaloniki, 1981. - Σ. 83-136.
17
отмечает в росписи преобладание пластической моделировки над линией29,
тогда как Панайотиди, напротив, подчёркивает большую роль графического
начала – и преобладание декоративизма над классицизмом. 30 Этим
противоречиям, на наш взгляд, способствует стилистическая неоднородность
росписи.
***
Значительный пласт работ, так или иначе затрагивающих выбранные
нами для исследования памятники Пелопоннеса, посвящён вопросам
средневизантийской иконографии. В силу неполной сохранности
живописного слоя, росписи редко рассматривались с точки зрения
индивидуального стиля, упоминания их в литературе по большей части
связаны с новыми обобщающими исследованиями элементов
иконографической программы византийского храма. Программам куполов с
середины VI в. по 1204 г. посвящена книга Гьолеса (1990),31 декорации
предалтарных сводов – труд Мантаса (2001),32 литургической композиции
Мелизмос – работа Константиниди (2008). 33 Однако, в более ранних
исследованиях анализ иконографии был неразрывен с описанием стиля
(сколь бы кратким и абстрактным оно ни было) – примером могут служить
29 Djurić V. La peinture murale… P.176. 30 Panayotidi, M. The wall-paintings… P. 469-70. 31 Γκιολές Ν. Ο βυζαντηνός τρούλλος και το εικονογραφικό του πρόγραµµα
(Μέσα 6ου αι. – 1204) -Αθήνα, 1990. 32 Μάντας Α. Το εικονογραφικό πρόγραµµα του ιερού βήµατος των
µεσοβυζαντινών ναών της Ελλάδας (843-1204). - Αθήνα, 2001. 33 Κωνσταντινίδη Χ. Ο Μελισµός. Οι συλλειτουργούντες ιεράρχες και οι άγγελοι
διάκονοι µπροστά στην αγία τράπεζα µε τα τίµια δώρα η τον ευχαριστιακό
Χριστό. – Θεσσαλονίκη, 2008.
18
работы Григориаду,34 посвящённые Самарине, или дважды издававшийся
обзор церквей Мани.35
Упомянутая уже ранняя работа М. Панайотиди о церквях Гераки и
Монемвасии и небольшие статьи М. Панайотиди36 и С. Калописси-Верти37
для каталога музейного комплекса Мани (2005) имеют обзорный характер,
исключающий тщательный разбор художественных особенностей отдельного
памятника. Тем не менее, отметим, что в современной историографии
прослеживаются в эскизной форме выводы, к которым мы приходим в этой
работе, поэтому эти статьи очень важны. Поставленная нами проблема
стилистической цельности группы росписей Пелопоннеса последней
четверти XII в. никогда раньше не поднималась в литературе, напротив,
рассматривался каждый памятник в отдельности, и нередко находящиеся
неподалёку друг от друга и без сомнения почти одновременные росписи
относились к разным направлениям. Тем не менее, современные попытки
пересмотреть эволюцию позднекомниновского искусства, перегруппировать
памятники, включить провинциальные росписи в соответствующий контекст
34 Grigoriadou L. Peintures murales de 12e siècle en Grèce - Paris, 1968;
Grigoriadou-Cabagnols L. Le décor peint de l'église de Samari en Messenie //
Cahiers Archéologiques. – 1970. – Vol. 20. – P. 177-196. 35 Δρανδάκης Ν. Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης - Αθήνα, 1964; idem.
Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης - Αθήνα, 1995. 36 Panayotidi M. Monumental painting in the churches of Mani – a means of
expression and communication // Tales of religious faith in Mani - Athens, 2005. -
P. 85-98. 37 Kalopissi-Verti S. Patrons and craftsmen in Mani during the Byzantine and Post-
Byzantine period // Tales of religious faith in Mani - Athens, 2005. - P. 99-110.
19
отражены в статьях для музейного комплекса Мани. 38 Подобную задачу
ставит перед собой и наше небольшое исследование.
***
Исследуя проблему преобразования столичной стилистической
тенденции в провинции, вопросы взаимодействия местных и привнесённых
концепций в искусстве средневизантийского периода, мы находим у разных
исследователей39 одну и ту же обобщённую позицию: провинциализация
выражается в потере художественного качества; всякая провинция
заимствует стиль столицы и искажает, опрощает, снижает его.
Эти гипотезы не противоречивы. Действительно, обучение мастеров в
столичных художественных мастерских существенно повышало качество их
работы. Правильные пропорции фигур, точное использование линии,
многослойные плави в личном письме – признаки профессионализма
художника. Кроме того, разработанная в Константинополе,
интеллектуальном центре империи, сложная эстетическая теория была,
видимо, часто недоступна для художников из отдалённых провинций, и их
38 Западноевропейская же историография, как свидетельствует
упоминавшееся выше предисловие к книге Л. Адерманн-Мизгиш, во многом
ещё опирается на достижения середины-второй половины XX в. 39 Megaw A. Byzantine Architecture and Decoration in Cyprus: Metropolitan or
Provincial? // DOP – 1974. – Vol. 28. – P. 57-88; Skawran K.M. Peripheral
byzantine frescoes in Greece: the problem of their connections // Herrin J., Mullett
M., Otten-Froux C. Mosaic: festschrift for A.H.S. Megaw – BSA Studies. – T. 8. –
Athens, 2001. – P. 75-82; Wharton-Epstein A. Art of Empire. Painting and
architecture of the byzantine periphery. A comparative study of four provinces. –
Pennsylvania State University Press, 1988.
20
обучение ограничивалось визуальной и ремесленной практикой. Это
отражалось в первую очередь на иконографических схемах росписей.
В этой работе мы будем исследовать монументальную живопись
византийской провинции, и, поскольку мы не имеем сохранившихся
столичных образцов, перед нами встанет вопрос механизма
провинциализации стиля. Мы попытаемся показать неоднозначность этого
явления. Не всегда провинциализация выражается в снижении качества;
нередко влияние местной школы выражается в использовании особых
формальных методов, углублении и обострении определенной тенденции,
развитии её до предела или, наоборот, нивелировании.
21
Глава 1. Росписи церкви Евангелистрии в Гераки
Церковь Евангелистрии (Благовещения) в Гераки (илл. 2) находится на
юго-востоке Пелопоннеса, в 40 км от Спарты, неподалёку от Мистры.
Поселение Гераки 40 развернулось на склоне невысокого холма.
Евангелистрия была построена во второй половине XII в. и была одной из
самых значимых церквей города. Первоначально церковь была посвящена
Богородице или св. Георгию, либо имела двойное посвящение.41 Церковь
небольшая, однонефная, с куполом, одной полукруглой апсидой и нартексом,
40 История его прослеживается с позднеантичного периода (по результатам
раскопок и описанию Павсания). Средневековое название Геракион связано с
фамилией семьи («из Геракса»), получившей во второй половине XII в.
феодальную власть над регионом. Неподалёку, на узком северном склоне
невысокой горы находится выстроенная франками во время оккупации
Геракиона (в первой половине XIII в.) крепость. На западном склоне горы
вскоре возник город. После 1262 г. вместе с Мистрой и Монемвасией регион
Гераки стал снова византийским, войдя в Морейский Деспотат, а в 1460 –
был оккупирован турками. - Panayotidi, M. Les églises de Géraki et de
Monemvasie // CorsiRav – 1975. – Vol. 22. – P. 335-336.
Нужно отметить, что Геракс находится всего в нескольких километрах
севернее по побережью от Монемвасии, важного экономического центра
региона. Мы имеем все основания предполагать, что для строительства и
отделки Евангелистрии могли быть приглашены мастера из Монемвасии.
Ещё одним подтверждением для этой гипотезы служит стилистическая
общность ключевых в программе Евангелистрии образов и росписи главного
храма Монемвасии – св. Софии, который мы датируем теми же
десятилетиями. Об этом речь пойдет ниже. 41 Tomeković S. Le “maniérisme” dans l’art mural à Byzance: 1164-1204 - Paris,
1984. - P. 438.
22
опоры слиты со стенами. Зоны жертвенника и дьяконника организованы в
нишах по перпендикулярной оси апсидального свода и выделены
специфической иконографической программой. Алтарная преграда
одновременна постройке церкви, выложена из камня и расписана.
Росписи церкви выполнены вскоре после постройки (илл. 3). Не
сохранилось ни граффити, ни посвящений, в связи с которыми возможно
было бы точно датировать фрески. Исследователи, на основании
стилистических характеристик росписей, датируют их от 1170-х до первой
трети XIII в.42 Сохранилась значительная часть ансамбля. При реставрации43
была раскрыта из-под поздней записи роспись алтарной преграды,
считающаяся одновременной основному ансамблю.
Иконографическая программа 44 в целом характерна для небольших
церквей средневизантийского периода. В скуфье купола – полуфигура
Пантократора на синем фоне, инициалы расположены в маленьких
медальонах на красном фоне по сторонам от него. Вокруг Пантократора -
Поклонение ангелов: Этимасия, трон, обтянутый вышитой тканью,
расположен на восточном полюсе купола, с каждой стороны от нее по три
поклоняющихся ангела, кроме того на севере и юге – серафим и тетраморф.45
42 Подробно перечисляют исследователей, упоминавших в своей работе
Евангелистрию, Мутцопулос и Димитрокаллес в книге о церквях Гераки:
Moutsopoulos, N., Dimitrokalles, G. Γερακι. Οι εκκλησιες του οικισµου -
Thessaloniki, 1981. - Σ. 136. 43 Κουνουπιώτου Ε. Γεράκι: Συντήρησις τοιχογραφίων //Athens Annals of
Archaeology. – 1971. – Vol. 4, T. 2. - P. 154-161. 44 Tomeković S. Le “maniérisme”… - P. 438-440. 45 Тетраморф, появляющийся в составе небесных сил, предстаёт в виде
четырёхкрылого и четырёхголового существа из видения Иезекииля.
Трактуется часто как символ единства четырех Евангелий, включается в
композиции эсхатологического и литургического характера – Πανσελήνου Ν.
23
Над головами процессии надпись: Α[ΓΙΟΣ] ΑΓΙΟΣ ΑΓΙ[ΟΣ] Κ[ΥΡΙΟ]Σ
ΣΑΒΑΩΘ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΟΥ[ΡΑ]ΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΤΗΣ ΔΟΞΙΣ.46 В барабане 12
пророков: идентифицируются по надписям справа от западного проема
Софония, слева – Елисей и Даниил. По большей части сохранились только
нижние трети босоногих фигур; справа от восточного проема различается
пара украшенных туфель.
Согласно традиционной средневизантийской иконографической
схеме47, в парусах расположены Евангелисты. У Матфея в юго-восточном
парусе отсутствует подпись и сохранилась только нижняя часть фигуры, на
юго-западе находится Марк, на северо-западе Лука, на северо-востоке Иоанн.
В своде вимы – Вознесение (без фигуры Богородицы), две группы апостолов
размещены на северном и южном склонах арки. В конхе апсиды – очень
поврежденная полуфигура Оранты, ярусом ниже поклоняющиеся святители:
возле окна Иоанн Златоуст (текст его свитка поврежден и совсем
неразличим) и, вероятно, Василий Великий. По сторонам от них – еще два
неизвестных святителя, стоящих анфас. В верхнем ярусе триумфальной арки
два архангела и сильно поврежденное изображение Христа (полуфигура в
медальоне?). Ярусом ниже двухчастное Благовещение – стоящие архангел и
Богородица. В северной апсидальной нише в центре фигура Стефана дьякона
в рост, на восточной стене неизвестный святитель, на западной – св. Ефимий
с крестом. В южной нише по аналогичной схеме расположены дьякон Евпл,
неизвестный святитель и Иоанн Кущник с крестом в руках.
Τα σύµβολα των ευαγγελιστών στη βυζαντινή µνηµειακη τέχνη. Μορφή και
περιεχόµενο // ΔΧΑΕ – 1993-1994. – Vol. 17. - Σ. 79-86. 46 То есть, первые строки гимна «Свят, свят, свят Господь Саваоф». 47 Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального
искусства Византии. - М., 2001. – URL:
www.krotov.info/history/08/demus/demus02.html (дата обращения 03.02.2015)
24
На алтарной преграде слева полуфигура Богородицы с младенцем, на
западной стороне северной опоры св. Георгий в рост; на правой части
преграды Христос Пантократор с раскрытой книгой, на южной опоре
полнофигурное изображение св. Пантелеймона. 48 На тыльной стороне
темплона слева св. Афанасий, справа, вероятно, св. Николай.49
В подкупольном пространстве расположены сцены из Евангелия и одна
сцена протоевангельского цикла (Введение Марии во храм). Одиночные
фигуры занимают второй регистр стен и восточную сторону западных опор
(т.е. фланкируют люнеты северной и южной стен). В люнете южной стены
наоса Введение во храм (илл. 4), на западной стене Распятие (илл. 5), на
северной Сошествие во ад (илл. 6а,б); на северном склоне западного свода
Рождество (илл. 7), на южном – Вход в Иерусалим (илл. 8).
Из одиночных фигур Томекович с определенностью идентифицирует
немногих50. По бокам от южного люнета расположены два мученика в рост;
тот, что с восточной стороны, может быть св. Киром. Слева от южного окна
полуфигура неизвестного святителя (справа от окна живопись не
сохранилась). На опоре арки во втором регистре, прямо напротив св.
Пантелеймона алтарной преграды, находится молодой безбородый мученик в
красных одеждах с жёлтыми медальонами. В нише к западу (т.е. в южной
части «нартекса») архангел, вероятно, Михаил, по сторонам от которого (на
востоке) Иоанн Предтеча и неизвестный святой в рост. 48 Скавран, однако, считает, что это св. Дмитрий (Skawran K. M. The
development of middle byzantine fresco painting in Greece - Pretoria, 1982. - P.
168.) 49 А не зигзагообразный орнамент по типу оборотов синайских икон того же
периода, как об этом писал Хатзидакис (который, по всей видимости, имел в
виду «мраморировку» под настолпными образами – Chatzidakis M.
L'évolution de l'icone aux 11e - 13e siècles et la transformation du templon //
Actes du ΧVe CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. - P. 168.) 50 Tomeković S. Le “maniérisme”… - P. 438-440.
25
Роспись западной стены сильно пострадала, кроме части сцены в
люнете опознается только святой воин в южном углу, вероятно, св. Дмитрий.
Живопись на северной стене также повреждена, однако по сторонам от
люнета опознаются два мученика, находящийся с восточной стороны может
быть св. Лаврентием. Напротив св. Георгия в темплоне – мученик в богато
украшенных одеждах. В западной нише св. Екатерина51, по сторонам от нее
на востоке св. Кириак, а на западе неизвестный святой; справа от ниши
неизвестный святой с развернутым свитком.
***
Хотя стилистически роспись Евангелистрии неоднородна52, мы можем
обозначить общие признаки ансамбля. Роспись выполнена на глухом тёмно-
синем фоне, тусклыми песочными, винно-красными, серебристыми цветами.
В спокойном ритме лаконичных композиций на стенах размещены
правильных пропорций фигуры, со свойственными XII в. широкими
покатыми плечами и крупными сочленениями. Масштаб соразмерен
небольшому пространству, доминирует общее впечатление спокойствия и
размеренности – благодаря сдержанным движениям персонажей и почти
плоскостному восприятию тел. Ни преувеличенные жесты, ни
неестественные взвихрения драпировок не нарушают гармоничных силуэтов.
Лики типичной комниновской физиогномики – овальные, с длинными,
изящно изогнутыми книзу носами, миндалевидными глазами,
выразительными дугами бровей, - объёмно вылеплены. На санкирь
коричневого цвета плотно нанесено по центру лика желтоватое вохрение,
поверх которого положены прозрачные коричневые или, иногда, зеленоватые
51 Скавран ошибочно определяет её как св. Ирину (Skawran K. M. The
development… - P. 168) 52 Панайотиди, к примеру, приписывает фрески Евангелистрии «как
минимум двум мастерам» - Panayotidi M. Les églises… - P. 337.
26
тени. Пластическая моделировка, с легкими линиями и лессировками
пробелов, дополнена тонкой коричневой прорисовкой черт. Объёмная
моделировка преобладает здесь над линией. Волосы разработаны светлым
линейным рисунком, арабеской на фоне цветового пятна силуэта, тогда как
драпировки – длинными линиями тёмного основного тона и молочно-белыми
пятнами и штрихами по цветному фону.
Для того, чтобы подробнее описать ансамбль, нам нужно выявить
характеристики каждой сцены и каждого персонажа, и здесь мы столкнёмся с
некоторым разнообразием в манерах.
Не слишком концентрируясь на «руках» и соответствующих им
личностях художников, мы в первую очередь попытаемся выявить структуру
росписи и показать на примере различных живописных манер все аспекты
этого стиля. В сущности, те же образы и манеры, грани одного
художественного направления, мы найдём во всех сохранившихся
памятниках Пелопоннеса второй половины XII в. Кроме того, постановка
живописи Евангелистрии в соответствующий контекст поможет нам
уточнить её датировку.
***
К первой манере мы можем отнести Пантократора в скуфье купола
(илл. 9а), северо-восточного поклоняющегося ангела и серафима слева от
него (илл. 10), пророков в барабане (илл. 11), Евангелистов в парусах (илл.
12), роспись алтаря (например, образы Иоанна Кущника (илл. 13), дьякона
Евпла (илл. 14) и святителя Поликарпа Смирнского (илл. 15)) и алтарной
преграды с лицевой стороны (илл. 16), а также некоторые образы из
подкупольного пространства (молодой святой в восточном склоне северной
арки – илл. 17). Вариацией этой манеры мы также будем считать северного и
юго-восточного ангелов в куполе, по всей видимости – плохо
сохранившегося тетраморфа (илл. 18), и апостолов из сцены Вознесения
(илл. 19 а,б). Нужно заметить, что Пантократор в скуфье купола по всей
27
видимости был записан более тёмными красками с сохранением прежнего
силуэта, что сделало образ более строгим, даже грозным. На наш взгляд,
первоначальный образ Христа в куполе был близок к Пантократору Дафни
(илл. 9б), несмотря на его более обобщённый и утончённый
физиогномический тип. Схожи отрешённый взгляд53, плавный силуэт, способ
моделировки волос и складок ткани (хотя в Евангелистрии появляются
пышные манерные узлы, обрамляющие полуфигуру снизу), и
неестественность положения пальцев, держащих книгу. Мы можем говорить
о следовании ключевых образов росписи типам начала XII в.
Массивные фигуры с изящными маленькими головами развёрнуты по
поверхности, скрыты пышными складками тонких тканей. Жесты сдержанны
и спокойны, силуэты сложные, очерченные эластичными скруглёнными
контурами. Апостолы в Вознесении независимы и только составлены в
группу, не взаимодействуют ни жестами, ни взглядами. Драпировки их
одеяний сливаются в цельную, сияющую массу, в которой неразличимы уже
тела, и дробный ритм которой складывается из чередования серебристых и
розовых одеяний. Во многом это напоминает мозаики Монреале54 1180-х гг.
(илл. 20), где пробельный рисунок драпировок преобладает и над
притенениями, и даже порой над цветом, а внутренняя динамика композиций
одновременно преувеличенна и механистична. Более утончённые образы –
обе полуфигуры Христа – в куполе и на алтарной преграде, евангелисты,
поклоняющиеся ангелы в куполе, – напоминают мощные, гибкие фигуры из
Осиос Давид 55 (илл. 21 – ангел в Крещении), с их тяжёлой поступью,
53 Cormack R. Rediscovering the Christ Pantocrator at Daphni // Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes. – 2008. – Vol. 71. - P. 55-74. 54 Demus O. The Mosaics of Norman Sicily. - London, 1949. - P. 418-425. 55 Цигаридас датирует роспись третьей четвертью XII в., присоединяясь к
датировкам Джурича и Томекович; Мурики (Mouriki, D. Stylistic trends… - P.
122), однако, придерживается датировки рубежом XII-XIII вв. - Τσιγαρίδας Ε.
28
энергично проработанными одеяниями, одухотворёнными ликами. Кроме
того, поклоняющиеся ангелы сравнимы и с аналогичными образами из
церкви Кипариссиотиссы в Мегаре 1170-х гг.56 (илл. 22 а, б)
В образах святых из алтаря и подкупольного пространства мы находим
ещё один важный аспект этой манеры. Тщательно, натуралистично
написанные лики – безэмоциональны, отстранены, недоступны ни для чего
человеческого. В подробности окружающего евангелистов «интерьера»,
изощрённой отрисовке орнаментов, черт ликов, складок ткани и прядей
волос мы видим признак некоторого увлечения изображением предметного
мира, однако замкнутость тонких контуров изолирует персонажей от
окружающего их пространства фона, предотвращает всякое взаимодействие
между ними – как и внутри групп апостолов в Вознесении.
Отдельного замечания требуют молодые апостолы, крайние с западной
стороны в обеих группах Вознесения (илл. 23 а, б). На первый взгляд,
написаны они небрежнее остальных, а жест одного из них крайне
неестественен. Их исполнение, по всей видимости, - результат спешки или
работа неопытного художника, стремящегося создать образ, сравнимый с
остальными апостолами в своде. Аналогичный в целом физиогномический
тип и метод личного письма, работа тонкой кистью с жидкими пробелами –
всё указывает на желание художника сблизить их с образами «первой
манеры». Несмотря на их качественные отличия, мы не будем выделять их в
отдельный типаж.
Остальные образы написаны вполне однородно. На коричневый
санкирь последовательно положены несколько тонких, сплавленных слоёв
жёлтой охры. Тонкой кистью в уголках глаз и носа наведены прозрачные
пробела. Обводка тонкая и гибкая, тёмно-коричневая, контуры глаз и зрачки
Οι τοιχογραφίες της µονής Λατόµου Θεσσαλονίκης και η βυζαντινή ζωγραφική
τον 12ον αιώνα. - Θεσσαλονίκη, 1986. 56 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 112.
29
подчёркнуты более тёмным тоном. У евангелистов и пожилых апостолов
Вознесения поверхность ликов взрыхлена тонкими закруглёнными
движками: возрастным персонажам обыкновенно придаётся более
«экспрессивный» вид. Волнистые пряди волос обозначены тонкими
параллельными светлыми линиями. У образов этого типа мы встречаем, при
той же манере личного письма, и зеленоватую карнацию – например, у двух
молодых апостолов в Вознесении, или у святого из северной арки. Это,
видимо, дань традиции изображать разным цвет кожи молодых и старых
персонажей, но не вариация образа. Основные формы драпировок
моделированы густыми тёмными контурами; полупрозрачные
геометрической формы пятна пробелов условно обозначают объём тел, сеть
тонких линий, разбегающихся вокруг них, образуют подвижные мелкие
складки. Стоит отметить также внимание к мелкому, прихотливому
орнаменту, окружающему образы первого типа: Пантократора в куполе и
евангелистов.
***
Соответствующими второй манере мы считаем сцены в тимпанах
подкупольного пространства – Кормление Марии ангелом из Введения во
храм (илл. 4) и группу пророков из Сошествия во ад (илл. 6б), некоторых
святителей (например, св. Афанасия с тыльной стороны алтарной преграды –
илл. 24), Стефана Первомученика в северной апсидальной нише (илл. 25),
неизвестного молодого святого в восточном склоне северной арки (илл. 26),
св. Георгия на северо-восточном подкупольном столбе, и св. Екатерину (илл.
27). Это образы более полнокровные, чем те, которые относятся к первой
манере. Однако одиночные фигуры плоские, формы тела даже условно не
обозначены складками одеяний, силуэты упрощённые, геометризованные,
жесты скованные (примером может служить неестественно отведённая в
30
сторону рука с кадилом у Стефана дьякона). 57 Обрезы одеяний –
спрямлённые и неподвижные. Форма доспеха св. Георгия также не
подразумевает никакого объёма. На фоне этих пригвождённых к фону фигур
выглядят ещё более объёмными и живыми пластически моделированные
лики. Их типажи, с правильным овальным очертанием подбородка, прямой
спинкой носа, мягкими, почти естественными причёсками, напоминают
святых воинов из Нерези или Панагии Космосотиры в Феррах.58 (илл. 28)
Несколько иначе выглядят фигуры персонажей из тимпанов. В первую
очередь обращает на себя внимание их подвижность, живость жестов и
взглядов. Шея ангела неестественно вытянута, и это акцентирует его
стремление, движение в пространстве по направлению к Марии. Лик
Предтечи написан ассиметрично, как будто запечатлён разворачивающимся в
сторону зрителя. Намечается эмоциональное взаимодействие персонажей
друг с другом. Нежные взгляды Марии и ангела встречаются, пророки
переглядываются, указуют, на разные голоса рассказывают смотрящему о
событии. Стремятся к контакту даже отдельно стоящие святые: в отличие от
образов первого типа, их взгляды направлены на зрителя. Яркая чёрная
обводка глаз делает их взгляды строгими, подавляющими.
57 Стоит, однако, отметить, что шарнирное движение св. Стефана образует
своего рода два пространственных плана – руки с выпуклым суставом плеча
и плоского силуэта тела. Кроме того, инерционное движение кадила
указывает нам на движение руки – следовательно, наслоение планов друг на
друга. Этот мотив аналогичен по сути «поворачивающимся» ликам пророков
в Сошествии во ад – намёк на спиралевидное движение вокруг вертикальной
оси делает фигуру, как бы плоско ни была она передана, пространственной. 58 Panayotidi M. The wall-paintings in the church of the Virgin Kosmosoteira at
Ferai (Vira) and the stylistic trends in the 12th century painting // Byzantinische
Forschungen. – 1989. – Vol. 14. – P. 459-484.
31
Вообще, написаны образы второго типа аналогично первому: объёмно
моделированные охрой и коричневыми тенями лики подсвечены молочно-
белыми лессировками и обведены гибкой, каллиграфической линией
кофейного цвета. Однако, лики отдельно стоящих святых написаны рыхло,
текучей жидкой краской, гуще притенены, часто подцвечены блёклым
румянцем, круглыми пятнами, как в раннекомниновский период.
Одеяния святых второго типа моделированы крайне обобщённо,
овалами и треугольниками пробелов, иногда затенёнными с одной стороны.
Эти островки света выглядят вращающимися, под действием центробежной
силы они излучают заострённые складки, иногда – на груди Предтечи и на
плечах Давида в Сошествии во ад, – становятся даже спиралями (илл. 29).
Это доведённый до предела графичности подход к моделировке светом,
подавляющим тень, становящимся основной формообразующей силой. Он
был развит ещё в середине XII в. (например, в мозаиках Палатинской
капеллы в Палермо, относящихся к периоду правления Вильгельма I (1154-
1166) или Сан-Марко в Венеции середины XII в., а также в некоторых
образах Нерези) и последовательно проводился на протяжении второй
половины века: например, в росписях Панагии Космосотиры или Осиос
Давид. Аналогичный обобщённый подход мы находим и в провинциальных
памятниках конца XII в., например, на Руси – в Старой Ладоге, Аркажах,
Нередице.59
59 Фрески церкви св. Георгия в Старой Ладоге датируются последней
четвертью XII в.; Спасо-Преображенская церковь на Нередице 1199 г.;
Благовещенская в Аркажах – 1189 г. (Сарабьянов, В.Д., Смирнова, Э.С.
История древнерусской живописи - М., 2007. - С. 128.)
32
Такое представление драпировки – спирально закрученными
островками света60, – очищает и выявляет заложенную в стиле этого типа
несколько механическую оживлённость, безостановочное движение. Тому же
служит и сравнительная эмоциональность образов.
***
Своеобразный тип представляют собой три поклоняющихся ангела и
два серафима в куполе (то есть, две западных пары ангелов и серафимов и
южный ангел – илл. 30). Утрированный шаг, полупрозрачные
концентрические круги складок на одеяниях, орнаментальная трактовка
волос – в целом, они напоминают ангела первого типа. Тем не менее, их
физиогномика совершенно отличается от первой манеры. Эти ангелы
круглолицые, с длинными шеями и своеобразной двойной линией
подбородка. Их лики, с низкими лбами, небольшими глазами, почти прямой
линией бровей отличаются от типично позднекомниновских. Написаны они
тоже иначе: появляется широкий горизонтальный блик света над
переносицей, а на щеках – тёмно-красные точки, напоминающие, видимо, о
подрумянке первой половины XII в. Эти образы выглядят наивными рядом с
утончёнными ангелами первого типа. Совершенно аналогичные образы мы
встретим в росписях церкви Епископии на Мани (илл. 35). Без сомнения, они
представляют местный, провинциальный тип, возможно даже повторение
более раннего пелопоннесского образца.
***
Сцены в склонах западного свода – Рождество (илл. 7), Вход в
Иерусалим и ростовые фигуры в западном компартименте (илл. 8) написаны,
60 Аналогичный приём мы встретим впоследствии в росписи Агиос Николаос
в Монемвасии позднего XIII в. (илл. 31 в) – однако, спиральные формы там
образованы не светами, а цветными линиями, врезающимися в пятна светов.
33
очевидно, иначе, чем остальные сюжеты подкупольного пространства.
Фигуры плоские, расчерченные предельно условными арабесками пробелов
по тёмному фону – объём и структура тела никак не проработаны. Изысканно
изогнутый золотистый край мафория Марии в Рождестве существует в одной
плоскости, как будто не на объёмном теле. Линии графической разделки
только наложены сеткой на силуэт. Крупные цветовые пятна – тёплые
жёлтые, розовые и красные, – гармонично размещены на холодных
зеленоватых фонах, равномерно заполняя пространство.
Помимо того, что выбран иной физиогномический тип – суховатый
вытянутый овал лица с почти «рубленым» профилем, узким носом, прямыми
линиями бровей и миндалевидными, резко очерченными глазами с
треугольными штрихами под ними, – отличается и метод личного письма. По
светлому, чистой жёлтой охры санкирю разлито лессировочное свечение,
только вокруг глаз тронутое легким притенением. Обводки светлые,
красноватые, глаза подчёркнуты чёрной краской.
Этому типу свойственны некоторые сухость и схематичность, однако
образы не лишены эмоциональной характеристики. Редко встречающейся
деталью для сцены Рождества оказывается задумчивый, направленный прочь
и от волхвов, и от младенца взгляд Марии.61 Ангелы в левом верхнем углу
композиции оживлённо жестикулируют и переглядываются. Святые из
нижнего яруса компартимента, однако, напоминают застылостью
аскетические образы середины XI в. Внимательно и полноценно разработан в
сценах предметный мир – от животных и одежд волхвов в «Рождестве» до
пейзажа во «Входе в Иерусалим»: без сомнения, мы имеем дело с
61 Подробную библиографию относительно иконографии сюжета Рождества
в монументальной живописи средневизантийского периода даёт в своей
статье Николаидес: Nicolaïdès A. L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra,
Chypre: Etude iconographique des fresques de 1192 // DOP – 1996. – Vol. 50. – P.
71 (note 618).
34
иконографическими схемами, наследующими античным.62 Вопрос появления
этой художественной манеры в росписи Евангелистрии – тема для
отдельного исследования, и в рамках данной работы мы не можем
углубляться в происхождение стиля сюжетов в западном своде. Заметим
только, что этот стиль нетипичен для греческих росписей второй половины
XII в., однако аналогичные сложные иконографические схемы, манеру
письма, типы ликов и подобную условность передачи формы мы находим в
росписи Агиос Николаос в Монемвасии 63 (илл. 31) предположительно
позднего XIII в., поэтому ещё одной допустимой гипотезой будет добавление
живописи западного компартимента в XIII в. 64 Итак, мы ограничимся
исследованием трёх манер как аспектов позднекомниновского стиля – в
62 Нужно отметить, что художник без изменений воспользовался готовой
традиционной композицией «Рождества», которая, прямо или в зеркальном
отражении, использовалась в иконах средневизантийского периода. Кроме
того, аналогичную схему мы находим и в Осиос Давид в Фессалониках. По
всей видимости, здесь на стену была перенесена композиция иконы, и
многие стилистические характеристики этой сцены мы можем связать
именно с копированием малой формы и использованием образца чуть более
раннего стиля – предположительно, живописи середины XII в,
принадлежащей к тому же направлению, что и мозаики Чефалу или
Мартораны, и предшествующей стилю Перахорио. Так, по всей видимости
сначала были очерчены и раскрашены цветные силуэты всех персонажей, и
затем была скопирована сеть контуров и пробелов: именно поэтому и
возникает впечатление невнимания художника к структуре тела Богородицы. 63 Δρανδάκης Ν. Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο
Μονεµβασίας // ΔΧΑΕ – 1977-1979. –Vol. 9. - Σ. 35-61. 64 Хотя пока и не обнаруживается явных швов между слоями штукатурки
основного объёма и западного компартимента.
35
контексте монументальной живописи Пелопоннеса и, шире, византийской
монументальной живописи последней четверти XII в.
Проанализированные нами характеры образов этих трёх манер и
приведённые к ним параллели указывают на наиболее вероятную датировку
росписи Евангелистрии 1180-ми гг. – аналогично мозаикам Монреале или
росписи Кипариссиотиссы в Мегаре, и без сомнения почти одновременно
возникновению росписи св. Софии в Монемвасии.
36
Глава 2. Монументальная живопись Пелопоннеса последней четверти XII
века
Храм св. Софии в Монемвасии.
Город Монемвасия был основан на утёсе, выдающемся из юго-
восточного побережья Пелопоннеса, и соединённом единственным мостом с
поселением на берегу. Церковь св. Софии (илл. 32) находится на плоской
вершине горы, на акрополе Монемвасии. Храм датируется серединой XII в.,65
относится к типу с большим куполом на тромпах, имеет три апсиды, нартекс,
обходную галерею и наружную пристройку с южной стороны, относящуюся
к периоду латинского завоевания. По всей видимости, при постройке за
образец был взят кафоликон Дафни. 66 Частично сохранилось мраморное
скульптурное оформление – остатки разбитого резного темплона и несколько
капителей с антропоморфными изображениями. Первоначально храм был
посвящён Богородице Одигитрии67.
Сохранилась только небольшая часть росписи. В предалтарном своде
находится сильно осыпавшийся образ Ветхого Деньми (илл. 33) с двумя
орнаментальными медальонами по сторонам, в зените триумфальной арки
крест в медальоне, в склонах арки – ростовые фигуры святителей, взгляды
которых направлены на Ветхого Деньми (илл. 34). В нижнем ярусе
65 Panayotidi, M. Les églises de Géraki et de Monemvasie // CorsiRav – 1975. –
Vol. 22. – P. 350-354. 66 Millet, G. L'école grecque dans l'architecture byzantine - Paris, 1916. - P. 116-
117; Stikas, E. L’église byzantine de Christianou, en Triphylie (Péloponnèse), et
les autres édifices de même type - Paris, 1951. - P. 35-45; idem. Ο ναός της Αγίας
Σοφίας επί του κάστρου της Μονεµβασίας // Λακωνικαί Σπουδαί. – 1986. – Vol. 8.
- Σ. 271-376. 67 Kalligas, H. The church of Hagia Sophia at Monemvasia: its date and dedication
// ΔΧΑΕ – 1977-1979. – Vol. 4. – P. 217-221.
37
центральной апсиды и дьяконника - ростовые фигуры святителей, в
жертвеннике сцены из жития св. Николая,68 в восточных четырёх тромпах на
синем фоне желтофонные медальоны с полуфигурами мучеников с крестами
или атрибутами в руках (илл. 35). На западной стене подкупольного
пространства сохранились внушительного масштаба святители и
преподобные (илл. 36). Над входом в наос из нартекса – полуфигура
Пантократора, по всей видимости благословляющего, сильно пострадавшая
при растёсывании проёма; по сторонам от Пантократора – поклоняющиеся
ангелы в рост (илл. 37). Вход из нартекса фланкирован двумя частично
сохранившимися архангелами в украшенных одеждах и со сферами в руках.
Роспись выполнена в тёмно-охристых и разбелённых голубых тонах на
плотном ярко-синем фоне, из-за чего фигуры кажутся выпуклыми,
вырастающими из фона. По коричневому санкирю положено желтоватое
вохрение с прозрачными штрихами пробелов, иногда дополненное
лессировочной зеленоватой тенью (мученик с крестом и шкатулкой в одном
из тромпов и Пантократор над входом – нужно отметить манеру притенять
черты ликов с одной стороны зелёной, а с другой – коричневой лессировкой).
В основном, однако, лики выдержаны в тёплых тонах. Тонкая обводка
кофейно-коричневого цвета положена вольно и бегло, выходит за контуры
массы волос, оживляет гладкость плавей. Небесно-голубые (разбелённого
кобальта), розовые и цвета морской волны драпировки написаны без тёмных
контурных линий и ярких пробелов, тремя оттенками одного цвета.
68 Скавран (Skawran, K. M. The development… - P. 176) и Панайотиди
(Panayotidi, M. The wall-paintings…- P. 464) считают эти плохо различимые
сюжеты сценами из жизни св. Николая, однако в более ранней обзорной
статье Панайотиди (Panayotidi, M. Les églises … - P. 352) называет их
мариологическими. Выяснить действительное содержание росписи
жертвенника нам не удалось, поэтому мы принимаем более позднюю версию
исследовательниц.
38
Вытянутые фигуры с широкими покатыми плечами увенчаны
изящными и тщательно выписанными головами. Силуэты замкнутые и
обтекаемые, неподвижность фигур не нарушается даже жестами. Лики –
гладкие, спокойные, объёмно вылепленные, с тонкими костистыми носами,
миндалевидными, прищуренными глазами и выразительно изогнутыми
линиями бровей, придающими несколько вопрошающее выражение.
Несколько иначе выглядят поклоняющиеся ангелы в нартексе. Они не
так объёмны, более вытянутых пропорций, а их одеяниям сообщено по низу
некоторое беспокойное остаточное движение, эхо позднекомниновского
«динамизма» (илл. 38). Несмотря на многочисленные осыпи красочного слоя,
мы видим, что санкирь их ликов зеленее, а схема личного письма
обобщённее, чем в основном объёме. Тем не менее, обводка сделана в два
тона, тёмно-коричневый для основных черт, красный – для линии верхнего
века. С чуть изогнутыми носами, плавными овалами ликов, длинными шеями
и специфическим рисунком перьев, золотистыми штрихами по тёмному
фону, они напоминают нам ангелов в куполе церкви Кипариссиотиссы (в
монастыре св. Иерофея) в Мегаре69, которая предположительно датируется
1170-ми гг.70 (илл. 22 а, б)
Датировка монемвасийской росписи противоречива. На симпозиуме
1965 г. Джурич датировал росписи Монемвасии 1290-ми гг., отметив при
этом сходство их с живописью Милешева.71 (илл. 51) Признавая строгий,
69 Skawran K. M. The development… - P. 169. 70 Мурики датирует роспись Мегары второй половиной 1170-х гг. (Mouriki D.
Stylistic trends in monumental painting of Greece during the eleventh and twelfth
centuries // DOP - 1980/1981. – Vol. 34/35 - P. 112) и отмечает ее
принадлежность к одному художественному течению с Евангелистрией в
Гераки 71 Djurić V. La peinture murale serbe au XIIIe siècle // L’art byzantin du XIIIe
siècle. Symposium de Sopočani (1965). - Beograd, 1967. - P. 145.
39
лаконично написанный типаж Пантократора и продолговатые стройные
фигуры святителей чертами, свойственными живописи XII в., Панайотиди
(1975) отмечает также яркую эмоциональность образов, нехарактерные для
комниновского искусства физиогномические типы, и способ тональной
светотеневой градуировки складок, которые относит к искусству после 1200
г. Сравнивая святителей Монемвасии со святителями в руинированной
церкви Оропоса 72 (илл 39), сохранившимися фрагментами живописи в
капелле Иоанна Каливита73 в Псахне в Эвбее и росписью часовни Троицы74 в
Краниди, относящимися к 40-м гг. XIII в., Панайотиди приходит к выводу,
что роспись Монемвасии датируется тем же периодом75. Скавран76 (1982)
соглашается с этой гипотезой. Тем не менее, очевидно, что стиль росписей
второй трети XIII в. более монументальный, геометричный, фигуры
массивные и плоские, не органически вырастающие из фона, но
приставленные к нему. В статье 1989 г. Панайотиди называет фрески
Монемвасии более или менее одновременными росписям Бачковской
костницы77 (написанным после 1180 г.; илл. 40) и, особенно, пещерного
72 Χατζηδάκης Μ. Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπο // ΔΧΑΕ – 1959. – Τ. 4. -
Σ. 87-107.
Λιάπης Ι. Μεσαιωνικά µνηµεία Έυβοιας -Αθήνα, 1971. - Σ. 23-28. 74 Σωτηρίου Γ. Η Αγία Τριάς Κρανιδίου // Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών. – 1926. – Vol. 3. - Σ. 192-205; Σωτηρίου Μ. Η πρώιµος παλαιολόγειος
αναγέννησις εις τας χώρας και τας νήσους της Ἑλλάδος κατά τον 13ον αιώνα //
ΔΧΑΕ – 1964-1965. – Vol. 4. - Σ. 261. 75 Panayotidi M. Les églises … - P. 353. 76 Skawran K. M. The development… - P. 176. 77 Бакалова Э. Фрески церкви-гробницы бачковского монастыря и
византийская живопись XII века // Византия. Южные славяне и Древняя
Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В. Н. Лазарева. - М., 1973 – С.
216-234. Бакалова помещает стиль росписей костницы между стилями
40
комплекса в Вардзии78 (1184-1186; илл. 41), то есть располагает их около
1185 г.79
Нельзя не согласиться с мнением греческой исследовательницы:
росписи Монемвасии действительно относятся к тому же
иллюзионистическому направлению, что и Бачково, и Вардзия. Однако, мы
не можем принять датировку, точность которой связана со сходством с уже
датированной росписью. Оживлённые подрумянкой, цветные, рельефные
лики и плотно обнимающие тело одеяния, разлинованные тёмными линиями
по светлому фону и светлыми – по тёмному, которые мы находим в Вардзии,
создают иные образы, чем в Монемвасии. Персонажи фресок Вардзии
подвижнее, эмоциональнее, часто повествуют смотрящему, взаимодействуют
с ним, тогда как святые из Монемвасии отвлечены и погружены в светлые
мысли, пребывают в почти звенящей тишине. Среди сохранившихся
фрагментов часто встречается мотив контрастного медальона, в который
заключены, как в капсулы, полуфигуры святых или флоральные мотивы.
Перекликаются с ними, за счёт контраста светлой охры и лазурита, нимбы.
Персонажи изолированы друг от друга медальонами и непреодолимым
светоносным фоном, погружены в свою внутреннюю жизнь, не повествуют и
не взаимодействуют, а только прислушиваются. Только эта абстрактная
композиция из контрастных медальонов, распределённая в строгой связи с
архитектурой церкви, поддерживает органическую цельность ансамбля.
Нерези (1164) и Дмитриевского собора во Владимире (ок. 1195) тогда как
Мурики (Mouriki, D. Stylistic trends… - P. 99 (note 59)) соглашается с
гипотезой Гришина (Grishin A. Literary evidence for the dating of the Backovo
ossuary frescoes // Byzantine Papers. Proceedings of the First Australian Byzantine
Studies Conference – 1981. - P. 90-100) о создании росписи вскоре после
постройки костницы, то есть в последней четверти XI в.
78 Привалова, Е. Вардзия. - Тбилиси, 1982. 79 Panayotidi, M. The wall-paintings… - P. 463.
41
На основе одной стилистической тенденции последней четверти XII в.,
мы встречаем своего рода разные интерпретации духовной жизни образов.
Способность персонажей Вардзии к выражению эмоций, к движениям души,
переносит акцент с мистического, вневременного аспекта на историчность,
событийность, гибкость. Этот иной эстетический подход уже может быть
достаточным условием для отказа от строгого закрепления датировки
Монемвасии одновременно Вардзии, в середине 1180-х гг. По всей
видимости, мы можем сблизить стиль Монемвасии, с описанным нами
«первым типажом» Евангелистрии или образами ангелов из Мегары и,
соответственно, подтвердить датировку 1170-80ми гг.
Церковь Епископии на Мани.
Возле деревушки св. Георгия, в Ставри, на полуострове Мани,
расположена церковь Епископии 80 – небольшая, крестовокупольная,
трёхапсидная, с двумя опорами и двумя ионическими колоннами, с
просторным нартексом (илл. 42). Западная стена церкви, частично сложенная
из крупных кусков песчаника, приподнята на каменном цоколе. Апсиды
полукруглые, полусферический купол относится к т.н. афинскому типу81 с
рельефной аркадой. Характеристика постройки, по мнению исследователей,
позволяет датировать её периодом около 1200 г.82
80 Δρανδάκης Ν. Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης – Αθήνα, 1995. - Σ.
151-212; Skawran K. M. The development… - P. 174; Mouriki D. Stylistic
trends… - P. 113; Megaw A. Byzantine architecture in Mani // BSA – 1932-1933.
– Vol. 33. - P.150. 81 Millet G. L'école grecque… - P. 192. 82 Bouras Ch. Church Architecture in Greece around the Year 1200 // Studenica et
l'art byzantin autour de l'année 1200. – Beograd, 1988. – P. 271-278. – однако,
такая датировка спорна и, на наш взгляд, – слишком поздняя.
42
В куполе расположен Пантократор (илл. 43), окружённый
полуфигурами ангелов в медальонах, как в ансамбле Лагудера83 (1192). Его
инициалы развёрнуты перпендикулярно оси симметрии купола, ту же деталь
мы наблюдаем в Евангелистрии в Гераки. Между полуфигурами, также
аналогично надписи в куполе Евангелистрии, находится надпись: начало
гимна «Cвят, свят, свят Господь Саваоф». В барабане – восемь крупных
фигур пророков, которые идентифицируются по надписям на свитках. Из
евангелистов, располагавшихся в парусах, сохранился только Матфей. В
алтаре находятся шестнадцать святителей, всегда стоящих анфас,
полнофигурные образы или бюсты в медальонах. В проходах между
апсидами – святые дьяконы. В своде алтаря – Вознесение (илл. 44), на
западной стороне восточных опор Мандилион и Керамион, а ярусом ниже
Керамиона – частично сохранившаяся фресковая имитация иконы Христа
Антифонитиса (илл. 45). В наосе, в своде северного рукава креста находятся
Рождество (илл. 46) и Сретение, а в северном тимпане – Благовещение, в
западном своде Вход в Иерусалим (илл. 47) и Снятие с креста, в южном –
Преображение (илл. 48) и Сошествие во ад; в среднем ярусе росписи
расположены бюсты святых в медальонах, в нижнем – полнофигурные
святые воины и два архангела, выше человеческого роста. В цилиндрических
сводах западных угловых компартиментов – сцены из легенды о св. Георгии,
указывающие на то, что церковь была, вероятно, посвящена ему (илл. 49). В
сводах нартекса, среди сцен Страшного суда сохранились изображения двух
Апостолов, «зубовного скрежета», блудниц, увитых змеями, грешников (в
южном тимпане нартекса) и рыб из эпизода возвращения мёртвых землёй и
морем (илл. 50). Кроме того, в нартексе размещено Крещение, и в нижнем
ярусе – ряд святых в рост. Обращает на себя внимание небольшой масштаб
фигур по отношению к площади поверхности стен.
83 Nicolaïdès A. L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: Etude
iconographique des fresques de 1192 // DOP – 1996. – Vol. 50. – P. 1-138.
43
На холодном, приглушённо-голубом фоне выделяются написанные
разными оттенками серебристого, розового и коричневого одеяния и
песочно-золотистая карнация святых.
Исследователи располагают росписи Епископии около 1200 или в
начале XIII в. Так, Д. Мурики принимает датировку первой четвертью XIII в.,
признавая стиль Епископии более провинциальным как по отношению к
стилю Евангелистрии (сравнивая группы апостолов в Вознесении), так и к
направлению «art nouveau», самым ярким примером которого считает стиль
Лагудера.84 Драндакис приближает роспись Епископии к милешевской85
(илл. 51) и отмечает, что, поскольку появление живописи такого качества
автономно от столичных школ невозможно, роспись Епископии была
выполнена не самым талантливым константинопольским художником.86 В
недавно вышедшей обобщающей работе, Панайотиди также настаивает на
датировке началом XIII в.87
Скавран сравнивает характерные пропорции фигур и подвижность
драпировок с росписями Лагудера, Курбинова, церкви Св. Николая
Каснициса в Кастории, помещая, таким образом, Епископию в ряд
памятников динамического стиля.88 (илл. 83, 85, 87)
Действительно, во многих сценах, например, в Вознесении, мы видим
многочисленные драпировки в форме «ласточкина хвоста», характерные для
84 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 114. 85 Δρανδάκης Ν. Βυζαντινές τοιχογραφίες…- 1995. - Σ. 212. 86 Δρανδάκης Ν. Βυζαντινές τοιχογραφίες…- 1995. - Σ. 209. 87 Panayotidi M. Monumental painting in the churches of Mani – a means of
expression and communication // Tales of religious faith in Mani. - Athens, 2005. -
P. 89. 88 Skawran K. M. The development… - P. 89.
44
динамического стиля конца XII в. 89 Однако, эта самостоятельность
драпировки имеет исключительно статический характер. Складки спадают
сверху вниз, подчинённые силе земного притяжения, а не развеваются
горизонтально, как будто вслед за быстрым шагом или порывом ветра, как в
Курбиново или Лагудера. На наш взгляд, появление таких деталей говорит
только о следовании художниками некоторой моде, а не принятии и
провинциальной переработке определенного, «динамического» характера
образа. Горизонтальное движение, если мы его и встречаем, оказывается не
более чем отголоском стиля третьей четверти XII в., так же как и у ангелов в
нартексе Монемвасии. Кроме того, организованность драпировки
концентрическими тонкими линиями вокруг «островков» света,
обозначающих крупные сочленения, напоминает нам апостолов из
Вознесения, евангелиста Луку и некоторых других персонажей из
Евангелистрии.
Удлинённые мощные фигуры выглядят вполне подвижными, по
сравнению с образами Евангелистрии. Группа апостолов в Вознесении
организована непринуждённо и даже почти неритмично, второстепенные
персонажи совершенно поглощены своими действиями и ролями.
Впечатление неподвижности и своего рода церемониальности оставляют
только ключевые образы: Христа, Богородицы, святителей в алтаре.
Личное письмо аналогично уже описанной нами второй «манере»
Евангелистрии – очень схожи, к примеру, молодой святой из западного
склона северной арки из Евангелистрии и три образа Христа на восточных
опорах в Епископии. Правильной овальной формы или с чуть
выступающими скулами лики мягко, рыхло моделированы жёлтой охрой и
полупрозрачными пробелами вокруг рта и глаз по коричневому санкирю.
89 О методе передачи драпировки в памятниках «динамического» стиля, см.
Tomeković S. Le “maniérisme” dans l’art mural à Byzance: 1164-1204 - Paris,
1984. - P. 317-342.
45
Обводка преимущественно красного цвета. Почти на все лики положена
яркая растушёванная подрумянка. Часто встречается своеобразный округлый
двойной контур подбородка и горизонтальная черта белил над переносицей,
которые также присутствуют у персонажей «третьей манеры» Евангелистрии
(у некоторых ангелов в небесной Литургии в куполе). Волосы моделированы
преимущественно разделкой светлыми параллельными линиями.
Второстепенные персонажи написаны несколько проще, с круглыми
головами, короткими, иногда почти курносыми носами, примитивной
светотеневой моделировкой, иногда преувеличенно неподвижными
драпировками.
Драндакис выделил три живописных манеры: роспись основного
объёма, сцены из жизни св. Георгия и фрески в нартексе90. На наш взгляд,
росписи нартекса в целом стилистически однообразны с росписями наоса:
сравним, к примеру, пропорции и типажи обвитых змеями блудниц в
нартексе и некоторых ангелов в куполе и в сцене Вознесения. Однако, можно
идентифицировать две манеры, которые сопоставляются со вторым (в обоих
его аспектах) и третьим «типами» Евангелистрии. «Второму типу»
соответствуют крепкие, правильных пропорций и черт лица, более или менее
изящно написанные, задумчивые персонажи – Христос в куполе и на
предалтарных опорах, пророки, евангелисты, апостолы и ангелы в
Вознесении, многие ростовые фигуры святых в наосе, сцены из нартекса.
Ангелов «третьего типа» из Евангелистрии напоминают круглолицые,
подвижные, но несколько одутловатые и неуклюжие, написанные светлыми
красками, выражающие то наивное удивление, то деятельную
сосредоточенность, персонажи цикла св. Георгия или сидящие апостолы из
нартекса.
Хотя в рамках данной работы мы не можем исследовать, подтвердить
или опровергнуть дату постройки Епископии рубежом XII-XIII веков,
90 Δρανδάκης Ν. Βυζαντινές τοιχογραφίες …- 1995. - Σ. 209.
46
создающую terminus post quem для росписи, отметим только, что датировка
согласно архитектурному типу не является бесспорным методом. Мы
позволим себе предположить, независимо от данных архитектуры,
стилистическую общность росписей Евангелистрии в Гераки и Епископии,
отметив вторичность стиля Епископии, его более провинциальный
характер.91 Архаизирующей и, следовательно, вполне провинциального духа
деталью можем назвать пятна подрумянки на щеках почти всех персонажей –
приём, разработанный в первой трети XII в. Всё это позволяет предложить
датировку на основе исключительно стиля росписи – последними
десятилетиями XII в.
Церковь Зоодохос Пиги (Самарина).
В регионе Мессения на юге Пелопоннеса, в местности, называемой
Самари, находится церковь Зоодохос Пиги (Самарина), посвященная
Богоматери «Живоносный источник». Это крестовокупольное сооружение с
тремя апсидами, нартексом и двумя центрическими сводами над западными
угловыми компартиментами (илл. 52). Из двух боковых приделов сохранился
только северный. В период франкского владычества над западным фасадом
была достроена изящная звонница. Исходя из архитектурного типа храма,
Милле датирует его пределами 11-12 вв.92 Сохранилось также скульптурное
оформление – мраморный резной темплон, выполненный в так называемой
«мастерской Самарины», действовавшей в конце ΧΙΙ в.93 Основатель храма,
91 Правдоподобной также будет гипотеза о работе в Епископии художников
из той же артели, что расписывала Евангелистрию, - разумеется, уже без
руководства главного мастера, представляющего изысканный и
«маньеристичный» аспект стиля. 92 Millet, G. L'école grecque… - P. 57. 93 Πάλλας Γ. Νεότερα για το εργαστήριο γλυπτικής της Σαµαρίνας (τέλη 12ου -
αρχές 13ου αι) // ΔΧΑΕ – 2006. – Vol. 27. - Σ. 91-100.
47
служившего кафоликоном небольшого частного монастыря, 94 по всей
видимости происходил из Константинополя, или приходился родственником
столичной аристократии 95 – об этом говорят и качество живописи, и
иконографическая программа росписи, подробно разработанная,
догматичная, безо всякого драматического чувства, что, как мы приходим к
выводу, было свойственно константинопольской культуре эпохи правления
Ангелов. О программе Самарины писали многие исследователи, и наиболее
полно она зафиксирована в работах Е. Григориаду-Кабаньоль.96 В куполе
находится полуфигура Пантократора (илл. 53), от которой сохранилась
только западная часть огромного крестчатого нимба, в барабане восемь
пророков, сгруппированых попарно между четырьмя оконными проёмами.
Рядом с восточным проёмом по надписи мы идентифицируем Моисея. Из
четырёх евангелистов сохранился только Лука, в северо-восточном парусе. В
конхе алтарной апсиды – Богородица с младенцем на троне, ярусом ниже
лежащий на саване мёртвый Христос,97 фланкированный двумя серафимами
с рипидами в руках. Композиция сопровождается евхаристической
надписью. Различим только предварительный рисунок этой композиции
(илл. 54). В нижнем ярусе алтаря четыре святителя в полиставрионах,
стоящие анфас (узнаются Василий Великий и Иоанн Златоуст). В
94 На существование монастыря вокруг церкви указывают остатки пристроек,
резервуара для воды и небольшой двухъярусной кладбищенской церкви
неподалёку – Παναγιωτόπουλος Ι. και αλ.. Χριστιανική Μεσσηνία. Μνηµεία και
ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. – Αθήνα, 2010. - Σ. 180. 95 Grigoriadou-Cabagnols, L. Le décor peint de l'église de Samari en Messenie //
Cahiers Archéologiques. – 1970. – Vol. 20. – P. 178. 96 Grigoriadou, L. Peintures murales de 12e siècle en Grèce - Paris, 1968. - P. 1-68. 97 Κωνσταντινήδη Χ. Ο Μελισµός. Οι συλλειτουργούντες ιεράρχες και οι άγγελοι
διάκονοι µπροστά στην αγία τράπεζα µε τα τίµια δώρα η τον ευχαριστιακό Χριστό
– Θεσσαλονίκη, 2008. - Σ. 173.
48
провинциях центральной и южной Греции предпочитались фронтально
стоящие святители, ту же схему мы найдём и в росписях на Мани.98 Ряд
святителей продолжается на боковые стены апсиды. В жертвеннике и
дьяконнике – контуры стоящих фигур и бюсты святителей в прямоугольных
«рамках», «подвешенных на двух гвоздях», как переносные иконы, о чём
говорят кольца, изображённые на верхней границе медальонов (илл. 55).
Такую же композицию мы обнаружим в виме бачковской костницы. В
проходах между апсидами – едва различимые контуры дьяконов в рост.
Своеобразный «иконостас» образуют Богородица с младенцем (на северо-
восточной опоре) и Христос на троне в скульптурных обрамлениях, и под
ними соответственно св. Зосима и Мария Египетская, образующие в
предалтарном пространстве евхаристическую композицию (илл. 56). В наосе
полностью поврежден нижний ярус со стоящими святыми, однако узнаются
шесть из двенадцати праздничных сцен среднего яруса. В своде восточного
рукава креста Вознесение (илл. 57), Благовещение – в восточном склоне
северного свода, Сретенье (с Симеоном, держащим младенца Христа на
руках99) в западном (илл. 58). На северном склоне западного свода остатки
Входа в Иерусалим, над окном западного тимпана различимо Распятие.
Поклонение волхвов – в южном тимпане (илл. 59), Сошествие во ад – на
восточном склоне южного свода (илл. 60). В сводах западных угловых
компартиментов – медальоны с пророками (четыре в южном и восемь в
северном). В тимпанах западных компартиментов размещены маленькие
библейские сценки с евхаристическим подтекстом: клятва Авраама,
жертвоприношение Авраама, три отрока в пещи огненной.
В нартексе в центральном своде – двухчастная Пятидесятница, из
которой сохранилась только западная половина, две группы персонажей,
98 Δρανδάκης Ν. Βυζαντινες τοιχογραφιες…- 1995. 99 Подобный извод мы встречаем также, например, в росписях Кастории – в
церквях св. Николая Каснициса и св. Стефана.
49
представляющих племена и языки заполняют верхние части арки дверного
проёма нартекса (илл. 61). На боковых сторонах свода (каждый разделён на
восемь обрамлённых зон) – шестнадцать сцен Страстного цикла (илл. 62).
Различимы только несколько: молитва в Гефсиманском саду, Умывание рук,
Снятие с креста, Несение креста. Среди сохранных контурно сцен также
можно разобрать Предательство Иуды и Арест Христа.
Все исследователи, писавшие о стиле росписей Самарины, единодушно
характеризуют его как «монументальный» 100 и «классический» (Мурики,
например, говорит о замене миниатюристского комниновского подхода
монументальным). 101 Иногда, однако, отмечалось, что, как и в росписях
рубежа веков и начала XIII в. «классицизирующая» пластическая
моделировка не исключает важности графической разделки для
формирования образа102, сосуществуют «традиционные» и «прогрессивные»
черты. 103 Отсутствие драматического накала, свойственное программе
Самарины, выражено и в стиле росписи. Это цельный, торжественный стиль,
не признающий преувеличенного движения или драматической светотени,
внимательный к архитектонике поверхностей, не перегруженный деталями.
Монументальные объёмные фигуры с небольшими головами, покатыми
плечами и расширенными бёдрами, организованы в ритмичные
геометрические композиции (мы встречаем только два основных типа:
100 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 118; Grigoriadou-Cabagnols L. Le décor
peint de l'église de Samari en Messenie // Cahiers Archéologiques. – 1970. – Vol.
20. – P. 189. 101 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 118. 102 Djuric V. La peinture murale byzantine XIIe et XIIIe siècles // Actes du ΧVe
CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. - P. 182-183; Hadermann-Misguich L. La
peinture monumentale tardo-comnène et ses prolongements au XIIIe siècle // Actes
du ΧVe CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. – P.270. 103 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 118.
50
пирамидальное и фризовое построение). Пространство не имеет никакой
глубины, фоны сцен пустые или снабжены небольшими пейзажными и
архитектурными деталями, балансирующими композицию.
От других памятников Пелопоннеса этого периода роспись Самарины
отличает богатая и сложная цветовая схема. Тогда как обыкновенно мы
встречаем использование трех-четырех основных оттенков для одеяний,
здесь драпировки голубого, синего, сиреневого, фисташкового, песочного,
оранжевого, бордового – всех доступных фрескисту цветов, – переливаются
на глубоком синем фоне, часто снабженные обводкой дополнительного к
основному цвета.
Григориаду выделяет в росписи Самарины два основных принципа
личного письма, использованных с небольшими вариациями:
иллюзионистический и линеарный. Мы будем придерживаться
предложенных ею характеристик. К первому, сравнимому с фресками
Дмитриевского собора во Владимире (илл. 63), она относит, например,
святителей в дьяконнике и Богородицу из сцены Поклонения. У персонажей
этого типа по охристой основе положены прозрачные зелёные притенения,
типично комниновские черты – длинный изогнутый нос, миндалевидные
глаза, – отрисованы коричневым и тают в мягких красновато-коричневых
тенях. Пробела и разделка волос положены молочно-белыми штрихами.
Стоит добавить, что у персонажей этого типа тоньше, пышнее, тщательнее
разработаны драпировки: тонкими светами или линиями типа ассиста.
Линеарно-схематичный принцип, который Григориаду называет более
комниновским по духу, представлен, например, пророком Илией в барабане,
Симеоном в сцене Сретения и Адамом в Сошествии во ад. Эти персонажи
запечатлены в энергичном порывистом движении, их волосы растрёпаны,
искажённые лики расчерчены светлыми линиями. Два этих принципа, как
51
предполагает Григориаду, могут отражать работу двух мастеров.104 Мурики
же сравнивает сочетание линеарности и эмоциональности у Симеона
Богоприимца с аналогичным образом из Нерези и констатирует, что написан
он более спокойно и живописно.105 (илл. 64)
Стоит отметить, что святители в виме, лики которых моделированы
светлыми охрами и не имеют зелёных притенений, по всей видимости, были
ретушированы в более позднее время (с сохранением силуэта и общей
неподвижности). Помимо иной манеры написания лика, они не имеют белой
обводки нимба, присутствующей у других святителей, и их полиставрионы
очевидно ярко подновлены.106
Григориаду приходит к выводу, что росписи были выполнены в конце
XII в.107, а Мурики датирует фрески Самарины на основании сходства с
живописью Дмитриевского собора во Владимире серединой 1190-х гг.108 На
наш взгляд, можно допускать и несколько более раннюю датировку. Дело в
том, что точно датируемые поздним XII в. и вполне сохранные росписи
(Курбиново, Лагудера) демонстрируют более иконографически
разработанные, подробные композиции, наполненные мелкими деталями.
Кроме того, манеру моделировать драпировки параллельными контурами
двух дополнительных цветов мы можем считать мотивом, унаследованным
от стиля Нерези – 1160-х гг. Не отрицая сходства стиля Дмитриевского
104 Grigoriadou-Cabagnols L. La décor peint … - P. 192. Нужно заметить, что в
работе одного мастера могут встречаться образы разных характеристик,
кроме того, для византийского искусства традиционно отражать возраст или
аскетический образ жизни преувеличенной графической разделкой лика. 105 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 118. 106 Grigoriadou-Cabagnols L. La décor peint … - P. 190 (note 50). 107 Grigoriadou-Cabagnols L. La décor peint … - P. 196. 108 Mouriki D. Stylistic trends… - P. 118.
52
собора 109 и Самарины, мы можем позиционировать последние росписи
несколько раньше – в 1180-90-х гг.
Росписи нартекса выполнены в меньшем масштабе и, на наш взгляд,
созданы несколько позднее росписей основного объёма. На это указывают
иная, построенная на контрастном сочетании голубовато-зелёного санкиря и
ярко-красных драпировок, цветовая схема, более обобщённая и однотипная
трактовка ликов, обратная манера моделировки – сочетание светлого
зелёного санкиря и жёлтого вохрения, в противовес зелёному притенению на
коричневатой базе в наосе, увеличение количества персонажей в сценах.
Уменьшение масштаба фигур, очевидно, связано с меньшей площадью стен.
Роспись нартекса Самарины напоминает в целом сцены и второстепенных
персонажей храма архангела Михаила на Мани: то же характерное
трехцветное личное письмо – зелёный санкирь, светлая жёлтая охра и
красноватые обводки, та же несколько небрежная манера, повторяющая,
однако, все принципы «высококачественных», «тщательно написанных»
более ранних образцов. Мы можем отметить влияние стиля первой половины
XII в., например, в типе подрумянки круглым пятном110, встречающейся
только у молодого апостола Филиппа в Пятидесятнице. Датируя роспись
основного объёма около 1190-го г., мы можем разместить роспись нартекса в
пределах последнего десятилетия XII в. Присутствие деталей, свойственных
109 Сейчас архитектура собора датируется около 1190 г. - Тимофеева Т.П. К
уточнению даты Дмитриевского собора // Дмитриевский собор во
Владимире. - М., 1997. - С. 38-41. 110 Аналогичный приём мы найдём, например, в росписях Нерези, церкви св.
Бессребренников в Кастории, Курбиново. Несомненно, он разрабатывался с
начала XII в. – об этом говорит нам мозаика первой трети XII в. с
изображением императорской семьи в Софии Константинопольской
(подрумянка на лице Алексея Комнина).
53
живописи второй трети XII в., может объясняться использованием при
работе над росписью нартекса более ранних образцов.
Агиос Стратигос в Эпано Буларии (на Мани).
Чуть выше деревни Эпано Буларии, на Мани, находится церковь Агиос
Стратигос111, посвященная архангелу Михаилу. В церкви сохранились два
слоя живописи, на втором слое присутствуют две надписи, одна из которых
датируется 1274-5 г., однако дата постройки храма нигде указана. А. Мего
определил по характеру плана112, что постройка церкви относится к первой
половине XI в. Это крестовокупольная трёхапсидная церковь с двумя
столбами и двумя колонками, нартексом и купольным притвором,
достроенным позднее (илл. 65). Сохраняются фрагменты мраморного резного
темплона, по стилистическим характеристикам приписываемого местному
скульптору Никите (то есть, выполненные около 1050-75).113
Фрески первого слоя расположены в алтаре, почти во всём
подкупольном пространстве и частично – в нартексе. В куполе –
Пантократор, серафим и тетраморф, в барабане - полнофигурные пророки; в
парусах евангелисты (только с восточной стороны – Матфей и Иоанн), во лбу
алтарной арки голова ангела (илл. 66). В центральной конхе – Богородица
Платитера с двумя ангелами (илл. 67), а в конхах боковых – бюсты свв.
111 Δρανδάκης Ν. Βυζαντινές τοιχογραφίες…- 1995. - Σ. 392-466; Skawran K. M.
The development… - P. 174. 112 Megaw A. Byzantine architecture in Mani // BSA – 1932-1933. – Vol. 33. -
P.157. 113 Δρανδάκης Ν. Αγνωστα γλυπτα της Μανης αποδοµενα στο µαρµαρα Νικητα η
στα εργαστηρι του // ΔΧΑΕ – 1975-1976. – Vol. 8. - Σ. 19-27. Стоит отметить,
что повторное использование скульптурной декорации нередко встречалось в
провинциальных регионах, и в действительности скульптура не может
служить отправной точкой для датировки.
54
Феодосия и Георгия. В нижнем ярусе алтаря девятнадцать святителей,
стоящих анфас. В восточном своде – Вознесение (илл. 68) , ниже – Собрание
апостолов. На стенах жертвенника и дьяконника – сцены исцелений (слепого,
паралитика и тд. – илл. 69). От сцены Благовещения сохранился только
архангел Гавриил на северо-восточной опоре. На сводах рукавов креста –
сцены евангельского цикла: Распятие в южном тимпане (илл. 70), Сошествие
во ад в своде юго-западного углового компартимента (илл. 71),
Пятидесятница в своде западного рукава креста (илл. 72). Ярусом ниже
расположены медальоны с бюстами святых, в последнем ярусе – ростовые
фигуры (илл. 73). В центральном своде нартекса – Второе Пришествие. О
погребальном характере помещения нартекса говорят как минимум два
различимых там изображения Деисуса.
Живописный слой значительно потёрт, иногда хорошо различима
только обводка красной охрой и побледневшие вохрение и подцвечивание
драпировок. Фон росписей – глуховатый, разбавленный кобальтовый синий,
по всей видимости бывший очень ярким, использованы в основном
оранжевые, жёлтые и зелёные цвета. На зелёный санкирь положены жидкие
разбеленные охры и притенения болотного и кофейно-коричневого цвета. У
многих сохранилась подрумянка круглыми пятнами на щеках и
параллельными линиями на лбу. Как мы уже упоминали, обводка сделана
небрежными быстрыми штрихами кирпично-красного оттенка, которые, как
показывает образ Богородицы в сцене Рождества (илл. 74 а), были, видимо,
полностью перекрыты тёмно-коричневыми. Мы встречаем иногда уже
описанный приём притенения носа двумя цветами – сложный и
несвойственный по-настоящему провинциальному стилю.
Фигуры массивные, но не имеют объёма. Драпировки моделированы в
основном пробелами, резкими линиями и пятнами, иногда обрисованы
непрерывными контурами затемнённого тона основного цвета, они
неподвижны, заканчиваются прямыми обрезами, и в целом бесконечно
далеки от маньеристических преувеличений конца XII в. Однако, нередко
55
соблюдается принцип, виденный нами в Евангелистрии – зоны тела, которые
должны быть выпуклыми, полностью залиты белилами, драпировка же
организована концентрическими контурами вокруг «островков» света.
Лики выглядят ещё более рельефными на фоне плоских условных
драпировок, рыхлой, грубоватой лепкой напоминают живопись Панагии
Крины на Хиосе (илл. 75).114 Упрощение ракурсов и полное исчезновение
форм тела под рублеными складками ткани в Агиос Стратигос позволяют
нам считать эту роспись следующим шагом в сторону провинциализации и
обобщения формы. Тогда как в росписи Панагии Крины мы ещё находим
отзвуки утончённого и наэлектризованного внутренней эмоциональностью
стиля 1160-х гг., в Агиос Стратигос они выглядят только воспоминанием.
Драндакис предполагает, что можно датировать живопись Агиос
Стратигос самым концом XII в. или рубежом веков, оговорив
архаизирующий и провинциальный характер как иконографической
программы, так и художественной манеры. Действительно, мы встречаем
аккуратную методичную разделку «шапок» волос параллельными белыми
или тёмными линиями и спиралями, наследие изысканного стиля Дафни,
попытку сформировать типично позднекомниновский физиогномический тип
(наподобие образов из церкви Св. Николая Каснициса в Кастории 115 –
продолговатое лицо, опущенный внешний угол глаза, изогнутый нос,
выразительные дуги бровей, треугольные или полукруглые штрихи под
глазами – илл. 74 б), у некоторых персонажей – круглые пятна подрумянки.
Тип лица и его моделировки у Богородицы в алтарной конхе напоминает
114 Согласно надписи, первый слой живописи Панагии Крины датируется
1197 г. 115 На это сходство обращает внимание К. Скавран - Skawran K. M. The
development… - P. 88.
56
аналогичные образы Перахорио116 или Патмоса (илл 76 а, б), одежды Христа
в Вознесении разработаны линиями наподобие ассиста, лица пророков и
некоторых святителей с исчерченными пробелами лбами и щеками
напоминают «экспрессивные» типы третьей четверти XII в., в частности и те,
что мы встречаем в «классицизирующих» ансамблях Бачкова и Вардзии.
Однако, как и в Епископии, мы можем определять более и менее
примитивные манеры. Аналогичными росписям нартекса Самарины по
качеству исполнения выглядят Богородица в конхе апсиды и в сцене
Рождества, святители в алтаре, архангел Гавриил из Благовещения, фрески
купола и барабана, некоторые стоящие святые нижнего яруса. В целом, к
этой манере можно отнести и ангелов в конхе, и Вознесение. Проще,
обобщённее написаны персонажи многочисленных сцен евангельского
цикла. Многие из них напоминают пропорциями фигур, композицией
фигуры, с небольшой круглой головой и широким телом, физиогномическим
типом, образы из сцен георгиевского цикла Епископии. Способ личного
письма и принцип передачи драпировки однако, вполне однородный во всей
росписи. Таким образом, по аналогии с живописью в нартексе Самарины, мы
принимаем датировку последними годами XII в. или рубежом XII-XIII веков,
данную Драндакисом.
116 Megaw A., Hawkins E. The church of the Holy Apostles at Perachorio, Cyprus,
and its frescoes // DOP – 1962. – Vol. 16 – P. 277+279-348.
57
Глава 3. Росписи Пелопоннеса и эволюция стиля византийской
монументальной живописи в XII в.
Группа росписей Пелопоннеса.
Рассмотрев группу росписей Пелопоннеса, мы приходим к выводу, что
можно условно подразделить памятники на две группы по стилистическим
характеристикам. В первую очередь образуют цельный блок росписи св.
Софии в Монемвасии, Евангелистрии в Гераки и Епископии на Мани. В
целом, структура этой группы соотносится со структурой росписи
Евангелистрии – мы находим утончённые, светлые и отрешённые образы,
подражающие им полнокровные, подвижные, отражающие искания 80-х гг. и
образы «местного типа» – обобщённые, чуть застылые, со своеобразными
физиогномическими характеристиками. Анализ росписи Евангелистрии
помогает объединить эти на первый взгляд разные ансамбли.117
Первый тип образов, к которому мы относим роспись Монемвасии (во
всяком случае, сохранившиеся фрагменты) и «первую манеру»
Евангелистрии, представляет своего рода синтез фресковой
монументальности и миниатюристски-тщательного письма. Лики с узкими
носами и задумчивым взглядом изящно выписаны, в причёсках вычерчен
тонкой кистью каждый волос. Стройные фигуры в сияющих одеяниях
объёмны, невысоким, но плотным рельефом вырастают из фона. Линейная
разделка, хоть и избыточна, подчинена объёму, служит только украшением,
не определяя формы. Структура тела практически не видна, поглощена
массой ткани. Песочного цвета вохрение, иногда с лёгкой лессировочной
подрумянкой, приближается к естественному цвету кожи – но, тем не менее,
117 Минуя Гераки, София Калописси-Верти предположила влияние
Монемвасии на Епископию (Kalopissi-Verti S., Patrons and craftsmen in Mani
during the Byzantine and Post-Byzantine period // Tales of religious faith in Mani,
Athens, 2005, p. 102)
58
не обладает той живой, дышащей поверхностью, которую мы увидим в
начале XIII в.
Второй тип, основная часть росписи Епископии и «вторая манера»
Евангелистрии, стремится подражать своим обликом первому. Его отличает
иной подход к организации структуры тела – спиралевидным поворотом
вокруг вертикальной оси (кроме самых статичных, фронтальных
персонажей), деконструированность поверхности тела светами – круглыми,
спиральными или похожими на лучи, обращённость к смотрящему. Черты
ликов крупнее и естественнее, очертания круглей. Художник часто стремится
работать неразбавленными белилами по локальному цветовому пятну.
Третий, местный тип объединяет «третью манеру» Евангелистрии и
образы георгиевского цикла Епископии на Мани. Крупные тяжёлые тела, не
имеющие (кроме небольших ступней) ничего общего с невесомыми образами
динамического стиля, увенчаны своеобразной физиогномики головами –
совершенно круглыми. Драпировки организованы концентрическими
линиями вокруг мощных, шарнирно движущихся суставов, - или спадают
неестественно прямо, независимо от тела и простого, безэмоционального
жеста. Последний вариант, с которым мы сталкиваемся в Епископии, -
признак упрощения стиля, провинциализации в негативном смысле. Однако,
он открывает нам статичную природу этих образов. В Епископии этот тип
появляется в повествовательном цикле жития св. Георгия – но как
неповествовательны, условны жесты персонажей. Упрощение стиля,
происходящее по мере его провинциализации, очищает заложенные в нём
принципы, показывает, какие мотивы были для художников главными, а
какие – второстепенными. Эта манера, таким образом, (со значительной
потерей изысканности письма) наследует «первому типу» Евангелистрии, и
через него – стилю наподобие Монемвасии: исполненному неподвижности и
сосредоточенности.
Кроме того, принадлежащими одному этапу развития стиля мы
признаём росписи Самарины и Агиос Стратигос на Мани, несмотря на их
59
существенное качественное различие. Среди образов основного объёма
Самарины, как мы уже упоминали, при общей сдержанности движений и
цельности силуэтов встречаются «экспрессивные» – духовно близкие к
некоторым возрастным типам из Нерези или Предтече из Осиос Давид, – и
«классические», монументальные, почти неподвижные, исполненные
торжественности. «Классический» тип образов значительно преобладает и
определяет весь характер ансамбля. Колорит росписи достаточно тёмный,
карнации зеленоватые, но в целом только общий цвет отличает
монументальные образы Самарины от монемвасийских: схожи и объёмные,
малоподвижные фигуры, и утончённые физиогномические типы, и изящно
очерченные силуэты.
Росписи нартекса Самарины были, без сомнения, созданы как
продолжение, подражание высококачественной живописи основного объёма,
тогда как роспись Агиос Стратигос с известной степенью провинциализации
наследует стиль нартекса Самарины. В этой подгруппе росписей
выстраивается, таким образом, последовательность по качественному
признаку. По сравнению с живописью в наосе, в нартексе Самарины
значительно упрощается техника письма, используются более простые цвета,
монументальность и неподвижность сменяются активным жестом – как
будто прорывающимся сквозь застылость образца. Композиции Страстного
цикла теряют симметричность, наполняются вторичными деталями. Лики
написаны более размашисто, черты их становятся крупнее и выразительнее.
Живопись нартекса отходит от достигнутого в основном объёме
величественного покоя, обращается к нарративу и, значит, подвижности,
хотя лики и сохраняют отрешённость, а драпировки не облегают тела и не
подчёркивают движений. В стиле Агиос Стратигос эти мотивы развиваются
дальше. Драпировка приобретает вид расчерченной пластины, не
подразумевающей объёмного тела. Необходимый в повествовательном цикле
Чудес Христа жест с трудом преодолевает окостенелость и замкнутость
силуэта. Схема личного письма в некоторых зонах наоса упрощается до
60
предела – но некоторые лики сохраняют дымчато-мягкую моделировку
тёмных карнаций. Появляются многочисленные архаизирующие детали.
Таким образом, по мере удаления стиля от высококачественного
образца, неподвижное пребывание персонажей заменяется более или менее
подробным повествованием. Манера письма упрощается, но сохраняет
основные разработанные на этом этапе стиля визуальные принципы.
Принятые нами датировки памятников позволяют предполагать, что
речь идёт о двух последовательных этапах развития стиля. Кроме того,
высокое качество росписей Монемвасии и Самарины говорит о столичном
влиянии, возможно даже о работе одного (главного) или нескольких
мастеров константинопольской школы. Мы имеем дело здесь с двумя
импульсами, сообщёнными провинциальному художественному процессу
столичной школой. Глубокое внутреннее сходство стилей Монемвасии и
Самарины, даже при различии многих внешних аспектов, также может
служить доказательством их принадлежности к одному, цельному
стилистическому течению. Рассмотрим эволюцию стиля на Пелопоннесе в
общевизантийском контексте.
Стиль византийской монументальной живописи XII в.
Позднекомниновское искусство в работах исследователей обыкновенно
представляется беспокойным, преувеличенно подвижным, экспрессивным.118
Однако, как показывает О.С. Попова119, в византийской живописи XII в.
118 См. Tomeković S. Le “maniérisme”… - P. 1-4. 119 В статьях о мозаиках Михайловского Златоверхого собора (Попова О.C.
Мозаики Михайловского монастыря в Киеве и византийское искусство конца
XI – начала XII веков // ДРИ. Русь и страны византийского мира. XII век. -
СПб., 2002. – С. 344-364) и фресках Дмитриевского собора
(Попова О. С. Фрески Дмитриевского собора во Владимире и византийская
61
сосуществовали одновременно совершенно различные по духу образы.
Базовой и непрерывной линией развития стиля всегда остаётся
классицизирующее направление. С течением времени оно претерпевает
значительные изменения. Византийское искусство снова и снова обращается
к позднеантичным концепциям образов, творчески перерабатывая их до
неузнаваемости. В период с VII по XII в. византийская культура
продвинулась от сохранения и компиляции античных традиций к их
комментированию и ассимиляции.120 К XII в. византийский «эллинизм» или,
точнее, уже «неоэллинизм» не имеет ничего общего с позднеантичной
эстетикой.
Помимо этого, возникают разнонаправленные импульсы отклонения от
«классицизирующей» линии – то в сторону сурового аскетизма, то
беспокойной подвижности или дисгармоничности. В целом, можно
охарактеризовать эти возникающие направления как моменты переноса
акцента на тот или иной аспект образа.
В конце XI в., с уходом в прошлое аскетического идеала Осиос Лукас и
Софии Киевской, классицизирующее направление снова возобладало - в
мозаиках Дафни (илл. 77). В монументальной живописи они отмечают собой
поворот к искусству более мягкому, открытому человеческим чувствам – и
одновременно величественному и монументальному. Рельефная
пластическая моделировка сосуществует наравне с гибкой, подвижной
линией, очерчивающей замкнутый контур и формирующей, скрепляющей
поверхность. Вскоре стремление спиритуализировать, облегчить и оживить
форму приводит к возникновению мотивов разворачивающегося по спирали
живопись XII в. — Дмитриевский собор. К 800-летию создания. - М., 1997. -
С. 93–118.) 120 Kazhdan A., Wharton-Epstein A. Change in byzantine culture in the eleventh
and twelfth centuries - London, 1985. - P. 136.
62
движения в пространстве (акцентированный шаг апостолов в Евхаристии
Михайловского Златоверхого собора; разбалансированные позы пророков в
Осиос Хризостомос в Кутсовендис на Кипре – илл. 78 а, б) и резкой, дробно-
ритмичной поверхностной графической разделки ликов и драпировок,
совершенно теряющей связь с естественной пластикой (лики в Панагии
Мавриотиссе в Кастории; некоторые образы в Панагии Форвиотиссе в Асину
и Панагии Теотокос в Трикомо – на Кипре; росписи Антониева монастыря в
Новгороде; драпировки апостолов Михайловского Златоверхого собора).
Важным для нас вариантом драматизации классического образа будут
формообразующая роль света и подчёркнутая индивидуальная
эмоциональность образов, возникшие во второй четверти XII в. в
миниатюрах круга Гомилий Иакова Коккиновафского (например, gr. 1208 в
Национальной библиотеке в Париже).
Сицилийские мозаики середины века (Чефалу, Палатинская капелла)
показывают дальнейшую стилизацию и дематериализацию формы,
объединение световых линий и пятен в сложный рисунок, деконструкцию
круглящейся классической поверхности с помощью контурной линии и
отрывистого штриха. Если в первой половине XII в. классицизирующее
направление в монументальной живописи мы можем в целом
охарактеризовать как ориентацию на стиль Дафни и дальнейшее развитие и
углубление его концепций, то к середине века образцовый классицизм был в
некотором роде преодолён, и «экспрессивная», спиритуалистическая
тенденция вполне отделилась от классицизирующего направления и дальше
развивалась уже независимо.
Фрески Нерези (1164) – самая ранняя из сохранившихся роспись,
некоторые черты стиля которой отвечают идеалам динамического стиля.121
121 Повышенную роль линии, к примеру, отмечает Адерманн-Мизгиш, относя
Нерези к динамическому стилю. – Hadermann-Misguich L. Tendances
63
Однако, мы находим в рамках цельного стиля Нерези две тенденции –
классическую и экспрессивную.122 Острота эмоциональной характеристики
одних образов противопоставляется созерцательности других. Более всего
для нас интересно проследить взаимовлияние двух этих тенденций. В
композиции Оплакивания (илл. 79) к примеру, переданная в резком ракурсе
фигура Марии почти распластана на плоскости. Плоско и почти в
«египетском» развороте передано тело Христа. Врезающийся в плавные
линии композиции стилизованный силуэт – знак перехода к условно-
экспрессивному языку, к резкой выразительности искажённой, бестелесной
формы. Контраст с объёмной, гибкой фигурой и исполненным благоговейной
нежности ликом Иоанна ещё больше обостряет и драматизирует образ
Марии. Композиционно приём стилизации выявляется в общем
волнообразном движении, которым охвачены контуры тел, в их
напряжённых эллиптических изгибах.
Энергичные образы наподобие пророчицы Анны или Симеона в
Сретении (илл. 80) – с искажёнными эмоцией, неровными и фактурными
expressives et recherches ornamentales dans la peinture byzantine de la seconde
moitié du XIIe siècle // Byzantion. – 1965. – Vol. 35. - P. 430. 122 Мы хотим выразить глубокую благодарность О.В. Овчаровой за
возможность ознакомиться с её ещё не опубликованной диссертацией о
фресках Нерези, где она в том числе анализирует сосуществование
классических и экспрессивных признаков в стиле росписи. Подробное
рассмотрение феномена слияния двух типов выразительности в рамках одной
росписи помогло нам прояснить многие аспекты позднекомниновского
искусства и более непредвзято видеть сложную эволюцию стиля последней
четверти XII в. – Овчарова О. Фрески Нерези, 1164: история изучения, образ
и стиль, особенности иконографии.
64
ликами, окружённые вихрем сияющих складок ткани, - вбирают в себя все
новые формальные и образные приёмы вызревающего динамического стиля.
Классическая, объёмная и целостная форма, на которую
накладываются эти новые приёмы, переживает в Нерези существенное
преобразование. Поверхность кожи, оживлённая тонкими штрихами
пробелов и подрумянки, придаёт образам ирреальный характер, они выглядят
миражом, отражением нематериального мира. Потеря осязательности
поверхности и естественности цвета (в Нерези появляется мотив зеленоватой
карнации – илл. 81) помогает ещё больше дематериализовать образы, а
значит – спиритуализировать материю.
Вероятно, зародившиеся в столичном искусстве приёмы обострения
образов быстро раскрыли свой потенциал, вышли из моды, и впоследствии
разрабатывались только в провинции.123 Вариантами динамического стиля
будут росписи в Македонии – фрески Кастории (в церкви св.
Бессребренников – илл. 82, св. Николая Каснициса – илл. 83, в нартексе
Панагии Мавриотиссы – илл. 84), впоследствии, в переработанной форме –
роспись Курбинова (илл. 85); Георгиевский собор в Старой Ладоге, где
жизненная сила движений утрачивается и этот некоторый механицизм
дополняется локальными светами, напоминающими блеск лакированной
поверхности; Джурджеви Ступови, где уплотнённая, тяжеловатая форма
полна внутреннего напряжения, прорывающегося из организующего контура
вовне в извивах драпировок.
Вполне точно соответствуют введённому в литературе понятию
динамического стиля росписи Кастории. В сбалансированном и умеренном
виде мы находим в них все формальные признаки «динамики»: удлинённые
пропорции, плоскостность композиций в целом и фигур в частности,
преобладание светового рисунка над тенью и линии над пластической
моделировкой, активный орнаментальный ритм и иногда неестественную
123 Demus O. The Mosaics… - P. 183-184.
65
самостоятельность драпировок; физиогномические типы в касторийских
росписях соответствуют позднекомниновским идеалам.
Одновременные македонским росписям ансамбли Кипра – роспись
Энклистры Неофита в 1180-е (илл. 86) и Панагии Аракиотиссы в Лагудера в
1192 г. (илл. 87), – показывают, что в это же самое время признаки
«динамичности» могли появляться как воспоминание, суховатое и
принуждённое повторение предыдущего этапа развития стиля. Датированная
сейчас 1160-80-ми гг. роспись Перахорио на Кипре (илл. 76а, 88) на наш
взгляд близка своим вниманием к рельефу и пространственным разворотам
фигур росписи церкви Св. Николая Каснициса в Кастории – хотя и стоит
заметить некоторую массивность, внешнюю аморфную мягкость и
внутреннюю напряжённость, почти вибрацию формы в противовес
направленности эмоционального порыва в церкви Св. Николая Каснициса.
Вопрос о принадлежности Перахорио к определённым этапам развития стиля
мы пока оставляем открытым. Что касается росписей Энклистры Неофита и
Лагудера – светлые локальные цвета, не создающие драматичности,
стремление к цельной оболочке формы (не фрагментированной графической
разделкой вплоть до полного растворения, а только иногда
орнаментированной поверх), наэлектризованные, вторящие гибким силуэтам
мягкие складки – в формальном отношении в них ощущается
непосредственная связь со стилем Нерези. Вносящее экспрессию в
маскообразные лица искажение естественной формы наследует
аналогичному приёму в росписи Асину.
На наш взгляд, росписи Кипра минуют фазу беспокойного «кипения»,
взвинченности и подчинённости контуру, предельно развитую в Курбиново,
и следуют столичного происхождения образцам 1160-х гг., аналогичным
росписи Нерези или Перахорио. Таким образом, в период между появлением
росписей Нерези и Курбинова в провинции развивается и преобразуется
изысканный динамический стиль.
66
***
На протяжении первой половины XII в. поиски пределов
спиритуализации образа формальными методами на время вытеснили, по
всей видимости, интерес к переработке классических образцов. Однако,
закономерности преобразований внутри классицизирующего направления
мы можем отметить в росписи Панагии Космосотиры в Феррах,
выполненной, по всей видимости, вскоре после основания монастыря в 1152
г.124 Монументальные, тяжёлые фигуры, их избыточный пространственный
объём, гладкость моделировки ликов и округлённость упругих линий,
гармонизированное взаимоотношение линейного и пластического – без
сомнения, в стиле Космосотиры преобладает классическое начало. Этот
стиль, на наш взгляд, наследует экспериментам начала XII в. с подвижной,
спиралевидной структурой, наложенной на классицизирующие,
натуралистичные фигуры и лики. Как и в Евхаристии Михайловского
Златоверхого монастыря, в Евхаристии Космосотиры позы апостолов не
закончены и уравновешены, а представляют остановленный момент
спиралевидного разворота, захватывающего всё тело. Дробный ритм складок
одеяний, прерывающийся крупными, закрученными по спирали светлыми
кругами и треугольниками, не скрывает, однако, структуру тела. Гладкие,
правильных пропорций лики, объёмно моделированы. Нередко встречается
условный раннекомниновский румянец – ещё один признак верности
образцам первой трети XII в.
Развитие стиля, приводящее впоследствии к «неоэллинистическому»
классицизму Нерези, вполне заметно в образах Космосотиры. Мы находим и
124 Согласно типикону монастыря, храм был заложен в 1152 г.
севастократором Исааком, младшим сыном Алексея Комнина. – Petit L.
Typikon du monastère de la Kosmosoteira près d’Aenos (1152) // Известия
русского археологического института в Константинополе – 1908. № 13. - С.
17-75.
67
эллиптические изгибы фигур в Евхаристии, и свечение пышных, текучих
драпировок, и разнообразие эмоциональных характеристик.
Для нас важно отметить использование мотива спирали и для
внутренней структуры, и для поверхности формы. Разворачивающаяся в
пространстве объёмная фигура существует, в действительности, в трёх
измерениях. В каком-то смысле классицизирующее направление стиля не
отказывается от идеи пространственности внутри изображения, тогда как
динамический стиль на ранней его стадии (60-х-80-х гг.) нередко стремится к
проекции движения и развитии его в одной плоскости – наподобие
скульптурного рельефа. Впоследствии мы рассмотрим, как такая
«пространственная» организация композиций затронет поздний
динамический стиль и приведёт к глубокой переработке его
формообразующих основ (при сохранении в прежнем виде знаковых
элементов стиля – наподобие вскипающих драпировок).
Созданные, по всей видимости, в 70-е гг. XII в. и только частично
доступные сейчас для изучения росписи церкви Кипариссиотиссы в
монастыре св. Иерофея в Мегаре (илл. 22 а, б) близки стилистически к
Панагии Космосотире. Только некоторые детали – выражение беспокойства
на гладких объёмных ликах, декоративные взвихрения драпировок,
разбалансированные позы, рыхлость и трепетность письма (след
«импрессионистического» подхода 60-х) – говорят об импульсе воздействия
динамического стиля на художественный процесс.
Такое сплетение стилей, воздействие быстро модифицирующейся
динамической тенденции на постепенно развивающуюся
классицизирующую, приводит вскоре к росписям второй манеры
Евангелистрии в Гераки или нартекса свв. Бессребренников в Кастории (илл.
89). Разработанный в мозаиках Монреале мотив света как
структурообразующего и динамизирующего элемента одновременно (об этом
мы писали выше) и стремление к связности композиции, которое мы
находим уже в Нерези, соединяется с классицизирующей пластичностью
68
формы. В письме гладких и спокойных ликов сбалансированы целостный
объём и текучий контур. Уплощение и обобщение формы тел не лишает их
некоторой «пространственности», выражающейся в перекрученной позе или
нескольких условных «планах». Фигуры не распластаны в условной,
силуэтной композиции. Эмоциональность и утрированность движения,
свойственные зрелому динамическому стилю, смягчены, взаимодействие со
зрителем только намечено.
Почти одновременно возникающий стиль Монемвасии, «первого типа»
Евангелистрии, Бачкова и Вардзии (1180-е гг.) представляет уже иную
эстетику, которая, по всей видимости, разрабатывалась уже в росписях
Патмоса (1170-80-е гг.; илл. 90). Живопись синтетически объединена с
архитектурой: масштаб фигур Патмоса соразмерен площади стен, в Бачково
стоящие святые обрамлены аркадой, в Монемвасии формы архитектуры
диктуют необычное распределение ключевых образов. Движение
ограничивается поворотом или наклоном головы, фигуры выглядят
объёмными, как статуи – и столь же застывшими и отстранёнными.
Обращение к чувствам смотрящего уже не так важно. Композиции
торжественны и часто фронтальны. Чаще появляются теофанические сюжеты
– Гостеприимство Авраама, Ветхий Деньми (впоследствии также и
Мелизмос) – но даже когда сюжет и неочевиден, в отстранении святых от
реального мира, человеческих чувств, выглядит созерцанием невидимого,
предстоянием Теофании. Этот поворот от «неоэллинистической»
эмоциональности и жизненности на наш взгляд можно связать с переворотом
в интеллектуальной жизни Константинополя в 70-е гг.125 Патриарх Михаил
III провозгласил своей целью борьбу с философией рационализма.
Официальной идеологией в богословии стала иррациональность,
непознаваемость божественного начала, то есть - его отчуждённость от
125 Kazhdan A., Wharton-Epstein A. Change in byzantine culture in the eleventh
and twelfth centuries - London, 1985. – P.129.
69
познаваемого мира. Воздействие на человеческие чувства верующих стало не
нужно – и эмоциональный порыв изображённых святых заменился
церемониальным жестом.
Отдельного упоминания стоят фрагментарно сохранившиеся росписи
Салоник последней четверти XII в. - Осиос Давид (илл. 21, 91) и церкви
Спасителя в Хортиатисе (илл. 92). Наделённое всеми внешними признаками
зрелого динамического стиля Крещение в Осиос Давид (хрупкие, плоские,
вытянутые фигуры Предтечи и Христа, пышные, как будто поднятые ветром
одеяния ангела) тем не менее пространственно выстроено, а сохранившаяся
часть фигуры ангела объёмна, его движение элегантно и естественно. Сцена
Рождества (там же) снабжена массой почти антикизирующих деталей.
Можно обозначить стиль Осиос Давид – как «классицизирующе-
динамический», двойственный, как и стиль Нерези. В нём мы находим
обращение к традициям античности, его «классицизирующие» образы близки
стилистически к мозаикам Дафни или Сицилии середины XII в. Роспись же в
Хортиатисе, насколько возможно судить по фрагментам, в некоторой
степени предшествует эстетически росписи Самарины. Своеобразное
искажение физиогномических черт, преувеличенный вариант которого мы
впоследствии увидим в Курбинове, сочетается со сдержанностью жестов,
цельностью объёма, тёмной зеленоватой карнацией. Соединение черт
динамического стиля и эволюционировавшей в 80-е гг. классицизирующей
тенденции приобретает механический характер. Обновлённый
классицизирующий стиль обособляется от линейной стилизации и
деконструкции поверхности, с тем чтобы вскоре вытеснить эти мотивы.
***
Точно датированные фрески последнего десятилетия XII в.
принадлежат к динамическому направлению. Росписи Лагудера (1192) и
Курбинова (1191) ориентируются на искусство 60-х гг. и сохраняют
определённую сумму его внешних признаков: подвижность исчерченных
70
пробелами драпировок, сложность и выверенность поз, свечение цвета,
изысканность линии. Мы оставим в стороне неестественные, змеящиеся
складки одеяний, о которых достаточно писали исследователи
динамического стиля. Курбиновские персонажи, согласно развитому в стиле
росписи Св. Николая Каснициса принципу, - необыкновенно вытянутых
пропорций, их тела механически составлены из тонких, хрупких деталей.
Росписи Кастории напоминает нам и принцип наложения светов – острыми
прямыми лучами и геометрическими бликами. Сохраняя эту изящную
внутреннюю структуру 80-х гг., курбиновские персонажи приобретают
некоторую внешнюю аморфность, черты их ликов искажаются эмоцией и
движением, как пластилиновые; выверенный, направленный жест,
разработанный в церкви Св. Николая Каснициса рассеивается и измельчается
сложным силуэтом «динамических» драпировок. Композиции, однако,
организованы строго и симметрично (напр. Встреча Марии и Елизаветы),
фигуры даны в мощных, почти спиральных разворотах, распластывающих их
в пространстве.
Стиль росписи Лагудера в сравнении с курбиновской кажется более
умеренным – округлые, текучие света, почти правильные пропорции,
спокойные лики. Без сомнения, метод передачи драпировки светлыми
волнами, кольцами и точками происходит из традиции начала XII в. и
напоминает нам Трикомо, Асину или Осиос Хризостомос в Кутсовендис
(особенно, манера обозначения объёма рядом или группой точек).
В некоторой степени роспись Лагудера сопоставима с
классицизирующими по своему характеру фресками Патмоса. Их
объединяют манера цветного, красно-зелёного притенения ликов и
сложность пространственных ракурсов (архангел Гавриил, поклоняющийся
Богородице на троне в Лагудера; ангелы в Гостеприимстве Авраама на
Патмосе). Сложная архитектура и «перспективные» позы персонажей
(Богородица в Благовещении) позволяют создать неглубокое пространство
71
сцены. Мотив миража, ускользающего, непостоянного, все время
подвижного образа, появляющийся в Курбиново, в Лагудера нивелирован.
Такое раздвоение между Македонией и Кипром, появление
одновременно эстетически различных образов, связано, естественно, с
культурной разобщённостью этих территорий.
Своеобразная манера моделировки лика пятнами и крупными линиями
белил, развитая к концу века, например, в росписях на Афоне (фрагмент
встречи Петра и Павла в Ватопеде126) и в некоторых образах Аркажей (илл.
93), представляет собой доведение до предела формообразующей роли света
и разрозненности поверхности. Мотив «островка», подвижного пятна света,
развитый в драпировке в 1180-е гг. (например, в мозаиках Монреале или,
чуть выраженнее, – в Сошествии во ад в Евангелистрии), переходит здесь на
лики. В этих бликах форма теряет материальный объём и неестественная,
испещрённая гребнями морщин структура ликов формируется локальным
пятном. Выразительность образов этого типа, их предельная напряжённость,
связана именно с этим радикальным отходом от естественного рельефа и
формированием новой, цельной и прочной световой структуры. На наш
взгляд, этот приём – синтетический, объединяющий в себе структурные
эксперименты начала XII в. и один из способов преувеличения
экспрессивности образа во второй трети века, исчерчивание лика крупными
светлыми линиями, подчёркивающими измождённость и остроту выражения.
Этот приём чащё всего использовался в образах пожилых пророков, аскета-
Предтечи, отцов церкви, и в некотором смысле отражает концепцию
преображения плоти под действием божественного света, пережитой
теофании. Этот мотив нередко связан в середине века с порывистым
страстным движением, распростёртым в горизонтальной плоскости и этим
126 Милькович предлагает датировку последними годами XII в. - Miljković B.
Once again on the fragment of a fresco in Vatopedi // ZRVI – 2009. – Vol. 46. – P.
107–116.
72
ещё более утрированным (если композиция вообще позволяла движение
персонажей – святители обыкновенно только предстоят), но в конце века, в
образах наподобие Аркажей, мы снова находим организацию вокруг
вертикальной оси, порой даже застылость фигур. 127 Мерцание островков
света на ликах нивелирует эту неподвижность, позволяет передать
выразительность и эмоциональную напряжённость, духовный порыв, не
прибегая к порывистому жесту.
***
В последнем десятилетии XII в. классицизирующее и динамическое
направления, тесно взаимодействовавшие в 70-80-е гг. расходятся.
Динамический стиль, как мы видели, продолжает существовать в провинциях
и развивать свои принципы до предела. Упорядочивание композиций,
усиление неестественного цвета карнации, усложнение богословского
содержания иконографических программ мы можем связать с влиянием
столичных эстетических идеалов периода патриарха Михаила III.
Классицизирующее течение, долгое время испытывавшее воздействие
динамики, обновилось и приобрело самостоятельное значение.
В действительности, истинного классицизма, то есть следования
античному идеалу, в нём осталось немного. Краски потеряли естественную
сочность, лики затемнены зеленоватым тоном, форма тел скрыта избыточной
шириной одеяния, формирующей лаконичный гладкий силуэт. Объём тел
создаётся в большей степени правильными пропорциями, чем естественной
светотенью. Ракурсы упрощены, движения мягкие и сдержанные,
127 Легко проводится в этом ключе, например, параллель между хорошо
известными нам застылыми и «прислушивающимися» святителями
Монемвасии и некоторыми образами нижнего яруса Аркажей. Способствует
этому и аналогичный подход в передаче драпировок, напоминающий иногда
резьбу по дереву вдоль волокон.
73
композиции преувеличенно симметричны. Тающая, легкая объёмная
моделировка создаёт впечатление дымки, окутывающей всё, скрадывающей
рельеф. Античное наблюдение за натурой и подражание ей сходит на нет в
конце XII в. Художник не повторяет природу, изображая святых, но создаёт,
используя привычные элементы – фигуры людей, ткани, детали интерьера и
пейзажа, - картину иного, возвышенного мира, лишённого телесной тяжести
и чувственности. Этот мир неуловим и неощутим для нас. Его
иррациональность уже не требует искажения естественной формы или
преувеличенного оформления тел драпировками. Даже приобретя
объёмность, наделённые естественным мягким движением, святые в
росписях Самарины не живут и чувствуют, как в Нерези, а пребывают,
погружённые в бесконечность – так же, как в св. Софии в Монемвасии или
бачковской костнице.
Росписи Дмитриевского собора во Владимире, по всей видимости
одновременные Самарине, следуют тому же идеалу. Сохранившиеся
апостолы на тронах из Страшного суда почти неотличимы от апостолов в
Пятидесятнице в нартексе Самарины (илл. 61, 63). Монументальные фигуры
запечатлены в мягких, разнообразных поворотах, складки их одеяний
естественны, но не лишены декоративности, однако гладкие лики
подсвечены яркими зелёными тенями, придающими оттенок
безжизненности.
Итак, динамический и классицизирующий стили в последней четверти
XII в. сосуществовали параллельно, и, как мы видим на примере
трансформации динамики в Курбинове, почти одновременно воспринимали
новые эстетические идеалы. Поскольку роспись Монемвасии уже в 80-е гг. в
целом следует принципам, которые впоследствии будут развиты в последнем
десятилетии XII в., мы можем предполагать, что именно в рамках
классицизирующего стиля эти принципы разрабатывались. По всей
видимости, возникнув в конце 50-х-начале 60-х гг. стиль наподобие Нерези, с
его стремлением к эмоциональности, преувеличению, превращению
74
осязаемой поверхности лика в трепещущий «импрессионистический» мираж,
с по сути классическими, античными корнями, вскоре (уже к 70-м гг.)
перестал разрабатываться в столице, сохранившись в провинциальных
регионах до конца века. В это время классицизирующий стиль проходит
через значительные перемены. От тяготеющего ещё к первым десятилетиям
XII в. стиля Панагии Космосотиры в Феррах или Чефалу он приходит к
живописи типа Патмоса, Вардзии, Монемвасии, чуть позже – Самарины. Мы
не можем назвать этот феномен ренессансом – принципы
классицизирующего стиля периода правления Ангелов далеки от античных.
Поиски новых приёмов дематериализации и спиритуализации классической
формы начинаются с маскировки графической разделкой естественной
структуры лица и тела, проходят черед нарастающее искажение черт,
подчинение объёма линии или световым бликам. Однако, неестественное
преображение формы имеет предел, не может достигнуть абсолюта, потому
что тогда живопись начнёт терять антропоморфность. В последних
десятилетиях XII в. происходит поворот в сторону своего рода нового
принципа одухотворения – не искажения естественной фигуры, не
стремления показать её ирреальность, - а выстраивания иррационального
мира с помощью ясных, почти классических форм.
75
Заключение
В живописи второй половины XII в. исследователи выделяют
несколько стилистических тенденций: классицизирующую, динамическую,
маньеристическую. Нередко авторы стремятся распределить памятники
между направлениями, определив тем самым «течения», генетические линии
развития стиля. Исследовав позднекомниновские росписи Пелопоннеса в
контексте, мы приходим к пониманию, что эти тенденции никогда не
существовали независимо друг от друга. Обмениваясь образными и
формальными находками, переплетаясь между собой, они существовали
только как аспекты цельного и сложного культурного феномена.
Противоречивые суждения исследователей о стиле Евангелистрии (и
других росписей этого периода) говорят о плотности переплетения,
неотделимости одной тенденции от другой. Классицизирующие мотивы
постепенно нарастают к концу века, изнутри изменяя динамический стиль и
подготавливая почву палеологовскому искусству. Поворот в сторону нового
восприятия формы и массы, происходящий в живописи периода правления
Ангелов, не похож на почти революционное возникновение динамического
стиля.
Росписи Евангелистрии приоткрывают нам эти внутренние течения в
позднекомниновском искусстве. Неявное различие между «первой» и
«второй» манерами, становится более ощутимым, когда мы сравниваем их с
более ранними росписями – как классицизирующими, так и «динамичными».
Декоративное и утончённое использование линии в образах первого типа не
выходит на уровень линейной стилизации, контуры и разделки выглядят
вторичными по отношению к вырастающему из фона массиву тела.
Дематериализованная экспериментами первой половины XII в., форма не
возвращается к прежней «натуралистичности», но приобретает новую силу и
весомость, начинает концентрировать в себе духовную энергию, которую мы
найдём впоследствии в образах Милешева. Развивающие формальные
76
методы середины века образы второго типа – стремящиеся к своего рода
пространственности и одновременно деконструированные ритмом
формообразующих пробелов, - движутся иным путём. Доходящая до предела
стилизация теряет характер проекции на плоскость. Оживленность образов,
их эмоциональность и обращённость к чувствам зрителя, их театральные
жесты имеют в своей основе позднеантичную традицию.128 Эти образы в
некотором смысле ретроспективны, соединяют в себе эстетические искания
всего XII в. Эта тенденция не получит глубокого развития в XIII в.
Образы, аналоги которым мы находим в росписях Мани, - по всей
видимости, местного происхождения, ставят нас перед проблемой
провинциализации столичного стиля, его переработки локальной традицией.
Этот процесс, как показывает нам роспись Евангелистрии, не всегда связан с
потерей художественного качества, и нередко способствует выявлению
ключевых смыслов, заложенных в стиле.
Образы западного компартимента, происхождение стиля которых
спорно – подводят нас к проблеме развития позднекомниновских концепций
в начале XIII в. Хотя мы и не можем утверждать, что росписи четвёртого
типа Евангелистрии созданы позже фресок основного объёма – их стиль
несёт отпечаток влияний, с которыми мы не сталкиваемся больше в
греческих росписях XII в. С исследованием этих влияний и связана
разработка указанной проблемы. Проведённое исследование ставит перед
нами массу нерешённых ещё вопросов, нити которых тянутся сквозь всё
128 В литературе XII в. входит в моду подражание языческой буколической
поэзии (в многочисленных романтических романах). Культура обращается к
античному наследию, синтетически перерабатывая его. На наш взгляд,
возрождение в живописи значимости эмоции, взаимодействия между
персонажами, точного жеста, можно также связать с этим эстетическим
поворотом XII в.
77
византийское искусство, и решение которых возможно только в
общевизантийском контексте.
В этой работе перед нами стояла первоначальная цель – подробно
описать, датировать и поставить в контекст известную, но малоизученную
роспись церкви Евангелистрии в Гераки. Стилистическая неоднородность
ансамбля, развитие в нём самых разных аспектов позднекомниновского
стиля, позволили связать его и с другими, предположительно
одновременными росписями Пелопоннеса. Тема провинциального и
несколько эклектичного памятника неожиданным образом раскрылась в
процессе исследования: Евангелистрия послужила ключом, объединяющим
элементом группы памятников классицизирующего направления в живописи
XII в. Охватывающая достаточно широкий период последней четверти XII в.
группа росписей Пелопоннеса приоткрывает нам ход развития столичного
художественного процесса – и значительно обогащает наше понимание
феномена позднекомниновского искусства. Таким образом, проанализировав
стилистическую структуру росписи Евангелистрии, мы ближе подошли к
решению масштабной проблемы – понимания не только места
монументальной живописи Пелопоннеса позднекомниновского периода в
общевизантийском контексте, но и путей развития византийской культуры в
последней четверти XII в.
Несмотря на строгость вырисовывающейся в наших выводах
«формулы», некоторую стерильность схемы художественного процесса,
нашей целью было не сконструировать из общепризнанных наукой и наших
собственных выводов новый точный механизм, но показать: византийское
искусство на каждом этапе своего существования было многосоставным,
многослойным явлением. Не только специфика исследований средневекового
материала – его неполная сохранность, его принадлежность к культуре,
отличающейся от нашей, – но и это сложное переплетение концепций, их
пульсация от преобладания до незаметности, делают любые строгие выводы
о стиле относительными.
78
Библиография Использованные сокращения
- ДРИ – сборник Древнерусское искусство.
- Actes de CIEB – Actes de Congrès International des Études Byzantines.
- BSA – British School at Athens.
- CorsiRav – Corsi di cultura sull’arte ravennate e bizantina.
- DOP – Dumbarton Oaks Papers.
- ZRVI - Zbornik radova Vizantološkog instituta
- ΔΧΑΕ – Δελτιον της Χριστιανικης Αρχαιολογικης Εταιρειας.
Литература на русском языке
1. Бакалова Э. Фрески церкви-гробницы бачковского монастыря и
византийская живопись XII века // Византия. Южные славяне и
Древняя Русь. Западная Европа. Сборник статей в честь В. Н. Лазарева.
- М., 1973 – С. 216-234.
2. Гринберг М. Фрески церкви свв. Бессребреников в Кастории.
Проблемы стиля // Лазаревские чтения. - М., 2009. - C. 121-138.
3. Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация,
славянская Македония - М.: «Индрик», 2000. – 592 с.
4. Муратов П.П. Ночные мысли XVII: Византийская живопись //
Возрождение. – 12.04.1928. № 1045. – С. 4.
5. Попова О.C. Мозаики Михайловского монастыря в Киеве и
византийское искусство конца XI – начала XII веков // ДРИ. Русь и
страны византийского мира. XII век. - СПб., 2002. – С. 344-364.
79
6. Попова О. С. Фрески Дмитриевского собора во Владимире
и византийская живопись XII в. — Дмитриевский собор. К 800-летию
создания. - М., 1997. - С. 93–118.
7. Привалова Е. Вардзия. - Тбилиси, 1982. – 38 с.
8. Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История древнерусской живописи -
М., 2007. – 750 с.
9. Тимофеева Т.П. К уточнению даты Дмитриевского собора //
Дмитриевский собор во Владимире. - М., 1997. - С. 38-41.
Литература на иностранных языках
10. Bouras Ch. Church Architecture in Greece around the Year 1200 //
Studenica et l'art byzantin autour de l'année 1200. – Beograd, 1988. – P.
271-278.
11. Chatzidakis M. L'évolution de l'icone aux 11e - 13e siècles et la
transformation du templon // Actes du ΧVe CIEB, Athènes 1976. – Athènes,
1979. - P. 159-191.
12. Cormack R. Rediscovering the Christ Pantocrator at Daphni // Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes. – 2008. – Vol. 71. - P. 55-74
13. Demus O. The Mosaics of Norman Sicily. - London, 1949. – 478 p.
14. Demus O. The Mosaics of San Marco in Venice – Vol. 1. –
Chicago&London, 1984. – 489 p.
15. Diehl C. Manuel d’art Byzantin. – Vol. 2. - Paris, 1926. – 942 p.
16. Djurić V. La peinture murale byzantine XIIe et XIIIe siècles // Actes du
ΧVe CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. – P. 159-252.
80
17. Djurić V. La peinture murale serbe au XIIIe siècle // L’art byzantin du XIIIe
siècle. Symposium de Sopočani (1965). - Beograd, 1967. - P. 145-167.
18. Gerstel S. Beholding the sacred mysteries. Programs of the Byzantine
Sanctuary. - London, 1999. – 293 p.
19. Grigoriadou L. Peintures murales de 12e siècle en Grèce - Paris, 1968. – 548
p.
20. Grigoriadou-Cabagnols L. Le décor peint de l'église de Samari en Messenie
// Cahiers Archéologiques. – 1970. – Vol. 20. – P. 177-196.
21. Grishin A. Literary evidence for the dating of the Backovo ossuary frescoes
// Byzantine Papers. Proceedings of the First Australian Byzantine Studies
Conference – 1981. - P. 90-100
22. Hadermann-Misguich L. Aspect de l’ambiguïté spatiale dans la peinture
murale byzantine // Zograf – 1992. - Vol. 22. – P. 4-11.
23. Hadermann-Misguich L. La peinture monumentale tardo-comnene et ses
prolongements au XIIIe siecle // Actes du ΧVe CIEB, Athènes 1976. –
Athènes, 1979. – P. 225-284.
24. Hadermann-Misguich L. Le temps des Anges. Recueil d'études sur la
peinture byzantine du XIIe siècle, ses antécédents, son rayonnement. -
Bruxelles, 2005. – 270 p.
25. Hadermann-Misguich L. Tendances expressives et recherches ornamentales
dans la peinture byzantine de la seconde moitié du XIIe siècle // Byzantion.
– 1965. – Vol. 35. - P. 429-448.
26. Kalligas H. The church of Hagia Sophia at Monemvasia: its date and
dedication // ΔΧΑΕ – 1977-1979. – Vol. 4. – P. 217-221.
81
27. Kalopissi-Verti S. Patrons and craftsmen in Mani during the Byzantine and
Post-Byzantine period // Tales of religious faith in Mani - Athens, 2005. - P.
99-110.
28. Kazhdan A., Wharton-Epstein A. Change in byzantine culture in the
eleventh and twelfth centuries - London, 1985. – 287 p.
29. Kitzinger E. Byzantium and the West in the Second Half of the Twelfth
Century. Problems of Stylistic Relationships // Gesta. – 1970. – Vol. 9/2. –
Р. 49-58
30. Lafontaine-Dosogne J. L’evolution du programme décoratif des églises //
Actes du ΧVe CIEB, Athènes 1976. – Athènes, 1979. – P. 129-156.
31. Mango C., Hawkins E., Boyd S. The monastery of st. Chrysostomos at
Koutsovendis (Cyprus) and its wallpaintings. Part 1: Description. // DOP –
1990. – Vol. 44. – P. 63-94.
32. Megaw A. Byzantine Architecture and Decoration in Cyprus: Metropolitan
or Provincial? // DOP – 1974. – Vol. 28. – P. 57-88.
33. Megaw A. Byzantine architecture in Mani // BSA – 1932-1933. – Vol. 33. –
37 p.
34. Megaw A. Twelfth century frescoes in Cyprus // Actes du XIIe CIEB,
Ochride, 1961. - Beograd, 1964. - P. 265-266
35. Megaw A., Hawkins E. The church of the Holy Apostles at Perachorio,
Cyprus, and its frescoes // DOP – 1962. – Vol. 16 – P. 277+279-348.
36. Miljković B. Once again on the fragment of a fresco in Vatopedi // ZRVI –
2009. – Vol. 46. – P. 107–116.
37. Millet G. L'école grecque dans l'architecture byzantine - Paris, 1916. – 382
p.
82
38. Millet G. L’art chrétien d’Orient du milieu du XIIe au milieu du XVIe siècle
// A. Michel. Histoire de l'Art. - T. III. – Paris, 1908. - P. 928-962
39. Mouriki D. Stylistic trends in monumental painting of Greece during the
eleventh and twelfth centuries // DOP - 1980/1981. – Vol. 34/35 - P. 77-124.
40. Nicolaïdès A. L'église de la Panagia Arakiotissa à Lagoudéra, Chypre: Etude
iconographique des fresques de 1192 // DOP – 1996. – Vol. 50. – P. 1-138.
41. Panayotidi M. Les églises de Géraki et de Monemvasie // CorsiRav – 1975.
– Vol. 22. – P. 333-355.
42. Panayotidi M. Monumental painting in the churches of Mani – a means of
expression and communication // Tales of religious faith in Mani - Athens,
2005. - P. 85-98.
43. Panayotidi M. The wall-paintings in the church of the Virgin Kosmosoteira
at Ferai (Vira) and the stylistic trends in the 12th century painting //
Byzantinische Forschungen. – 1989. – Vol. 14. – P. 459-484.
44. Petit L. Typikon du monastère de la Kosmosoteira près d’Aenos (1152) //
Известия русского археологического института в Константинополе –
1908. № 13. - С. 17-75.
45. Runciman S. Lost Capital of Byzantium. The history of Mistra and the
Peloponnese. - London, 2009. – 168 p.
46. Skawran K. M. Peripheral byzantine frescoes in Greece: the problem of their
connections // Herrin, J., Mullett, M., Otten-Froux C. Mosaic: festschrift for
A.H.S. Megaw – BSA Studies. – T. 8. – Athens, 2001. – P. 75-82.
47. Skawran K. M. The development of middle byzantine fresco painting in
Greece - Pretoria, 1982. – 206 p.
48. Stikas E. L’église byzantine de Christianou, en Triphylie (Péloponnèse), et
les autres édifices de même type - Paris, 1951. - P. 35-45
83
49. Tomeković S. Le “maniérisme” dans l’art mural à Byzance: 1164-1204 -
Paris, 1984. – 484 p.
50. Velmans T. La peinture murale byzantine à la fin du Moyen Âge. - Paris,
1977. – 319 p.
51. Velmans T. Peinture et mentalité à Byzance dans la seconde moitié du XIIe
siècle // Cahiers de civilisation médievale. – 1979. – Vol. 87. – P. 217-233.
52. Wharton-Epstein A. Art of Empire. Painting and architecture of the
byzantine periphery. A comparative study of four provinces. – Pennsylvania
State University Press, 1988. – 198 p.
53. Xyngopoulos A. Thessalonique et la peinture macédonienne - Athènes,
1955. – 78 p.
54. Γκιολές Ν. Ο βυζαντηνός τρούλλος και το εικονογραφικό του πρόγραµµα
(Μέσα 6ου αι. – 1204) -Αθήνα, 1990.– 289 σ.
55. Δρανδάκης Ν. Αγνωστα γλυπτα της Μανης αποδοµενα στο µαρµαρα
Νικητα η στα εργαστηρι του // ΔΧΑΕ – 1975-1976. – Vol. 8. - Σ. 19-27.
56. Δρανδάκης Ν. Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης - Αθήνα, 1964
57. Δρανδάκης Ν. Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης - Αθήνα, 1995. –
502 σ.
58. Δρανδάκης Ν. Οι τοιχογραφίες του Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο
Μονεµβασίας // ΔΧΑΕ – 1977-1979. –Vol. 9. - Σ. 35-61.
59. Κουνουπιώτου Ε. Γεράκι: Συντήρησις τοιχογραφίων //Athens Annals of
Archaeology. – 1971. – Vol. 4, T. 2. - P. 154-161.
60. Κωνσταντινίδη Χ. Ο Μελισµός. Οι συλλειτουργούντες ιεράρχες και οι
άγγελοι διάκονοι µπροστά στην αγία τράπεζα µε τα τίµια δώρα η τον
ευχαριστιακό Χριστό. – Θεσσαλονίκη, 2008. – 486 σ.
84
61. Λιάπης Ι. Μεσαιωνικά µνηµεία Έυβοιας -Αθήνα, 1971 - Σ. 23-28.
62. Μάντας Α. Το εικονογραφικό πρόγραµµα του ιερού βήµατος των
µεσοβυζαντινών ναών της Ελλάδας (843-1204). - Αθήνα, 2001.– 359 σ.
63. Μουτσόπουλος Ν., Δηµητροκάλλης Γ. Γεράκι. Οι εκκλήσιες του οικισµού -
Thessaloniki, 1981. – 246 σ.
64. Πάλλας Γ. Νεότερα για το εργαστήριο γλυπτικής της Σαµαρίνας (τέλη 12ου
- αρχές 13ου αι) // ΔΧΑΕ – 2006. – Vol. 27. - Σ. 91-100.
65. Παναγιωτόπουλος Ι. και αλ.. Χριστιανική Μεσσηνία. Μνηµεία και ιστορία
της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. – Αθήνα, 2010. – 386 σ.
66. Πανσελήνου Ν. Τα σύµβολα των ευαγγελιστών στη βυζαντινή µνηµειακη
τέχνη. Μορφή και περιεχόµενο // ΔΧΑΕ – 1993-1994. – Vol. 17. - Σ. 79-86
67. Στίκας Ε. Ο ναός της Αγίας Σοφίας επί του κάστρου της Μονεµβασίας //
Λακωνικαι Σπουδαι. – 1986. – Vol. 8. - Σ. 271-376.
68. Σωτηρίου Γ. Η Αγία Τριάς Κρανιδίου // Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών. – 1926. – Vol. 3. - Σ. 192-205.
69. Σωτηρίου Μ. Η πρώιµος παλαιολόγειος αναγέννησις εις τας χώρας και τας
νήσους της Ἑλλάδος κατά τον 13ον αιώνα // ΔΧΑΕ – 1964-1965. – Vol. 4. -
Σ. 257-276.
70. Τσιγαρίδας Ε. Οι τοιχογραφίες της µονής Λατόµου Θεσσαλονίκης και η
βυζαντινή ζωγραφική τον 12ον αιώνα. - Θεσσαλονίκη, 1986.– 224 σ.
71. Χατζηδάκης Μ. Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπο // ΔΧΑΕ – 1959. –
Vol. 4. - Σ. 87-107.
85
Список иллюстраций Фотографии предоставлены нам А.В. Захаровой (если не указано иного).
1. Карта южного Пелопоннеса.
2. Церковь Евангелистрии в Гераки, вид с юго-запада.
3. Роспись Евангелистрии в Гераки.
4. Евангелистрия в Гераки, фрагмент Введения во храм.
5. Евангелистрия в Гераки, Распятие.
6. Евангелистрия в Гераки, Сошествие во ад.
7. Евангелистрия в Гераки, Рождество.
8. Евангелистрия в Гераки, Вход в Иерусалим и святые в западном
компартименте.
9. а) Пантократор в куполе Евангелистрии; б) Пантократор Дафни
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_von_Daphni_002.jpg)
10. Северо-восточный поклоняющийся ангел в куполе Евангелистрии.
11. а) Евангелистрия в Гераки. Пророки в барабане купола, общий вид; б)
Пророк Даниил.
12. а) Евангелист Иоанн; б) Евангелист Лука.
13. Евангелистрия в Гераки. Св. Иоанн Каливит.
14. Евангелистрия в Гераки. Св. дьякон Евпл.
15. Евангелистрия в Гераки. Св. Поликарп Смирнский.
16. Евангелистрия в Гераки. Алтарная преграда.
17. Восточный склон северной подпружной арки – неизвестный святой.
18. Восточная пара ангелов в куполе Евангелистрии.
19. а) Евангелистрия в Гераки. Свод вимы, Вознесение, северная группа
апостолов; б) южная группа апостолов.
20. Мозаики Монреале.
21. Осиос Давид в Фессалониках. Крещение.
22. Панагия Кипариссиотисса в монастыре св. Иерофея в Мегаре. Роспись
купола, два фрагмента.
86
23. Молодые апостолы из северной (а) и южной (б) групп Вознесения в
Евангелистрии в Гераки.
24. Св. Афанасий.
25. Св. Стефан Первомученик
26. Западный склон северной арки – неизвестный святой.
27. Св. Екатерина.
28. Панагия Космосотира в Феррах. Св. воин.
29. Евангелистрия в Гераки, Сошествие во ад. Фрагмент.
30. Евангелистрия в Гераки. Ангелы «третьей манеры».
31. Агиос Николаос близ Монемвасии. а) Вход в Иерусалим; б) лик из
Явления Христа святым жёнам; в) фрагмент Успения.
32. Св. София в Монемвасии. Вид с юго-востока.
33. Св. София в Монемвасии. Ветхий Деньми.
34. Св. София в Монемвасии. Святители.
35. Святые мученики в тромпах св. Софии в Монемвасии.
36. Ефрем Сирин.
37. Вход из нартекса в наос.
38. Нартекс св. Софии в Монемвасии. Ангел.
39. Роспись руинированной церкви в Оропосе (Χατζηδάκης Μ. Βυζαντινές
τοιχογραφίες στον Ωρωπο // ΔΧΑΕ–1959.–Vol. 4.-Π. 38)
40. Бачковская костница. а) Крещение; б) Святители и преподобные; в)
Богородица.
41. а-в) Вардзия, фрагменты росписи.
42. Епископия на Мани. Вид с востока.
43. Роспись купола Епископии.
44. Епископия на Мани. Вознесение.
45. Роспись предалтарных столбов Епископии. Три образа Христа.
46. Епископия на Мани. Рождество.
47. Епископия на Мани. Вход в Иерусалим.
48. Епископия на Мани. Преображение.
87
49. Епископия на Мани, роспись западного компартимента. а) Казнь св.
Георгия; б) Мучение св. Георгия.
50. Роспись нартекса Епископии. Ад.
51. Роспись Милешева. Ангел.
52. Церковь Зоодохос Пиги (Самарина). Вид с юго-востока.
53. Роспись купола Самарины.
54. Роспись алтаря Самарины.
55. «Портреты» святителей в боковых апсидах Самарины.
56. Роспись предалтарных столбов (алтарной преграды) Самарины. а)
Богородица с младенцем и св. Зосима; б) Христос на троне и Мария
Египетская.
57. Самарина. Группа апостолов в сцене Вознесения.
58. Самарина. а) Благовещение; б) Сретение.
59. Самарина. Поклонение волхвов.
60. Самарина. Сошествие во ад.
61. Роспись нартекса Самарины. Фрагмент Пятидесятницы.
62. Роспись нартекса Самарины. Сцены Страстей.
63. Дмитриевский собор во Владимире. Апостолы из Страшного суда.
64. а) Симеон Богоприимец из Самарины; б) Симеон Богоприимец из
Нерези.
65. Агиос Стратигос в Эпано Буларии (на Мани). Вид с юга. (Δρανδάκης Ν.
Вυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης - Αθηνα, 1995. - σ. 393)
66. Роспись Агиос Стратигос. Общий вид.
67. Агиос Стратигос. Богородица на троне в конхе апсиды.
68. Агиос Стратигос. Вознесение. Фрагменты – а) Христос во славе; б)
апостолы.
69. Агиос Стратигос. а) Исцеление кровоточивой жены; б) Исцеление
слепого.
70. Агиос Стратигос. Распятие.
71. Агиос Стратигос. Сошествие во ад.
88
72. Агиос Стратигос. Пятидесятница.
73. Агиос Стратигос. Святые в нижнем ярусе росписи.
74. а) Агиос Стратигос. Лик Богородицы из сцены Рождества; б) Св.
Нестор из церкви св. Николая Каснициса.
75. Панагия Крина на Хиосе. а) фрагмент Евхаристии; б) Христос.
Фрагмент Сошествия во ад.
76. а) Церковь свв. Апостолов в Перахорио. Богородица в апсиде; б)
Трапезная монастыря Иоанна Богослова на Патмосе. Богородица.
77. Мозаики кафоликона Дафни. Благовещение Иоакиму и Анне.
78. а) Мозаики Михайловского Златоверхого монастыря. Евхаристия; б)
Кафоликон монастыря Осиос Хризостомос близ Кутсовендис на Кипре.
Пророк Моисей. (Mango C., Hawkins E., Boyd S. The monastery of st.
Chrysostomos at Koutsovendis (Cyprus) and its wallpaintings. Part 1:
Description. // DOP – 1990. – Vol. 44. – Plate 2)
79. Церковь св. Пантелеймона в Нерези. Оплакивание.
80. Церковь св. Пантелеймона в Нерези. Сретение.
81. Церковь св. Пантелеймона в Нерези. Св. Пантелеймон.
82. Фрески церкви свв. Бессребренников в Кастории.
83. Фрески церкви св. Николая Каснициса в Кастории.
84. Церковь Панагии Мавриотиссы в Кастории. Крещение.
85. Церковь св. Георгия в Курбиново. Фрагменты росписей.
86. Энклистра Неофита близ Пафоса на Кипре. а) Сошествие во ад; б)
Христос Эммануил.
87. Церковь Панагии Аракиотиссы в Лагудера. а) Архангел Гавриил из
Благовещения; б) Христос Антифонитис; в) Рождество.
88. Церковь свв. Апостолов в Перахорио на Кипре. Фрагмент Вознесения.
89. Церковь свв. Бессребренников в Кастории. Вознесение. Роспись
нартекса.
90. Трапезная монастыря Иоанна Богослова на Патмосе. Гостеприимство
Авраама и Ветхозаветная Троица.