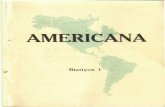(The Spiritual Vineyard of Sciences: Collection of Papers) Вертоград наук...
Transcript of (The Spiritual Vineyard of Sciences: Collection of Papers) Вертоград наук...
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Н. Ю. Сухова
ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
СБОРНИК СТАТЕЙ ПО ИСТОРИИ
ВЫСШЕГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
XIX — начала XX века
Москва
2007
УДК 27 ББК 86.372
С 91
Сухова Н.Ю .С 91 Вертоград наук духовный: сборник статей по исто
рии высшего духовного образования в России XIX — начала XX века. — М., Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007. — 384 с.
ISBN 978-5-7429-0280-5 УДК 27 ББК 86.372
Корректор Петровский В.Ю. Оригинал-макет Ковалец С.М.
Художественное оформление Бурый И.А.
ИздательствоПравославного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета 113184, Москва, Новокузнецкая ул., 23 б
e-mail: [email protected]
Подписано в печать 2.11.2007 Бумага офсетная. Печать офсетная Формат 60x90/16. Объем 24 печ. л.
Тираж 500 экз. Заказ 405
Отпечатано в типографииПатриаршего издательско-полиграфического центра
г. Сергиев Посад тел.(факс): (495) 721-26-45
ISBN 978-5-7429-0280-5 © Н.Ю. Сухова, текст, 2007© Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, редакция, оформление, 2007
«Любомудрствовать о Боге можно не всякому, — да! не всякому. Это приобретается недешево и не пресмыкающимися по земле! Присовокуплю еще: можно любомудрствовать не всегда, не перед всяким и не всего касаясь, но должно знать: когда, перед кем, и сколько. Любомудрствовать о Боге можно не всем; потому что способны к сему люди, испытавшие себя, которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере очищают, и душу и тело...»
Святитель Григорий Богослов. Слово 27, против евномиан и о богословии первое или предварительное.
ПРЕДИСЛО ВИЕ
Предлагаемый читателю сборник статей посвящен истории становления и развития высшего богословского образования в России, проблемам, возникающим в этом нелегком процессе, и путям их решения.
Богословская наука, духовная школа, религиозное образование, церковно-практические конференции — эти понятия в последние годы не только вошли в жизнь российского общества, но позволили по-новому осмыслить пройденный исторический путь, культурные традиции и наследие, нравственные устои и принципы воспитания, увидеть в истинном свете и выработать ценностный подход к современным достижениям науки и проблемам человеческого бытия. Время показало насущную необходимость глубокого, серьезного, научного богословского знания, причем не только для узкого круга профессионалов, а для любого разума, вставшего на путь научного познания истины. Эта востребованность оказалась значительнее и основательнее, нежели исторические изменения и влияния той или иной эпохи. Неизбежно и объективно перед новой эпохой и новым поколением открылись не только истинные перспективы, но и обязанность реализовать дарованную возможность познания, с учетом опыта предшественников. Роль богословия в современном мире — в Церкви, межконфессиональных отношениях, науке, государстве, обществе, культуре — возра-
5
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
стает, и это возлагает особую ответственность на богословскую школу. Именно она должна готовить кадры, способные, с одной стороны, адекватно интерпретировать учение Церкви на современном языке, с учетом научных, культурных, социальных достижений, с другой стороны, оперативно решать новые проблемы, требующие научно-богословского исследования, анализировать и обобщать полученные результаты в духе церковного Предания и целостного догматического учения.
Российская богословская школа имеет немалый опыт, и в своем поиске и совершенствовании она может опираться на традицию. Эта традиция формировалась с первых веков христианства на Руси — в умении принимать, осмыслять и реализовывать в церковной жизни христианскую ученость Византии, в дальнейшем — при появлении школ — в выработке адекватных подходов к иноконфессиональному богословию. В XVIII в., в процессе формирования российской научно-образовательной системы, постепенно возникала сеть специальных — «профессиональных» — церковных школ, при этом формулировались принципы и методы духовной школы, а также те задачи, которые ставит перед ней Церковь и государство. В XIX в. была сформирована целостная духовно-учебная система, с преемством образовательных уровней, перед которой был поставлен ряд церковно-практических задач, а также задача развития богословской науки. Особую роль в этой системе играла ее высшая ступень — четыре духовные академии (Санкт-Петербургская, Московская, Киевская, Казанская), которые должны были стать одновременно богословскими университетами, педагогическими институтами, высшими пастырскими школами, центрами разработки богословской науки, экспертно-научными, учебно-методическими и административными центрами.
Духовные академии прошли непростой путь в своем развитии, имели богатый опыт успехов, ошибок и их исправления. Проблемы, возникающие на их пути, отчасти были обусловлены историческими условиями, спецификой пройденного пути, разными влияниями, особенностями российской научно-образова- |с/|ыюй системы. Вставали и проблемы, выявляющиесущност-
б
Предисловие
ные черты духовного образования, научно-богословских исследований, богословской полемики, миссионерской деятельности Церкви. Богословская наука в духовных академиях развивалась непросто, но не бесплодно. Практически каждая область богословской науки имела достижения, а в начале XX в. можно было уже констатировать, что она вышла на путь самостоятельного развития, способна оперативно реагировать на возникающие богословские проблемы и решать их на соответствующем научном уровне.
Современная наука ушла далеко вперед за прошедшее столетие. В научном богословии появились новые направления исследований, возникающие в них проблемы требуют иных подходов, выработки новых научных понятий и методов. Отечественная духовная школа, призванная решать одновременно сложные научные и церковно-практические задачи, творчески участвовать в культурной и социальной деятельности, встала на путь качественного совершенствования, выработки новых образовательных форм. Однако «новый богословский порыв»', к которому призваны студенты и выпускники богословских школ, подразумевает реальное понимание проблем, возникавших в «богословских порывах» прошлых лет, и использование их опыта. Идеи и проекты, составленные нашими предшественниками, указывают направление творческой работы и дают целый спектр разных вариантов, сочетавших многовековой опыт отечественного светского и духовного образования с изучением теологии в Европе, универсальность системы гуманитарных знаний со спецификой теологии как науки со своей внутренней структурой и методами, учет социальных и культурных запросов с сохранением сакральной значимости богословия.
' Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Белоруссии. Оценка состояния и перспектив развития современного православного богословия / / Труды Богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия». Москва, 7 -9 февраля 2000 г. / / Церковь и время. № 2 (11). 2000. С. 20.
7
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Разумеется, от современной богословской школы требуется не только тщательное изучение опыта наших предшественников, но творческое соучастие в нем, привнесение нового, соответствующего лучшим традициям и отвечающего современным запросам. Живое — а образование и наука есть самое яркое проявление жизни — не должно быть механическим копированием прошлого и в формах, и в методах. Традиции — живая цепь преемства, а право и обязанность преемника — привнести нечто новое по сравнению с предшественниками, чтобы сделать больше и лучше их и двинуть вперед общую работу. Без такой — творческой — задачи каждого последующего звена в единой цепи не может быть достигнута общая цель. Богатое разнообразие направлений духовно-учебной и богословско- научной деятельности, появившееся в последние годы, побуждает как к практическому поиску более совершенных форм и методов, так и к теоретической работе — осмыслению принципов богословского познания.
Хронологически статьи сборника охватывают около 110 лет: с начала XIX в., когда высшая духовная школа была выделена в особую ступень, со своими задачами и принципами, до 1917-1918 гг., когда на Поместном Соборе был подведен итог 110-летней деятельности академий и на основе накопленного опыта сформулированы идеи, открывающие новые перспективы и требующие опытной проверки. Эту проверку не удалось провести в послесоборные годы, ибо духовные академии действовали еще несколько лет в тяжелейших условиях, после чего деятельность духовной школы была прервана на несколько десятилетий.
Главная задача сборника — показать многообразную и многосложную жизнь высшей духовной школы России в этот период, уделяя внимание преимущественно тем проблемам и идеям, которые актуальны в деятельности современной высшей богословской школы.
На протяжении 110 лет деятельности высшей духовной школы шел постоянный поиск оптимальных форм учебной и
8
Предисловие
научной богословской деятельности, учебных планов и программ, принципов и методов исследований. Однако не все проблемы решались эволюционным путем, и жизнь духовной школы менялась проведением реформ. Именно в периоды подготовки реформ наиболее четко формулировались проблемы, обнаруженные в жизни академий, систематизировались идеи и составлялись проекты, предлагались перспективные пути развития высшего богословия. В сборник включены статьи, в которых исследуются наиболее важные из реформ духовных академий — реформа 1808-1814 гг., создавшая высшую духовную школу как таковую и поставившая перед ней определенные задачи2, и реформа 1869 г., с которой связывается начало систематического развития в России научного богословия3 4 . С разработкой и проведением каждой из этих реформ связано много проблем, которые требуют тщательного изучения. Эти реформы не только отражали состояние высшей духовной школы XIX в., но выявили некоторые черты духовного образования в целом, которые не только не потеряли актуальность в наши дни, но наиболее значимо начинают заявлять о себе в процессе развития современной духовной школы и ее реформировании.
Одним из наиболее сложных и драматичных периодов в истории высшей духовной школы является начало XX в.1 С одной стороны, общественно-политические и дисциплинарно-организационные проблемы нашли отзвук в академиях в виде нестроений в студенческой среде, борьбы за автономию преподавательских корпораций. С другой стороны, именно в это время высшая духовная школа достигла состояния определенной зрелости, как в учебном, так и в научном отношении. Опыт, накопленный за столетие активной деятельности высшей
2 Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг. и становление высшей духовной школы в России.
3 Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки в России.
4 Богословское образование в России в начале XX в. — полемика, анализ, синтез.
9
Н. Ю . Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
духовной школы, положительный и отрицательный, требовал анализа, обсуждения и осмысления, выработки новых, более удачных образовательных концепций. Такие обсуждения в начале XX в. были проведены несколько раз, причем этот процесс сопровождался составлением проектов и аналитических записок, активными дискуссиями, формулировкой идей. Не все идеи были реализованы, большая их часть осталась в виде наследия, требующего изучения и осмысления современной богословской школой.
Поставленная автором задача потребовала включения в сборник ряда статей, посвященных отдельным сторонам жизни и деятельности академий, преподавательских и студенческих корпораций, а также личностям, оказавшим особое влияние на развитие духовной школы и богословской науки. Основное внимание в этих статьях уделяется вопросам, связанным с учебной и научной деятельностью духовных академий. Все остальные стороны их жизни — организационно-административная, воспитательная, общественная — затрагиваются лишь по мере их связи с этой деятельностью.
Развитие богословской науки ставилось перед высшей духовной школой в качестве непосредственной задачи с самого начала ее существования, особый акцент на этой задаче был сделан при проведении реформы 1869 г. Однако процесс развития специальных научно-богословских исследований был очень сложен и сопряжен с проблемами, как организационными, так и научно-методическими5. Эти исследования ставили вопросы об области научно-богословских исследований, определении структуры богословского знания и взаимосвязи его отдельных составляющих, о синтезе научно-критических методов и многовекового опыта церковного богословия, о сочетании свободы научного поиска и церковной ответственности исследователей. Деятельность системы научной аттестации, которая неизбежно сопутствовала введению исследований в
5 Научно-богословские исследования в России — проблемы и поиск (X IX — начало XX в.)
10
Предисловие
организационные рамки, поставила вопрос о критериях оценки научно-богословских достижений. Все эти вопросы, важные, а порой и болезненные для своего времени, встают и на современном этапе развития богословской науки.
Заметным явлением в духовно-академической жизни второй половины XIX — начала XX в., связанным с активным развитием богословских исследований, стали научные командировки преподавателей за границу6. Само научное общение представителей российской духовной школы с иностранными коллегами, изучение иных образовательных традиций, знакомство с письменными, церковно-историческими, церковно-археологическими памятниками представляет интерес для исследования. Однако рассмотрение заграничных командировок в контексте активного научного развития духовных академий ставит вопрос: какой конкретный вклад внес этот процесс и насколько значительно было его влияние на развитие отечественного богословия и духовной школы? Особую значимость этот вопрос имеет в наши дни, когда расширились возможности различных контактов российской богословской школы с православными и иноконфессиональными школами.
В конце XIX — начале XX в. особенно актуален был вопрос об участии преподавателей и выпускников высшей духовной школы в совместных научно-гуманитарных исследованиях с учеными российских университетов и Академии наук. Одним из ярких примеров такой совместной деятельности была работа в Русском археологическом институте в Константинополе (РАИК)7. Важным представляется, с одной стороны, оценить значение того вклада, который внесла деятельность РАИК в развитие богословской науки и духовной школы, с другой стороны, исследовать сам процесс общей научной богословско-
6 Научные командировки преподавателей духовных академий за границу и их значение для российского образования и науки (вторая половина XIX — начало XX в.)
7 Русский археологический институт в Константинополе и участие высшей духовной школы в его деятельности (1894-1914 гг.)
И
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
гуманитарной деятельности, проблемы и успехи, которые она имела.
Особой, исторически сложившейся, проблемой российского богословия была его длительная оторванность от реальной церковной жизни с ее задачами и проблемами8. Такое положение не позволяло, с одной стороны, применять достижения богословской науки к решению конкретных проблем, с другой стороны, лишало теоретическое богословие движущей силы, стимулирующей его развитие. Поэтому одной из главных задач преподавателей и выпускников духовных академий в конце XIX — начале XX в. было установление взаимосвязи богословской науки с церковной жизнью, формулировка проблем, возникающих в современной церковной жизни, на языке научного богословия, выработка особых методов для их исследования. В решении этой задачи духовные академии имели определенные успехи, которые требуют не только изучения, но и интерпретации для возможного современного использования.
Одним из интересных и важных явлений в истории российского православного духовного образования конца XIX — начала XX в. была деятельность студенческих кружков и обществ9 . Небезынтересен и сам опыт кружковой деятельности: проблемы, которые их участники пытались решать, связь этой деятельности с учебным процессом, с одной стороны, с общецерковными и общественными событиями, с другой. В изучении этого явления есть и практический интерес для современной духовной школы: какие формы студенческой самодеятельности оказались наиболее приемлемыми и полезными для процесса образования и воспитания, решили ли кружковые занятия те задачи, которые перед ними ставили их инициаторы?
Отдельная статья посвящена ученому монашеству — особому разряду иночества, подвизающемуся на учено-учебной
н Практическое богословие в российских духовных академиях — проблема понимания и сложности развития (XIX — начало XX в.)
9 Студенты высшей духовной школы в России — научный поиск и церковный порыв (1890-1900-е гг.)
12
Предисловие
стезе10 11. Деятельность ученых инокой имела большое значение для развития духовного образования и богословской науки в России, но приводила к немалым проблемам, как для духовной школы, ее организации, так и для ученого монашества. С одной стороны, духовно-учебная служба постепенно все более отрывала ученых иноков от привычного монастырского образа жизни и сопрягала их монашеский подвиг с дополнительными сложностями. С другой стороны, традиционное назначение черного духовенства на начальственные должности приводило к их частым перемещениям, что серьезно осложняло занятия наукой каждого ученого инока и не позволяло реализовать надежды на «ученые монашеские коллегии», которые неоднократно высказывались при обсуждениях организации научнобогословской деятельности. Проекты по консолидации сил ученого иночества и устроении их монастырской жизни составляют неотъемлемую часть истории высшей духовной школы, в них же проявились многие важные черты богословского образования в целом.
Богословие в российской образовательной системе в XIX — начале XX в. занимало особое место: с одной стороны, оно имело самостоятельную основу в духовной школе, с другой стороны, неизменно входило в общую государственную образовательную систему в виде особых учебных курсов. Поэтому исследование самостоятельной жизни духовных академий дополнено статьей, в которой представлена деятельность университетских кафедр богословия11. Роль богословия в системе университетских наук, отношения специальных богословских областей — церковной истории, церковного законоведения — с соответствующими гуманитарными науками — вопросы, важные для истории духовной школы, но имеющие и особую актуальность на настоящем этапе развития богословского образования. Успехи
10 Ученое монашество в России: научно-богословская деятельность и проблема консолидации.
11 Богословские науки в российских университетах — традиция и перспективы.
13
Я . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
университетских богословских кафедр, проблемы, сопряженные с их деятельностью, пути решения этих проблем позволяют более ясно определить место и роль высшей духовной школы в истории российской науки и образования в целом.
Особая статья посвящена деятельности в области высшего духовного образования святителя Филарета (Дроздова)12. Трудно назвать личность, столь же значимую для развития российской духовной школы и научного богословия: идеи святителя Филарета во многом определяли пути совершенствования отечественного богословия и в период его активной духовноучебной деятельности, и в эпоху архиерейской деятельности, остались наследием для потомков, приобретают все большее значение в наши дни. Это наследие исследуется, предложения и проекты святителя Филарета реализуются, они, как и прежде, являются камертоном для современной духовной школы. Поэтому особенно важным становится изучение того, как сам святитель относился к традиции духовной школы и опыту своих предшественников. Как он — выпускник, преподаватель, ректор духовной школы — использовал этот опыт, как соотносил с ним введение принципиально новых элементов в учебное дело и научные исследования, в каких случаях допускал реформа- ционные вмешательства в процесс развития духовной школы.
Высшая духовная школа в России была особым феноменом, не сводимым ни к учебным проблемам, ни к проводимым реформам, ни к деятельности отдельных, даже великих, личностей. Вклад, внесенный духовными академиями в православие, в русскую духовную культуру, в отечественное богословское просвещение, требует комплексных исследований совместными силами представителей богословской и гуманитарных наук и особого осмысления.
12 Святитель Филарет (Дроздов) и высшая духовная школа XIX века: новизна и традиция.
ДУХОВНО-УЧЕБНАЯ РЕФОРМА 1 8 0 8 -1 8 1 4 гг. И СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕЙ ДУХОВНОЙ
ШКОЛЫ В РОССИИ
Настоящая статья посвящена начальному моменту в истории высшего духовного образования в России — реформе 1808— 1814 гг., разделившей духовную школу на отдельные ступени и позволившей каждой из этих ступеней сосредоточиться на конкретных задачах, совершенствуясь в их решении. В целом эта реформа оценивалась положительно и ее современниками, и последующими поколениями деятелей духовного образования1 . В историографии роль «александровской» реформы в
1 Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету. СПб., 1900. С. 124; Чистович И, А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1857 (далее: Чистович. История СПбДА); Аскоченский В. История Киевской Духовной Академии. Киев, 1863; Певницкий В. О судьбах богословской науки в нашем отечестве / / ТКДА. 1869. № 11-12. С. 139-219; Прилежаев Е. М. Царствование Александра I в истории русской духовной школы. СПб., 1878; Знаменский П. В. Основные начала духовно-училищной реформы в царствование императора Александра I. Казань, 1878; Смирнов С. К. История Московской Духовной Академия до ее преобразования 1814-1870. М., 1879 (далее: Смирнов. История МДА); Бердников И. Краткий очерк учебной и ученой деятельности Казанской духовной академии за 50 лет ее существования 1842-1892. Казань, 1892; Титов Ф. И., прот. Преобразования духовных академий в России в XIX веке. Киев, 1906; Его же. Московский митрополит Макарий Булгаков: К 25-летию со дня его кончины / / БВ. 1907. № 6. С. 393:
15
истории российской духовной школы и богословской науки также ставится достаточно высоко* 2. Однако более внимательное изучение документов, связанных с разработкой и проведением этой реформы, а также с адаптацией ее результатов в жизни высшей духовной школы, показывает, что ситуация не была столь однозначной. Реформационный процесс начала XIX в., решив многие проблемы, выявил новые, более сложные. Еще более важно то, что проведение этой реформы поставило серьезные вопросы, связанные с местом духовной школы в жизни Церкви, с научным богословием и его значением в системе наук в целом. Для понимания и изучения этих вопросов требуется обращение к источникам, а также учет особенностей развития российской духовной школы, исторического контекста и последствий проведенной реформы.
К началу XIX в. Православная Российская Церковь имела сеть духовных школ, включавшую 4 академии, 35 семинарий и 76 низших училищ, с 29 000 учащихся3. Усилия церков
____________ Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ___________
Титлинов Б. В. Комитет духовных училищ 1807-1808 гг. и училищные уставы / / ХЧ. 1908. № 3. С. 422-447; Богословский М. Реформа высшей духовной школы при Александре I и основание Московской Духовной Академии. Сергиев Посад, 1917; Кирилл (Гундяев), архиеп. Богословское образование в Петербурге — Петрограде — Ленинграде: традиция и поиск / / БТ. Юбилейный сборник, поев. 175-летию ПДА. М., 1986; Вениамин (Новак), иером. К 175-летию первого выпуска Петербургской Православной Духовной Академии. Актовая речь 10.12.1989 / / ХЧ. 1990. № 1 и др.
2 Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд. Вильнюс, 1991 (далее: Флоровский. Пути русского богословия). С. 128-147; Смолич И. К. История Русской Церкви: 1700-1917. Ч. 1. М., 1996. С. 418-426; Виииенкова Е. А. Духовная школа России первой четверти XIX века. Казань, 1998; Федоров В. А. Духовное образование в Русской Православной Церкви в XIX в. / / Педагогика. 2000. № 5. С. 75-83 и др.
!РГИА. Ф. 802. On. 1. Д. 11434. Сведения приведены на 1808 г. — начало духовно-учебной реформы. Академии существовали в Киеве, Москве (статус академий с 1701 г.), Санкт-Петербурге и Казани (статус академий с 1797 г.), но они были собственно высшими школами,
16
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
ной и государственной власти, епископата, ревнителей духовного образования привели к тому, что практически в каждой из 36 епархий, существовавших к 1808 г., были духовные школы, так или иначе решавшие задачу подготовки приходского духовенства. Эти школы и российское духовное образование в целом за XVIII в. достигли определенных успехов, но их деятельность была отягощена многими проблемами, требующими разрешения.
Прежде всего, серьезные проблемы были связаны с духовно-учебным процессом, что к началу XIX в. ощущалось особенно остро. Западные школьные традиции, введенные в русское духовное образование в XVII-XVIII вв„ к началу XIX в. уже претерпели неоднократные изменения, но даже после всех обновлений и усовершенствований они не удовлетворяли современным образовательным запросам. Богословие к этому времени понималось как профильный предмет духовной школы, но уровень его преподавания в большинстве духовных школ был невысок. Некоторым школам, преимущественно в центральных епархиях, усилиями ревностных архиереев и талантливых преподавателей удавалось усилить богословский класс, и выпускники этих школ вносили свой вклад в духовное просвещение* 1.
ибо имели в своем составе все классы, начиная с младших. Указ 11 января 1798 г. предъявил к академиям определенные требования в учебном и организационном отношении, а также наметил «академические округа», прикрепляя к академиям семинарии. Но, так как при этом в академиях сохранялся полный состав классов, с соответствующими задачами и проблемами, принципиальных изменений провести не удалось. См.: ПСЗ. Т. XXV. № 18726.
1К концу XVIII в. московские школы (Московская академия, Троицкая семинария), Александро-Невская Главная семинария сумели поставить образование на более высокий уровень: их выпускники составили круг образованного епископата, духовенства и преподавателей, способный подходить и к процессу образования творчески. Эти центральные школы славились и как педагогические институты, что иногда использовали провинциальные семинарии. Но всего этого было мало, чтобы поднять образование на принципиально новый уровень.
17
Н . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Но их было немного, и при таком положении все попытки повысить уровень богословского просвещения в целом имели незначительные результаты. Рассудочные построения, диалектика и риторический схематизм — обязательные атрибуты средневековой школы - к концу XVIII в. уже не составляли основы учебного процесса, но не позволяли сделать новые научные методы определяющими5. Формальное направление обучения, выражавшееся и в составе предметов, и в изучаемых богословских системах, и в методах обучения, становилось серьезным тормозом развития духовной школы. Приоритет философско- словесного направления сформировал в духовной школе особую систему мышления, которую трудно было, с одной стороны, изменить в направлении научно-критическом, с другой стороны, приблизить к реальному церковному служению, предстоящему выпускникам. Засилье формальных наук постарались
5 Обновление методического аппарата шло двумя путями: 1) введение элементов исследования в богословские курсы (тщательное изучение Священного Писания, хотя и с использованием латинских пособий или их русских переложений; исторический подход в догматическом богословии, в виде свидетельств от древних церковных авторов; постепенный отход от схоластических тонкостей, фиктивной аргументации, жестких структур, метода «вопросов» и «ответов», «тезисного» метода; сравнительный анализ мнений разных авторов на те или иные богословские вопросы; чтение и разбор некоторых святоотеческих трудов; чтение и толкование церковных правил, с применением к конкретным ситуациям; замена старых риторических приемов более живыми приемами церковного красноречия); 2) заимствование методик обучения у системы народного образования (в 1780-х гг., хотя, по свидетельству историков академий, их введение было формальным и малоэффективным). См.: Макарий (Булгаков), иером. История Киевской Духовной Академии. СПб., 1843. С. 171; Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии. М., 1855. С. 314-315; Его же. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867. С. 326-335; Чистович. История СПбДА. С. 76-77; Знаменский П. В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. Казань, 1881. Переизд.: СПб., 2001 (далее: Знаменский. Духовные школы до 1808 г.) С. 733-739, 769-775.
18
преодолеть введением в учебные планы духовных школ наук «положительного знания» — истории, физики, географии. Отчасти это удалось, но привело к двум проблемам: не поставленные в органическую связь с богословием, эти предметы перегружали учебные планы, не получив в духовной школе серьезной постановки, они не могли давать основательных знаний'1.
Специальное духовное образование XVIII в. не отвечало удовлетворительно запросам, предъявляемым к нему церковной жизнью. В духовных школах XVIII в. богословие составляло старший класс, и большинство учащихся не доходило до этого класса, завершая свое образование риторским или философским классом. Таким образом, ставленники на священнические места не получали систематического богословского образования.
Латинский язык, сохраняемый в русских академиях и семинариях в качестве языка преподавания, открывал учащимся доступ к западному богословию и другим наукам, но разделял духовную ученость с церковным приходским служением. Это разделение не позволяло, с одной стороны, строить образование более реально и целенаправленно, с другой стороны, лишало духовную ученость живительной «подпитки» реальными церковными проблемами. Латиноязычное богословие, прочно вошедшее в учебный процесс, задерживало формирование русского богословского понятийного аппарата, создание русской богословской литературы6 7. Духовно-учебный процесс был
6 Науки «положительного знания» должны были преподаваться в Академии, проектируемой Духовным регламентом, но в реальных духовных школах практически отсутствовали (кроме элементарной арифметики). Эти предметы были введены в учебные планы духовных школ в 1763-1765 гг., затем состав их был расширен в 1797-1798 гг. См.: ПСЗ. Т. XVI. № 11718, 12060; Там же. Т. XXV. № 18726. П. 2-6; Знаменский. Духовные школы до 1808 г. С. 447-450, 459-462, 766- 769, 713-718.
7 К началу XIX в. русский язык отчасти завоевал место в духовной школе: в классе пиитики изучались некоторые образцы русской поэзии; в классах риторики, философии, богословия на русском языке
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг. _____________
19
н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
слабо оснащен учебными пособиями, отвечающими современному уровню. Так как большая часть богословских источников была недоступна для российских духовно-учебных деятелей, преодолеть зависимость от тех или иных западных авторов было практически невозможно8.
В течение XVIII в. определилась сословная замкнутость духовных школ, имевшая два следствия: состав учащихся ограничивался «духовным юношеством», то есть, детьми священно- и церковнослужителей, а совершенствование общего образования в духовных школах приходилось осуществлять внутренними силами. Высшие классы духовных школ, по крайней мере, наиболее развитых, должны были готовить преподавателей по всем предметам, что при низком уровне преподавания
писалась часть упражнений; по-русски шло преподавание части светских предметов; в латинские богословские тексты иногда вставлялись цитаты из Священного Писания на славянском языке; появились богословские курсы на русском языке, применяемые, правда, преимущественно в катехизаторских целях. То, что латынь отнимает большую часть учебного времени, отдаляет богословское образование от реальной церковной жизни, понимало и церковное руководство, и епархиальная власть. Но перевести преподавание высших наук (риторики, философии, богословия) на русский язык не представлялось возможным: 1) свободное владение латинским языком делает для выпускников духовных школ доступной латиноязычную «ученость» того времени; 2) нет «классических» книг на русском языке соответствующего уровня; 3) изучение латыни формирует систематическое мышление, содействует и российскому красноречию. См.: Смирное С. К. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 279-280, 310, 340—341; Знаменский. Духовные школы до 1808 г. С. 719-732.
* На протяжении XVIII в. неоднократно менялись главные авторы, определявшие преподавание и в духовных школах, и в дальнейшем образовании их выпускников: католическая доминанта менялась на протестантскую (Квенштедт, Герхард, Голлазий, Турретини, Буд- дей и др.), жесткие системы — на более «жизненное» и близкое сердцу изложение богословских истин, с влиянием пиетизма и морализма (Арндт) или на историко-догматический подход (Мосгейм, Бингам). См.: Знаменский. Духовные школы до 1808 г. С. 741-745; Флоровский. Пути русского богословия. С. 82-127.
20
этих наук в духовных школах было весьма сложно. Задача приготовления учителей делается одной из важнейших в духовноучебной жизни, заботящей не только епархиальное, но и высшее начальство9.
Одной из специфических черт русского богословия было его особое положение в системе отечественной науки. Российская Академия наук и художеств, учрежденная в 1724-1725 гг., не имела богословского отделения и не предпринимала попыток установить систематические научные контакты с духовными школами, хотя и ублажала отдельных ее представителей включением в свои ряды. Первый стабильно действующий российский университет — Московский — не имел теологического факультета. Задача развития научного богословия и подготовки кадров для научно-богословской деятельности, таким образом, возлагалась исключительно на духовные школы. Но духовные епархиальные школы, озабоченные подготовкой просвещенного духовенства и духовно-учебных кадров, не могли систематически заниматься научным развитием богословия.
Попытки высшей церковной и гражданской власти централизованно повысить уровень русского духовного образования и богословия — командировки духовных воспитанников в заграничные университеты, проекты включения богословия в университетскую систему или создание особого духовного университета — были не систематичны и не последовательны10.
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг._______ _ _ ______
9 Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии. С. 261-269, 373-377; Его же. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 450-458, 547-548; Чистович. История СПбДА. С. 8 0 - 84; Знаменский. Духовные школы до 1808 г. С. 665-713.
10 Наиболее значимые из этих попыток: командировка в европейские университеты (Оксфорда, Лейдена, Геттингена) 14 представителей духовных школ в 1765 г., составление проектов духовных университетов и университетских богословских факультетов в 1760- 1770-х гг., попытка централизованно ввести методы обучения народных школ и обеспечить духовные школы учебными пособиями в 1785-1788 гг., наконец, попытка централизации духовно-учебной системы в 1797-1798 гг. (т.н. «академическая реформа»). Но обученное
21
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
К началу XIX в. стало ясно, что существенные сдвиги в образовании духовенства и развитие русского богословия возможны лишь при условии централизации духовно-учебной системы, а для ее осуществления требовалась радикальная реформа. Высказывались и определенные опасения, связанные с централизацией — неизбежная универсализация, потеря местной специфики. Но если для подготовки духовенства и духовно-учебных кадров местная специфика была важна, то богословская наука явно не могла развиваться в тесной епархиальной сфере. Эта радикальная реформа была проведена в эпоху Александра I. В ее разработке и проведении проявилась особенность положения российской духовной школы: с одной стороны, она входила в общее учебно-научное пространство и должна была отвечать его принципам, с другой стороны, имела особые задачи, что требовало некоторой свободы для их решения, позволяющей строить учебно-воспитательный процесс согласно особым принципам. Специфика богословия как науки в эти годы не была предметом специального обсуждения и осмысления, но многими делателями духовной школы имелась в виду.
Общим направлением реформа 1808-1814 гг. соответствовала реформе светского образования, проведенной в 1802— 1804 гг. — централизованная система, объединение школ в учебные округа, выделение в учебной системе последовательных и
за границей юношество было «рассеяно» по разным духовным школам, а новых заграничных командировок не последовало; проекты не были реализованы; учебные пособия были разосланы единожды и не везде их смогли использовать; централизация 1790-х гг. на практике не действовала, оставшись «бумажной» реформой. См.: ПСЗ. Т. XXII. № 16421, 16659, 16691; Там же. Т. XXIV. № 18273; Там же. Т. XXV. № 18726; Смирнов С. К. История Московской славяно-греко-латинской академии. С. 262-263, 313-315; Чистович. История СПбДА. С. 62-68, 75-97; Макарий (Булгаков), иером. История Киевской Духовной Академии. С. 171; Знаменский. Духовные школы до 1808 г. С. 520-531; Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). М., 2006. С. 42-49 .
22
Духовно-угебная реформа 1808-1814 и.
соподчиненных ступеней". Начало духовно-учебной реформы было положено указом императора от 29 ноября 1807 года о создании особого Комитета об усовершенствовании духовных училищ и обеспечении приходского духовенства (далее Комитет)'2. Эти две задачи нельзя было разделить: для того, чтобы выпускники духовной школы могли заниматься духовным просвещением, их необходимо было обеспечить материально. Созыву Комитета предшествовала двухлетняя работа по составлению начального проекта реформы викарным епископом Санкт-Петербургской епархии Евгением (Болховитиновым)13. В Комитет вошли митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов), архиепископ Калужский и
"8 сентября 1802 г. было учреждено Министерство народного просвещения — центральный орган управления системой образования. 24 января 1803 г. были утверждены Предварительные правила народного просвещения, явившиеся концепцией целостной системы государственного образования, с преемством его уровней. 5 ноября 1804 г. был утвержден Устав университетов — первый комплексный законодательный акт в сфере высшего образования. Согласно двум последним документам, каждый из российских университетов являлся не только высшим учебным заведением со своими задачами, но и центром учебного округа, органом управления для средних и низших учебных заведений округа, то есть назначал и увольнял смотрителей, учителей, представлял на утверждение Министру директоров губернских гимназий, направлял инспекторов (визитаторов) из профессоров для осмотра училищ (§ 163, 165, 169 Устава1804 г.).
12 В документах того времени называется Комитетом о усовер- шении духовных училищ (РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Журналы Комитета о усовершенствовании Духовных Училищ 1807 и 1808 гг. Л. 1; далее название дела не указывается).
" Проект был составлен по указанию Новгородского и Санкт- Петербургского митрополита Амвросия (Подобедова), с учетом проектов, присланных архиереями «академических» городов; представлен в 1805 г. императору rj Святейшему Синоду; после этого отзывы напроектбыли получены от Московского митрополита Платона (Лев- шина) и некоторых других архиереев. Их письма с отзывами опубликованы: Полетаев Н. И. К истории духовно-учебной реформы 1808- 1814 гг. / / Странник 1889. № 9. С. 65-77.
23
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Боровский Феофилакт (Русанов), статс-секретарь М. М. Сперанский, обер-прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын, императорский духовник протопресвитер Сергий Краснопевков (он участвовал лишь в первых заседаниях Комитета, ибо вскоре умер) и обер- священник военного духовенства Иоанн Державин. Перед Комитетом стояли три основные задачи: 1) рассмотрение проекта епископа Евгения; 2) расчет суммы, необходимой на его осуществление и на обеспечение жалованием приходского духовенства; 3) определение
путей накопления этой суммы14. Плодом полугодовых занятий Комитета, со дня его основания до июня 1808 г., явились итоговые документы — доклад и «Начертание правил о образовании духовных училищ и о содержании духовенства при церквах», — в которых были сформулированы идеи, давшие основание коренному преобразованию всей системы духовного образования в России15.
Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов)
14 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 1 -2 об.15 Вопрос об авторстве основных идей реформы не решен. Текст
итогового доклада был составлен М. М. Сперанским. Проект, представленный в докладе, значительно отличался от проекта епископа Евгения (в частности, существенно был расширен состав учебных предметов — введена гражданская история, церковные древности, география, история философии, расширена математика). Высказывалась версия использования в докладе проекта, составленного в 1801-1802 гг. архиепископом Анастасием (Братановским). Некоторые идеи проекта Комитета в историографии сравнивались не только с проведенной в России в 1804 гг. университетской реформой, но и с Наполеоновской образовательной реформой 1806 г., учредившей Universitet de France. См.: Глубоковский Н. Н. Начало организованной духовной школы / / БВ. 1917. Т. I. № 6 -7 . С. 90; Титлинов Б. В. Духовная школа
24
Обер-прокурор Святейшего Обер-священник военногоСинода князь А. Н. Голицын духовенства Иоанн Державин
Анализ проблем духовного образования привел Комитет к установлению двух основных принципов реформы10: 1) организация духовных школ в единую систему, с особым высшим управлением, разделением на несколько соподчиненных ступеней, устремленных к главным центрам, и единообразием учебного строя; 2) соответствие всех предметов духовных школ задаче богословского учения — само богословие «во всех его отделениях»; древняя история, особенно священная и Церкви; лучшие образцы духовной словесности; языки древние, славянский и славяно-российский* * 16 17. Было решено оставить в преобразованной системе 4 уже сложившихся центра духовно-учеб-
в России в XIX веке. Т. 1. Вильно, 1908 (далее: Титлинов. Духовнаяшкола). С. 31-32; Флоровский. Пути русского богословия. С. 143.
16 В записке, составленной епископом Евгением, в качестве основных были выделены проблемы: отсутствие единства, богословского принципа и систематичности в учебных программах духовных школ, связи семинарий с академиями, исключительное господство латинской словесности, ослабляющее знание греческого и латинского языков, недостаток средств. См.: Полетаев Н. И. К истории духовно-учебной реформы 1808-1814 гг. / / Странник. 1889. № 8. С. 517-527.
17 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 54 об -55 об., 3 -6 об., 7 об.
25
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ных округов — академии, 36 семинарий (епархиальных училищ), по 10 уездных и 30 приходских училищ в каждой епархии, как высшую норму. По размерам материального содержания епархии разделялись на три разряда, согласно дороговизне жизни18.
Комитет настаивал в своем проекте на полной автономности духовно-учебной системы: свое управление, общеобразовательная подготовка, система подготовки преподавателей. Приводились аргументы: особые задачи духовной школы, специфика самого «предмета занятий», особенность изучаемых наук, «духовному званию нужных», требующих особого настроя и воспитания; необходимость давать льготное образование детям уже сложившегося духовного сословия19. Однако в планы Комитета вовсе не входило усиливать замкнутость духовного сословия: хотя в ведении низших духовных училищ состояли все дети священно- и церковнослужителей и родители обязаны были дать им определенный уровень образования, у выпускников семинарий и академий была возможность уволиться в гражданскую службу. В заседаниях Комитета особо было отмечено, что «когда все сие будет устроено к приведению в действо, тогда разрешать детям священно- и церковнослужителей избирать и другие состояния»20. Но таким образом, духовное образование, в отличие от профессионального гражданского образования, опирающегося на общеобразовательные школы Министерства народного просвещения, должно было по-прежнему заботиться самостоятельно о подготовке преподавателей по всем предметам. Некоторое обоснование этому было: преподаватели, сами получившие образование в духовной школе, могли более глубоко понять задачи и проблемы духовного образования и воплотить это понимание в своей деятельности. Кроме того, даже общее образование в духовных школах должно было вырабатывать в учащемся истинное понимание о
18 Там же. Л. 14-14 об.19 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 55-59.20 Там же. Л. 2.
26
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
взаимосвязи богословия с другими науками, а не его секуляризованный вариант, перешедший в российские университеты из европейских университетов нового времени.
Одной из главных тем в обсуждениях Комитета была богословская наука. По составленному плану ее развитием должна была заниматься проектируемая высшая духовная школа — четыре духовные академии. Таким образом, духовное образование и богословская «ученость» должны были в академиях неразрывно соединиться21. Попытка соединения в одном учреждении научных исследований и подготовки научных кадров предпринималась еще в первой половине XVIII в., при учреждении Академии наук и художеств. В состав Академии был включен университет, и члены Академии были обязаны преподавать. Реализация проекта показала его нежизнеспособность: акцент был смещен в сторону науки, а академический университет действовал слабо и в 1760 г. был окончательно закрыт22. В случае духовных академий в начале XIX в. была надежда на более благоприятный результат: русское духовное юношество показало себя за XVIII в. как наиболее способное к обучению, и уже имелся определенный опыт. При этом административное устроение новых академий должно было представлять синтез идей университетского Устава 1804 г. и Устава Академии
21 Там же. Л. 59 об.-бО.22 Толстой Д. А. Академический Университет в XVIII в., по руко
писным документам Архива Академии наук. СПб., 1885. В случае академического университета были обстоятельства, осложнявшие его деятельность: все академики-лекторы были приглашены из-за границы и не владели русским языком, русские же студенты редко могли слушать лекции на иностранных языках. Тем не менее, в Регламенте Академии наук и художеств 1747 г. было отмечено, что «у академиков преподавание отнимает время, необходимое им для сочинения», и необходимо разделить академиков на две группы — «особливые академики, которые составляют Академию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов», и — профессора, на долю которых падает подготовка научной смены. Цит. по: Там же. С. 15. См. также: Пекарский П. П. История Императорской академии наук в Петербурге. Т. 1. СПб., 1870.
27
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
наук. Каждая из четырех духовных академий должна была стать академ ией духовны х наук, с активно действующим учебным институтом для подготовки научных кадров и педагогического обеспечения средних профильных школ.
Реформа, официально закрепив соединение богословской науки с духовной школой и относительную самостоятельность последней, утвердила и особое положение российского богословия в общ ей системе наук. Это положение не отделяло богословов от общ ей научной среды, но вопрос о месте богословия в системе человеческого знания оставался открытым.
В 1809 г. членами КДУ М. М. Сперанским и архиепископом Ф еофилактом (Русановым) был составлен проект Устава
духовных училищ, включавший в себя общие положения по устройству всей духовно-учебной системы и уставы всех ее ступеней. После отработки на практике проект планировали доработать и тогда уже утвердить окончательно. Недостаток средств, преподавательских и студенческих кадров для новых академий определил постепенное проведение реформы. Начать решили лишь с одной академии и ее учебного округа — столичной. Первый курс преобразованной по новому Уставу СПбДА учили об
щими усилиями пять лет, в 1814 г. проект Устава духовных училищ, во всех его частях, подвергся окончательной редакции и 30 августа был утвержден23. В этом же году по новому Уставу был преобразован Московский духовно-учебный округ, с академией, переведенной в Троице-Сергиеву Лавру. В 1817 г. был преобразован Киевский округ, Киевская же академия, сочтен- 21 *
Статс-секретарь М. М. Сперанский
21 Устав Духовных Академий 1814 г. (П С З. Т. XXXII ЫЬ 9^71далее: Устав 1814 г.) Введение.
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
ная неготовой к новой деятельности, пребывала два года в семинарском статусе и в 1819 г. получила статус академии. В 1818 г. новое устроение получили средние и низшие духовные школы Казанского округа, отданные в уп равл ен и е МДА. Окончательно реформа реализовалась лишь в 1842 г. преобразованием Казанской академии.
В целом реформа была проведена более или менее успешно — централизованная духовно-учебная система была построена. Мож-
Архиепископ Калужским иНО было ОЖИДать, ЧТО п о с т е п е н н о Боровский Феофилакт (Русанов) все ее ступени, в том ч и сл е а к а д е
мии, будут усп еш н о вы полнять в о зл о ж е н н ы е на н и х за д а ч и . О т части это прои сходи ло. Н о д ея т ел ь н о ст ь д у х о в н ы х а к а д е м и й в условиях Устава 1814 г. бы ла с о п р я ж е н а с о м н о г и м и п р о б л е мами, которые, с одн ой стороны , п р оя в и л и « т ео р ет и ч н о ст ь » с о ставленного Устава, его н еи сп о л н и м о сть в р е а л ь н ы х у с л о в и я х , с другой стороны , поставили об щ и е вопросы о ц ел и и за д а ч а х высшей духовной школы и бого сл о в ск о й науки. Т р и ст арш их класса дореф орм енной ду х о в н о й ш колы , вы дел ен н ы е в о с о б у ю ступень, дали новую сем и н ари ю — ср ед н ю ю ш колу, с о х р а н и в шую три двухлетних отделен и я д о р еф о р м ен н о й ш колы — р и торика, философ ия, богословие. Д ля св я щ ен н ого сл у ж ен и я требовалось теперь получение сем и н арск ого обр азов ан и я , то есть именно семинарии становились ш колой подготовк и д у х о в е н ства — духовной школой в прямом см ы сле слова. Р еф о р м и р о ванные духовны е академ ии, по зам ы слам К ом и тета 1808 г., представляли собой соверш енно повое уч реж дение, надстр аи ваемое над дореф орм енной ш колой, с особы м и задачами. К омитет об усоверш енствовании д у х о в н ы х уч и л и щ 1808 г. оп р еделил «троякий предмет у ст а н о в л ен и я д у х о в н ы х академ ий»:1) «образование дух о в н о го ю нош ества к вы сш им д о л ж н о ст я м » ;
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
2 ) «распространение и поощ рение учености в духовенстве»;3 ) «управление духовных училищ, Академии подчиненных»21. П одготовка учителей — одна из главных проблем духовных школ X V III в. — не была упомянута особо, но Комитет указывал, что выпускники академий будут заполнять вакансии профессоров, как академий, так и семинарий, то есть профессорство входило в число «высших должностей»24 25. Но не это являлось главной целью учреждения новых академий. Духовные академии должны были стать одновременно высшими школами духовенства, центрами духовной учености — а это понятие по Уставу 1814 г. шире, чем богословская ученость, — и центрами управления духовными школами округа. Идея реформы - сосредоточить все вопросы, связанные с духовным просвещением, в единых центрах — сделала из духовных академий учреждения с очень сложной структурой. Каждой задаче, поставленной
24 «Начертание правил» Комитета об усовершении духовных училищ 1808 г. (П С З. Т. XXX. № 23122). § 79. Эта же «троякая» цель указывалась в преамбуле к проекту Устава 1809 г. и его окончательной редакции 1814 г.
25 РГИА. Ф . 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 7 об. Подготовка к архиерейству, разумеется, не могла быть поставлена в качестве задачи: для этого должны быть соответствующие способности. Историк СПбДА протоиерей С. А. Соллертинский называл эту задачу академий «почетной», ибо она не могла быть приложима ко всем или даже большей части воспитанников: правомочными занимать высшие должности, как поэтами, не столько делаются — fiunt, сколько рождаются - nascuntur. Духовные школы дали Церкви целый сонм иерархов, представителей высшего белого духовенства, ректоров духовных школ, - но образование было лишь наиболее прямой и прочной внутренней основой для права их быть начальниками. См.: Соллертинский С. А, прот. Опыт исторической записки о состоянии Санкт-Петербургской Д уховной Академии по случаю столетнего ее юбилея. 1809-1909. СПб., 1910 (далее: Соллертинский, Указ, соч.) С. 5 -6 . В Уставе академий 1814 г. было записано, что выпускники их предполагаются на служение при первоклассных (магистры) и второклассных (кандидаты и студенты) церквах, третий класс был оставлен на долю выпускников семинарий.
зп
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
перед академией, соответствовал свой руководящий орган: научному центру — Конференция, учебному институту — Внутреннее академическое правление, центру духовно-учебного округа - Внешнее академическое правление26. Задачи академий и их устройство, установленные Уставом 1814 г., официально сохранялись до новой реформы 1869 г.
Учебный институт, управляемый Внутренним правлением, был при академии, готовил для нее новые научные кадры и использовал для этого обучения наличные силы академии27. Академия в лице Конференции должна была проверять уровень образованности студентов института посредством экзаменов (испытаний), а в конце обучения констатировать уровень их образования, присуждая ту или иную ученую степень и определяя на научно-учебную должность в самой академии или в средние школы округа28.
26«Начертание правил» определяло четыре отделения Академии: Институт, состоящий из преподавателей и студентов; центр учености, представленный Конференцией; Внеш нее управление семинариями; Внутреннее управление самой академии (§ 8 0 -1 3 0 ). Проект 1809 г. и Устав 1814 г. упрощают эту структуру, выделяя три части управления, согласно трем задачам академий: 1) внутреннее, т.е. управление самой академией, 2) общее, целью которого является распространение духовного просвещения во всем учебном округе, и 3 ) внешнее, т.е. управление семинариями, подчиненными академии.
27 Начертание правил. § 86: «Профессора определяются и уво л ьняются по усмотрению Академии...» и пр. В представлении ректора СПбДА епископа Филарета (Дроздова) митрополиту Михаилу (Дес- ницкому) о состоянии Академии в 1818 г.: «Об академическом институте...» (Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885-1888 (далее: Фшшрет (Дроздов), сет. Собрание мнений). Т. I. С. 365).
"«Начертание правил» для выпускников Академии первого разряда - магистров Академии - предусматривает четыре возможных применения: 1) бакалаврами духовных академий, 2) профессорами семинарий, 3) священниками к первоклассным церквам, 4) увольнение
31
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
К онф еренция замышлялась как особое ученое общество, возглавляем ое епархиальным архиереем. Ее структура была скопирована со структуры действующих академий наук: в него входили члены действительные, почетные и члены-корреспонденты, Действительные члены делились на внутренних, то есть профессоров академии, и внешних — представителей образованного духовенства округа, «известных со стороны просвещения, трудолюбия и готовности исполнять поручения, на них возлагаемые». Члены-корреспонденты должны были доставлять Конференции «полезные сведения обо всех открытиях, относящихся к духовной учености»29. Конференции не только отвечали за научный уровень самой академии, но и должны были объединять все ученые силы округа и заботиться как о повышении образованности окружного духовенства, так и вообще о распространении духовного просвещения30. Но средства
в гражданскую службу. Окончательная редакция Устава 1814 г. предполагала для выпускников академий две ученые степени: магистра академии и кандидата, не показавш ие же в богословии довольных успехов должны были выпускаться в звании студента университета (§ 397). В этом параграфе (п. е )) были загадочные слова о возможности давать академическую степень магистра тех общеобязательных наук, по которым студенты, не достигшие отличных успехов в богословии, заняли первые места. Однако эту возможность академии практически не использовали. Автору статьи удалось выявить единственный случай присвоения «двойного» магистерского титула: выпускник КДА 1827 г. Ф . С. Шимкевич, проявивший себя еще на студенческой скамье как талантливый филолог, был утвержден в степени «магистра богословия и словесных наук». См.: Малышевский И. Историческая записка о состоянии Киевской Духовной Академии в истекшее пятидесятилетие / / ТКДА. 1869. № 11-12 (далее: Малышевский. Указ соч.) С. 89.
2Н Устав 1814 г. § 280-308. Конференции старались найти членов- корреспондентов и в среде заграничного духовенства, преимущественно из своих выпускников, которые были в курсе новостей европейской науки и могли помочь академиям приобретать иностранную научную литературу. См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 7. Д. 21804, 21818. 1858 г.; Соллертинский. Указ соч. С. 60. прим. 48.
;W)Cp. с российскими университетами в условиях Устава 1804 г.:
3 2
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
к достижению этой цели были ограничены — проведение экзаменов в академиях, возведение в ученые степени и цензура д у ховной литературы, издаваемой в округе.
Конференции старались творчески использовать свои возможности, исполняя, с одной стороны, «ученые» задания духовной власти, с другой стороны, составляя и реализуя собственные научные проекты. Эти проекты были направлены преимущественно на перевод и издание трудов святых отцов и древних церковных авторов, в связи с этим велась чрезвычайно важная для отечественного богословия отработка терминологического аппарата'*1. Особым направлением была деятельность академий по переводу Священного Писания на русский * 11
Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России: В 4 т. М., 2 0 0 2 -2 0 0 4 . (далее: Петров. Указ, соч.) Т. 1. С. 298-299, 412.
11 В 1821 г. при СПбДА, по предложению ректора архимандрита Григория (Постникова), начал издаваться журнал «Христианское чтение». В 1828 г. святитель Филарет предложил МД А представлять к концу каждого курса в Конференцию переводы с греческого, сделанные в течение курса; в 1830-е гг. Синод неоднократно возлагал на СПбДА и МДА поручения по переводу и пересмотру имеющихся переводов святоотеческих творений. В МДА в процессе работы оформилась мысль об издании непрерывной серии «Творений святых отцов в русском переводе», и с 1843 г. издание серии началось. Главным отличием от предыдущей переводческой деятельности академий было то, что переводились и издавались не отдельные работы святых отцов, но полные (из доступных) корпусы сочинений. Не менее важны для богословской науки были «Прибавления» к этой серии, в которых печатались оригинальные труды академических преподавателей научно-богословского характера. В 1857 г. СПбДА, по предложению митрополита Григория (Постникова), был предпринят перевод Византийских историков VIII - XV вв., мало доступных для ученых исследований по редкости изданий ( Корсунский И. К истории изучения греческого языка и его словесности в Московской Духовной Академии. Сергиев Посад, 1894; Смирнов. История МДА. С. 116—120; Чистович И. А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние тридцать лет (1858-1888). СПбДА., 1889. С. 68-69; О Р РНБ. Ф. 574.On. 1. Д. 308. Л. 1-13; Там же. Д. 957. Л. 1-38).
33
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
язык и связанные с этим переводом текстологические, филологические и библейско-богословские исследования32. Но систематических научных исследований Конференции организовать не смогли — во-первых, не было опыта, во-вторых, было непонятно, кто и каким образом должен формулировать реальные проблемы церковной жизни на языке научных задач.
Система научной аттестации, которая в «Начертании правил» была заявлена трехступенчатой (доктор, магистр, кандидат), в окончательном варианте Устава 1814 г. дополнилась степенью действительного студента. Она давалась выпускникам семинарий первого разряда или выпускникам академий, не показавшим даже «довольных» успехов в богословии. Степени магистра и кандидата присваивались студентам академий при выпуске, с учетом успехов за все годы обучения и выпускного сочинения. Степень доктора богословия присуждалась по особым случаям, за конкретное богословское сочинение или за выдающиеся успехи в духовном просвещении33. Все степени присуждались Конференциями академий (а выпускникам семинарий — семинарскими Правлениями), две высшие степени — магистра и доктора — утверждались до 1839 г. Комиссией
32 В 1 8 1 6 -1 8 2 4 гг. п ер ев од п р ов оди л ся в рамках Российского Библ ей ск ого общ ества , в 1 8 3 0 - 1 8 4 0 - х гг. — си л ам и отдельны х преподав ател ей и в ы п уск н и к ов ак адем и й , п р еи м ущ ест в ен н о СПбДА, с 1858 г. начался новы й этап перевода, заверш ивш ийся уж е при новом У ставе в 1876 г. изданием так назы ваемого С инодального перевода. См,: К о р сун ск и й И . Н . Т руды М осковской Д уховн ой Академии по переводу С вящ енного П исания и творений святы х отцов на русский язык (1 8 1 4 -1 8 8 1 гг.) / / П Т С О . 1889. Т. X LIV . Ч. 1. С. 419-587; 1890.Т . X L V . Ч . 2. С. 3 4 1 -4 0 5 ; 1891. Т. X LV II. Ч. 2. С. 4 8 3 -6 1 8 ; Он же. Филарет М осковский в его отнош ениях и деятельности по вопросу о пе- | реводе Б иблии на русский язык. М., 1885; Чистович И. А. История перевода Библии на русский язык. СПб., 1899. Репр.: М., 1997; Астаф ьев Н. А . Опыт истории Библии в России в связи с просвещением и нравами. СПб, 1892; А лексеев А . А . Переводы Священного Писания на русский язык / / ЦВ. 2002. № 6 - 7 , 8 —9, 10-11; Тихомиров Б. А- К истории отечественной Библии. М., 2006.
«У став 1814 г. § 3 9 5 -4 2 8 .
34
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
духовных училищ (КДУ), после 1839 г. — Святейшим Синодом. Сочинения выпускников, предназначенных к степени магистра, были особой заботой Конференций: сначала их читал преподаватель соответствующего предмета, затем представитель Конференции, на основании этих отзывов работа обсуждалась в заседании Конференции. Списки представленных к магистерской степени с самими сочинениями отправлялись в КДУ или в Синод, где происходило утверждение в степенях. Особым этапом было рассмотрение магистерских работ епархиальным архиереем: как председатель Конференции, ои мог просто участвовать в общем обсуждении работы, но особенно ревностные к духовному образованию архиереи сами читали все или избранные магистерские работы м.
Ограниченные возможности Конференций не позволили им стать и центрами распространения духовного просвещения в обществе, и духовную науку нередко обвиняли в замкнутости и нежелании заниматься популяризацией богословского знания. Не удалась в задуманном варианте и цензорская роль академий. Духовно-цензорские советы при академиях не должны была копировать светский вариант — замышлялись научно-экспертные советы, способные давать компетентные заключения о должном научном уровне и адекватности представляемых богословских изданий, а также о соответствии их учению Православной Церкви. Но к такой деятельности академии не *
и Самыми яркими примерами таких ревнителей я в л я л и с ь м итрополит Московский Филарет (Д р оздов) (на каф едре с 1821 но 1867 гг.) и митрополит Киевский Евгений (Б олхови ти н ов) (н а каф едре с 1822 по 1837 г.), не только лично читавш ие квалификационны е работы выпускников своих академий, но и определявш ие их статус и возм ож ность публикации. См.: Ф иларет (Д р о л д о в), сет . С обрание мнений. Г. П. С. 142; Смирнов С. К. История М ДА. С. 229 230; М алы ш евский. Укая соч. С. 90-94; Голубинский Г. Е Бос поминания / / П олу н ов Л. К )., Соловьев И. В. Ж изнь и труды ак адем и к а Е. Е. Г о л у б и н ск о го . С. 203-204; 1 орский-П лат онов П. И. Голос старого проф ессора / / А. И. Лебедев. Из истории Вселенских С оборов IV и V веков СП б 2(КИ. С. 305-310, 315-319 .
35
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
были готовы, ее должен был предварять внутренний рост и совершенствование, совмещать же то и другое, при профессорской занятости и немногочисленном составе корпораций, было практически невозможно. К концу 1850-х гг. духовная цензура как таковая была снята с академий — лишь при Петербургской академии был оставлен Цензурный комитет, преобразованный в общецерковный. Научные издания самих академий, после рассмотрения конференцией, передавались на суд правящего епархиального архиерея35.
Учебный институт при академии замыш лялся второстепенным по значимости, главной была наука. Однако насущная задача — подготовка преподавательских кадров для академий и семинарий — являлась главной для первого набора преобразованной СПбДА (поэтому в окончательной редакции Устава 1814 г. появился параграф о беспрекословной — «неотказной» - четырехлетней отработке лучш их вы пускников академии на духовно-учебной службе36). Со временем подготовка к духовно-учебной службе в семинариях закрепилась в качестве непосредственной задачи академий37. Такие проблемы вставали
35 Правящий архиерей, являясь председателем академической Конференции, имел особое право высказывать свое мнение и о сочинениях, представляемых на суд академического Цензурного комитета и о научных сочинениях, предполагаемых академией к изданию. Но степень участия архиерея в этом процессе во многом зависела от личности. Так, святитель Филарет (Дроздов), находясь более сорока лет на Московской кафедре, не всегда участвовал в заседаниях Конференции, но лично прочитывал все сочинения, рекомендованные к изданию. См.: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. И. С. 415; Там же. Т. IV. С. 540-544; Там же. Т. V. Ч. 1. С. 34-41, 314-321,346- 350. См. также статью настоящего сборника «Святитель Филарет (Дроздов) и высшая духовная школа XIX века: новизна и традиция».
36 Устав 1814 г. Гл. III. § 41.37 По Уставу 1814 г. все студенты были казеннокоштными, что
подразумевало обязанность служить по духовно-учебному ведомству, если их сочтут достойными этого. Первые выпуски преобразованных СПбДА и МДА практически в полном составе были востребованы в самих академиях и преобразуемых семинариях. Вопрос о распреде-
Духовно-угебная реформа 1 808 -1814 гг.
в первой половине XIX в. и в российских университетах, несмотря на существование Академии наук, и их пытались решать по мере сил™. Но в высшей духовной школе академия и педа-
лении по духовно-учебным местам, как обязанности и праве выпускников академий, вновь встал в 1819-1820 гг., при преобразовании КДА и заполнении вакансий Киевского духовно-учебного округа. Летом 1820 г. святитель Филарет, тогда архиепископ Тверской, как член КДУ предложил систему заполнения духовно-учебных вакансий, главным принципом которой было использование выпускников академий с оптимальным учетом их способностей («с пользою места и с достоинством лиц»). При выпуске Конференция каждой академии рекомендует своих выпускников на учительские вакансии своего округа. Но соответствие внутри округа не всегда достигается. Тогда должен действовать принцип централизации. КДУ, получая от академий сведения о вакантных учительских должностях в их округах и характеристики нераспределенных выпускником, должна добиваться «правильного занятия вакансий». Остающиеся и после этого без назначения выпускники академий увольняются в епархиальное ведомство. При этом КДУ должна обязать ревизоров давать полные сведения об учебной деятельности преподавателей, составленных конспектах, результативности используемых методов — с учетом этого преподаватели могут перемещаться на другие места, а нерадивые и мало способные даже увольняться. Святитель Филарет предложил составлять сводную таблицу духовно-учебных вакансий по всем округам и регулярно обновлять ее, с учетом всех передвижений и распределения новых выпусков. В 1826 г. святитель Филарет предлагает утвердить систему обязательной шсетилстней службы «в пользу духовного звания» всех казеннокоштных выпускников академий и семинарий. При этом акцент делается и на пользе этого правила для самих выпускников: нерешительные за это время либо утвердятся в выборе духовного служения, либо оставят его, но уже приобретя опыт практической деятельности. См.: Филарет (Драй)on), earn. Собрание мнений. 'Г. П. С. 59-67; Там же. С. 170.
,мТак, в Петербургском университете, преобразованном в 1819 г. из Главного педагогического института для раздельного решения задач подготовки ученых и преподавателей для самого университета и подготовки учителей в гимназии, был создан при университете Педагогический институт или «Второй разряд». См.: Петров. Указ. соч. Т. 2. С. 436; Там же. Т. 3. С. 78- 83.
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
гогический институт слились, наименование «институт» вообще исчезло из академической истории, а академия стала рассматриваться прежде всего с «прикладной» точки зрения.
Деятельность академий как центров духовно-учебных округов имела административное и учебно-воспитательное направления. Последнее выражалось в проведении ревизий и составлении программ и учебных руководств для семинарий. Академии были в определенной степени сами заинтересованы в тесном контакте с семинариями своего округа, ибо именно из этих семинарий поступали в академию абитуриенты и в эти семинарии преимущественно распределялись выпускники академии. Влиять на подготовку будущих студентов и наблюдать за деятельностью своих бывших питомцев, анализируя успехи и неудачи — это и было одной из главных идей реформы 1814 г. Но на практике управление семинариями не соответствовало замыслам Устава. Комиссия духовных училищ (КД У ) — центральный орган духовно-учебного управления при Святейшем Синоде — в первые годы реформы была вынуждена руководить преобразованием и деятельностью и академий, и семинарий. Но и при стабильной жизни духовно-учебной системы она не позволяла академиям полностью реализовать власть, данную Уставом. Со временем централизация усиливалась, и реальная ситуация все дальше отстояла от замыслов 1808-1814 гг.39 * 1
39 Усилению централизации способствовали следующие факторы:1) заполнять вакансии в духовных школах было удобнее общими силами, не ставя жесткого ограничения пределами учебного округа;2 ) составление учебных программ и методических пособий в академиях шло довольно медленно, поэтому приходилось создавать специальные комитеты для их разработки при столичной академии. В 1837 г. при СПбДА был образован Комитет для пересмотра учебников духовных академий и семинарий, в 1840 г. его сменил Комитет для рассмотрения конспектов, действовавший до 1845 г. Состав комитетов менялся (привлекались лучшие академические силы), но во главе всегда стоял ректор СПбДА. См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 2.1841 г. Д. 1553; Там же. Оп. 5.1845 г. Д. 6755. Значительное усиление централизации произошло при обер-прокуроре Н. А. Пратасове. В 1839 г. КДУ была
Духовно-угебная реформа 1808 -1814 гг.
В результате семинарии находились под попечением пяти илистей — епархиальных архиереем, окружных академических правлений, центрального органа духовно-учебного управления при Синоде, обер-прокурора и самого Святейшего Синода. 11о- степенно академические Внешние правления сделались лишь посредствующей инстанцией между семинариями и центральным духовно-учебным управлением, не имеющей реальной власти, но отягощенной бумажно-бюрократической деятельностью. Академии, с одной стороны, лишались живого общения е семинариями и не могли следить за деятельностью своих выпускников и контролировать подготовку будущих студентов. С другой стороны, им было трудно сосредоточиться на своих внутренних проблемах, которых становилось все больше. Кроме того, педагогическая задача (т.е. подготовка преподавателей по всем предметам семинарского курса) лишала академии самостоятельности в учебных планах и ставила в прикладное положение по отношению к семинариям. Академии должны были дублировать специальное образование по многим направлениям — историческому, филологическому, физико-математическому, — а в дальнейшем реагировать и па изменения с е минарских программ. Но небогословские пауки не могли развиваться в академиях на должном уровне, контакты же с университетскими преподавателями 61,1ли .эпизодическими'10.
упразднена, академии были подчинены непосредственно ( ’иноду, а для ведения делопроизводства духовно-учебной системы было учреж дено Духовно-учебное управление (Д У У ). Эта канцелярия взяла на себя «производства духовно-учебны х дел», которые ранее не выходили за пределы округов. См.: 2 П С З). Т. XIV. № 12070. §§ 3, 4, 5.
10 После 1814 г. все вакантные преподавательские долж ности академии замещали преимущественно своими выпускниками, очень редко приглашая для этого университетских ученых, несмотря на разрешение Устава. Кроме проблем, связанных с принадлежностью другому ведомству, была еще одна — российским университетам самим не хватало в эти годы кандидатов на проф ессуру (к 1867 г. на историко- филологических факультетах шести российских университетов было 34 незамещенных проф ессорск и х каф едр из 66, полож енн ы х по
яо
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Особый интерес представляет учебный план духовных академий и его изменения. В документах, связанных с реформой 1808-1814 гг., специальным предметом занятий духовных академий называлась «ученость, сколь можно более приспособленная к наукам богословским»41, а также присоединяемые к этой «учености» «изящные науки» (belles lettres) — словесность, риторика, философия. Но первый курс СПбДА изучал в равной степени все богословские и общеобразовательные науки, сгруппированные в шесть классов: богословский класс, философский, словесный, исторический, математический и класс языков. Это было точным повторением состава семинарского курса и объяснялось особой задачей преобразовательного периода: подготовка новых преподавателей, способных учить в реформированных школах. «Утомление тела и духа» духовного юношества заставило в 1810 г. поставить вопрос об иерархии наук в учебном плане академии, и было принято предложение профессора И. Фесслера — разделить науки на «коренные» и «вспомогательные» и установить для них разное число
штату). Впрочем, в 1843-1853 гг. в СПбДА философию преподавал профессор Санкт-Петербургского университета и директор Ларин- ской гимназии А. А. Фишер, получивший образование в Кремсмюн- стерском иезуитском лицее и Венском университете. С 1858 г. там же преподавал еврейский язык профессор того же университета доктор еврейской словесности Д. В. Хвольсон. В КазДА в 1845 г. преподавали арабский с татарским и монгольский с калмыцким языки университетские профессора А. К. Казем-Бек и А. В. Попов, а естествознание и медицину — профессора П. И. Вагнер и Н. А. Скандовский (он был и врачом Академии), в 1865 г. — славянскую палеографию — профессор В. И. Григорович. Иногда у высшего начальства возникало желание сделать более эффективным преподавание новых языков в академиях, для этого приглашали «природных иностранцев». В СПбДА в 1844-1857 гг. преподавал французский язык К. де Шамиллон, в 1856 г. английский — Г. Бишону. См.: Знаменский П. В. История Казанской Духовной Академии до ее преобразования (1842-1870): В 3 вып. Казань, 1891-1892. Вып. 2. С. 7-8, 328, 143-159, 383-387; Чистович.
История СПбДА. С. 62.41 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 54 об.
40
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
«классических» часов'12. Была введена первая «специализация»: науки исторические и математические изучались лишь частью студентов, по выбору, как и языки - еврейский, немецкий или французский.
Устав 1814 г. закрепил это решение, относя к наукам, «необходимым для всех... студентов»: 1 ) полный курс богословия,2 ) курс теоретической и нравственной философии, 3) курс словесности, 4) библейская, церковная и российская история, 5) древние языки: латинский, греческий, еврейский41. Остальные науки, «предоставляемые собственному студентов выбору», разделялись на два отделения. К первому относились: 1) полный курс теоретической и опытной физики, 2 ) полный курс высшей математики, частной и прикладной, 3) из европейских языков — французский или немецкий. Ко второму: 1) всеобщая история и хронология, 2 ) всеобщая статистика и география,3) статистика и география Российского государства, 4) древности греческие, римские и в особенности российские и церковные, 5) из европейских языков — французский или немецкий44. Этот выбор не составлял специализации как таковой, хотя иногда так назывался в документах. Эго была лишь попытка примирить принцип духовной школы подготовку всех преподавателей своими силами — и возникающую вследствие этого многопредметность. Вопрос о полезности каждого из пс- богословских предметов для богословского академического образования не ставился.
«Полный курс богословия», то есть основа и цель всего образования, в 1809 г. не был четко определен. Лекции в преобразованной СПбДА читались по конспектам, составляемым ректорами (они же по традиции были профессорами богословия)
«П о просьбе обер-прокурора км. А. Н. Голицына ироф. И. Фес- слер, как человек опытный в духовном образовании германском и австрийском, высказал свое мнение о построенной системе образования и процессе обучения первого курса преобразованной СПбДА (РГИА. Ф. 802. On. 1. Д. 265. Л. 1 -77).
«Устав 1814 г. §377.« Устав 1814 г. §378-380 .
41
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
и бакалаврами богословского класса — по тем разделам, которые выделял им профессор. В 1814 г. работа с конспектами по богословским наукам, предпринятая ректором СПбДА архимандритом Филаретом (Дроздовым), дала представление о состоянии богословских наук в академиях45 46. В конспектах причудливо сочетались старые формальные схемы с элементами научного построения и живого анализа, отсутствовали единая система и терминология, даже внутри одного богословского курса. В обобщающем труде — «Обозрении богословских наук» - архимандрит Филарет рассмотрел «строение видов и частей Богословия» (Architectonica Theologica)™. В едином курсе акаде-
45 Ср. с составом богословских учебных предметов в московских духовных школах конца XVIII в. В особые предметы были выделены: толкование Священного Писания (герменевтика и чтение Библии с толкованием трудных мест), богословский курс, церковная история, введены основы канонического права (чтение Кормчей с толкованием к практическому применению, изучение правил Вселенских, Поместных соборов и соборов Русской Православной Церкви, уставов церковных из Пандектов и Духовного регламента), элементы практического богословия («О должностях пресвитеров приходских», практическое применение изучаемых канонических документов, пасхалия, основы гомилетики, с составлением и произнесением проповедей и внебогослужебных поучений); церковная история. Богословский курс состоял обычно из трех частей: 1) введение в богословие (prolegom ena Theologica); 2) догм атическое богословие (dogmaticae Theologiae institutiones); 3) нравственное богословие (institutiones Theologiae moralis). Такой же состав богословского класса был закреплен для академий в указе 1798 г. См.: ИР НБУ В. Ф. 312. Д. 461П/175С. Л. 2; Смирнов С. К. История Троицкой Лаврской семинарии. С. 241-255; ПСЗ. Т. XXV. № 18726. П. 2 -4 .
46 Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах. СПб., 1814. Работа опубликована также: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. I. СПб., 1885. С. 123-151. Труд был признан КДУ «полезным для сведения и некоторого руководства в преподавании православного богословия», разослан во все преобразованные духовные школы Санкт-Петербургского и Московского учебных округов. «Обозрение богословских наук» — это учебная программа, состоящая из двух частей. В первой
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
мичсского богословия он выделил семь разделов: чтение Священного Писания, богословие толковательное (Hermeneutica), созерцательное (Dogmatica), деятельное или нравственное (Practica), обличительное (Pole- mica), собеседовательное (Homi- letica), и правительственное (Jus Canonicum)'17. Церковная история (общая и русская) объявлялась наукой богословской, хотя и *
части излагается структура богословия (порядок происхождения того или иного вида богословия и их зависимость друг от друга) и последовательность изучения его частей. Во второй части изложено само содержание различных частей богословия, методы и практические указания для их преподавания, указывается вспомогательная литература для изучения каждого вида богословия. См. также статью настоящего сборника «Святитель Филарет (Дроздов) и высшая духовная школа XIX века: новизна и традиция».
1,7 Архимандрит Филарет выделяет еще богословие пастырское (Theologia Pasteralis), но оно может быть присоединено к богословию деятельному, практическому. Хотя в составе богословия и было выделено богословие историческое, включающее богословие пророческое (Theologia Prophetica), преобразовательное (Tupica), символическое (Symbolica), отеческое (Patristica), — первые два раздела относились к толковательному богословию, а последние два - к истории и древностям церковным в классе исторических наук. Архимандрит Филарет рассматривает историческое богословие как альтернативное изложение слова о Боге и предпочитает в своей системе изложение систематическое — «богословие учительное всеобщее», состоящее из положительного — догматическое и деятельное (нравственное) - и отрицательного (обличительное). Именно таким образом излагалось богословие в духовных школах на протяжении первой половины XIX в. См.: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. I. С. 208.
43
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
относилась иногда к историческому классу наук, затем она была выделена в особый класс48 49.
С 1820-х гг., несмотря на указания действующего Устава, началось значительное изменение академических учебных планов: выделение из общего богословского курса самостоятельных богословских дисциплин, оформление «церковных» разделов из других классов — словесного, исторического - введение новых предметов. Иногда новые предметы вводились в отдельной академии, по инициативе местного начальства, иногда централизованно.
Так, ректор КДА архимандрит Иннокентий (Борисов) (1830-1839) предварял чтение лекций по догматическому бого
словию особым разделом религи- озистики или основного богословия, охватывающего «всю совокупность богословских предметов, гармонично распределяющихся в целой богословской системе». Кроме того, архимандрит Иннокентий ввел особые кафедры обличительного богословия и экклезиастики49. В дальнейшем он, уже будучи епископом, предлагал новую, расширенную, структуру богословского класса50 . В СПбДА в 1844 г. была введена «богословская энциклопе-
Иннокентий (Борисов)р ’ дия», представлявшая расши-
4,4 РГИА. Ф. 802. On. 1. Д. 265. Л. 59 об.; ОР РГБ. Ф. 316. П. 68. Д. 83. Л. 37-62 об.
49 В экклезиастике, после основных понятий о Церкви, трактовалось об ее учении, богослужении и управлении. Первая часть называлась иногда символикой и рассказывала о символах, соборных и отеческих, и символических книгах. См.: Малышевский. Указ соч. С. 95-96.
50 Епископ Иннокентий предлагал «круг богословских наук»:
44
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
ренный курс введения в богословие5’. «Церковные древности» были выделены в особый предмет в СПбДА (в 1842 г.) и МДА (в 1844 г.), причем под разными названиями: в СПбДА — учение о богослужении, в МДА — церковная археология51 52.
Централизованное введение новых богословских наук определялось в большинстве случаев педагогической задачей академий, но при этом имело сложный процесс адаптации в академическом учебном процессе. В 1839 г. в семинариях было введено преподавание Историке-богословского учения об отцах Церкви — и, побужденный инициативой МДА, Синод указом от 16 июля 1841 г. распорядился ввести патристику и в двух остальных академиях5’. Место патристики в учебных планах менялось, учебные программы были нетверды, не было определено
А. Науки приготовительные: 1) систематическое введение н круг богословских наук, 2) библиология, 3) символика, или введение в учение православной Церкви, 4) патрология, 5) священная герменевтика, 6) церковная география и статистика, всеобщая и русская, 7) церковная история, всеобщая и русская; Б. Система богословия: 1) религиозистика (догматика и нравоучение), 2) екклезиастика (литур- гика и право каноническое); В. Науки прикладные: 1) богословие пастырское, включая церковное красноречие, 2) богословие обличительное, 3) богословская педагогика. См.: ГАРФ. Ф. 1099. On. 1. Д. 925. Л. 16-16 об.
51 Чистович. История СПбДА. С. 276-277.52 Чистович. История СПбДА. С. 289; Смирнов. История МДА.
С. 43.я Правление СПбДА разделило преподавание патрологии между
двумя бакалаврами греческого языка — священником И. Колоколо- вым и И. Лобовиковым, — но соединение патристики с греческим языком дало основание смотреть на нее лишь как на упражнение в чтении греческих святоотеческих текстов. КДА, но примеру МДА, соединила преподавание патристики с герменевтикой. См.: Отзыв святителя Филарета (Дроздова) 1839 г. о конспектах «Богословско- исторического учения об отцах Церкви», предс тавленных тремя академиями (СПбДА, МДА, КДА) / / Филарет (Дро:и)ов), сит. Собрание мнений. Т. II. С. 456-460; Определение Святейшего Синода от 2-12 августа 1840 г.; ЦИАМ. Ф. 229. Он. 2. Д. 584. Л. 1 2 об.; Са- гарда Н. Лобовиков Иван Иванович, бакалавр Санкт-Петербургской
45
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
даже самостоятельное ее значение как предмета изучения* 54. Лишь к концу 1850-х гг. патристика получила более или менее твердое положение — после составления и издания монументального труда преосвященного Филарета (Гумилевского), который, сделав акцент на историческом изложении, постарался сохранить богословский анализ святоотеческого наследия и целостность творческого наследия каждого отца Церкви55. Однако отношение к патристике как повторению разделов церковной истории и догматики сохранялось до 1860-х гг.56 Подобные сложности претерпевали и все прочие богословские науки, выделившиеся из единого богословского курса и приобретшие
духовной академии по кафедре патристики (4.09.1841-19.05.1848) / / ХЧ. 1914. № 2 (далее: Сагарда. Указ, соч.) С. 246-273; Малышевский. Указ. соч. С. 99.
54 Бакалавр И. И. Лобовиков считал стимулом и конечной целью патрологических исследований догматический интерес: «анализ сочинений Отцов должен пополниться и вместе увенчаться синтезом (сводом) их учения. В нем — ближайшая цель Патристики». Архиепископ Филарет (Гумилевский) представил в 1842 г. свой вариант понимания патристики: «патристика - наука историческая... должна исследовать и жизнь, и сочинения отцов Церкви во всей полноте, со всеми обстоятельствами, входящими в «круг жизни отцов как учителей Церкви» и имевшими влияния на их сочинения, при этом задаваться и вопросом о подлинности древних сочинений». Цит. по: Сагарда. Указ. соч. С. 2 5 4 -2 5 5 ; Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1881. Введение. С. XIII, XV. См. также: Сагарда. Указ. соч. С. 246- 273; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 2. Д. 683. Л. 2-4; Никольский Н. К. О преподавании патристики в Санкт-Петербургской духовной академии / / ХЧ. 1906. № 12. С. 878-888.
55 Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви. СПб., 1859.
56 Даже в 1863 г. преподавателю словесности Вифанской семинарии Д. П. Делицыну, ученики которого плохо отвечали при ревизоре протоиерее А. В. Горском, было предложено перейти со словесности на патристику, «как на предмет, требующий меньшей умственной деятельности». См.: Потапов В. Н. Письмо к отцу от 7 августа 1863 г / / ЦГИА СПб. Ф. 2162. On. 1. Д. 18. Ч. II. Л. 123 об.
46
Духовно-угебная реформа 1808-1814 гг.
самостоятельность — каноническое право, учение о православном богослужении (церковная археология), пастырское богословие, гомилетика. Для их устойчивого учебного существования и научного развития требовалось более четкое осмысление предмета их занятий, внутренней структуры, принципов, методов, связи их содержания с реальной церковной жизнью.
В результате нововведений количес тво изучаемых каждым студентом предметов возросло с 2 1 до 28, сформированных в 8 классах, прежняя целостность и согласованность академического курса была нарушена57. Это привело к двум серьезным проблемам — нарушению системы и многопредметности. Развившееся духовно-академическое богословие своим составом мало напоминало стройную систему, разработанную в 1814 г. святителем Филаретом (Дроздовым). Необходима была новая систематизация,Architectonica Theologica, осмысление разных частей богословия, их связей и соотношения.
Стали высказываться — официально и неофициально — замечания о естественном вырождении «богословского энциклопедизма», о поверхностном многознании выпускников академий, об отсутствии специалистов в той или иной области богословия, о неумении выпускников академий решать конкретные научные и церковно-практические вопросы5”. * *
57 К б классам Устава 1814 г. добавилось еще 2: церковной истории и миссионерских наук. Продолжительность лекций были вынуждены сократить с 2-х часов до 1,5, а в 1860-е гг. продолжительность лекций уменьшилась еще на ' / часа.
* Предложения сосредоточить внимание студентов на определенной области богословской науки выдвигал епископ Иннокентий (Борисов)
Епископ Харьковский и Лхгырский Филарет
(Гумилевский)
47
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Предпринимались попытки облегчить учебные планы,
придав им большую цельность. Эти попытки проводились в двух направлениях: 1 ) упразднение предметов, не представляющих самостоятельной науки и самостоятельной ценности* 59,2) переведение предметов в разряд «по выбору». Второй путь — введение «параллельных» отделений — был менее болезненным и применялся чаще60. Но отдельные попытки существенно ситуацию не меняли, курс по-прежнему был перенасыщен, и каждой из наук уделялось слишком мало времени. Бульшая часть нововведенных предметов уже не могла быть безболезненно изъята из академического курса, ибо их присутствие в высшем богословском образовании было определено развитием богословской науки или церковными задачами духовных академий. Было также ясно, что специалисты с высшим богословским образованием должны быть в разных сферах церковной жизни, но это должны быть специалисты. Поэтому идея специализации начала рассматриваться именно в направлении приготовления специалистов-богословов. Хотя эпоха «богословского энциклопедизма» явно подходила к концу, вопрос об отказе от идеи реформы 1808-1814 гг., о всесторонней «учености» выпускников академий оставался открытым. Многие
еще в 1840-х гг., в конце 1850-х гг. епископ Макарий (Булгаков) писал об этом в Синод, а митрополит Григорий (Постников) — в ответ на вопрос обер-прокурора А. П. Толстого о желательных преобразованиях в духовной школе. См.: ГАРФ. Ф. 1099. On. 1. Д. 676. Л. 7 об.-8; Там же. Д. 669. Л. 2-4; РГИА. Ф. 1661. On. 1. Д. 705. Л. 29 об.-ЗО.
59 Так, на взгляд авторов предложений, не представляли самостоятельной ценности пастырское богословие, гомилетика, патристика. См.: ГАРФ. Ф. 1099. On. 1. Д. 669. Л. 4 -5 ; Там же. Д. 672. Л. 2-3.
60 Во всех академиях предлагался выбор одного из новых языков. Параллельное изучение исторических и физико-математических наук, введенное еще в 1810 г., было отменено в 1842-1844 гг. Но при введении учения о расколе этот метод был применен вновь. Так, в МДА в 1854 г., по ходатайству ректора архимандрита Евгения (Сахарова- Платонова), учение о расколе преподавалось параллельно физико- математическим наукам, в СПбДА в 1861 г. вернулись к варианту 1810 г.
48
Духовно-угебная реформа 1808 1814 гг.
представители епископата, как и практики — преподаватели духовной школы, оставались в твердой уверенности, что решение проблемы м ож но найти, установив определенную иерархию наук, подобную преобразованию 1810 г., но более узкую и богословски-конкретную. Речь шла о выделении приоритетных направлений для каждого студента при сохранении полноты общего богословского образования.
Многопредметность была не только образовательной проблемой, но и научной. Преподавательские штаты па протяжении полувека действия Устава 1814 г. практически не менялись (к 18 преподавателям по норме 1814 г. лишь в 1858 г. было добавлено еще 2 экстраординарных профессора и 2 бакалавра). Поэтому со временем каждому преподавателю приходилось совмещать по 2-3 предмета, в самых разных наборах'11. Заниматься научными исследованиями в таких условиях было затруднительно, а пытаться встать на уровень современных научных достижений — практически невозможно. Академическая наука не была бесплодна в оригинальных богословских сочинениях: среди членов академических корпораций и выпускников академий были ученые, признанные научными кругами вне стен академий. Имелись исследования, которые можно было отнести к лучшим достижениям отечественной, и не только отечественной, науки*’2. Но отставание от западной богословской
fil В записке епископа Иннокентия (Борисова) (прели. 1840 г.) указывается на особую несоразмерность академических штатов для высшей богословской школы: на класс богословских наук, как и на все небогословские классы, положен один профессор (и 3 бакалавра), в то время как этот класс требует не менее трех профессорских кафедр (ГАРФ. Ф. 1099. Он. 1. Д. 925. Л. 17 17 об.).
м Например, выпускник МДА 1844 г. архимандрит Амфилохий (Казанский-Сергиевский) — исследователь и издатель греческих и древнеславянских рукописей, с 1863 г. и член-корреспондент Академии наук по отделению греческой и славянской палеографии; выпускник МДА 1826 г. архиепископ Филарет (Гумилевский) — богослов, историк Церкви, агиограф, краевед; выпускник СПбДА 1829 г. епископ Порфирий (Успенский) — знаток христианского Востока, соби-
49
науки, несмотря на усилия преподавательских корпораций, не уменьшалось, а, напротив, увеличивалось.
Таким образом, главным результатом реформы 1808- 1814 гг. было построение целостной системы духовного образования, параллельной системе «гражданского» образования, со своим собственным управлением, иерархическим соподчинением и строгим преемством четырех ступеней. Разделение духовного образования на ступени давало возможность каждой ступени, в том числе и высшей — академиям — сосредоточиться на решении своих особых задач и открывало перспективы научного развития. Духовные академии, в процессе реализации Устава 1814 г., стали стабильными педагогическими институтами духовного ведомства — и это было решением одной из дореформенных задач. Сочетание богословского и клас- сически-гуманитарного образования создало особый тип высшей духовной школы, хотя с этим сочетанием было связано много проблем. В результате полувекового развития высшей духовной школы в ее учебных планах определилось несколько характерных составляющих: 1) традиционная для российской духовной школы экзегетическая направленность, то есть чтение и толкование Священного Писания; 2) особый — сопряженный с богословием — комплекс философских наук (метафизика, история философии, логика и психология); 3) показавшая свою важность церковно-историческая направленность, причем ориентированная на изучение источников; 4) неразрывно связанная с богословским образованием и открывавшая научные перспективы система древних языков; 5) филологическая составляющая, выраженная не только в специально-словесных дисциплинах, но и в повышенном внимании к самостоятельным письменным работам. Само высшее богословское
ратель и исследователь древних рукописей; выпускник КДА 1843 г. архимандрит Антонин (Капустин) — его последователь, созидатель «русской Палестины», историк, археолог; выпускник КазДА 1846 г. Н. И. Ильминский — миссионер, филолог и педагог, знаток мусульманства и Востока; выпускник МДА 1850 г. А. Е. Викторов — археолог и библиограф - и др.
__________ Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
50
J
Духовно-угебная реформа 1808 1814 гг.
образование имело определенные успехи. Переход преподавания на русский язык способствовал развитию русской богословской терминологии и постепенному отходу от схоластических систем. Изучение Священного Писания, систематический перевод на русский язык святоотеческих творений, начавшаяся разработка исторических и литературных источников сформировали особую духовную «ученость», укрепили связь с восточно-христианским наследием. Самостоятельные паучко-богословские исследования, хотя и не дали ожидаемых результатов, все же получили в духовных академиях основание, наметились пути их развития, появились идеи, которые требовали апробации.
Несмотря на свою радикальность, реформа 1808 1814 гг. не уничтожила существовавшую до нее духовную школу преемство было, более того, достижения дореформенной школы были осмыслены и систематизированы. Реформа лишь отчасти решала проблемы духовного образования и только начала развитие богословской науки. При этом перед высшей духовной школой встали новые проблемы, требующие уточнения ее задач, нового этапа совершенствования, новых изменений. Но, подняв понимание сущности духовного образования на новый уровень, реформа 1808-1814 гг. позволила деятелям духовной школы не только видеть и формулировать проблемы, обусловленные конкретной ситуацией, но и определять перспективы развития богословской науки и духовного образования. И с учебной, и с научной деятельностью духовных академий были сопряжены серьезные проблемы, но сама формулировка этих проблем и поиск их решения должны были наметить дальнейший путь. «Энциклопедизм» образования, характерный для академий Устава 1814 г., давал основательность богословской мысли, но не привязывал ее «к чему-либо исключительно»®. Примат учебного процесса над наукой в самих академиях не позволял реализовать изначальные замыслы об академиях,
Певницкий В. Ф. Речь о судьбах богословской науки / / ТКДА. 1869. № 11-12. С. 188.
51
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
и необходимо было заново продумать идею совмещения в едином учреждении духовно-учебного и богословско-ученого центров. Требовал разрешения вопрос о методах богословской науки в целом, о разработке особой методологии исследований в каждой ее области, о допустимости перенесения гуманитарных научных методов — филологических, словесных, исторических - в соответствующие области богословия. Новые подходы к бо гословскому исследованию и образованию были лишь частными попытками, требующими осмысления, систематизации, обобщения, сравнения с богословско-учебным опытом иных стран и конфессий.
РЕФОРМА ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЙ 1869 г. И РАЗВИТИЕ БОГОСЛОВСКОЙ
НАУКИ В РОССИИ
Развитие богословской науки было поставлено перед российской высшей духовной школой в качестве прямой задачи с самого момента ее самостоятельного бытия, то есть с начала XIX в. 1 Однако ограниченность сил, научных средс тв и внутренние сложности становления духовно-учебной жизни, с одной стороны, недостаток опыта научного общения с российской светской и зарубежной богословской наукой с другой, привели к тому, что эта задача была исполнена лишь отчасти. Богословская наука получила в академиях основание: были начаты изучение и издание богословских, церковно-исторических и церковно-канонических источников, разработка российских архивов (центральных, епархиальных, монастырских), систематический перевод святоотеческих трудов, имелись отдельные успехи и в научно-богословских исследованиях. Высшая церковная власть давала корпорациям задания, требующие богословских познаний, учреждались научные периодические издания. Действовала система научной аттестации, ежегодно пополнялись ряды магистров и кандидатов богословия, существовал круг лиц, чьи особые заслуги в духовном просвещении были увенчаны докторской степенью1 2. Однако уже
1 См. статью настоящего сборника «Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг. и становление высшей духовной школы в России».
2 Всего в 1814-1869 гг. в докторское достоинство было возведено 28 лиц (из них 4 получили звание доктора богословия honoris causa).
53
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
в середине XIX в. пришлось констатировать, что академии не имеют ученых-специалистов «по предметам нашего духовного образования», выпускники же не могут заниматься систематическими научными исследованиями, а «берутся за то, на что случайно наведут обстоятельства»3. Для научного «прорыва» нужны были особые усилия, которые вылились в новую реформу высшей духовной школы, проведенную в 1869 г. Отношение к этой реформе современников было различно - от восторженного до резко-критического. Она имеет неоднозначную оценку в историографии4. Даже в лагере апологетов этой реформы не было и нет единства во взглядах на то, что было главным достижением этого преобразования, какие элементы являлись ответом на запросы времени и конкретной ситуации в духовных академиях, а какие внесли принципиальный вклад в организацию духовного образования и богословской науки. Феномен реформы 1869 г. небезынтересен для современной высшей духовной школы, вступившей в полосу реформ, одной из главных задач которых является создание благоприятных условий для развития богословской науки. Таким образом, аналитическое рассмотрение проблематики, процесса подготовки и проведения реформы 1869 г., ее итогов, научных плодов и негативных последствий представляет для современной богословской науки не только исторический, но и практический интерес.
3ГАРФ. Ф. 1099. On. 1. Д. 676. Л. 7 об.4 Титов Ф. И., прот. Преобразования духовных академий в России
в XIX веке / / ТКДА. 1906. Т. I. № 4, 5; Титлинов Б. В. Духовная школа в России в XIX веке: В 2 т. Т. 2. Вильно, 1909. С .374-421; Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд. Вильнюс, 1991 (далее: Флоровский. Указ, соч.) С. 360-364; Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ. М., 1999. С. 467-518; Смолич И. К. История Русской Церкви: 1700-1917. Ч. 1. М., 1996. С. 460-465 и др.
Доктора богословияДоктора богословия honoris causa
СПбДА М ДА КДА КазДА 17 2 4 14 0 0 0
54
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Было ли недостаточное развитие богословской науки единственной проблемой высшей духовной школы к середине XIX в.? Духовно-академическая система, созданная реформой 1808-1814 гг., действовала, поставляя кадры на церковное служение в разных областях — приходской, миссионерской, духовно-педагогической, законоучительской, и, кроме того, «подпитывала» сферы гражданского служения. В стенах духовных академий шел стабильный учебный процесс: обновлялись учебные курсы, разрабатывались программы, писались студенческие работы, появлялись новые предметы. Однако в недрах этой, казалось бы, достаточно благополучной деятельности можно было уловить некоторые тревожные симптомы, грозящие вызвать кризис. Учебный план был отягощен многопред- метностью, в нем отсутствовала систематичность. Новые богословские дисциплины, выделившиеся в 1820-1840-е гг. из общего богословского курса, не были определены в своем содержании и методах. Введенные в учебные планы нсбогословские науки, а также миссионерские предметы не имели твердого положения в высшей духовной школе, не был до конца определен их статус и значение в духовно-академическом образовании. Отсутствовала особая система подготовки кадров, как для академических кафедр, так и для преподавания в семинариях, а традиция перевода преподавателей с предмета на предмет затрудняла и последующую их специализацию. Кроме того, академии были отягощены многими задачами, возложенными на них Уставом 1814 г., и на преподавательские плечи, кроме собственно учебно-научного процесса, падало немало иных дел — ревизии семинарий и училищ, составление программ для духовных школ своего округа, подготовка многочисленных отчетов. Многие положения Устава 1814 г. оказались слишком «теоретичны» и не могли быть исполнены на практике, оставаясь лишь памятником духовно-учебного поиска. Последующие нововведения часто не вписывались в параграфы Устава и, контролируемые многочисленными положениями и постановлениями, входили в противоречие друг с другом, создавая много проблем для академии.
55
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Таким образом, академические корпорации не имели возможности сосредоточиться исключительно на научно-богослов ских занятиях. Но к 1850-м гг. многие профессора академий и архиереи, ревнующие о развитии богословской науки, пытались хотя бы определить главные проблемы, которые необходимо было решать. Преподавателям академий — а это были лица, на которых возлагались основные надежды в развитии научного богословия — трудно было стать специалистами в той или иной области богословия, ибо назначение выпускника на кафедру часто проводилось без учета темы его выпускного сочинения и интересов. В дальнейшем проводились частые перемещения с предмета на предмет, а с начала 1840-х гг., при увеличении числа предметов в академиях, на каждого преподавателя возлагалось 2-3 предмета. Научная деятельность членов академических корпораций не была организована: в тех или иных общих научных трудах участвовали не все, статьи в научные журналы представляла меньшая часть преподавателей. Недостаточность в специальных богословских исследованиях заявлялась, но конкретные научные задачи перед членами корпораций ставились довольно редко. Академии мало контактировали со светскими учеными, редко были членами научных обществ, а в самих академиях таковых не было. Не было традиции регулярных обсуждений научных проблем — это проводилось лишь тогда, когда академии выполняли какие-либо конкретные «ученые поручения». Хотя в академиях были достаточно хорошие библиотеки, постоянной информации об отечественных и зарубежных научных изданиях в них не поступало, а преподаватели, редко занимаясь специальными исследованиями, также не являлись знатоками современного богословия. Русская богословская терминология, хотя стала уже нормой и в научных, и в учебных трудах, была плохо отработана, и к преподавателям, выпускникам и студентам духовных академий часто предъявлялись претензии в необоснованном и плохо продуманном употреблении иностранных выражений. В отечественное богословие, вследствие его непростого исторического пути, проникло много идей, неприемлемых для православной науки, но для очи-
56
Реформа духовных академии 1869 г. и развитие богословской науки
щеп им от них и более четкого научно-православного отпета на те или иные вопросы требовалась большая работа. Преподавательские корпорации академий, хотя и старались по мере сил исправлять недостатки, сами были обрааовапы и воспитаны этой системой, и их знания, умения и опыт были обусловлены ее плюсами и минусами.
Во второй половине 1850-х гг. академические проблемы стали особенно заметны на ф оне общ его интереса в России к научно-образовательным вопросам'"’. Развитие науки как европейской, так и российской — ставило вопрос о постановке научного богословия на современный уровень. Открытия естественных наук — геологии, сравнительной зоологии, анатомии, психологии, ф изики — посягавш ие на опроверж ение или, но крайней мере, коррекцию сам их основ м ировоззрения, тр ебовали основательного и также научного ответа богословия. 5 об
5 К середине 1850-х гг. в светской научно-образовательной системе было выявлено много недостатков. Не устраивали действующие Уставы — университетов 1835 г., Академии наук 1836 г., Положениеоб испытаниях на ученые степени 1844 г. Начавшаяся в 1857 г. разработка нового университетского Устава позволила более четко сформулировать проблемы, существовавшие и в административном устроении университетов, и в учебном процессе, и в системе подготовки научно-образовательных кадров. На высшую духовную школу зти критические обсуждения светской системы образования и предложения но ее изменению действовали двояко. Во-первых, у светской науки и университетского образования, даже в атом «проблемном» состоянии, были элементы, небесполезные для науки духовной. В академиях практически отсутствовала система подготовки к преподаванию. Не было четкого закрепления преподавателей за предметом, были частые перемещения. Система научной аттестации в духовных академиях не представляла стимулирующего средства для научного роста преподавателей, ибо преподавательские должности никак не были связаны со степенями. Не было научных обществ, публичных обсуждений исследований. В учебном процессе была исключительно лекционная система, при отсутствии семинаров. Во-вторых, многие проблемы, обнаруженные в светской системе образования, были характерны и для духовной, и их обсуждение побуждало и духовно-учебные круги задуматься над решением своих проблем.
57
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ч
Ученые изыскания гуманитарных наук — истории, словесности, филологии, юриспруденции — исследования которых простирались и на церковную сферу (церковная история, церковное законоведение, церковная словесность и др.), ставили вопрос о соотнесении результатов с церковной наукой. Духовной науке следовало либо включаться в этот процесс, непосредственно участвуя в проектах по изданию источников, разработке церковных архивов, мероприятиях по спасению памятников церковной старины, либо, если эти исследования не были достаточно корректными с богословской точки зрения, развивать свой, альтернативный вариант спасения и изучения памятников, описания архивов и т.д. В определенной части общества появился интерес к богословию как таковому. Духовная ученость, бывшая доселе по преимуществу сословной обязанностью и достоянием, должна была предъявить миру свои научные результаты и занять свое место в научно-образовательной системе и в общественных представлениях.
Но катализатором начала реформы послужила сама обстановка в стране, затронувшая и все стороны церковной жизни. Процесс разработки реформ, начавшийся в первые годы царствования Александра II, не мог оставить в стороне и духовную школу. Разработка нового университетского устава, начавшаяся в 1857 г. и продолжавшаяся до 1863 г., стимулировала обсуждение общих проблем высшего образования, которые стояли и перед духовными академиями6.
6 Наиболее важные проблемы: необходимость специализации занятий студентов и выработка условий специализации; соотношение схоластической и «практической» науки, совершенствование института научной аттестации; подготовка к профессорским кафедрам (институт профессорских кандидатов, обучение в европейских университетах); соотношение фундаментального образования и подготовки студентов к практической деятельности; соотношение правительственных запросов и внутренних проблем университетов; административные и педагогические отношения с низшими школами (гимназиями); права профессорско-преподавательской корпорации в принятии решений, касающихся учебной деятельности университетов;
58
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Отдельные попытки решить назревшие проблемы духовной школы локальными мерами не имели успеха7. Был поставлен вопрос о реформе. Среди архиереев и в академической преподавательской среде не было единого мнения о том, насколько радикальны должны быть изменения — реформа или внутренние изменения. Все сходились па необходимости осуществить замыслы Устава 1814 г. о развитии духовных академий как академий духовных наук, то есть создать специальные условия для научно-педагогической специализации членов академических корпораций и формировать из них научно-исследовательские
сословность студенческого состава. См.: Замечания на проект общего Устава Императорских российских университетов: И 2 т. СПб., 1863; Журнал Ученого комитета Главного управления училищ по проекту общего Устава Императорских российских университетов. СПб., 1862. См. также по этому вопросу: Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983; Эймонтоаа Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к России капиталистической. М., 1985; Она же. Русские университеты на путях реформы. Шестидесятые годы века. М., 1993; Сэмюэл Д. Кэссов//. Университетский Устав 1863 г.: новая точка зрения / / Великие реформы в России 1856-1874 гг. М„ 1992. С. 317-332.
7 В рамках действующего Устава академии пытались внутренними силами: 1) изменить состав кафедр, предоставляя преподавателям возможность хотя бы относительной специализации и научною роста; 2) привести многопредметный учебный план в большую гармонию, для нормализации занятий студентов; 3) провести внутренние изменения учебных программ по отдельным предметам, с целью вместить развивающуюся науку в отведенные Bpe.vieinn.ie рамки; 4) ввести элементы богословской специализации для студентов старших курсов, в рамках семестровых и курсовых сочинений или самостоятельных занятий по освоению лекционных курсов. См.: Сухова II. К). Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). М„ 2006 (далее: Сухова. Высшая духовная школа). С. 1 4 0 -\ЛЗ,Чистович И. А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние тридцать лег. 1858-1888. СПб., 1889. С. 47, 73; Родосский А. Списки первых XXVII курсов Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1907. С. XVIII; Горский А. В., прот. Дневник. М., 1885. С. 159; РГИА. Ф. 802. Он. 8. Д. 27444, 27549; OP PI Hi. Ф. 574. On. 1. Д. 1015. Л. 1-4 об.
59
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
сообщества. Но принципиальное различие в проектах состояло в выборе типа учебного процесса. Основных проблем было две: 1) сохранять ли высшую духовную школу закрытого типа или взять курс на сближение с университетами, как по обмену кадрами, так и по методам образования? 2 ) сохранять в учебных планах созданное Уставом 1814 г. сочетание богословской и гуманитарной школы или встать на путь богословской специализации? Духовно-учебная реформа все же была начата, и разработка ее заняла более десяти лет. Начавшись в 1858 г. с опроса епископата8, она продолжилась в работе двух комиссий (1860-1862 гг. и 1866-1867 гг.) по реформе семинарий и духовных училищ, затем — в работе комиссии (1867-1869 гг.) по разработке реформы духовных академий9.
Составленный последней комиссией проект потом обсуждался еще трижды — шестью архиереями (в виде личных отзывов), самой комиссией в расширенном составе и Святейшим Синодом. Наконец, после переделок, Устав духовных академий был утвержден 30 мая 1869 г. императором.
В этом процессе постепенно определялись наиболее значимые идеи, составившие основу реформы 1869 г. и последующей эпохи деятельности духовных академий. В 1865 г. обер-
8 Проблемы духовно-учебной системы, при всех ее обязанностях перед государством и обществом, и их решение были делом внутри- церковным. Решение о преобразовании духовной школы должна была принимать церковная власть, она же должна была определять основные принципы преобразования. Обер-прокурор А. П. Толстой принял решение действовать с учетом принципа церковной иерархии, предложив первым высказать мнение о желательных изменениях в духовно-учебной системе архиереям — святителю Филарету (Дроздову) и митрополиту Санкт-Петербургскому Григорию (Постникову). Но обер-прокурор вышел к архиереям с рядом конкретных предложений, составленных Духовно-учебным управлением на основании аналитических записок, поступавших в Синод с конца 1830-х гг. См. статью настоящего сборника «Святитель Филарет (Дроздов) и высшая духовная школа XIX века: новизна и традиция».
“Подробно об этом см.: Сухова. Высшая духовная школа. С. 112- 229.
60
Реформа духовных академий 1869 г, и развитие богословской науки
прокурором Святейшего Синода стал граф Д. А. Толстой, соединивший в 1866 г. с этой должностью и должность министра Народного просвещения. Роль обер-прокурора в духовно-учебных делах к этому времени очень возросла. Он соединил идеи и желания, исходившие из духовно-учебных кругов, с властной и финансовой помощью государства, выбрал склонных к реформе членов Святейшего Синода, представителей епархиального епископата и духовенства и, опираясь на них, стимулировал начало и поэтапное проведение реформы. Энергия графа Д. А. Толстого и его умение выбирать «ключевые» фигуры, с одной стороны, его собственные учебные идеи - с другой, но многом определили подготовку и ход реформы духовных академий10. Главными деятелями реформы стали приветствуемые и поощряемые обер-прокурором архиереи — архиепископы Нектарий (Надеждин) и Макарий (Булгаков) и представители белого духовенства, получившие в это время особые полномочия, — протоиереи Иосиф Васильев, первый председатель Учебного комитета* 11, и Иоанн Янышев, ректор СПбДА. Бели первый, несмотря на свое председательство в комиссии по разработке проекта духовно-академической реформы, не высказал никаких самостоятельных идей и не проявлял в дальнейшем интереса к реализации нового Устава, то трое последних сумели вложить в новый Устав свои представления об организации высшего духовного образования и богословской науки и во многом определить проведение реформы12.
"’Там же. С. 160-165.11 Учебный комитет — новый центральный орган духовно-учеб
ного управления при Святейшем Синоде, учрежденный в 1867 г. См.: Сухова Н. Ю. История центральных органон управления духовно- учебными заведениями в России 1807-1918 гг. / / В А. 2001. № 6 (66). С. 264-302.
|20 роли архиепископа Нектария в деятельности комитета 1868- 1869 гг.: Катанский А. Л. Воспом инания старого проф ессора (1847-1915) (далее: Катанский. Воспоминания) / / ХЧ. 1916. Т. I. № 1. С. 57; Беляев А. А., прот. Профессор Московской духовной академии П. С. Казанский и его переписка с архиепископом Костромским
61
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Обсуждения конкретных вопросов, проходившие на разных этапах разработки реформы, вскрыли общие проблемы, которые так и не удалось решить удовлетворительно: 1 ) неопределенность главной цели деятельности академий и отсутствие структурообразующей идеи учебного плана; 2 ) неопределенность внутренней структуры богословия, не позволяющая выделить возможные направления богословской специализации;3 ) недостаточную определенность места и значения богословия в си
стеме наук, приводящую к неопределенности статуса небогословских наук в высшей духовной школе и богословских наук в университетах.
Процесс составления Устава духовных академий 1869 г. привел к соединению в его окончательном варианте идей из разных проектов и мнений, авторских или коллективных, причем неоднократно корректируемых. Однако, несмотря на некоторую несогласованность, нечеткость, очевидные недоработки, единство Уставу придавала сила и новизна основных идеи, которые представляли вполне определенную концепцию высшего богословского образования:
1) система специализации преподавателей академий - закрепление за предметами отдельных кафедр, стабильное пребывание преподавателя на кафедре, соответствие между
Обер-прокурор Святейшего Синода граф
Дмитрий Андреевич Толстой
Г '- . ^
Платоном. Письма к архиепископу Платону от 4 апреля и 30 мая 1866 г. / / БВ. 1912. № 4. с . 740; Там же. № 5. С. 129. Архиепископ Макарий и отцы протоиереи были лучшими выпускниками (первый - КДА, оба последних — СПбДА) и зарекомендовали себя еще до начала реформы самостоятельными идеями по совершенствованию богословского образования. См.: Сухова. Высшая духовная .„„гота. С. 96, 101, 167-169, 173-175. шк
62
м
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
должностным положением и ученой степенью, стимулирующее научный рост преподавателя в его предмете;
2 ) полноценная система научной аттестации — обязательная публикация и публичная защита магистерских и докторских диссертаций на ученые степени, преобразование магистерской богословской степени из учебной в ученую;
3) участие членов профессорско-преподавательской корпорации в решении вопросов учебного процесса и научного развития академий;
4) институт специальной подготовки профессорско-преподавательских кадров — приват-доцентуры, связанная с ней же возможность дополнительного чтения особых разделов основных наук;
5 ) акцент на специализации студентов — двухэтапная специализация: а) специальные отделения на трех первых курсах (богословское, церковно-историческое, церковно-практическое) ’3 при малом числе общ еобязательных предметов
1:5Встает вопрос об оригинальности выделения трех направлений, определивших специальные отделения — богословско-теоретического, церковно-исторического и церковно-практического. Одновременно с утверждением нового Устава духовных академий в мае 1869 г. в «Христианском чтении» был опубликован Устав Богословского факультета королевского Берлинского университета (S ta tu te» tier theologischen Facultat der Koniglischen Friedrich-Wilhelins-Universitiit zu Berlin. 1838) с комментариями. Автор комментария обращав вин мание на то, что для удобства изучения богословие в Берлинском университете разделялось на четыре направлении экзегетическое, историческое, систематическое и практическое, но системе Фридриха Шлейермахера, введенной в немецких и других европейских протестантских университетах с начала XIX в. Но г руппировка наук в немецком варианте не подразумевала ни разделении преподавателей или студентов внутри факультета, ни необязательности изучения какой- то группы предметов для части студентов. Последний вариант Устава 1869 г. в целом следовал делению богословия на четыре направления, но экзегетическое было сделано общеобязательным, а три остальные составили отделения. Таким образом, в отличие от немецкой системы, Устав 1869 г. оставлял в высшем богословском образовании
63
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
(Священное Писание, основное богословие, философские предметы, педагогика, один древний и один новый языки); б) особая подготовка к научной и педагогической деятельности на выпускном курсе — введение особых практических занятий по конкретной группе предметов, акцентирующих внимание студентов на изучении источников;
6 ) предоставление академиям прав и возможностей для распространения богословского знания и его популяризации - собственная цензура, право учреждения обществ, проведения публичных лекций, разработки и издания источников и т.д.
Новая реформа радикально меняла все стороны жизни духовных академий — учебную, научную, организационно-административную, экономическую, бытовую - и ее проведение сопровождалось решением множества проблем. Уже в первые пореформенные годы стали проявляться и минусы реформы - ее недостаточная продуманность, механическое перенесение на духовное образование инородных и плохо адаптированных принципов и норм, противоречивость некоторых положений Устава, неготовность духовно-академических корпораций к радикальным изменениям, отсутствие должного руководства в проведении реформы и оперативной корректировки*4. Высшая церковная власть официально проверила результаты реформы ревизией, проведенной в 1874-1875 гг., по окончании четырехлетнего цикла действия нового Устава, архиепископом Литовским Макарием (Булгаковым). Избрание в качестве ревизора одного из активных участников подготовки реформы * 14
каждого студента лишь два направления из четырех. Были заимствованы из немецкого устава и еще некоторые элементы Устава 1869 г. Таким образом, влияние немецкого университетского богословия на Устав 1869 г. несомненно. См.: Т. С. Богословский факультет Королевского Берлинского университета / / ХЧ. 1869. Т. II. № 8. С. 342- 354. По предположению автора настоящей статьи, публикация Устава была подготовлена протоиереем Т. Ф. Серединским, настоятелем посольской церкви в Берлине.
14 Подробно об этом см.: Сухова. Высшая духовная школа. С. 112- 229.
64
к.
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
1869 г. и автора некоторых ее положений многим казалось нарушением объективности оценки. Но преосвященный Макарий подошел к ревизии внимательно, посещал лекции, смотрел конспекты, студенческие сочинения, настойчиво предлагал преподавателям высказывать свои замечания и предложения15. В целом преосвященный ревизор засвидетельствовал положительные результаты реформыHi.Разумеется, это официальное свидетельство лишь отчасти отражало реальную картину, проблемы в проведении реформы были, и не заметить их в середине 1870-х гг. было трудно. Архиепископ Макарий сделал ряд критических замечаний и выдвинул предложения по совершенствованию учебного процесса и развитию науки в академиях. Критика относилась преимущественно к занятиям выпускного (4-го) курса: «нежизненность» педагогической подготовки, ибо проводится она без учета реальных семинарских программ; представление кандидатских и магистер-
15 ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2784. Л. 1-43; ЦОВ. 1876. № 12. С. 3 -4 ] Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 2. С. 195-212; Бердников И. Краткий очерк учебной и ученой деятельности Казанской духовной академии за 50 лет ее существования 1842-1892. Казань, 1892. С. 12.
|В «Профессоры... большею частью весьма даровитые и достойные... обладающие обширными познаниями в области своих наук... Молодые наставники разрабатывают свои предметы с отличным усердием... Студенты обнаруживают столько же зрелости мысли, сколько твердости убеждений». Был сделан официальный вывод о «достоинстве нового Устава духовных академий, твердости в его применении и добрых плодах академической реформы» (Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1875 год. СПб., 1876. С. 157). См. также. РГИА. Ф. 796. Оп. 156. Д. 710; Там же. Ф. 802. Он. 9. 1874. Д. 18.
Архиепископ Литовский и Виленский Макарий (Булгаков)
65
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ских диссертаций на темы, мало относящиеся к богословию или слишком близкие к современности; недостаточно внимательное руководство со стороны преподавателей работой студен- тов над кандидатскими сочинениями'7. Кроме того, были вы сказаны замечания в адрес конкретных преподавателей'8.
Предложения архиепископа были таковы: 1) изменить распределение наук по отделениям и еще уменьшить число общеобязательных наук; 2) перераспределить учебные часы, 17 18
v
17 РГИА. Ф .802. Оп. 9. 1874. Д. 18. Л. 3 об., 14, 20 об., 21, ЗЗ-ЗЗоб.Недовольство ревизора вызвали темы по светским наукам, не имеющие прямой связи с богословием: «Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордын-Нащокин», «Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев», «Теория Дарвина и ее отнош ение к началам христианской нравственности»; «современные» темы, являющиеся предметом для публицистики, а не для научного исследования: «Обозрение проекта основных положений, выработанных комитетом по преобразованию церковного суда, с точки зрения церковных правил и практических соображений». См.: П ЗС КазДА. 1875. С. 23,69; Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии после ее преобразования. 1870-1892. Казань, 1892 (далее: Терновский.Уш соч.) С. 218-219.
18 Архиепископ Макарий поставил вопрос об увольнении профессора догматического богословия КДА архимандрита Сильвестра (Ма- леванского) по состоянию здоровья (слепота), но академия и члены Синода вступились за о. Сильвестра, а преосвященного Ревизора заподозрили в научной ревности к стороннику исторического изложения догматики. Замечания были сделаны: профессору СПбДА М. И. Карийскому (усугубить старание о приготовлении лекций), его коллегам профессору Н. И. Барсову (преподавать в курсе пастырского богословия и гомилетики не только исторические обзоры сих наук, но и «саму систематизацию») и приват-доценту С. А. Соллертинскому (избегать излишнего употребления иностранных слов и фраз) и пр Профессору СПбДА Н. И. Глориантову было поставлено на вид неправильное в методическом отношении преподавание латыни (и он покинул академию). Был ускорен уход из ординарных профессоров КДА Н. И. Щеголева, не имеющего докторской степени. См.: РГИА Ф. 802. О п. 9. 1874 г. Д. 18. Л. 2 о б .-З ; Там же. 1875 г. Д. 43- Л. 1-4; Там же. 1876 г. Д. 53; Ж ЗС СПбДА за 1976. С. 38-41.
66
I
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
выделяемые па предметы, увеличив их для преподавания н аи более важных и тр удоем к и х наук; 3 ) у с и л и и , п р еп о д а в а н и е классических языков; 4 ) увеличить сум м у, отп уск аем ую на с о держание приват-доцентов; 5 ) разреш ить преподавателям «вы читывать не все разделы курса с оди н ак овой п одр обн ость ю », а останавливаться на тех, которы е н едостаточ н о разработаны в науке и отражены в учебной л и т ер атур е1”.
Несмотря на благоприятны е отзывы ревизора, is уч ебн ом процессе и в научной деятельности академ ий бы ли серьезн ы е проблемы, которы е стали о с о б е н н о зам етны но п р ош естви и времени.
Введенная новой реф ор м ой сп ец и али зац и я п реп одавателей и система отделений активизировали п учебны й проц есс, и научное развитие корпораций. В 1870 1880-х гг. специальны е исследования появились практически во всех обл а стя х б о г о словской науки, хотя разного уровня, разной степени са м о ст о ятельности. П оявилась в о зм о ж н о с т ь п р ео д о л ет ь при вы ч ку индивидуально-зам кнуты х н ауч н ы х за н я т и й и о б с у ж д а т ь богословские исследования м агистерские и док тор ск и е д и с сертации, монографии — на заседан и я х отдел ен и й . П о опы та обсуждений научных проблем преподаватели академий не нме- 19
19Из этих рекомендаций были исполнены лишь три мог к липс.В 1878-1879 гг. было введено обязательное изучение обоих древних языков, причем вследствие поддержки графа /I- Л. Толс тою. С кудная «приват-доцентская» сумма 2.000 руб. в год на всех принат-до- центов одной академии (для КДА, М ДЛ и КазДЛ, для столичной было выделено 2.400 руб.) была увеличена всего на 400 руб. в год для каждой академии. Синод разрешил преподавателям строить учебные курсы во своему усмотрению, холя и заметил, что «допуская похвал/,кое стремление преподавателей духовных академий разраба i ына i 1, науку, представляется целесообразным о б р а т и, их внимание и па подготовку их слушателей к удовлетворительному преподаванию в сем инариях». Первая и третьи не нашли сочувствия в членах Святейшего ('инода. См.: РГИА. Ф.802. Оп. 9. 1874. Д. 18. Л. 4 о б .-5 об., 8 об. 9, 14 об. 15, 23 об.; ПЗС КазДА. 1875. С. 70-71; Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1875 год. СПб., 187(1. С. 1Г,7 158.
G7
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Ч
ли, и предоставленные Уставом возможности использовались лишь в малой степени.
Новый Устав предполагал творческую учебную деятель- ность всех членов духовно-академических корпораций. От преподавателя даже не требовалось программы перед началом чтений, каждый мог сам планировать структуру читаемого им курса, последовательность разделов, рассматриваемые источники, рекомендуемые и критикуемые научные сочинения, Новая система настаивала на введении последних достижений научной деятельности в учебный процесс. Конкретных рекомендаций не давалось, каждый мог действовать по своему усмотрению, Поэтому некоторые преподаватели читали по старому принципу, стараясь охватить в той или иной степени все разделы преподаваемой науки и их определенную последовательность, большинство же пыталось построить курсы по-новому, излагая преимущественно те вопросы, которые имели неоднозначную трактовку в науке. Научно активные преподаватели уделяли значительное внимание темам, которыми занимались в своих исследованиях, принося в жертву полноту и целостность читаемого курса. Историографические и источниковедческие обзоры, углубленное рассмотрение отдельных разделов науки занимало часто все лекционное время. Некоторые разделы богословия были очень слабо разработаны в отечественной науке, обширная западная литература требовала тщательного критического рассмотрения, да и удовлетворяла запросам лишь отчасти. Каждому ученому предстояло изучить по своему предмету значительное количество источников, которые стали доступнее в связи с расширением научных связей, командировками в заграничные архивы и библиотеки, разработкой отечественных архивов, Введение института приват-доцентов давало возможность подключать к этим исследованиям, как и к построению по ним учебных курсов, молодых ученых, выделяя те или иные разделы наук в специальные курсы. Но эта возможность использовалась очень редко, причем в основном столичной академией2*1. *
2,1 В СПбДА были открыты приват-доцентуры по истории Славян ских Церквей (при кафедре новой истории), по истории Русской Церкви
68
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Научный подъем в духовн о-ак адем и ческ и х кругах т р у д но было ввести в рамки уч ебного процесса, и руководство академий — в частности, протоиерей А. В. Горский, - да и м ногие преподаватели выражали озабоч енность его дестабили зацией , ожидая резкого падения образовательного уровни вы п уск н и ков2' . Ситуацию могла снасти самостоятельная работа ст у д ен тов с пособиями и учебниками, по не хватало удовлетвор ительной литературы, а ещ е бол ее — опыта преподавателей и с т у дентов: первые не умели сф орм улировать м етодических указаний для руководства к сам остоятельной работе, вторые по старой традиции занимались лиш ь обязательны м и сочинениям и. В дальнейшем эта проблема встала со всей остротой и служ ила укором Уставу 1869 г.22 Н о общ ий научный порыв действовал вдохновляюще на лучш их студен тов 2’ . Был п ещ е один поло- * 21
синодального периода (при кафедре пгю рии Русской Церкви), но византийской истории, церковной статистике и географии (при кафедре общей гражданской истории), по антропологии (при кафедре философских наук). Эти приват-доцентуры были по большей части недолговечны, для расширения и стабилизации н о ю процесса были слишком скудные возможности, посещ ение лекций таких ирииат-до- центов не было обязательным для студентов, и аудитории часто бы вали пустыми. В российских университетах в это время была хорошо разработана система специальных курсов по отдельных/ разделам и вопросам. И среде преподавателей и студентов духовных академий этой системе сочувствовали, по перенесение ее //а духовно-учебную почву ШЛО трудно. См.: Письма студента Университета И. Казанского Л. Д. Беляеву / / О Р РП>. Ф. 26. К. 17. Д. 37. Л. 48 -18 об.
21 См.: Беляев А. Д. Дневник за 1876 1878 гг. / / О Р РГ6. Ф. 26. К. 1. Д. 8. Л. 38 об., 51; Каптеров II. Ф. Ректор МДЛ протоиерей Л. В. Горский (из МО//Х личных воспоминаний) (1868 1872) / / У Троицы в Академ////. Юбилейный сбор////к исторических материалов. М., 1914. С. 506-507; Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 285.
“ Свод мнений академий. Комиссия 1882 1883 /т„ Объяснительная записка к п|юекту Устава православных духовных академий 1883 j .
2 OP PUB. ф . 88. О /i. 1. Д. 36. Л. 1 об.; Соколов В. А. Годы сту- Леичеста (далее: Соколов. Указ соч.) / / БВ. 1916. № 3 4. С. 398; № 5. С. 35 36; Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 287 288;
6 9
1
жительный момент: требования Устава к «специальному» преподаванию заставляли каждого лектора осмыслять методы своего предмета, его место и значение в учебном плане и в бого
словском образовании в целом. Сложнее было положение общ еобязательны х предметов: принадлежа административно к одному из отделений, они не яв л я л и сь его специальными предметами, лишаясь не только внимания студентов и своего отделения, и других, но и статуса «специального», со всеми творческими упованиями.
Н есм отря на проблемы, большая часть предметов, как богословских, так и небогословских, сумела внести первые результаты в учебный процесс. Ориентация на научное препо
давание, соответствующее статусу высшей богословской школы, была дана, хотя при этом возник целый ряд проблем. И формулировка этих проблем представляется еще одним, хотя и менее значимым на первый взгляд, достижением реформы 1869 г. Неопределенность в научно-исследовательской методологии побуждала к компетентной адаптации методов, заимствованных в гуманитарных науках и иноконфессиональном богословии и активной разработке специальных методов в каждой области богословия. Проблема построения учебных курсов побуждала обсуждать вопрос о соотнесении научного развития предмета с его учебными рамками, введении последних научных достижений в учебные курсы и связанных с этим опасио-
___________Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Ректор МДАпротоиерей Александр Горский
Рубцов М. Василий Васильевич Болотов. Тверь, 1900. С. 49; Б ронзов А. А- Протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев. СПб., 1911 (далее: Бронзов. Указ, соч.) С. 7 9 -8 0 .
70
л
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
стях. Н еопределенность состава церковно-практического отделения вызывала много нареканий и бурны х обсуж дений, но в этих обсуж дениях был поставлен вопрос о практическом богословии в целом, его соотнош ении с научным богословием 21 * * *.
Вопрос о полож ении и значении небогословскнх наук в академиях при действии нового Устава вновь встал, и довольно остро. Устав 1869 г., включив в отделения специализации определенные науки, как богословские, так и пебогословские, призвал к синтезу богословского и гумани тарного знания. О б щий настрой на специальное развитие всех наук, входящ их в состав академий, подразум евал ату ж е задачу для гуманитарных наук. Н о опыт показал недостаточную продуманность сп особа осущ ествления этой идеи. Каждый из преподавателей не богословских наук долж ен был решать эту задачу на личном уровне, осмысляя специф ику развития своего предмета в высшей богословской ш коле, его отнош ени е к соответствую щ им университетским наукам, а такж е устанавливать контакты и сотрудничество со светскими коллегами. Возникали проблемы с написанием и защ итой работ по небогослонскпм наукам: с одной стороны, их авторы долж ны были учитывать требование Устава — соответствие направлений научной и учебной сп ец и ализации, с другой стороны — требования, связанные с богословскими учены м и с т еп ен я м и 25. Б ольш инство ф илософ ов,
21 См. статью настоящего сборника «Практическое богословие вроссийских духовных академиях проблема понимании и сложностиразвития (XVIII — начало XX в.)
'а В окончательном варианте Устава 1869 г. академиям давалосьправо присуждения исключительно богословских степеней. Уже в самом конце периода действия Устава 1869 г., в апреле 1884 г., защищал докторскую диссертацию доцент СП 6ДА II. А. Скабаланович («Византийское государство и Церковь в XI в. от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексия I Комнина» (СПб., 1884)). Хотя была заявлена тема «государство и Церковь», на заседании Совета академии был поднят вопрос о возможности допустить работу, по сути историческую, на соискание степени доктора богословия. И. Е. Троицкий, давая отзыв на эту диссертацию, счел долгом особо отметить
71
историков, филологов находили, как советовал Устав, темы «сродные» преподаваемой науке (§ 46), но осмысление самого принципа научно-богословского развития небогословских наук еще предстояло26.
Система научно-богословской аттестации, на которую реформа 1869 г. возлагала особые надежды как на стимул научного развития, сама по себе внесла в жизнь академий немало проблем. Степень доктора богословия могла теперь присуждаться лицам, не имеющим священного сана, за конкретное научное исследование. Установленная связь должности ординарного профессора с докторской степенью, а экстраординарного профессора и доцента - с магистерской меняла само отношение к высшим ученым богословским степеням (§ 46). Устав предусматривал определенный научный опыт для занятия преподавательских должностей, а проведение конкретных научных исследований и представление их в виде сочинений на ученые степени ставилось всем преподавателям в прямую обязанность. В трехгодичный срок, отпущенный ординарным профессорам для получения докторской степени, старшие члены преподавательских корпораций должны были публично предъявить свои научные достижения. Был разработан особый регламент защиты диссертации: «предзащита» — первичное рассмотрение представленной работы двумя оппонентами, обсуждение в заседании отделения, печатание своеобразных авторефератов — тезисов, выражающих сущность работы, назначение оппонентов, возражающие диссертанту на защ ите27. Окончательный
_________ Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
«соответствие выбранной диссертантом темы указу Святейшего Синода». См.: ЖЗС СПбДА за 1883-1884 уч. г. С. 213-217.
26 За все время действия устава 1869 г. лишь один преподаватель воспользовался § 47 Устава, о получении степени доктора, в одном из русских университетов: профессор КДА Ф. А. Терновский, но он преподавал церковную историю в университете, и историческая степень давала ему профессиональный авторитет.
27 Официальные оппоненты назначались из профессоров и преподавателей отделения, случаев приглашения оппонентов из других академий или со стороны не было: акт присуждения степени был
72
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
вариант Устава, оставив за академиями право присуждения лишь богословских степеней, поставил вопрос о диссертациях преподавателей небогословских кафедр: как совмещать совершенствования в преподаваемой науке с серьезным специальным научным исследованием на богословскую степень28.
В первые три года действия Устава 1869 г. докторские защиты шли очень активно, проявляя отчасти достижения и слабости дореформенной науки, отчасти — плюсы и минусы новой системы. Первые докторские степени были получены в СПбДА ординарным профессором И. В. Чельцовым и экстраординарным профессором И. Ф. Нильским в 1870 г. Диспуты прошли благополучно, журналисты писали, что все было «очень солидно и с эффектной обстановкой»29. Диспуты были важным
автономным. Назначение официальным оппонентом не требовало наличия у этого лица степени такого же ранга, на которую претендовал соискатель: экстраординарный профессор или доцент, не имеющий докторской степени, мог оппонировать на защите докторской диссертации, приват-доцент, не имеющий магистерской степени — на защите магистерской и даже докторской диссертации. Нередко случалось официальное оппонирование научными руководителями своих учеников.
2*Об этой проблеме писал в 1869 г. профессор русской истории КазДА П. В. Знаменский ученику и другу Д. Корсакову. См.: ГАРФ. Ф. 109. Оп. 3. Д. 1393. Л. 5 -5 об.
29 Правда, участник первого докторского диспута А. Л. Катанский — один из официальных оппонентов И. В. Чельцова — вспоминал, что долгий затвор духовной науки привел к неумению преподавателей академии держаться в общественных собраниях и вести научный ди алог. Речи диссертанта и оппонентов на первом диспуте были мало связаны, ибо каждый говорил свое, заранее заготовленное. Профессор И. В. Чельцов представил в качестве докторской диссертации сочинение «Древние формы символа веры» (СПб., 1869) — уже напечатанная в «Христианском чтении» (январь-июль 1869 г.) и отдельным изданием часть грандиозного задуманного им труда «Собрание символов и вероизложений Православной Церкви от времен апостольских до наших дней». Профессор И. Ф. Нильский представил к защите только что напечатанный им труд «Семейная жизнь в русском расколе» (СПб., 1869). См.: Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916.
73
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
событием и для академий, и для русской богословской науки: в целом она была признана серьезной, важной и интересной не только для узкого духовно-ученого круга30. В лице профессоров И. В. Чельцова и И. Ф. Нильского русское богословие по- лучило первых докторов, не имеющих священного сана. Иногда на защитах бывали очень горячие дискуссии, позволяющие более четко сформулировать научные проблемы, открывающие новые перспективы исследований, демонстрирующие научную силу или слабость диссертантов и оппонентов, разность во взглядах31. Иногда с этими публичными диспутами были связаны и не очень приятные для академий моменты, которые определялись не столько научными проблемами, сколько внутренними отношениями членов корпораций32.
Т. I. № 3. С. 291; Бриллиантов А. Иван Васильевич Чельцов. Биогр. очерк. СПб., 1911. С. 5 -6 . Это отмечали и некоторые газеты; Петербургская хроника / / Голос. 1870. № 297. С. 2; Известия и заметки// ПО. 1870. Ноябрь. С. 388-389.
30 «Ученые диспуты в академии привлекли к себе многочисленное собрание не только духовных, но и светских лиц разных классов общества. В этом нельзя не видеть утешительного доказательства, что наше общество начинает со вниманием и сочувствием относиться к делам духовной науки, при прежнем строе духовно-учебных заведений совершенно с ним разобщенной» (Извлечении из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1870 год. СПб., 1871. С. 145). Об интересе к диссертационным диспутам в академиях свидетельствуют и источники личного происхождения — воспоминания, дневники, письма. Конечно, круг постоянных посетителей был не столь широк, но московские любители духовной учености приезжали на эти мероприятия даже в Сергиев Посад. См.:
31 См.: ОР РГБ, Ф. 78. К. 26. Д. 8. Л. 16-16 об.; Там же. К. 27. Д. 15. Л. 28-28 об.; ОР РГБ. Ф. 541. К. 9. Д. 13. Л. 5 об.; Соколов. Указ соч.// БВ. 1916. № 5. С. 33-34; Из писем к родителям студента Московской Академии начала семидесятых годов / / У Троицы в Академии. 1814- 1914. М„ 1914. С. 169.
12 В МДА была неприятная история с диспутом профессора П. С. Казанского (1873 г.; «История православного монашества в Египте»): первый раз он был сорван, второй раз состоялся, но дискуссия докторанта и оппонента (А. П. Лебедева) проявила не только научное про-
74
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Применение новых правил к магистерским степеням задержалось на четыре года — первые магистерские диспуты состоялись лишь в 1873 г., на исходе «вводного» периода* **. В 1873 г. состоялось по одному магистерскому диспу ту в СПбДА и КДА, в 1874 г. — еще три: в МДА, КДА и КазДА ’4. В СПбДА выпускник 1873 г. Н. А. Скабаланович в полноте реализовал замысел Устава: в конце четвертого курса представил магистерскую диссертацию, построенную на изучении источников, с полноценным историографическим обзором, успешно ее защитил и был оставлен на кафедре новой общей гражданской истории в звании доцента. Это было первое свидетельство жизненности уставных положений о магистерских степенях, что чрезвычайно ободрило корпорацию*5. Другой вариант магистерской
тивостояние подходов к церковной истории, но и сложные отношения в корпорации. См.: Современные известия. 1873. в октября: РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1873 г. Д. 5. Л. 1-7; Лавров-Платонов А. Ф. Письма к Е. Е. Голубинскому от 27 февраля, 28 марта 1873 г. / / ОР Р1Ъ. Ф. 541. К. 9.Д . 13. Л. 14-14 об., 1 8 -18 об.
**Выпускникам 1869 г. (СПбДА и КДА) и 1870 г. (М ДА и КазДА) Святейший Синод разрешил получать ученые степени но прежнему Уставу, дав к тому же отсрочку в подаче сочинений до 1872 г. Большая часть выпускников 1869-1870 гг. сумела завершить сочинения и получить кандидатскую или магистерскую степень, хотя подача сочинений растянулась до 1875 г., а отдельные представители «прежней академической эпохи» подавали сочинения и спустя десятилетие. См.: ПЗС КазДА. 1872. С. 168 169; То же. 1875. С. 219 221; Терновский. Указ соч. С. 33.
14 В 1873 г. защитили диссертации: в СПбДА 11. А. Скабаланович «Об Апокризисе Христофора Ф илалета» (С П б., 1873) и н КДА С. А. Терновский «Исследование о подчинении Киевской ми циню лии Московскому патриархату» (Киев, 1872). И 1874 г.: в МДА приват-доцент Н. Ф. Каптерев «Светские архиерейские ч и нош тк и в древней Руси» (Сергиев Посад, 1874), в КазДА нриват-доцент II. Л. Милославский «Древнее языческое учение о странствованиях и переселениях душ и следы его в первые века христианства» (Казань, 1874), в КДА приват-доцент Олссницкмй М. А. «Киша Екклезиаст» (Киев, 1873).
,Г|Катанский. Нек поминания / / ХЧ. 1916. № 2. С. 206.
7 5
диссертации представил выпускник КДА 1871 г. С. А. Тернов- ский: практическая работа в Обществе Нестора Летописца и археографической комиссии дала ему возможность опублико
вать на средства комиссии памятник XVII века «Икона» (Архив Юго-Западной России. Ч. I. Том V), с предисловием, обширным введением и комментариями. Историческое отделение, после некоторых сомнений, дало согласие на его рассмотрение в качестве магистерской диссертации. После публичной защиты искомая степень была присуждена, но работа вызвала дискуссию о требованиях к магистерским диссертациям36. К магистерским диспутам готовились очень тщательно, боясь опорочить академию и богословскую науку37. Магистерские, как и докторские, диспуты вызывали интерес общества, особенное первые годы действия Устава, исполняя и апологетическую задачу. На первом магистерском диспуте в КазДА в 1874 г. - приват-доцента метафизики П. А. Милославского — как главное достоинство диссертации был отмечен новый метод разработки богословия, способный «влить в богословскую науку дух и жизнь и сообщить ей общечеловеческий интерес»38.
36 Было отрадно, что выпускники академий активно участвуют в разработке источников, практических археологических и археографических трудах, но в диссертации было мало анализа, собственных выводов автора и других привычных элементов научной работы.
37 В МДА первый магистерский диспут — 15 октября 1874 г. - выпал на долю недавнего выпускника, приват-доцента Н. Ф. Каптере- ва. Его сочинение получило положительный отзыв Е. Е. Голубинского, было напечатано, составлены тезисы, речь. Но протоиерей А. В. Гор ский, чрезвычайно волнуясь перед первым «выходом в свет», по которому будут судить и о духовной науке, и «как это новое дело поставлено в нашей Академии», — заставлял диспутанта перепроверять все источники, речь и тезисы, исправляя все, что может вызвать недоумение, непонимание, ненужные вопросы. См.: Каптерев Я. Ф. Ректор МДА протоиерей Александр Васильевич Горский (из моих личных воспоминаний) / / У Троицы в Академии. Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 507-508; К истории первого магистерского диспута в МДА / / БВ. 1915. № Ю -12. С. 396-412.
38 Диссертация: Древнее языческое учение о странствованиях и
__________ Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
76
I
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Диссертационные диспуты, как докторские, так и магистерские, на протяжении всей эпохи действия Устава духовных академий 1869 г. привлекали интерес не только высшей церковной иерархии и местного священства, по и представителей светской науки, образованной и простой публики. Публичная защита научных сочинений имела положительные результаты: во-первых, «возбудила замечательную энергию... в духовно-ученом сословии», во-вторых, общество перестало упрекать духовные школы в замкнутости и считать их гнездом схоластики, в-третьих, присутствие на ученых диспутах представителей разных групп общества не могло не развивать более серьезного и осмысленного отношения к богословским вопросам10. Последнее было особенно важно при отношении к вопросам религии в образованном обществе в 1870- 1880-х гг.
В целом преобразование духовных академий заметно про будило ученую деятельность в преподавателях. Всего за пери од действия Устава 1869 г. во всех духовных академиях было присуждено 39 докторских степеней*0. «Второй волной*
переселениях душ и следы его в первые века христианства. Казань, 1874. Эти слова оппонента профессора В. А. Снегирева оказались очень близки присутствующим и цитировались несколькими журналами и газетами. См.: ЦОВ. 1874. № 22. С. 4. См. также: ПЗС КазДА. 1874. С. 12-19.
“ ЦОВ. 1884. № 64. С. 4.40 Всего за период действия Устава 1869 г. в СПбДА было защи
щено 9 докторских диссертаций, в М ДА - 9 (и еще одна присуждена без публичной защиты), в КДА 10, в КазДА 8 (и еще 2 были при • суждены без публичной защиты).
1870
1871
1872 соГ-»00 1874
1875
1876
1877 оо
00 1879 О0000 1881
1882
1883
1884
СПбДА 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2МДА 0 1 0 8 1 0 1 0 1 1 0 2 ' 0 0 0
КДА 0 0 2 3 0 1 1 2- 0 0 0 1 0 0 0
КазДА 0 0 0 4* 0 0 0 0 2 ' 0 0 2 0 1 11 - в том числе 1 без публичной защиты;
77
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
докторских диссертаций — после 1874 г. — были новые исследования, представлявшие уже результаты деятельности пореформенных академий41. Работы были разного направления,
2 — в таблице не учтена степень доктора русской истории, полученная в 1877 г. экстраординарным профессором КДА Ф. А. Тернов- ским на историко-филологическом факультете Киевского университета св. Владимира;
3 — в том числе 1 без публичной защиты;4 — в том числе 1 без публичной защиты.Прим. В таблицу под 1884 г. внесены только те степени, которые
были получены по правилам Устава 1869 г. (до 22 апреля 1884 г.)Докторские степени без защиты присуждались по особому хода
тайству Совета академии и архиерея перед Синодом, причем лицам, не состоящим в корпорации. В 1881 г. МДА таким образом увенчала докторской степенью сербского патриаршего архидиакона Емилиана (Радича) за сочинение «Verfassung der orthodox-serbischen und orthodox-runmnischen Particular-Kirchen un Oesterreich-Ungara. Serbien und Runwiien. I Buch. Die Verfassung der orthodox-serbischen Particular-Kirche von Karlovilz» (Praga, 1880); а КазДА в 1873 г. - своего бывшего ординарного профессора Г. С. Саблукова «во внимание к его ученым трудам» и капитальному сочинению «Сличение мухам- меданского учения о именах Божиих с христианским о них учением» (Казань, 1873), а в 1878 г. - епископа Нижегородского Хрисанфа (Ре- тивцева) за его сочинение «Религии древнего мира в их отношении к христианству. В 3-х т.» (Т. I: СПб., 1872; Т. II: Там же, 1875; Т. III: Там же, 1878), первый том которого преосвященный Хрисанф пытался защитить в 1873 г. в СПбДА, но неудачно.
Разумеется, служебный рост не был основным побуждением к занятиям наукой. Но дополнительным стимулом это служило. Экстраординарные профессорские места, не требующие докторской степени, были всегда заняты, и у доцентов была единственная возможность продвижения — получение докторской степени. Разница в окладах - 1.200 руб. у доцента и 3.000 руб. у ординарного профессора — играла определенную роль при небогатой жизни преподавателей духовных академий и запрещении Устава 1869 г. исполнять членам корпорации какие-либо еще оплачиваемые должности.
41 Из докторских диссертаций этого периода следует отметить: Троицкий И. Е. Изложение веры Церкви Армянской, начертанное Нерсесом, каталикосом Армянским, по требованию боголюбивого
78
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
жанра, но в целом все они свидетельствовали о расширении эрудиции ученых-богословов, самостоятельной работе с источниками, попытках применения научно-критических методов, иногда плодотворных, иногда недостаточно компетентных. Магистерские диссертации, ставшие полноценными научными работами, вызывали серьезные научные дискуссии, иногда открывали новое направление в русских богословских исследованиях12. Всего за период действия Устава 1869 г. во всех духовных академиях были присуждены 73 магистерские степени11.
государя греков Мануила. СПб., 1875; Катанский А. Л. Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнегреческих отцов и писателей Церкви до Оригена включительно. СПб., 1877; Сергий (Спасский), архим. Полный месяцеслов Востока. Т. 1. Восточная Агиология. М., 1875; Иванцов-Платонов А. М., прот. Ереси и расколы трех первых веков христианства. Ч. 1. Источники для истории древнейших сект. М., 1877; Лебедев А. П. Вселенские соборы IV и V в. Обзор их догматических деяний в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской. М., 1879); Петров / / . И. О происхождении и составе славяно-русского печатного пролога. Киев, 1875; Олес- ницкийА.А. Святая Земля. Том I: Иерусалим и его древние памятники. Киев, 1875; Сольский С. М. Сверхъестественный элемент в новозаветном откровении по свидетельствам Евангелий и посланий апостола Павла. Киев, 1877; Воронов А. Д. Главнейшие источники для истории св. Кирилла и Мефодия. Киев, 1877; Беляев Н. Я. Римско-католическое учение об удовлетворении Богу со стороны человека. Казань, 1876; Курганов Ф. А. Отношения между церковною и гражданскою властью в Византийской империи в эпоху образования и окончательного установления характера этих взаимоотношений (325-565). Казань, 1880; Бердников И. С. Государственное положение религии в римско-византийской империи. Т. I. Казань, 1881.
п Научную дискуссию в церковной археологии вызвала магистерская диссертация Н. А. Покровского «Происхождение древнехристианской базилики» (СПб., 1880); в церковной истории — И. С. Паль- мова «Гуситское движение. Вопрос о чаше в гуситском движении» (СПб., 1881) и др.
Всего за период действия Устава 1869 г. в СПбДА было защищено 23 магистерские диссертации, в МДА — 21, в КДА — 13 (еще1 степень присуждена без публичной защиты), в КазДА — 13 (еще2 степени без публичной защиты).
79
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Период энергичного становления специальных исследований имел несомненные результаты: в каждой области богословия сформировались определенные направления, иногда противостоявшие друг другу в научных вопросах, происходили научные споры, способствовавшие выработке более адекватных взглядов. Но большая часть научных работ, как и прежде, являлась плодом личных усилий, хотя стимулированных и поддерживаемых новой системой. Для последовательного систематического развития богословской науки, с одной стороны, должен был накопиться опыт, позволяющий критически ис- i пользовать сами научные методы, и более значительный запас специальных работ, на которые можно было опираться. С другой стороны, необходима была централизация богословской науки, предоставляющая возможность систематизации проводимых исследований, регулярных контактов со светской наукой, построения перспективных проектов, осуществления более широкого научного преемства.
Усиленное развитие специальных богословских исследований выявило немало проблем. Вопрос о соответствии наби-
О ‘ г-ОО 00 1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879 оОООО ООоо 1882
1883 0000
СПбДА 0 0 0 1 2 2 0 0 0 6 1 5 1 3 2МДА 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 2 5 1 2 1КДА 0 0 0 1 1 0 1 3 4 0 1 1' 0 2 0КазДА 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 З 1 2 4 1
1 — без публичной защиты;2 — в том числе 2 без публичной защиты.Прим. В таблицу под 1884 г. внесены только те степени, которые
были получены по правилам Устава 1869 г. (до 22 апреля 1884 г.).Магистерские степени без защиты присуждались по особому хо
датайству Совета академии и правящего архиерея перед Синодом, по причине невозможности для диссертанта прибыть на диспут (удаленности от академии, особое служение): в 1881 г. - ректору Зарской семинарии архимандриту Никодиму Милашу (КДА), в 1882 г. — преподавателям Томской ДС И. Яхонтову и Тобольской ДС И. Сырцеву (КазДА). См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1880 г. Д. 58. Л. 1-3; Терновский. Указ соч. С. 107-108.
8 0
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
рающей силу богословской науки православной традиции был непраздным. Особенно болезненно вставал этот вопрос в первые годы действия Устава 1869 г. Разрешение, данное духовным академиям в 1867 г., — выписывать из-за границы научную литературу и периодику без цензуры — существенно расширило горизонт преподавателей академий и пополнило библиотеки современными иноконфессиоиальными исследованиями. Необходимость представить докторскую работу в течение грех лет не давала возможности ординарным профессорам тщательно и взвешенно оценивать новые идеи и выводы, как собственные, так и почерпнутые из серьезных западных трудов. Кроме того, научное исследование подразумевало беспристрастность автора и право ставить любые вопросы, если они содействуют выяснению истины, но этим правом надо было учиться пользоваться'1'1 .
Эффективным вспомогательным средством для развития богословской науки в условиях Устава 1869 г. стали командировки преподавателей и кандидатов в преподаватели с научной целью за границу и в русские университеты'1'’. Заграничные командировки, потребовавшие живого знания европейских языков, способствовали повышению уровня их преподавания в академиях и, что не менее важно, усилению ревности студентов к их изучению. Интерес к научным исследованиям и организации учебно-богословского процесса в православных и ино- конфессиональных христианских духовных школах расширяется: журналы духовных академий стараются печатать соответствующие материалы, преподаватели-специалисты составляют аналитические записки™.
Научный уровень духовно-академических исследований был засвидетельствован не только «изнутри», но и «извне», * 45 *
" См. статью настоящего сборника «Научно-богословские исследования в России — проблемы и поиск (XIX — начало XX в.)».
45См. статью настоящего сборника «Научные командировки преподавателей духовных академий за границу и их значение для российского образования и науки (вторая половина XIX — начало XX в.)».
4,’ОР PH Б. Ф. 574. On. 1. Д. 260 и др.
81
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
светскими учеными-специалистами47. Способствовали этому признанию профессиональные контакты преподавателей и выпускников духовных академий, преподававших в университетах богословие, церковную историю и церковное законоведение, участие в обсуждении и решении проблем учебного процесса и научного развития48. Перед богословием духовных академий эти контакты поставили дополнительный вопрос - о месте церковной истории и церковного законоведения в богословской науке и степени их зависимости от исторических и юридических наук.
По-прежнему проблемой оставалась система подготовки научно-педагогических кадров. Надежды Устава 1869 г. на новую преподавательскую смену, подготовленную более профессионально, чем дореформенные преподаватели, и способную синтезировать в себе новый настрой на «специальность» и лучшие традиции alma mater реализовались лишь отчасти. Для
47 Одно из первых свидетельств об уровне ученых-византинистов из духовных академий принадлежало профессору Санкт-Петербургского университета В. Г. Васильевскому. Анализируя сочинение профессора СПбДА И. Е. Троицкого о патриархе Арсении («Арсений, патриарх Никейский и Константинопольский, и арсениты (из истории Восточной Церкви в XIII веке)». СПб, 1873), он отметил не только полное соответствие исследования самым высоким критериям, но и определенную закономерность: И. Е. Троицкий являлся представителем «новых самостоятельных ученых деятелей, явившихся в последнее время в русских духовных академиях», и констатировал их: 1) обширную начитанность в византийской литературе духовной и светской, полную преданность интересам науки и уважение к ее требованиям: 2) просвещенный, человечный и широкий взгляд на историю, на задачи Церкви и государства; 3) литературный талант изложения. Цит. по: Мир русской византинистики. СПб., 2004. С. 11.
48 В 1871 г. был поставлен вопрос о возможности замещения этих кафедр университетскими выпускниками, были разработаны правила приобретения ученых степеней доктора и магистра церковного права в университетах, но в большинстве случаев все же приглашались представители академий. См.: См.: Сборник распоряжений по Министерству народного просвещения. Т. V. 1871-1873 гг. СПб., 1881. № 268.
82
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
некоторых кандидатов на кафедры удавалось устроить особую подготовку к кафедре, в виде дополнительного обучения в российских университетах или командировок в заграничные университеты, но системой обязательной подготовки к профессорской деятельности это не стало*’.
Не исполнил во всей полноте возложенных на него надежд и институт приват-доцентов. По замыслу авторов Устава 1869 г. перед приват-доцентурой ставились две задачи — приготовление профессорской смены и научная разработка конкретных разделов особенно трудоемких и обширных предметов. Если вторая задача так или иначе решалась, то школой «профессорской выучки» эта система так и не стала. Даже те приват-доценты, которым выделялся для чтений раздел науки (или наука, не входившая в штатное расписание), делали это совершенно самостоятельно, без какого-либо практического обучения или стажировки. При этом выделяемая на приват-доцентов сумма — 2.400 руб. — была слишком мала, чтобы обеспечить академиям достаточный «запас» молодых ученых из наиболее талантливых кандидатов. На тех же приват-доцентов, которые попадали на штатные кафедры, падала ноша полной преподавательской нагрузки и ответственности. Как и раньше, спасала добросовестность и трудоспособность лучших выпускников академий — недостатки системы они компенсировали личным рвением50. Но за время действия Устава приват-доцен-
т Специальную подготовку к преподаванию прошли кандидаты на кафедры славянских наречий — в МДА Г. А. Воскресенский, в КДА В. Н. Малинин, в КазДА А. А. Царевский, кандидат на кафедру истории Славянских Церквей в СПбДА И. С. Пальмой и некоторые др. Но это были отдельные случаи — без какой-либо дополнительной подготовки в 1876 г. оказался на кафедре догматического богословия в МДА А. Д. Беляев, на кафедре истории Древней Церкви в СПбДА — В. В. Болотов, на кафедре патристики в КДА — К. Д. Попон (к тому же закончивший церковно-историческое отделение и не слушавший патристики).
’"К началу разработки нового Устава — в 1881 г. — из 25 приват- доцентов во всех четырех академиях штатные кафедры занимали 8.
83
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
тура все больше превращалась из подготовки к преподавательской деятельности в начальную преподавательскую ступень, на которую попадали лучшие выпускники академии до получения магистерской степени* 51.
Но подготовка к научной и преподавательской деятельности должна была начинаться, по замыслам составителей Устава 1869 г., еще раньше — на школьной скамье. Для этого было установлено особое положение выпускного курса, с особыми задачами и «нешкольным» режимом. На четвертый курс по замыслам Устава 1869 г. возлагались большие надежды - именно этот год должен был быть венцом всего нового процесса обучения, выявить его достоинства и недостатки. Идеальным результатом четвертого курса был магистр, написавший н
Остальные приват-доценты читали конкретные отделы наук, которые имели штатных преподавателей. Срок доработки магистерской диссертации часто затягивался, иногда до 10 лет. Однако случались» противоположные ситуации: в приват-доцентском звании пребывали магистры, ибо не имелось штатных доцентур. Так, например, в КазДА на вакантную кафедру общей церковной истории древней в сентябре 1873 г. был избран по конкурсу магистр КДА С. А. Терновский, но Синод не утвердил избрание совета «за отсутствием штатных доцентур в КазДА». Доцентом Терновский стал лишь в 1879 г. См.: ПЗС КазДА: за 1873 г. С. 9 5 -98 , 232-234 , 251, 282, 297; за 1879 г. С. 86-88.
51В 1873 г. во всех академиях были вакантны 17 кафедр (при 116 штатных преподавательских единицах), в 1875 г., при завершении процесса введения Устава, — 14 вакантных кафедр, в 1882 г. до полного штата не доставало 8 ординарных и 1 экстраординарного профессоров, 10 доцентов, 2 лекторов (свободные штатные кафедры были замещены внештатными преподавателями и приват-доцентами). В 1876 г., на годовом акте СПбДА, корпорация выражала сожаление, что «духовные академии доселе не имеют возможности, подобно светским высшим учебным заведениям, оставлять при себе кандидатов на наставнические должности, не обязывая их в течение известного времени к лекциям, а предоставляя им все это время для собственного специального изучения избранной науки, под руководством русских и иностранных ученых» (ЦОВ. 1876. № 20. С. 6). Статистика: Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1873 год. С. 98; То же за 1875. С. 160; То же за 1881 г. С. 146.
84
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
защитивший иа публичном диспуте диссертацию, изучивший источники и исследования по избранной группе наук, освоивший педагогические приемы и показавший способность преподавать эти науки в духовных академиях и семинариях на современном научном уровне. Инициатором этого нововведения был протоиерей Иоанн Янышев, считавший эту возможность — сделать первое серьезное научное исследование под кровом академии — очень важной для каждого духовного выпускника и для традиций богословия. Он мыслил четвертый курс как зачаток научно-исследовательских институтов, лабораторий богословской науки, способствующих ее развитию-™. Но реакция преподавателей академий на это нововведение была неоднозначна, к тому же Устав не объяснял, как практически осуществлять одновременное выполнение этих задач, каждая из которых требовала много времени и сил. На протяжении всего времени действия Устава серьезной проблемой оставалось совмещение на «специально-практических лекциях» научной и педагогической подготовки — «изучение науки по первым ее источникам и всесторонний научный анализ этих источников», «ознакомление с лучшими иностранными и отечественными сочинениями по той или другой науке» и «знакомство с учебниками и учебными пособиями в практических видах ее преподавания»™. Четыре года академии отрабатывали групповую * *
"Л Бронзов. Указ соч. С. 8 0 -8 1 . С этим был согласен и академик Ф. И. Буслаев, в 1869 г. один из лучших профессоров М осковского университета. Считая новый Устав духовных академий и целом неудачным — и жесткое деление на отделения-факультеты, и конкретное распределение наук по отделениям подверглись его строгой критике, - Ф. И. Буслаев надеялся, что «одно только может спасти академии от падения — это специальные классы последнего года». Однако профессор МДА П. С. Казанский, выражая мнение определенной части корпорации, писал в том же 1869 г.: «У нас думают, что специальные классы предназначены для пьянства окончивших курс». См.: Казанский. Переписка. Письмо от 28 марта 1866 г. / / БВ. 1914. Т. II. № 9. С. 76.
“ РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 1 отд. 2 гг. Д. 1. С. 423.
85
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
специализацию и систему магистерских экзаменов, и в 1874 г положением Синода было закреплено 8 специальных групп дм четвертого курса: 1) Священное Писание и древний язык: еврейский — для студентов богословского отделения и греческий — для студентов других отделений; 2) богословие основное, догматическое и нравственное; 3) пастырское богословие, гомилетика, литургика и каноническое право; 4) всеобщая церковная история и история Русской Церкви; 5) всеобщая гражданская и русская история и один из богословских предметов;6) словесность с историей литературы и логика и один из богословских предметов; 7) психология, история философии и педагогика и один из богословских предметов; 8) один из древних языков и один из богословских предметов54.
Предоставленные специальными занятиями возможности были реализованы лишь отдельными преподавателями55. В МДА в 1876-1877 гг. В. О. Ключевский, имевший опыт университетских семинаров, постарался перенести эту традицию и на духовно-учебную почву. Но участники являлись на занятие неготовыми, замечания их имели «только формальный или диалектический характер», и обсуждение вырождалось в пустое словопрение56. Попытку устроения специальных занятий
54 Положение об испытаниях на ученые степени и звание действительного студента в духовных академиях. Казань, 1874.
55 Профессор СПбДА А. Л. Катанский писал в воспоминаниях о специальных занятиях с единственным студентом, выбравшим на четвертом курсе 2-ю группу предметов (богословие основное, догматическое и нравственное) — священником Георгием Титовым: занятия доставляли удовлетворение, как профессору, так и студенту. Но это было скорее индивидуальное общение студента с научным руководителем. При более широком составе специальных групп такие занятия чаще всего терпели fiasco. См.: Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 285; № 4. С. 404-408
56 Главными задачами были: изучение источников по русской истории, обучение элементам научной работы (критическому подходу к источнику, оценке его достоверности, особенностей, формулировке выводов). На заседании предполагалось обсуждение рефератов, составленных по историческим источникам, прения, коррекция со
86
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
предпринял в 1875-1877 гг. архимандрит Михаил (Лузин), занимавший в МДА кафедру Священного Писания Нового Завета: он привлек студентов к научно-переводческому труду1’7.Дело было полезное, но отнимало много времени, и продолжения не последовало. Ректор и профессор нравственного богословия СПбДА протоиерей И. Л. Янышев — инициатор специализации выпускного курса — постарался показать пример постановки этих занятий. В 1882—1883 уч. г., имея большую группу специализации — более 10 человек — он регулярно проводил занятия по двум направлениям: 1) изучение иностранных курсов нравственного богословия, не переведенных на русский язык (каждому студенту поручался какой-либо автор),2) изучение нравственной стороны посланий апостола Павла™. 57
Профессор МДА Васили» Оспиоипч Ключскский
стороны руководителя семинара и выводы. Но у студентов не было привычки готовиться к занятиям, и интерес «очень скоро ослабел, а вместестем заглохли и собрания». См.: Соколов. Указ, с о ч ./ / БВ. 1916. № 3-4. С. 392-393.
57 Верный своему девизу — «Пересаживайте, пересаживайте западную науку — католическую и протестантскую — на почву русского православия» — архимандрит Михаил организовал коллективный перевод «Введения в Новый Завет» Г. Э. Герике, изданный затем под его редакцией. См.: Муратов М. Д. Из воспоминаний студента Императорской Московской Духовной Академии XXXII курса (1873- 1877) (далее: Муратов. Указ соч.) / / БВ. 1915. Т. III. № 10-12. С. 756.
’"Рефераты читались в аудитории, с подробным разбором и оценкой со стороны профессора и студентов. По отзывам участников семинара, польза была велика: «каждый становился хозяином своего
87
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
В конце эпохи действия Устава 1869 г. некоторые молодые преподаватели СПбДА — Н. В. Покровский и другие — начали более плодотворно использовать специальные занятия и давать i студентам особые задания, включающие элементы научного исследования* 59.
Вопросы возникали и с магистерскими экзаменами - они должны были иметь не школьное, а научно-богословское значение, но у академий не было ни опыта проведения таких экзаменов, ни четкого понимания, как можно проверить ученую «зрелость». Оценка «удовлетворительно» по этому экзамену давала право на искание магистерской степени без нового испытания, что тоже не способствовало усилению ревности при подготовке60. Ректор СПбДА протоиерей Иоанн Янышев пытался поставить дело по замыслам Устава и отойти от традиционной «школьности», проверяя знание источников и литературы предмета, в том числе инославной, умение сравнивать идеи разных авторов, направления школ и т.д.61
Проблему составлял и сам процесс написания магистерских диссертаций. Требования к ним не были определены в Уставе, не было ясно и то, является ли обязательным для студентов выпускного курса написание магистерского сочинения, если
предмета», не только получая дополнительные сведения, но и учась критическому подходу, сравнительному анализу. См.: Бронзов. Указ соч. С. 78-79.
59 Отчет студента 4 курса по специальным занятиям по церковной археологии под руководством Н. В. Покровского: ОР РНБ. Ф. 574. On. 1. Д. 1046. Л. 1 -2 об.
60 Изначально на магистерских экзаменах ставились обычные оценки, но при достаточном ответе большинство экзаменаторов предлагало ставить высший балл. В результате все свелось к двухбалльной оценке. Случались и неожиданности: так ректор МДА архимандрит Михаил (Лузин), считавший, что «не следует давать магистерства тому, кто не желает быть магистром», в свое недолгое ректорство «провалил на магистерстве» 13 человек. См.: Терновский. Указ соч. С. 104- 105; Муретов. Указ соч. / / БВ. 1915. Т. III. № 10-12. С. 766; Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 286.
61 Бронзов. Указ соч. С. 79-80.
88
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
выпускник не претендует на степень магистра®. Вопросы ноз- никли с выбором тем для магистерских работ: должны ли они обязательно быть связаны с предметом специализации выпускного курса, могут ли выбираться темы по общеобразовательным предметам, по небогословским наукам, кто должен формулировать темы магистерских работ. Одного года было мало для проведения серьезного исследования и написания работы, и лишь отдельные студенты могли представить в конце учебного года магистерское сочинение. Первые магистерские диспуты непосредственных выпускников вызвали надежды на реализацию этого уставного положения®. Но и в дальнейшем не каждый год среди выпускников четырех академий была хотя бы одна подготовленная магистерская диссертация: суровые требования, публикация делали сложным ее написание в течение годаы. Большинство даже серьезных и не щадящих сил
“ Учебный комитет в 1871 г. сделал мужественное заявление: хотя педагогические занятия имели бы «больше простора», если бы не соединялись с написанием магистерской диссертации, следует принести эту жертву и ввести в круг занятия выпускного курса занятия диссертациями. См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1870 г. Д. 11. Л. 29-31 об.
К| В 1876 г. в КДА удачные защиты магистерских диссертаций двух выпускников этого же года — Н. М. Дроздова и А. II. Красовского вызвали триумфаторе кие настроения. Пресса, сочувствующая Уставу 1869 г., констатировала: «новый Устав... успел достаточно привиться и уже принести свои плоды... По словам людей компетентных, уровень развития и знакомства с науками в среде студентов заметно повысился...». См.: ЦОВ. 1876. № 70. С. 3 -5 .
и Даже усердные студенты, прилагавшие к написанию магистерского сочинения все силы, не справлялись с этой работой за год. Из выпуска 1874 г. в МДА первая магистерская диссертация была защищена В. А. Соколовым через 7 лет после выпуска, из выпуска 1876 г. - Н. И. Троицким — через два года. М. Д. Мурстов - один из лучших студентов МДА 1877 г. выпуска, будущий профессор Священною Писания Нового Завета, защитил магистерскую диссертацию через 8 лет после выпуска. См.: Соколов. Указ еоч. / / БВ. 1916. № 5. С. 35 36; Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 287-288; Муратов. Указ соч. / / БВ. 1916. Т. III. № 10-12. С. 588-589; Каптерев И. Ф.
89
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
студентов заканчивало работу через несколько лет после окончания академии65.
Таким образом, уставные положения, регламентирующие занятия выпускного курса, оказались слишком неопределенными, корпорации не были готовы к ним в должной степени, и практическая подготовка на выпускном курсе специалистов - преподавателей и ученых — оказалась на практике мало исполнимой. Но часть студентов, настроенная на самостоятельную научную деятельность, смогла использовать и предоставленные ; Уставом возможности, и помощь преподавателей «младшим j профессионалам».
Общий научный настрой сказался и на занятиях студентов младших курсов. Введение отделенской системы сделало t учебный процесс более осмысленным и целенаправленным, способствовало сближению преподавателей и студентов, студенты почувствовали себя не школярами, но «младшими профессионалами». Образование в условиях Устава 1869 г. предполагало активное участие в нем самих студентов, творческий подход и самостоятельность. Но были серьезные проблемы. Так не удалось наладить систематического научного руководства при написании студентами третьего курса кандидатских сочинений, не были сформулированы и критерии, предъявляемые к этим работам66.
Ректор МДА протоиерей А. В. Горский (из моих личных воспоминаний) (1868-1872) / / У Троицы в Академии. С. 506-507; Беляев А. Д- Дневник за 1878 г. / / ОР РГБ. Ф. 26. К. 1. Д. 8. Л. 100-100 об.
65 В СПбДА, с наибольшим «энтузиазмом» относившейся к защитам, за десятилетие действия нового Устава — до 1879 г. — было защищено всего 5 магистерских диссертаций: в 1873 г. — Н. А. Скабаланович, в 1874 г. — И. С. Якимов и А. Ф. Гусев, в 1875 г. — М. В. Си- машкевич и С. В. Кохомский. См.: ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 4. Д. 11.
66 В СПбДА в конце 1870-х гг. число сочинений на 1-2 курсах, по решению Совета, сократили даже до двух. Но некоторые преподаватели, занятые составлением лекций, не успевая проверять сочинения, просили написать «что-нибудь с листик». Студент церковно-практического отделения СПбДА 1878-1882 гг. вспоминал, что из всех преподавателей отделения лишь профессор словесности и русской лите-
9 0
J
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Библиотеки духовных академий, используя выделенные средства и предоставленные возможности бесцензурной выписки заграничных изданий, пополнились новой богословской научной литературой, появилась возможность работать во внешних библиотеках, в архивах. Это порождало в среде студентов академий две тенденции: одни использовали возможности и «свободу» последнего учебного года на пользу науке, принося плоды, в виде магистерских работ и последующей деятельности, других «свобода» выпускного курса отвлекала от занятий. В 1881 г. были созданы студенческие библиотеки-читальни'’7.
ратуры В. В. Никольский и профессор истории философии М. И. Ка- ринский руководили студентами при написании сочинений: давали советы, объясняли цели работ, проблемы темы, указывали и даже давали литературу. Остальные преподаватели, отдавая науке «день и ночь», работая над лекциями, студентами занимались мало. Одни преподаватели считали главной задачей адекватное изложение лекционного материала, другие — максимально широкое использование литературы, третьи — самостоятельную работу с источниками, четвертые — умение проводить собственное рассуждение. Но баллы за сочинения ценились выше, чем за устные ответы, Совет М ДА даже установил «точную математическую расценку»: балл, полученный за семестровое сочинение, считался в четыре раза выше балла за устный ответ на экзамене, а за кандидатское сочинение — даже в двенадцать раз. См.: Зеленецкий А. Воспоминания о С.-Петербургской д у ховной академии / / Русская школа. 1902. № 12. (далее: Зеленецкий. Указ, соч.) С. 25-26; Соколов. Указ соч. / / БВ. 1916. № 3 -4 . С. 399; ОР РГБ. Ф. 26. К. 17. Д. 20. Л. 1 о 6 .-2 , 5.
й Выпускник МДА 1874 г. В. А. Соколов, уехав для написания магистерской работы в Москву, смог использовать в Москве доступ к современным богословским изданиям. Выпускник СП бДА 1879 г. В. В. Болотов от написания магистерской работы отвлекался только для походов в библиотеку и чтения богословской литературы и журналов. Выпускник СПбДА 1883 г. А. А. Бронзов, упорно работая над магистерской диссертацией, использовал, но советам о. Ректора, все возможности для освоения библиотечных богатств столицы и бурный поток современной богословской литературы. См.: Соколов. Указ соч.// БВ. 1916. № 5. С. 35-36; Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916.№ 3. С. 287-288; РубцовМ. Василий Васильевич Болотов. Тверь, 1900. С. 49; Бронзов. Указ соч. С. 79 -80 .
91
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Устраивались вечера, концерты и спектакли, создавались студенческие литературные журналы68.
Устав 1869 г., делая акцент на развитии специальных научно-богословских исследований, предоставлял академиям «средства» для этого развития и распространения научных результатов, то есть право открывать публичные лекции и учреждать ученые общества, издавать источники христианского вероучения и материалы, «относящиеся к истории и современ- j ному состоянию Церкви» (§170 Устава). Академии использо- ! вали эти возможности. Уже в 1872 г. в Петербурге, по инициативе преподавателей и выпускников СПбДА, был открыт Отдел Общества любителей духовного просвещения, имеющий, кроме общей задачи — применение богословских знаний выпускников духовных академий для грамотного разъяснения религиозных вопросов, специальную — богословское обсуждение контактов старокатолического движения с Русской Православной Церковью69. Специалисты по иноконфессиональному богословию из духовных академий присутствовали на конгрессах старокатоликов 1872-1875 гг., их доклады обсуждались в собраниях Отдела, что, в свою очередь, инициировало ряд актуальных преподавательских и студенческих исследований и внесло живую струю в научно-богословские исследования.
Наиболее эффективно право учреждения обществ и музеев было использовано в области церковной археологии70.
68 Выпускник СПбДА 1882 г. А. Зеленецкий вспоминал об издании им и его сокурсниками рукописного литературного журнала «Грезы юности» — единственного увлечения для той части выпускного курса, который не писал магистерских работ. См.: Зеленецкий. Указ соч. С. 29-30; Бронзов. Указ. соч. С. 80-81
69 В состав Отдела вошли члены корпорации СПбДА: протоиерей И. Л. Янышев, И. Т. Осинин, И. А. Чистович, И. В. Чельцов, М. О. Ко- ялович, А. Л. Катанский, И. Е. Троицкий, позднее — И. Ф. Нильский, Т. В. Барсов, Н. П. Рождественский. См.: Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 301-307.
7,1 На I Археологическом съезде, состоявшемся в марте 1869 г. в Москве, особо была отмечена необходимость развития исследований
92
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
В 1872 г., с разрешения Святейшего Синода, было учреждено Церковно-археологическое общество и музей при КДА71. Но средства Общества были столь малы, что не давали возможности целенаправленно пополнять фонды новыми экспонатами, заказывать копии, слепки, снимки с шедевров древнехристианского искусства, устраивать дальние экспедиции и научные командировки. В 1879 г. для «наглядного ознакомления студентов с памятниками церковной древности и сохранения этих памятников в интересах богословской науки» была учреждена Церковно-археологическая коллекция в СПбДА. Бессменным заведующим музея стал Н. В. Покровский, который всеми способами старался сформировать особый тип музея, с учебно-научными целями72. Примеру СПбДА последовала Московская
в области церковной археологии. Многие ученые, не принадлежащие к духовно-учебным кругам, понимали важность развития церковной археологии именно в стенах духовных школ: необходимо было утвердить науку о церковно-археологических памятниках на богословской почве, определив ее место в богословской науке и разработав особый научный аппарат. См., например: Покровский Н. В. Желательная постановка церковной археологии в духовных академиях / / ХЧ. 1906. 1 .1. № 3. С. 340-341.
Показательно, что первые четыре археологических съезда состоялись в городах, имеющих духовные академии: Москве, Петербурге, Киеве, Казани. Это, несомненно, способствовало и вовлечению ученых духовных академий в общенаучные археологические исследования, и более четкой и осознанной формулировке проблем и задач собственно церковной археологии.
71 Общество находилось под главным ведением и покровительством киевского митрополита и председательством ректора академии, состояло из почетных членов, действительных и членов-корреспон- дентов. К 1873 г. всех членов было70, к 1881 г. — 134. Общество занималось разработкой материала, поступившего из библиотеки академии в музей, назначало комиссии для осмотра старинных церквей и монастырей, членами Общества составлялись рефераты, иногда предпринимались самостоятельные раскопки.
п Протоиерей И. Л. Янышев, осматривая предназначенный к закрытию Новгородский земский музей, обнаружил много древних церковных принадлежностей, которые могли бы заложить основание
93
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
академия, организовав в 1880 г. Церковно-археологический музей™. В КазДА разговоры о необходимости устройства при Академии Церковно-археологического музея возникали не однократно, но скудость средств не позволяла этого сделать Музей при КазДА был открыт уже при действии нового Устава 1884 г.
хранилищу древностей в Академии. С другой стороны, мысль о необходимости музея пришла приват-доценту СПбДА Н. В. Покровскому при его научных занятиях в заграничных музеях. См.; XXXV. Профессор Николай Васильевич Покровский директор Император ского Археологического института. 1874-1909. Краткий очерк уме ной деятельности. СПб., 1909. Автобиография. С. 9. Указом 30 апреля 1879 г. Святейший Синод разрешил учреждение коллекции. Об истории организации музея СП бДА см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 282; ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2881. Л. 1-13; Там же. Д. 2935; Там же. Д. 2936; Там же. Д. 3012; Там же. Д. 3034; Ж ЗС СПбДА за 1877-1878 уч. г. С. 324-325; То же за 1878-1879 уч. г. С. 89,172-173; Покровский Н. В. 1809-1909. Церковно-археологический музей Санкт- Петербургской духовной академии. 1879-1909 . СПб., 1909; Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живо писи; XIX век. М., 1986. С. 187-188.
В отличие от многих образуемых в это время музеев древностей составляемых из случайных предметов старины, Покровский составлял коллекцию по строгим принципам — тематическому и хронологическому, отражающим полноту состава и историю развития христианского искусства на Руси, — ибо преследовал две цели: научную пучебную
7! Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода за 1881 год. СПб., 1882. С. 136-137. Идея обосновании при МДА церковно-археологического музея была впервые вы сказана в 1870 г. Е. Е. Голубинским, в то время экстраординарным профессором академии. Но официально церковно-археологически!' музей при МДА был открыт лишь при содействии митрополита Маковского преосвященного Макария (Булгакова) (1879-1882), ревни теля русской старины.
См.: Голубинский. Воспоминания. С. 206; Лавров-Платонов Л ® Письма к ректору МДА протоиерею А. В. Горскому / / БВ. 1895 Т. III. № 9. С. 366, 371; ЖЗС МДА за 1871 г. Сергиев Посад, 1872 С. 150-151,210. См. также; Голубцов А. П. Церковно-археологически11 музей при МДА / / БВ. 1895. № 4. С. 124-128, 367-368.
9 4
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Силами ученых духовных академий в эти годы было осуществлено или начато несколько значительных научных проектов, в которых академии могли реализовать новый исследовательский опыт. Был закончен перевод Библии на русский язык: эта работа стимулировала исследования во всех областях библеистики74. В 1876- 1882 гг. преподавателями академий были составлены специальные объяснения «неудобопонятных для читателей-неспециалистов» слов и выражений, встречающихся в книгах Священного Писания Ветхого Завета. В 1873 г. СПбДА предприняла перевод на русский язык и издание собрания древних литургий, восточных и западных* 7''’. В КазДА началось научное издание описания рукописей Соловецкой библиотеки, находящейся в библиотеке академии. Это стимулировало исследование этих рукописей, результатом явились диссертации и отдельные научные статьи преподавателей и студентов Академии™. В КазДА было предпри
71 «Синтетический» перевод, базирующийся как на еврейском, так и на греческом текстах, требовал четко разработанных прннцшкж выбора того или иного текста в конкретных случаях, основанных на текстологическом, филологическом, богословском анализе1. Но эти принципы не были выработаны, что вызвало серьезные дискуссии в 1860-1870-х гг. и ряд статей, посвященных сравнительному анализу двух текстов: святителя Феофана (Говорова), профессоров Д. А. X вольтова, Н. А. Елеонского, И. С. Якимова (все из СПбДА), Г1. И. Горского-Платонова, В. II. Мынщына, И. Н. Корсунского (все МДА). Кроме1 тою, последовал ряд монографий и статей но библейской текстологии, исагогике, экзегетике, истории, археологии, апологетике.
7’ Перевод осуществляется силами профессоров Е. И. Ловягина, Н. И. Глориантова, И. Е. Троицкого; издание взяла на себя редакция ‘Христианского чтения». В течение 1878 -1878 гг. удалось осущ ествить 5 выпусков. См.: Собрание древних литургий, восточных и западных, в переводе на русский язык: В 5 вып. / Перевод профессоров Н. И. Ловягина, Н. И. Глориантова, И. Е. Троицкого / / СПб., 1874 1878 (в прил. в ХЧ, а также отдельными выпусками)
“Фрагментарные разработки соловецких рукописей в отдельных исследованиях преподавателей и студентов Академии не давали возможности ввести эти рукописи в научный оборот и начать их
95
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
нято еще одно издание — Миссионерский противомусульман- ский сборник* 77.
Активизации научно-переводческой и научно-критиче ской деятельности преподавателей и студентов академий способствовали поручения высшей церковной власти. Академии переводили и разбирали ученые труды, как отечественные, так и иностранные, составляли аналитические разборы тех или иных документов, связанных с богословскими каноническими и церковно-историческими вопросами78. Такие поручения давались и до реформы 1869 г., но теперь авторитет духовных академий как научно-экспертных центров заметно повысился.
Устав 1869 г. предоставил духовным академиям право инициативы в деле издания своих трудов, значительную долю самостоятельности и собственную цензуру (§ 177,180), обязав при этом печатать все протоколы заседаний Советов, ежегод ные отчеты, диссертации для получения ученой степени, тезисы и отзывы к публичным защитам.
систематическое изучение. Корпорация КазДА составляла проекты изучения и издания, но не имела средств. Средства были выделены Святейшим Синодом, по ходатайству архиепископа Макария (Булгакова), после ревизии 1874 г. С 1875 г. комиссия из 8 преподавателей Академии, под председательством профессора П. В. Знаменского, за нималась подготовкой полноценного научного издания, в 1882 г. был выпущен первый том, рукописи богословского содержания, к концу 1884 г. — второй, рукописи исторического и канонического содержания. В эти годы многие студенческие диссертации КазДА базировались на изучении соловецких рукописей: более 30 работ за период 1870-1884 гг. См.: ПЗС КазДА за 1875 г. С. 123; См.: Терновский.Укй соч. С. 42-49.
77 Сборники содержали не только исторические, критические, апо логетические, но и методологические сочинения студентов и преподавателей КазДА, а также переводы лучших сочинений по истории мусульманства с немецкого, английского, французского, латинского. К концу 1882 г. было издано 16 сборников и несколько работ отдельно См.: ПЗС КазДА за 1872 г. С. 58-59; Терновский. Указ соч С 53-55
7В ЦГИА СПБ. Ф. 277. On. 1. Д. 2786. Л. 1 -6; Там же. Д. 2808. Л. 1' 19; Там же. Д. 2897. Л. 1-14; Там же. Д. ЗОН. Л. 1-24.
9 6
Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки
Таким образом, система специализации преподавателей и соединение преподавания с научной деятельностью показала свою плодотворность. Определенный успех имело научное развитие богословия, проводимое силами преподавателей и выпускников духовных академий. Во всех областях богословия появились специальные работы, построенные на историко-критическом исследовании источников, учитывающие современные достижения мировой богословской и гуманитарной науки, содержащие самостоятельные выводы. Уровень лучших из этих работ позволял говорить о становлении русского богословия как науки. Научные командировки преподавателей академий за границу стимулировали развитие русского богословия и вводили его в контекст современной науки. Встающие при этом проблемы, необходимость адаптировать церковным сознанием историко-критические методы, активно и не всегда корректно вводимые в богословские исследования, требовали напряженной работы ученых.
Нововведения реформы 1869 г. в учебной области имели меньший успех, хотя нельзя говорить о их бесплодности. Возможность серьезных научных занятий, предоставляемая новым Уставом, использовалась лучшими студентами и приносила определенные плоды. «Жесткая» специализация разрешила проблему многопредметности и обеспечила студентам возможность углубленных занятий в определенной области богословия, дала высшему богословскому образованию бблыную конструктивность и направленность. Предоставленная возможность серьезных научных занятий на выпускном курсе и повышение научных требований к выпускной работе дали ряд серьезных магистерских диссертаций и плеяду талантливых богословов, внесших вклад в развитие науки. По для большинства студентов ранняя специализация по отделениям привела к односторонности образования. Неготовность большинства преподавателей к систематическому научному руководству студентами при написании научных работ, к разработке и проведению специальных занятий на выпускном курсе но позволяла реализовать заявленные в Уставе идеи в полноге, а иногда и
97
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
дискредитировала их. Свободный режим выпускного курса часто использовался не по предназначению, не давая ожидаемых результатов. Введенная в академиях специализация не получила практического подкрепления: система распределения на духовно-учебные места, часто не учитывающая специализа цию выпускников, лишала ее смысла.
Несмотря на проблемы, сопряженные с реформой 1869 г, те трудности, с которыми столкнулась богословская наука на новом этапе своего развития, эта реформа имела главный - и несомненный — успех. Этим успехом был новый уровень богословской науки, на который она поднималась, те исследования, которые она представляла в разных областях богословия, те новые горизонты, которые она могла увидеть с обретенной высоты, и вопросы, которые была способна сформулировать.
БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в. -
ПОЛЕМ ИКА, АН АЛИЗ, СИ Н ТЕЗ
В последние годы исследователи неоднократно обращались к истории высшей духовной школы начала XX в.1 Однако внимание привлекали преимущественно общественно-политические и дисциплинарно-организационные проблемы — духовная школа начала XX в. ассоциируется, прежде всего, с нестроениями и беспорядками в студенческой среде, борьбой за автономию преподавательских корпораций* 2. В свете этих тенденций
'Петр (Еремеев), иером. Проблемы реформирования высшей духовной школы в России в начале XX в. Дис... канд. богосл. МДА. Сергиев Посад, 1999; Тарасова В. А. Духовные академии в России в конце XIX — нач. XX в. Дисе... канд. ист. наук. М., 2002; Ее же. Высшая духовная школа России в конце XIX — начале XX века. М„ 2005; Воробьев И. В. Комиссия для выработки проекта нового устава д у ховных академий 1909 г. / / Ярославский педагогический вестник. № 1-2 (38-39); Реформы духовных академий 1905-1911 п . Дисс... канд. ист. наук. М., 2004 и др.
2 Под «автономией», за которую боролась часть преподавателей духовных академий в 1905 г., подразумевалась система положений: выборность ректоров и инспекторов; прямое подчинение академий Синоду, без посредства Учебного комитета; сведение власти епархиальных архиереев над академиями до уровня попечительного наблюдения; врано академий не только на присуждение, но и па окончательное утверждение ученых степеней; расширение прав Советов академий и участие в них не только профессоров, а всех преподавателей. См.: РГИА. Ф. 796. Он. 186. 1 отд., 2сг . Д. 486. Л. 1-1 об.
99
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
рассматриваются и многочисленные обсуждения, дискуссии, соборы и комиссии этих лет. Действительно, эпоха была очень непростой для всей духовной школы и, в частности, для ее высшей ступени — академий. Однако было бы несправедливо уделять основное внимание дисциплинарно-организационным и общественно-политическим проблемам. К началу XX в. высшая духовная школа достигла состояния определенной зрелости, как в учебном, так и в научном отношении. Опыт, накопленный за столетие активной деятельности высшей духовной школы, положительный и отрицательный, требовал анализа и осмысления3. Если вторая половина XIX в. была периодом формирования духовно-учебных концепций, выработки методов самостоятельного научно-богословского развития, то начало XX в. показало жизненность и плодотворность выработанных методов: русское богословие начало реализовывать накопленный научный потенциал, представив во всех областях богословия серьезные исследования. Корпорации духовных академий были готовы к активному обсуждению и выработке новых, более удачных, образовательных концепций, но палитры мнений и идей были столь разнообразны внутри каждой корпорации, что необходимы были межакадемические обсуждения. Такие обсуждения за краткий период в начале XX в. были проведены несколько раз. Академиями составлялись проекты, комитеты из представителей академий систематизировали и обсуждали эти проекты, вырабатывали новые. Вся эта деятельность сопровождалась активными дискуссиями в преподавательской среде, составлением аналитических записок, формулировкой идей. По «идейной производительности» академии не знали доселе такого бурного и плодотворного периода. Не все идеи были реализованы, а те, что были введены в жизнь академий, не успели проявить себя во всей полноте ввиду краткости времени. Поэтому большая часть идей и проектов 1
1 Высшая духовная школа была выделена в особую ступень, со своими специальными задачами, в результате реформы 1808-1814 гг. См. статью настоящего сборника «Духовно-учебная реформа 1808- 1814 гг. и становление высшей духовной школы в России».
1 0 0
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
осталась в виде наследия, небесполезного и для современной богословской школы.
Объем статьи позволяет лишь кратко рассмотреть основные духовно-учебные и научно-организационные идеи, предложенные в эти годы. Основными источниками исследования служат, прежде всего, материалы обще-академических форумов и комиссий — а их в начале XX в. удалось провести пять раз(Предсоборное Присутствие 1906 г., Комиссии при Святейшем Синоде по разработке нового Устава духовных академий 1909 и 1911 гг., Комиссия академических профессоров 1917 г. и Поместный Собор 1917-1918 г г / ) и проекты, составленные 4
4 Журналы и протоколы заседаний Вы сочайш е учреж денного Предсоборного Присутствия: В 4 т. СПб., 1906 -1907 (далее: Ж урналы Предсоборного Присутствия). Журналы заседаний V Отдела, на котором обсуждались проблемы духовного образования, содержатся во 2 т. (1-7 заседания) и 4 т. (8 -3 0 заседания).
Материалы работы Комиссии 1909 г. по составлению проекта нового Устава духовных академий: РГИА. Ф . 797. Оп. 96. Д. 205. Л. 1-78; Там же. Ф. 802. Оп. 10. 1909 г. Д. 21; Там же. Оп. 16. Д. 206. Л. 7-26. Журналы заседаний Комиссии 1909 г. были опубликованы: Журналы учрежденной при Святейшем Синоде Комиссии для выработки проекта нового Устава духовных академий. СПб., 1909 (далее: Журналы 1909 г.)
Определением Святейшего Синода от 5 - 7 апреля 1910 г. новый Устав православных духовных академий был введен в действие с начала 1910-1911 уч. г. по частям административной, воспитательной и хозяйственной. В июне 1911 г. была созвана новая Комиссия для выработки проекта Устава семинарий и изменений в учебной части академического Устава. Материалы Комиссии: РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1911 г. Д. 989; Там же. Оп. 16. Д. 208. Журналы этой Комиссии были опубликованы: Журналы образованной при Святейшем Синоде особой Комиссии для выработки проектов Уставов и штатов духовны х средне-учебных заведений и соответствующих изменений в Академическом Уставе. СПб., 1911.
В мае 1917 г. в Петрограде была создана Комиссия из 12 выборных представителей корпораций духовных академий для составления проекта нового Устава духовных академий. Протоколы этой комиссии: РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 91. Проект Нормального устава,
101
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Советами академий к Предсоборному Присутствию5. Кроме того, интерес представляют фрагменты Отзывов епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе 1905 г., посвященные духовным академиям6, протоколы заседаний Советов
составленный этой Комиссией: ГАРФ. Ф . 550. On. 1. Д. 181. Л. 1-15. Текст объяснительной записки к проекту: ГАРФ. Ф. 3431. On. 1.Д. 381. Л. 243-250 об. Проект обсуждался в заседаниях Отдела о духовных академиях поместного Собора 1917-1918 гг. Проект Устава православных духовных академий, выработанный в заседаниях Отдела о духовных академиях, и объяснительная записка к нему: ГАРФ, Ф. 3431. On. 1. Д. 381. Л. 228-242, 251-262.
5 Проект Устава духовных академий, составленный Комиссией профессоров МДА. Сергиев Посад. 1906; Проект Устава Православной Духовной Академии, составленный Комиссией профессоров Санкт-Петербургской Духовной Академии, рассмотренный и измененный Советом Академии и объяснительные записки к нему. СПб, 1907 (Далее: Проект СПбДА); Проект временных изменений и дополнений Устава 1905-1906 гг. (сост. профессорско-преподавательской корпорацией Киевской Духовной Академии) / / ТКДА. 1906. j Кн.1. Прил.; Свод проектов Устава православной духовной академии, составленных комиссиями профессоров Санкт-Петербургской, Киевской, Московской и Казанской Духовных Академий. СПб., 1906 (Далее: Свод проектов 1906 г.) Проект КазДА не был напечатан особо, но представлен в Синод и вошел в общий свод.
6 Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе: В 4 т. СПб., 1906. Переизд.: В 2 ч. М., 2004; Сводки отзывов епар хиальных преосвященных по вопросам церковной реформы. СПб, 1906. Отзывы епархиальных архиереев по вопросам, подлежащим рассмотрению грядущего Поместного Всероссийского Собора, были собраны по указу Св. Синода (от 13-27.07.1905; предложение обер- прокурора К. П. Победоносцева Синоду о необходимости рассмотрения вопроса о церковной реформе от 28.06.1905). Один из вопросов - о духовном образовании. О проблемах, связанных с высшим духовным образованием, писали преосвященные: митрополит Санкт-Петербур гский Антоний (Вадковский), архиепископ Казанский Димитрий (Самбикин), епископ Саратовский Гермоген (Долганов), епископ Тульский Лаврентий (Некрасов), епископ Волынский Антонин (Храповицкий); к мнению митрополита Антония (Вадковского) были приложены записки профессоров СПбДА Н. Н. Глубоковского и
102
Богословское образование в нахале XX в. — полемика, анализ, синтез
академий, в которых составлялись проекты и обсуждались главные проблемы, а также авторские аналитические записки и частные мнения. Отчасти имело отношение к учебным и научным вопросам совещание по выработке мер для умиротворения духовных академий, состоявшееся в ноябре 1905 г., протоколы его заседаний также должны быть привлечены для полноты картины7. Постараемся в этом обширном корпусе источников выделить основные проблемы, определившие наиболее значимые дискуссии, систематизировать предлагаемые решения и провести их сравнительный анализ.
Предыдущая эпоха деятельности духовных академий — процесс разработки и проведения реформ 1869 и 1884 гг. — позволила сформулировать несколько ключевых вопросов, определяющих важнейшие черты научно-образовательной концепции8. Взаимосвязь этих вопросов и последовательность их решения имеет различные версии, поэтому представим структуру, удобную для нашего рассмотрения.
Первая группа вопросов охватывала область учебную:1) Каковы цель и задачи высшего духовного образования,
к каким поприщам деятельности должны готовить академии своих выпускников? И неизбежный обратный вопрос: исчер-
Н. К. Никольского, а к мнению архиепископа Димитрия (Самбики- на) - профессора КазДА Я. А. Богородского.
Совещание выборных представителей от всех академий (по 3), подлинным председательством обер-прокурора, состоялось 1 1 -1 9 ноября 1905 г. и носило экстремальный характер — Совещ ание «о мероприятиях к восстановлению нормального академического порядка». В дальнейшем к совещанию были привлечены архиепископ Финляндский Сергий (С трагородский) и епископ П сковский и Порховский Арсений (Стадницкий). Материалы работы Совещания 1905 г.: РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 169. Они были опубликованы: Ж ЗС МДА за 1905 г. Сергиев Посад, 1906. С. 378 -398 . В дневнике участника 5 -8заседаний Совещания епископа Арсения (Стадницкого) есть интересные замечания о работе Совещания и оценка принятых решений (ГАРФ. Ф. 550. On. 1. Д. 514. Л. 8 -2 5 о б .)
"См.: Сухова Н. /О. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). М., 2006.
I1 0 3
*
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
пывает ли наличная высшая духовная школа. — академии - задачи, возлагаемые на высшее богословское образование, или необходимы высшие богословские школы иных типов, замен» ющие академии или существующие параллельно?
2) Каков должен быть состав наук, преподаваемых и и учно разрабатываемых в духовных академиях?
3) Каков должен быть состав богословских наук, состав ляющих фундаментальное (базовое) высшее богословское образование, необходимое для каждого студента? Должны ли все богословские науки быть равноценны по своему значению или должна быть введена их иерархия, выраженная, в частно сти, в количестве выделенных им часов, числе преподавате лей и т.д.?
4) Следует ли вводить в академическое образование специализацию, то есть выделять какие-либо группы наук для изучения студентами по выбору? Если да, то каков должен быть принцип выделения направлений специализации, формирования состава предметов в них, каким курсам специализация должна предлагаться?
5) Если в академиях должны быть сохранены общеобра:ю вателъные («светские», небогословские) науки, то какие именно какие из них должны быть общеобязательны, какие — предлагаться отдельным группам студентов? Должно ли преподавание этих наук в духовных академиях иметь специфику в сравнении со светской высшей школой?
6) В чем заключается методологическая специфика преподавания богословия в целом и отдельных его направлении'
Второй областью деятельности, которая самими корпорациями с конца XIX в. дерзновенно называлась основной дл# высшей духовной школы, была разработка науки. Развитие науки невозможно было определить уставным образом, но чрезвычайно важен был вопрос организации научной деятельности и ее введения собственно в деятельность академий. Оиы1 XIX в. и те проблемы, с которыми столкнулись ученые-бою словы, привели к выделению и в этой области конкретных вон росов, требующих обсуждения:
1 0 4
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
1) Структура научного богословия, то есть принцип выделения самостоятельных направлений научного развития и их взаимосвязь, а также «внешняя граница» богословия — определение места богословия в системе наук и его отношения с «пограничными» гуманитарными науками.
2) Разработка методологии богословской науки в целом, допустимость включения в нее методов других наук, осмысление специфики методов исследований в конкретных областях научного богословия.
3) Совершенствование системы научно-богословской аттестации, выработка критериев и определение статуса научнобогословских исследований; общая тема была отягощена и конкретными вопросами — научная аттестация небогословских исследований членов духовно-академических корпораций и публичные защиты научно-богословских диссертаций.
4) Проблема взаимосвязи теоретического богословия и актуальных проблем церковной жизни.
Наконец, третьей группой вопросов, которые неизбежно надо было решать для актуализации учебной и научной деятельности академий, были вопросы, связанные с «введением» и эту деятельность студентов. Опыт проведения духовно-учебных реформ XIX в. показал, что без решения :п их вопросов самые светлые идеи не могут приносить благих плодов. Этот же опыт позволил выделить наиболее болезненные моменты в зтой области:
1) Как активизировать студенческие знания, то есть организовать систему практических занятий, самостоятельные занятия студентов и их контроль, определить количество и задачи письменных работ студентов — семестровых сочинений, проповедей, квалификационных работ?
2) Следует ли на старших курсах академии вводить особую систему преподавания, то есть целенаправленно готовить выпускников к дальнейшей деятельности церковной, научной, педагогической?
3) В какой степени должны сами студенты участвовать в формировании своего образования, то есть какова должна быть
I 105
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Г
/ ^
степень их свободы в выборе направления, дополнительна предметов, вспомогательных предметов, семинаров и т.д.?
4) Каким образом должна быть организована подготовка преподавательских и научных кадров для самих академий'; Неудовлетворенность обеими вариантами такой подготовки опробованными во второй половине XIX в. институтом при ват-доцентов и профессорским стипендиатством побуждала обратить особое внимание на эту проблему.
Начальным моментом каждого обсуждения, выявляющим взгляды собеседников, становился вопрос о целях и задачах академий9 . Этот вопрос всегда был проблемным, но последние сорок лет деятельности академий дали столь богатый опыт успехов, неудач и противоречий, что возникала насущная необходимость более четко, осмысленно и реально определить, какие из многочисленных обязанностей высшей духовной ш колы являются сущностными, какие — исторически сложившимися. Разнообразные задания, которые адресовались духовным; академиям и бывали чрезвычайно сложны для выполнения, ставили вопрос о корректировке типа высшей духовной шко- , лы или, возможно, восполнении этой системы школами иного типа, более адекватно отвечающим тем или иным запросам.
Большая часть проектов, письменных и устных мнений 1905-1918 гг. оставались на точке зрения Уставов второй половины XIX в., выделяя в качестве основной двоякую цель академии — способствовать развитию богословской науки и да- вать высшее богословское образование в духе православия для просвещенного служения Церкви. Однако уточнение приоритетных направлений «просвещенного служения» — пастырское, духовно-учебное или научное — вызывало полемику.
Главным пафосом 1905-1906 гг. было желание повысить статус научно-богословской задачи академий10. Большая часть
а Этот вопрос определялся в первом параграфе всех Уставов Д' ховных академии, а также в проектах и мнениях, составленных форме устава.
10 В проектах 1905 г. поприща, к которым академии готовят свои-'' выпускников, формулируются сходно - «просвещенное служен^
106
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
авторов проектов и участников Предсоборного присутствия считала, что это неизбежно связано с более правильной организацией научной деятельности (научная аттестация, право свободы научного поиска) и подготовки студентов к этой деятельности (специализация, приобщение к научной работе). Однако были и более радикальные предложения. Профессор богословия Киевского университета протоиерей Павел Светлов утверждал полную неспособность академий развивать богословскую науку и осуществлять полноценную подготовку научно-богословских кадров и настаивал на учреждении богословских факультетов при университетах" . Идея богословских факультетов высказывалась и как альтернативная: профессор СПбДА Н. Н. Глубоковский предлагал развивать богословие в качестве полноценной университетской науки, на долю же духовных академий оставить апологетическую задачу1 .Н о наиболее приемлемым оказалось мнение большинства: сохранить исторически сложившийся тип высшего богословского образования, проверенный временем и, при всех недостатках, показавший свою жизнеспособность — духовные академии. При этом было высказано настойчивое пожелание: исправить главные недостатки академий — оторванность от всей совокупности человеческих знаний и скованность свободы богословских исследо- *
П|ии|ичто|) ( ПОДЛ Николай I (икаио|юпич Глубоконский
Церкви» (проект Сонета С П бД А ), «просвещ енное служ ение Церкви на пастырском, духовно-учебном и других поприщах» (все остальные проекты). Но делается акцент на научном предназначении академий (Свод проектов 1906 г. § 166 и далее).
’’Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 53, 58 61.'а Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной ре
форме. М„ 2004. Ч. 2. С. 3 1 2 -3 1 3 .
107
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ваний «ввиду практических времен, ных нужд церковного бытия»",
Б олее четко разнообрази, мнений проявилось в работе Ко миссии 1909 г.и Дискуссия велао, по трем вопросам: а) следует ли выделять приготовление к пастыр скому служению как основную» дачу академий? б) возможно ли равноправное сочетание научной и педагогической подготовки? в) как соотносить деятельность академии как ученых центров и как учебник
Волынский И Житомирский заведении? Наиболее жеста» <ф Антоний (Храповицкий) мулировали С В О Ю П О З И Ц И Ю арХИ
епископы Антоний (Храповицкий! и Сергий (Страгородский). Они настаивали на приоритет пастырского устремления для выпускников академий и для
■ »' ’ Оторванность от системы остальных наук приводила к ущерб
ности научного богословия и ошибкам — естественно-научным, фи- лологическим, юридическим — в богословских исследованиях. Академии не могли ввести в свой курс всех светских наук, которые мот понадобиться студентам и преподавателям при разработке тех или иных частей вопроса, изучение же элементов наук проблемы ие решает. В качестве печальных примеров зависимости научных исследований от церковно-практических проблем приводились диссертации, имевшие сложности при утверждении в Святейшем Синоде. Н. Ф. Каптерева, Е. П. Аквилонова, Е. Е. Голубинского и т. д. (Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 46).
u В состав комиссии входило пять архиереев: архиепископы Димитрий (Ковальницкий), Антоний (Храповицкий), Сергий (Стр№>- родский) и Арсений (Стадницкий) и епископ Феофан (Быстром)
протопресвитер Иоанн Янышев; проф ессора И. Г. Тропики!1 (СПбДА), А. И. Введенский (М ДА), Д. И. Богдашевский (КДА; затем его заменил коллега по академии К. Д. Попов), И. С. Бердников
(КазДА), М. А. Остроумов (Харьковский университет); член Гос' дарственного Совета В. К. Саблер и академик А. И. Соболевский.
Богословское образование в нахале XX в. - полемика, анализ, синтез
преподавателей всей духовной школы. При этом они считали серьезным недостатком всей предыдущей истории академий умаление их научно-богословского апачем им из-за повышенного внимания к подготовке педагогических кадров.Мое попытками превратить академии в научные «лаборатории» введением богословской специализации в учебный процесс они не соглашались - школа есть школа, а богословие должно научаться во всей полноте1’’. Однако другие члены Комиссии воспротивились такой однозначности: академии не должны превратиться в пастырские школы, ибо готовят учителей в пастырскую школу ученых богословов"1. 11енпимаппе же к педагогической подготовке студентов поставит их в очень тяжелое положение в дальнейшей духовно-учебной деятельности, что не позволит нолноценноааниматьси и научно-богословскими исследованиями. При определении же приорн и том научного центра и учебного заведения в одних академических степах привело членов Комиссии 1909 г. к чо1ырем различным формулировкам этого положения17.
"Журналы 1909 г. С. 6 -8 ."’Мнения архиепископов Димитрия ( Копалмншкого) и Арсения
(Стадницкого) (Журналы 1909 г. С. 8- 9).п Профеееор М. А. Остроумов настаивал на важности уь-п ою
учреждения, но считал это включенным в понятие высшего учебною заведения (Журналы 1909 г. С. 10 1 1). 11роюпре< нитер Иоанн Янышев в профессора Д. И. Богдашевский, А. И. Инеденский считали, что ученый характер академий требует уставного закрепления, ибо это единственные в Русской Церкви центры разработки богословской науки (Там же. С. 11). Архиепископ Димитрий (Ковальницкий) предпочитал равно закрепить обе задачи, но мри этом сделан, акцент на руководстве Церкви в этих процессах ( Гам же. (' 11 12).
АрхиепископФинляндский и Пмборккнй
Сергий (Страсородский)
1 0 9
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХСЖнцр,
Интересно, что окончательный вариант УСта зывал на церковно-пастырское служение как ппе ^ Тканое поприще служения выпускников академий У1Цест%’ ДЛЯ IlT)0Vuvвариантов служения настаивал на предпочтении СВясана. Но среди задач академии — а их постановка вческом порядке была впервые вынесена в особый ИеРархц.
параграф.первой Устав отмечал высшую ученую разработку богословия «на церковном, строго-православном основании»18.
Итогом обсуждений этой проблемы было мнение членов Комиссии профессоров 1917 г. и Отдела о духовных академиях Поместного Собора — академии должны служить Церкви прежде всего «разработкой и преподаванием богословской науки в связи с соприкосновенными отраслями знаний»19. Но следует отметить и то, что в процессе обсуждений 1917- 1918 гг. трижды вставал вопрос об альтернативных типах высшей богословской школы. В заседаниях академической Комиссии 1917 г. был поднят вопрос об учреждении богословских факультетов при университетах20 * *. Был разработан проект
18
1910 нялись.
--------- ---------- .,т 1Q10 г (Далее: Устав1 Устав православных духовных академии ■ . неИЗме-г.) § 1, 2. При редакции Устава в 1911 г. эти параграфы
19 Основные положения, выработанные Отделом ° АУХ° тельН0>> демиях. П. 1 (ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 381. Л. 46). ^ чиакадемий<записке указывалось, что именно выделением научной зада Г ]6еД2как основной, новый Устав должен оппонировать Уставу науч- которого состояла в обострении «до крайности» «антал
ОП.1.Д-38!:ных и воспитательных задач академии» (ГАРФ- Ф 3 ' учено-Учеб'Л. 251-253). Ср.: «Устав, определяющий академию как ное учреждение, решительно ставит на первое место на# высшей богословской школы» (Там же. Д. 382. Л. 59 сТОричес!<|1
20 Комиссия приняла решение не отказываться от rQ тп,1асложившегося самостоятельного гуманитарно-богослов о11сЛ°духовных академий, ибо не было уверенности в сохране овсКцК Фаведного характера и тесной связи университетских бого уцЦВеРкультетов с отечественной Церковью. Э ту мысль подтвер ^ ф . 77
ситетские профессора (мнение проф. И. М. Гревса / /Оп. 86. Д. 91. Л. 78).
110
Ъогосл
полемика, анализ, синтез
богословских институтов, преобразованных из гт™ сов семинарий21. На Поместном Соборе обсуж РШШС КЛаС~ Высшей церковно-богословской школы мстя,,, аЛСЯ Проект
Вопросы о составе академических кафел1 ^ ° " ° ™ a" * содержании образования каждого студента r r S Икаждой учебной концепции и вы зы вали пп ТЭВляли ядроРИ ВСех осуж дени
ях<Д°Иболее горячую полемику. Вторая половина XIX в. "емонстрировала реализацию двух альтернативных вари-
ПР°ов решения этих вопросов - Уставами духовных академий 1869 г. и 1884 г. С одной стороны, диалог их учебных концепций создавал «поле напряжения», неизбежно определяющее дискуссии, с другой стороны, эти Уставы, при всех своих несовершенствах, предоставили «банк идей», с использованием которых можно было строить более удачные духовно-учебные модели. Но к началу XX в. обсуждение проблем, связанных с высшим богословским образованием, испытало и дополнительное влияние. Зарубежные научные командировки, инициированные реформой 1869 г., позволили многим членам духовно-академических корпораций познакомиться с европейским богословским образованием, принять участие в учебном процессе университетов Германии, Франции, Италии. Это дало новый стимул к оценке успешности и плодотворности россий- Щ)и духовно-учебной системы и отдельных ее элементов, а так-ПонятийЫЛО Перспективы’ выходящие за границы привычных «ого ПИИ Реально опР°бованных вариантов организации учеб- Тах> сое еССа ^ Та двояная палитра проявилась уже в проек- "редсобг Леивых акаДемиями в 1905 г., и их обсуждении на
фном Присутствии.
г 2 9 -47 . См.й Пг- 19Г7-С'10 реформе духовно-учебных заведени
статью настоящего * "
Духовных академиях -оставлен
- начало X X в.)»- п а я - 138. П роект б ыЛ L /С те-ПШ >Ф . ф . 3431. О н. 1. Д- 380- Л- 1 имаНДритом ГурИ_____ _'‘"исковом Феодором (ЦоздеевскиМ) " у х,-----
Пановым). См. статью ннст''а '" '" ’XT'И И1 ■-
j -«nnu-учеоных заведений, ш . , 1У1/ . и . д у - 4 / . см . ■а ака * с^°Рника «Практическое богословие в российских
f*v *II - ,,.... ДеМИях ~ проблема понимания и сложности развития
Нос,
L'• ^м. стап in ' *'......— ......... ~Jt '
,,аУЧно-бс настоящего сборника «Ученое монашество в°словская деятельность и проблема консолидации».
111
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Общей чертой проектов 1905 г. в учебных положениях было развитие или углубление идей Устава 1869 г., как они понимались основной частью корпораций, с исправлением ошибок и недоработок этого Устава. Авторы единодушно настаивали на сохранении имеющихся и открытии новых кафедр, предусматривали введение специализации по богословским предметам, делали особый акцент на научной стороне деятельности академии. Проявился в проектах и учет ошибок Устава 1869 г. — ущербности общебогословского образования и отсутствия структурообразующих идей в составе отделений. В общеобязательный курс теперь включались основные богословские науки, а направленность отделений обосновывалась. Нов развитии этих общих идей было некоторое разнообразие.
Так, например, три из четырех академий (СПбДА, КДА и КазДА) вводили по три отделения (в Казанском проекте есть и ' четвертое, миссионерское). Совет СПбДА предлагал богословско-философское, церковно-историческое и словесное отделения, с обоснованием — христианство, по мнению авторов, может быть изучаемо с трех сторон: 1) как идея, логически развитая система; 2) как положительный факт, засвидетельствованный исторически; 3) как словесное творчество, зафиксированное в соответствующих памятниках23. Проект КДА предлагал те же отделения — богословско-философское, богословско-историческое и богословско-словесное, но при этом делал печальное заключение о невозможности предложить твердые принципы такого деления при единстве богословия. Проект КазДА предлагал церковно-историческую, церковнопрактическую, философско-словесную и миссионерскую группы, при этом первые две унаследованы от Устава 1869 г., последняя — от Устава 1884 г., а в третью собраны все небогословские (философские и словесные) предметы для приготовления преподавателей в семинарии.
23 Это обоснование предлагалось в объяснительной записке к проекту Устава и было озвучено в заседаниях V отдела Предсоборного Присутствия одним из главных составителей проекта проф. И. Г Троицким (Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 116)
112
Богословское образование в нахале XX в. — полемика, анализ, синтез
Общеобязательный курс, предлагаемый в этих проектах, разнился гораздо сильнее — минимальный в проекте СПбДА и более обширные в проектах КДА и КазДА2''.
Решение проблемы специализации на старших курсах проекты также пытались проводить в общей установке Устава 1869 г., но с творческим подходом. Наиболее разработан этот вопрос был в проекте СПбДА. Все общеобязательные и отделенские науки, по мнению Совета столичной академии, должны быть пройдены на первых двух курсах, на последних же двух курсах студенты должны избирать для специального изучения группу однородных наук (куда могут быть включены и общеобязательные предметы, и «отделенские», и некоторые другие, дополняющие специальное образование). Если на первых двух курсах студенты лишь слушали лекции и писали сочинения, тона последних двух курсах все лекционные курсы сопровож- * 1
21 Совет СПбДА планировал отнести к числу общеобязательных предметов те, что составляют «основу христианского богословия»:1) Священное Писание Ветхого и Нового Завета; 2) «земную жизнь Спасителя»; 3) историю Вселенской Церкви до разделения; 4 ) основное богословие; 5) историю философии. Разумеется, вызывают вопросы отсутствие в общеобязательном курсе догматического богословия и, напротив, наличие не совсем четко определенной науки «земная жизнь Спасителя».
Совет КДА включал в общ еобязательный курс: 1) Священное Писание Нового Завета, 2) церковную ис торию до разделения Церквей, 3) патрологию, 4) догматическое богословие, с историческим изложением догматов, 5) нравственное богословие, 6) историю Русской Церкви, 7) церковное право, 8 ) историю философии, 9 ) еврейский язык, 10) один из древних языков и его словесность, 11) один из новых языков.
Совет КазДА в этот же курс включал: 1) Священное Писание Ветхого Завета, 2) Священное Писание Нового Завета, 3) церковную историю до разделения Церквей, 4 ) основное богословие, 5) догматическое богословие, 6) нравственное богословие, 7) историю Русской Церкви (большинством 7, при 7 против), 8) церковное право (большинством 8, при 6 против), 9) историю философии, 10) один из древних языков с историей его литературы, 11) один из новых языков (Свод проектов 1906 г. § 107).
И З
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
даются практическими занятиями, на которых студенты под руководством преподавателя должны изучать источники, луч- I шие образцы научных исследований, писать рефераты и док- j лады, делать небольшие самостоятельные исследования25. Для \ восполнения отделенской ущербности студентам каждой щ ! этих групп проект рекомендовал некоторые науки из других ! отделений, которые им могут быть полезны. Проект оговари- j вал право Совета расширять состав наук, изучаемых и научно ! развиваемых в академии, то есть вводить новые академические ; дисциплины, «которые будут способствовать вполне научной постановке изучения предметов». Таким образом, проект Совета СПбДА, сохраняя идею Устава 1869 г. о «двойной» - отделенско-групповой — специализации, старался поставить акцент на преемстве этих двух этапов, причем с усилением второго, Развивалась и мысль Устава 1869 г. о специально-практических занятиях, отнесенных к групповой специализации.
Интересно, что от СПбДА был представлен и альтернативный проект, основанный на идеях профессора И. С. Паль- мова, к которому присоединился Н. Н. Глубоковский. Авторы, выделяя две беды, которых надо избежать в учебной специаиг зации - преждевременность и непоследовательность, - предлагали целую систему воспитания ученого-богослова и его «сосредоточения» или «концентрации» на конкретной научной * 2
25 Проект предлагал примерный состав групп специализации. Для богословско-философского отделения — 4 группы: экзегетического богословия, систематического богословия, практического богословия и философская группа. Для церковно-исторического отделения -2 группы: история Вселенской Церкви (куда включены история Греко-Восточной Церкви по разделении и история Западных Церквей) и история Русской Церкви (с включением истории славянских Церквей). Для словесного отделения — 2 группы: словесная и филологическая. Было продумано и то, что для проведения таких практических занятий потребуется бульшее число источников и исследований, - и при отделениях должны быть организованы специальные библиотеки, способные удовлетворить всех студентов (Проект СПбДА, При ложение. С. 2-4).
114
Богословское образование в нахале XX в. — полемика, анализ, синтез
теме2'*: 1) богословское самоопределение путем избрания т о т или иного отделенского разряда (на 1-2 курсах); 2) богословское «сосредоточение» на нескольких предметах, сродных между собой (с 3-го курса); 3) богословская специализация в кандидатской работе (на 4-м курсе) (возможна еще одна форма специализации — «госэкзамен»26 27); 4) проверка академической зрелости на магистерском экзамене; 5) ее реализация в магистерской диссертации; 6) завершение формирования ученого в докторском сочинении.
Более оригинален был проект МДА. Авторы подчеркивали, что с главной бедой академического обучения — многопред- метностью — не смогли справиться оба предыдущие Устава — 1869 и 1884 гг. Студенты, изучающие 25 предметов, пишущие 9семестровых и 1 курсовое сочинение за 4 года, не знали ничего основательно и глубоко и, что еще страшнее, не вырабат ывали интерес к новому научному знанию и умение его добывать. Богословская наука и образование развиваются и требуют специалистов, а духовные академии не могут удовлетворить эти запросы. В проекте был предложен способ устранения этой беды путем совмещения идей Устава 1869 г. с традициями немецких университетов. Главными идеями проекта были специализация, динамичность и гибкость образования и активное участие студента в его формировании. Четкая структура из главных богословских наук в учебном плане первого курса (пять общеобязательных предметов — Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, догматическое богословие, древняя церковная история и история философии) позволяла студенту получить общее представление о богословии в целом, сориентироваться в выборе специализации и не рассеяться. Специальное изучение одной из пяти групп предметов (традиционные для немецких университетов — Священное Писание, систематическое богословие,
26Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 114, 147 148. Ср.: Глубоковский Н. Н. К вопросу о нуждах духовно-академического образования / / Странник. 1897. № 8. С. 519.
27 Идея проф. И. С. Пальмова, которую авторы проекта предполагали разработать полнее.
1 1 5
Н. Ю. Сухова ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ч
историческое богословие, практическое богословие, и философия, с учетом российской традиции) предоставляло возможность получить углубленные знания в этой области, освоить ' специальные методы, укрепив через это и общебогословские ' познания. Специализация подразумевала специальные курсы по главному — структурообразующему — групповому предмету, а при этом — демонстрацию и специфических методов этой области богословия, и пример научной разработки конкретного вопроса. Остальную часть учебного плана студент мог формировать самостоятельно, изучая по своему выбору еще пять предметов, как вспомогательных к его научной работе, так и просто его интересующих. Акцент делался на практических занятиях под руководством профессора (причем в выборе семинара студенту предоставлялась свобода), проведении небольших исследований по выбранным вопросам, сдаче зачетов по специальным предметам, наконец на написании итоговой научной работы. Авторы проекта шли еще дальше, предлагая, согласно западной системе, упразднение переводов с курса на курс (после обязательного первого курса), с сохранением лишь обязанности студента пробыть в академии не менее 4-х лет, сдавая ежегодно не менее 4-х экзаменов и известное число письменных работ и зачетов. Гибкость образования и самостоятельность студентов, по мнению Совета МДА, была тем секретом германских теологических факультетов, которые позволяют им, несмотря на отсутствие широты в обще-богословском образовании, растить специалистов высокого уровня28. Предложение
28 Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 53-54. Главным идеологом проекта МДА, как нетрудно понять по протоколам Совета, являлся профессор И. В. Попов, побывавший незадолго до этого (в 1902-1903 уч. г.) на стажировке в Германии. Обучение в Берлинском и Мюнхенском университетах, особенно в первом, произвело на него сильное впечатление, хотя он старался критически оценивать и российскую, и немецкую системы образования. См.: Письмо И. В. Попова к епископу Арсению (Стадницкому) (ГАРФ. ф . 550. On. 1. Д. 400, Л. 3-14) и к С. И. Смирнову (ОР РГБ. Ф. 280. К. 18. Д. 23 Л 11-16 22-23 об.).
1 1 6
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
МДА об отмене традиционной системы вызвало серьезную критику в V Отделе Предсоборного Присутствия. Прозвучали обвинения в потере системы, узости и утилитарности. Образование подразумевает определенную последовательность изложения не только внутри одного предмета, но и внутри всей области науки, и высшая школа обязана дать студенту эту последовательную систему. Практическая же «привязка» выпускника к конкретной узкой области должна достигаться практическими занятиями и семинари- умами (по примеру университетов), а не деформацией основы образования. Но в связи с обсуждением проекта МДА был поставлен и общий вопрос: что же должна ставить во главу угла высшая богословская школа — научное богословское образование или удовлетворение практической потребности в тех или иных узких специалистах29 ?
Обсуждение этих проектов на Предсоборном Присутствии, при всей его активности и определенной результативности, привело и к некоторой растерянности. Желаемая свобода обсуждений была получена, собрались значительные академические силы, каждый имел возможность высказать свое мнение, — и уже трудно было сослаться на то, что удачное решение проблемы не было услышано и очевидные практикам тонкости не учтены. Но не было найдено не только общего решения, но и удовлетворительных оснований для его построения. На этих заседаниях не удалось прийти даже к общим принципам
Профессор МДА Иван Васильевич Попои
'Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 53-54, 151-153и др.
1 1 7
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
структуры учебного плана: какое соотношение должны иметь общеобязательное ядро и специализация, на каких курсах ив какой форме должна вводиться специализация, должна ли быть изменена традиционная для духовной школы — лекционная - форма занятий? Общий вариант учебного плана попытались составить механически, начав формировать общеобязательный богословский курс путем голосования за каждый предмет. Но стало ясно, что таким образом терялось главное — концептуальность каждого проекта. Более того, новые идеи, высказанные в проектах академий, учитывающие ошибки предыдущих Уставов — специальные занятия определенной областью богословия при сохранении целостного богословского мировоззрения, постепенность в специализации и преемство всех ее этапов, специфика постановки небогословских наук в высшей богословской школе, система научного руководства, введение практических занятий и обсуждения студенческих докладов и рефератов — постепенно затерялись в обсуждении статуса конкретных предметов академического курса30. Так же были потеряны идеи о гибкости академического курса, динамическом погружении каждого студента в богословскую специальность, более активном участии студента в построении своего образования, научных семинарах, большей самостоятельности академий во введении новых предметов, специальных курсов, кафедр, в составлении учебных планов. Таким образом, этот первый межакадемический форум имел два главных достижения: пополнение «банка» духовно-учебных идей и опыт их широкого обсуждения.
Этот набор идей сохранился вплоть до 1917 г., не претерпевая принципиальных изменений. Следует отметить лишь три вклада Комиссии 1909 г., имеющие отношение к позднейшим дискуссиям.
Первым вкладом была поляризация в полемике 1909 г. двух точек зрения на построение учебного курса в академиях. Архиепископы Антоний и Сергий предложили единый для всех
Богословское образование в нахале XX в. — полемика, анализ, синтез
студентов учебный курс и отметили его главное достоинство: целостность научного богословия, формирующая четкое и правильно выстроенное богословское мировоззрение. Их оппоненты, к которым относились в той или иной степени большинство членов Комиссии, в том числе архиепископ Арсений (Стадиицкий), видели перспективы развития учебного процесса в специализации, предложив ее двухэтапный отделенско-групповой вариант, с приоритетом практических занятий на старших курсах. Интересно, что цель этих противоположных концепций была единой — основательное богословское образование, готовящее выпускников академий к научной работе. Но архиепископы Антоний и Сергий, не сомневаясь в научном предназначении духовных академий, видели в богословской специализации раздробление богословия и неизбежное при этом искажение богословского видения. «Возрождение богословских наук у нас возможно только на почве их соединения в едином цикле...»" Таким образом, Комиссия 1909 г. наметила два пути развития высшего богословского образования: 1) усиление дифференциации учебных дисциплин и углубление специализации, 2) сохранение целостности учебного курса и введение последних научных достижений в четко очерченных границах.
Второй важной идеей было единое мнение членов Комиссии 1909 I'. о необходимости иерархии в изучаемых дисциплинах. Речь шла только о количестве учебных часов, выделя-
" Мнение архиепископа Антония (Журналы 1909 г. С. 185).
119
емых на тот или иной предмет в учебном плане, но и это было важно — уход от традиционного равенства всех предметов учебного плана. Было предложено удвоить часы на науки, требующие усиленной работы с источниками — Священное Писание и патрол огию. Их постановка в академиях должна быть коренным образом изменена — проходить их нужно «не ча- 1 стями, а целиком». Что касается остальных богословских пред- ! метов, то к ним необходим дифференцированный подход: одни ' из них должны сохранить самостоятельное существование, но с меньшим числом часов и кафедр в сравнении с основными науками, другие же, необдуманно выделенные в самостоятельные, следует упразднить, возвратив в лоно материнских предметов.
Наконец, вкладом Комиссии 1909 г. было решение о введении практических занятий в академиях, хотя с самой системой этих занятий было связано много проблем и критических замечаний.
Официальным результатом работы Комиссии было два проекта: основной, подписанный большинством, и проект архиепископа Сергия, к которому присоединился и архиепископ Антоний32. Синод при окончательной редакции проекта, соединил оба варианта — комиссии и высокопреосвященного Сергия. При этом были потеряны наиболее яркие идеи, определяющие специфику каждого проекта. Произошло то механическое «усреднение», опасность которого почувствовали уча стники Предсоборного Присутствия и которое не могло быть успешным. Идея богословской специализации, принципиально важная для большинства членов Комиссии 1909 г., была очень ослаблена — групповые наборы (6 в первом варианте 1910 г.) по сравнению с общеобязательным курсом были незначительны, а некоторые и разнородны (например, русский раскол и сектантство соединены с историей западных исповеданий, причем возложены на одного преподавателя). ИдеЯ постепенной богословской специализации была отвергнув
за ф . 797. Оп. 96. Д. 205. Л. 20-68.
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
120
Богословское образование в нагале XX в. - полемика, анализ, синтез
Общеобязательный курс был массивен (14 предметов) и неизбежно вел к многопредметности*'.
Следующая Комиссия 1911 г., дорабатывающая проект в учебно-научной части, выделила три основные проблемы, которые не удалось разрешить — многопредметность, разделение богословских предметов на обязательные и необязательные, обремененность воспитанников академий учебными занятиями. Но в результате, пытаясь решить вторую из зтих проблем, еще три богословских предмета были определены как общеобязательные (всего стало 17), что еще более перегрузило учебные планы, а предметы специализации переформированы в 4 группы51 . Проект 1910-1911 гг. вызывал общее недовольство и критиковался.
Все обсуждения 1917 г. «отталкивались» от этого неудачного проекта, которому было отказано в самостоятельной целостной учебной концепции. Поэтому при разработке учебной части Нормального устава за основу был взят принцип: при всех разногласиях и дискуссиях, идя на определенные компромиссы, не потерять главных идей, то есть идти не путем усреднения, а путем синтеза. Итоговый проект нового Устава1'’, составленный в процессе работы комиссии профессоров 1917 г. и соборного Отдела о духовных академиях, представлял некоторый вариант такого синтеза всех предыдущих проектов и мнений. Он предлагал устранить многопредметность традиционным уже способом — выделением паук общеобязательных, изучаемых всеми студентами, и формированием пяти специальных групп, с предоставлением выбора студенту (§ 120). Общеобязательный (базовый) курс строился по определенным принципам. В него включались следующие составляющие: 1) те предметы, что называются источником любого богословского видения Священное Писание Ветхого и Нового Завета и патрология;
"Устав 1910 г. § 130, 131.“Устав 1911 г. § 130, 131. Обсуждение вопроса в Комиссии 1911 i
С. 125-137, 162-167, 180- 2 25. Ср.: РГИЛ. Ф. 802. Оп. 16. Д. 206. Л. 1-6.
"ГАРФ. Ф. 550. Он. 1. Д. 181. Л. 1 -15.
121
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
2) богословское образование в тесном смысле слова - ало логетика, догматическое, сравнительное, нравственное богословие, история Древней Церкви, история Русской Церкви, церковное право; 3) необходимые орудия богословских исследований — история философии, еврейский, греческий и латинский языки; 4) педагогика как наука, тесно связанная с психо логией и необходимая для большинства студентов, которым предстоит педагогическая деятельность на учебном или пастыр ' ском поприще; 5) один из новых языков (§ \22)щ. Состав об щеобязательного курса мало отличался от такового в Уставе 1910 г. и даже 1884 г., что грозило прежней многопредметно стью. Составители проекта понимали эту опасность, но не со чли возможным умалять фундаментальное богословское образование, планируя достигать облегчения более продуманным согласованием самих курсов и даже их частей. Опасность была, как и в любом теоретическом построении, но, как и при состав лении Устава, при его введении надеялись использовать опыт прошлого и перенести акцент на специализацию. Система спецкурсов, семинаров разного уровня, а также непосредственное научное руководство каждого студента преподавателем давали основание надеяться на осуществление желаемого.
Для специализации выделялось пять групп: 1) библейская; 2) богословско-философская; 3) церковно-историческая, с разделением на историю Древней Церкви и историю Русской Церкви; 4) словесность и язык в историческом развитии; 5) церковно-практическая* 37 . Для КазДА предполагалась еще шестая
:!В ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 282. Л. 75-77 .37 Первую, библейскую, группу составляли: Священное Писание
Ветхого Завета и ветхозаветное богословие (2 каф.); Священное Писание Нового Завета и новозаветное богословие (2 каф.); библейская история и библейская археология; еврейский и арамейский языки: история и литература иудейства, греческий библейский язык.
Вторую, богословско-философскую, группу составляли: основное богословие; догматическое богословие; нравственное богословие; библейское богословие ветхо- и новозаветное; систематическая философия и логика; психология; история новой и новейшей философии
1 2 2
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
группа, для специального изучения мухамеданства и буддо-ла- маизма (две подгруппы), а также языка и быта тех населяющих Россию народов, кои исповедают эти религии (§§ 124.125). Новизна состояла в том, что в группы включались и общеобязательные предметы, то есть в виде общих курсов они изучались всеми студентами, а в виде специальных курсов, в которых углубленно излагались конкретные разделы и вопросы - частью студентов. Это должно было дать возможность слушателям проследить научный метод работы профессора. Предметы каждой группы были внутренне связаны друг с другом. Но некоторые науки включались в состав двух групп (библейское богословие — в библейскую и богословско-философскую
Общую часть третьей, церковно-исторической, группы составляли: история Древней Церкви до разделения Церквей: церковно-историческая география; история западных исповеданий; всеобщая древняя и новая гражданская история с методологией истории; история православного богослужения (историческая литургика); церковная археология и история христианского искусства; история церковной византийской литературы. Внутри группы — две подгруппы. К первой из них были отнесены история греческого Востока после разделения церквей, история христианского (негреческого) Востока. Ко второй - история Русской Церкви, русская гражданская история, история старообрядчества и сектантства, история Славянских Церквей, для КДА - украиноведение (язык и история литературы).
В четвертую группу, словесно-языковую, вошли предметы: патрология и история византийской письменности; история проповедничества; история западноевропейских литератур; история славянорусской письменности; история русской литературы; славянская филология (включающая южпо- и западнославянские языки и литературы); русский и церковно с лавянский язык с палеографией.
Наконец, пятую, церковно-практическую группу, составили: пастырское богословие (с аскетикой, катехетикой и историей миссий), церковное право, история проповедничества и гомилетики, литургика, церковная археология и история христианского искусства, история старообрядчества и разбор его учений, история сектантства и разбор его учений, история социальных учений, педагогика с методикой преподавания Закона Божия (§ 123) (ГАРФ, Ф. 3431. On. 1. Д. 380. Л. 157-162).
123
группы; церковная археология, история христианского искусства, историческая литургика, история старообрядчества - в церковно-историческую и церковно-практическую группы), С одной стороны, они были сочтены необходимыми для формирования специалистов разного профиля. С другой стороны, была надежда — и в заседаниях Отдела она высказывалась неоднократно — что такой «двойной» подход позволит самим пре- подавателям-специалистам при составлении курсов лекций, при руководстве студентами более четко и полноценно осмыслить преподаваемую науку, выработать подходы и методы ее изучения. Специализация должна была определять и сам характер преподавания групповых предметов, причем по ним должны были читаться и общие курсы, и специальные. Но состав групп формировался очень тяжело, с бурными дискуссиями и многократным внесением изменений. В каждой группе (кроме, может быть, библейской) выделялось несколько направлений, требующих особого внимания. Основные сомнения вызывала последняя — церковно-практическая — группа. Развитие богословских наук не позволяло готовить специалиста по каноническому праву, церковной археологии и литургике в одном лице, да еще ориентированного на творческое развитие пастырского богословия. Но и специалист по догматическому богословию, патрологии и религиозной философии в одном лице мог упустить специфику каждого направления. Следовательно, надо было выделять специальности внутри группы, определяя их специальными курсами, занятиями студентов под руководством преподавателя-специалиста, написанием самостоятельных работ, темами кандидатского и магистерского исследования.
Таким образом, в проекте впервые была проведена идея, в которой совмещались положительные стороны Уставов 1869 и 1884 гг. — специальное углубленное изучение основных богословских направлений и полнота фундаментального богословского образования. Такое сочетание, при соответствующей постановке общих и специальных курсов, должно было способствовать правильному научно-богословскому росту. На младших
_____________ Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
124
Богословское образование в нахале XX в. - полемика, анализ, синтез
курсах предполагалось формировать богословский кругозор и мышление, давать понятие о структуре научного богословия и достаточно широкие богословские знания, учить работать с основными источниками. Специальное, углубленное изучение основных и дополнительных предметов на старших курсах и самостоятельная работа под руководством преподавателя должны были готовить специалистов, владеющих методологией и орудиями богословского исследования, умеющих самостоятельно анализировать, обобщать и систематизировать результаты научно-богословского исследования, делать выводы, оценивать место и значение конкретного исследования в контексте современной богословской науки и вводить полученные результаты в этот контекст. Но неизбежная дифференциация внутри группы ставила вопрос об осмыслении принципов специализации на новом уровне и доработке заявленной системы. Специализация последней группы — церковно-практической — кроме «полицентричности» вызывала еще одно сомнение: в совместимости «церковно-практического богословия» как направления специфического и требующего особых усилий с полноценным научным развитием таких наук, как каноническое право, литургика и церковная археология1К.
Особо было отмечено то, что единство учебных планов сохранялось лишь в общих и существенных чертах, право же детальной разработки, с приспособлением к местным условиям, предоставлялось каждой академии с учетом их исторически сложившегося типа*9.
Следует особо отметить отношение к светским наукам, вырабатываемое в этих дискуссиях. В целом большинство участников обсуждений и авторов проектов и мнений предлагали сохранить все гуманитарные науки в академиях, даже расширить их состав. Но мотивировка присутствия этих наук в академиях повторяла таковую 18б()-х гг.: одни авторы считали, что * 14
‘Ч'м. статью настоящего сборника «Практическое богословие в российских духовных академиях — проблема понимания и сложности развития (XVIII — начало XX в.)»
14 ГАРФ. Ф, 3131. On. 1. Д. .380. /I. 163.
125
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Ч
>
это обусловлено традиционной задачей академий как педагогических институтов, другие настаивали на том, что прикладное значение академий не может быть определяющим, но может быть единственное обоснование для введения науки в академический курс — полезность для высшего богословского образования. Первое мнение ставило академические курсы в определенную зависимость от состава семинарских предметов, по которым требуются преподаватели. Второе мнение давало академиям независимость в формировании своего курса, но ставило новый вопрос: какие же науки полезны для высшего богословского образования или отдельных его областей? Было выделено три направления, требующих особого попечения: древние языки, без которых невозможно научное изучение богословия (была подчеркнута необходимость изучения начал сравнительного языкознания40); естественно-научная апологетика и науки, с нею связанные; предметы, ориентирующие студентов в жизни современного общества (литературные и социальные).
Радикальное неприятие всего, что выходит за рамки богословия, предлагал лишь архиепископ Антоний в заседаниях Комиссии 1909 г. — он допускал лишь русскую литературу для сведений о русском обществе и философию для тренировки ума. Отчасти его поддержал архиепископ Сергий, предложивший для общеобразовательных наук оставить лишь три кафедры — историю философии, в «дань почтенным традициям нашей духовной школы», еврейский язык и классические языки со сравнительным языкознанием41. Преосвященный Сергий отнюдь не считал, что гражданская история или словесные науки не нужны православному богослову — напротив, он видел столь же необходимыми и юридические науки, и естественные, и социальные. Но все факультеты невозможно вместить в одну духовную академию, и их преподавание неизбежно будет фраг-
40 Проект КДА и отдельное мнение профессора СПбДА А. И. Бриллиантова (Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 144).
41 Журналы 1909 г. С. 7 -8 , 144-147, 185.
1 2 6
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
ментарным и элементарным, а следовательно, не даст той пользы, для которой вводится. Таким образом, для сохранения небогословских наук в духовных академиях нужна была новая аргументация, учитывающая опыт развития духовной школы и уровень развития науки. В 1906 г. Н. Н. Глубоковский сформулировал более сильное утверждение: полезны и даже необходимы богословские научные исследования в небогословских науках — это обогатит и богословие, дав новые методы, и гуманитарные науки, высветив иной подход, богословский взгляд даст новые открытия и решение проблем'12.
Но в дискуссиях 1917 г. рассуждения о небогословских науках построились, выявив те же традиционные направления:1) вывести большую часть из академического курса, приблизив академии по составу наук к богословскому факультету; 2) оставив, предоставить свободному выбору студентов (определив необходимое число или жесткий состав групп); 3) исходя из приоритета научного богословского образования, соединить с каждым направлением специализации необходимые для него гуманитарные науки. Ввиду заявленной важности научной задачи академий, последний вариант принимался большинством. Конечно, часть философских наук и древние языки, по их особому значению для богословия, получали особый статус.
Таким образом, проблема небогословских наук в высшей богословской школе оставалась, но приобрела иное .значение, будучи переведена из сферы учебной в научную. Перспективы ее плодотворного решения имели научное значение для богословия — предложение Н. Н. Глубоковского свидетельствовало об этом.
Вопрос об отношениях богословия с другими сферами знания, проявлявшийся в проблеме небогословских наук в академиях, имел и другую сторону — определение места богословия в системе наук. Этот вопрос общенаучного характера для российской научно-образовательной системы имел свою особенность — самостоятельное развитие богословской науки в *
w Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 114, 102 166.
127
i
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
стенах духовной школы ставило перед необходимостью на каждом новом этапе развития осмыслять ситуацию и обращать особое внимание на включение богословских научных сил в те или иные проекты. Поэтому совместные исследования ученых-бо- гословов и историков, филологов, философов давали почву для таких обсуждений43. Вопрос ставился и более конкретно ~ о введении богословия в состав университетских факультетов. Обсуждение этого вопроса было проведено и на Предсоборном Присутствии, и в Комиссии профессоров 1917 г., но к изменениям не привело44.
Гораздо плодотворнее было обсуждение вопроса о внутренней структуре богословского знания и взаимосвязи его отдельных составляющих, а также об отражении этой структуры в образовании — составе кафедр, дисциплин учебного плана, на направлениях специализации студентов. Акцент, сделанный еще в 1869 г. на специализации преподавателей и неразрывной связи их научной и учебной деятельности, казалось бы, позволил отойти от модели педагогического института и ориентироваться на систему богословской науки. Но наука развивалась, выделялись новые направления, менялись приоритеты - бурное развитие исторической литургики, византинистики, славистики, церковной археологии в конце XIX — начале XX в. это продемонстрировало. Образование было системой более косной и не могло оперативно реагировать на изменения в науке - ни в составе кафедр, ни в изменениях учебных планов. Эта проблема — связи учебного процесса с наукой — была общей для всего высшего образования, но ситуация в духовных академиях осложнялась скудостью кадровой и финансовой. В каждой академии по большей части наук был лишь один специалист, редко — два, а получить деньги на открытие новой кафедры из духовно-учебных капиталов или епархиальных средств было
43См. статью данного сборника «Русский археологический институт в Константинополе и участие высшей духовной школы в его деятельности (1894-1914 гг.)».
44 См. статью данного сборника «Богословские науки в российских университетах — традиция и перспективы».
128
Богословское образование в нагале XX в. ~ полемика, анализ, синтез
крайне сложно. В истории духовных академий до XX в. были редкие случаи таких успехов. Поэтому стимулировать развитие новых научных направлений или особых разделов внутри той или иной науки в такой жесткой системе было тяжело. Ситуация не облегчилась и в начале XX в., но определенная тенденция к «оживлению» была заметна. Так, СПбДЛ в 1902 г. поставила вопрос об открытии новой кафедры — истории Грузинской Церкви, в 1903 г. — истории Греко-Восточной Церкви от разделения Церквей'1'5, МДА в 1904 г. составила проект об открытии кафедры по изучению и полемике с сектантством, КДА неоднократно поднимала вопрос об учреждении кафедры истории Западно-Русской Церкви. На Предсоборном Присутствии, в заседаниях Комиссии 1909 г. и на Поместном Соборе был представлен целый ряд проектов нрофессоров-специалис- тов с обоснованием необходимости развивать в виде самостоятельной кафедры и учебной дисциплины то или иное направление. Отчасти эти предложения были учтены в Уставе 1910- 1911 гг. и в проекте Нормального Устава'115, но проблема оставалась — академии должны были иметь возможность оперативного расширения если не состава кафедр, то штатов в периоды действия одного Устава. 15
15 РГИА. Ф. 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 77. Л. 1 — 13. См. также: мнение профессоров СПбДА но истории Церкви А. И. Бриллиантова и церковной археологии и литургики Н. В. Покровского по вопросу о включении истории Грузинской Церкви и истории восточных христианских общин в число дисциплин, изучаемых в духовных академиях / / ЖЗС СПбДА за 1901-1902 уч. г. СПб., 1902. С. 296 -299, 300 304 гоотв.
1,1 Укажем лишь то, что было реализовано: но Уставу 1911 г. но всех академиях была введена история Греко-Восточной Церкви со времени отпадения Западной Церкви от Вселенской до настоящего времени; в КДА, МДА и КазДА — в связи с историей Славянских церквей и Румынской, а в СПбДА — в связи с историей Церквей Грузинской и Армянской и других Восточных 11ерквей; в СПбДА была введена еще история Славянских Церквей, а в КДА - история Западнорусской Церкви. Во всех академиях была введена история и обличение русского сектантства, получили самостоятельные кафедры лигургика и церковная археология (Устав 1911 г. § 130, 131).
1 2 9
Не менее сложными в дискуссиях начала XX в. были об суждения вопросов, связанных с организацией научной деятельности в самих академиях, хотя здесь, казалось бы, было больше единства — с научной устремленностью высшей духовной школы были согласны практически все члены преподавательских корпораций. Развитие богословской науки, появление специальных исследований в разных ее областях было одним из главных достижений академий в XIX в. Но это развитие поставило много новых проблем, требующих своего разрешения. Конкретные вопросы в этой области вызывали горячую полемику.
В уставных положениях не было места методическим вопросам, но на Предсоборном Присутствии эта тема была затронута. Вопрос встал особенно остро в связи с проектом о. Павла Светлова о введении богословия в универсум наук и «однородности» богословия со всеми остальными науками. Но вести такие обсуждения на должном уровне российские богословы еще не научились, поэтому вопрос об интеграции в научную систему свелся к обсуждению организационного момента, проблема корреляции с другими областями науки — к проблеме освоения достижений, а не методического взаимообогащения, проблема научности богословия как такового — к проблеме свободы научного исследования. Вопрос о методологии конкретных наук вставал и при обсуждении специализации: могут ли разноситься по разным отделениям сравнительное богословие и история западных исповеданий, метафизика и история философии и др., по принципу деления систематических и исторических методов исследования'17 ? На обсуждение методических проблем выводил и вопрос о названиях некоторых дисциплин: историческое учение об отцах Церкви, введенное в 1840-х гг., патристика, патрология, история древней христианской литературы — что точнее отражает суть предмета и как это должно сказаться на методах исследования и преподавания'18 ? 47 48
____________ Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
47Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 138.48Там же. С. 140-142.
1 3 0
Богословское образование в нахале XX в. — полемика, анализ, синтез
В 1909 г. была вновь сформулирована проблема русского богословия как науки и предмета преподавания — слабая разработка методологического аспекта. При обсуждении определилось противостояние двух точек зрения на разработку богословской методологии. Большинство членов Комиссии, согласные с проектом внутренней богословской специализации, предлагали использовать сродство определенных областей богословия с другими науками. Это давало возможность формировать, например, церковно-исторические методы исследования, взяв за основу принципиальные положения методологии исторической науки; а в исследованиях памятников церковной словесности применять, с соответствующей переработкой, филологические научно-исследовательские методы. Их оппоненты, прежде всего, архиепископы Антоний (Храповицкий) и Сергий (Страгородский), считали, что специфика богословия как науки не позволяет обращаться к методологии других наук, но требует полной самостоятельности. Решение всех научных и методологических проблем необходимо искать именно в богословской области, в ее неделимом единстве. Однако обсуждение методологических проблем никак не проявилось в окончательном варианте Устава — лишь к педагогике была добавлена «дидактика с методологией наук в средних учебных заведениях». О методологии научного богословия в комментариях к Уставу ничего не говорилось.
В 1917 г. проблема была вновь заявлена к обсуждению, особенно остро — в связи с первенством научной задачи в академиях. Была отмечена главная проблема — методы, применяемые отдельными исследователями-богословами, мало обсуждаются и обобщаются, поэтому остаются в значительной степени их личным достижением и достоянием, распространяемым в лучшем случае на их учеников. Были намечены три главные перспективные тенденции: 1) интеграция, причем не только организационная, но и научно-методическая, в систему науки; критическое освоение разработанных в гуманитарных науках методов и подходов; 2) критический анализ и освоение методов иноконфессиональной богословской науки; 3) осмыс-
131
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНмц
ление результатов и методов, выработанных российской йсловской наукой за прошедшее время, их критическая * °Г°систематизация. Главной целью методических устпв».^еНКа'должно быть разработка методической системы богоглп
^словскойнауки в целом и специфические методы каждой ее области П этом система должна быть «открытой», то есть способной вклю чать новые методы. Но это упование было главным итогом очень слабо реализованным.
Естественный интерес составителей проектов и участников обсуждений вызвал институт научно-богословской аттестации. Проблемы, возникающие в конце XIX — начале XX в. с присуждением ученых степеней за богословские сочинения, побуждали академические Советы совершенствовать и саму систему их получения. Так, в проектах 1905 г. для получения магистерской степени все единогласно требовали напечатания и публичной защиты, но были колебания с определением круга присутствующих: от самого широкого, в понимании Устава 1869 г., до самого узкого, то есть членов Совета. Совет СПбДА предлагал ввести особый магистерский экзамен, специально разработав для него требования, остальные же проекты предлагали ограничиться вариантом Устава 1884 г.: академическим выпускникам с отличными и очень хорошими результатами давать «магистрантство», то есть право защищать магистерскую диссертацию без устных испытаний, не удовлетворивших же этому требованию подвергать устному испытанию49 • Доктор ская диссертация, по мнению всех проектов, кроме проекта ДА, также должна публично защищаться (СПбДА огрш*и^ вала круг присутствующих членами Совета, остальные про ты никак это не оговаривали): это положение Устава было признано полезным для науки. Правда, все проекть варивали традиционную возможность присуждения ст ^ доктора и по инициативе Совета, без публичной зашить^^ цам, известным своими учеными трудами, но особо отме в названии: доктор honoris causa, почетный доктор акаД
'Свод проектов 1906 г. § 142.
ровЫМтельного
50Советам академий как
ровано
5 ЫМ было положение о передаче права оконча-И О суж дения всех ученых степеней академическим
П Таким образом Советы отстаивали компетентность научных богословских школ, богословия как на-
иссертаций - как научных исследований, к которым УКИ’ ** нимы соответствующие критерии и которые требуют ПРИМючительно научной оценки. Но следует заметить, что это Исложение было не пожеланием, а констатацией факта: право окончательного утверждения в ученых степенях уже было да-
Советам Временными правилами 1905 г.51 В проектах Советов предлагалось также распространить
дифференциацию ученых степеней и на магистерский уровень: магистр и доктор богословия (СПбДА, МДА, КДА, КазДА), церковной истории (СПбДА, МДА, КДА, КазДА), церковного права (МДА, КДА, КазДА), философии (МДА, КДА, КазДА), гражданской истории (КазДА), филологии (КазДА), востоковедения (КазДА), словесных наук (СПбДА), философских наук (СПбДА). В этом Советы видели констатацию развития специальных областей богословской науки.
Дальнейшие обсуждения немного добавили в теоретическое совершенствование системы научной аттестации. Наиболее ярким вкладом был проект об учреждение при Святейшем Синоде Академии богословских наук или Учено-богословского л - 13- Разработанный Комиссией 1909 г/’2 Это учреждение мог- g Р п° мнению некоторых членов Комиссии, исполнять и роль
шои научно-богословской аттестационной комиссии ’’, бого аК НИ стРанно> проблема совмещения теоретического ^ ° ВИЯ’ Т0 есть научных исследований, и практического
5о7-7" ------------- ---- -ГИрВод проектов 1906 г. § 143
^ Сп. 166. 1 отд., 2 ст. Д. 486. Л. 1-1 об.1 Эта " Л Г' Приложение. С. 1-7.
Р° лема обсуждалась в духовно-учебных кулуарах с
^ нагале XX в. - полемика, анализ, синтез
!«70-х „ _________ ___________И- Н. Гду^10 ОТкРь,то была заявлена в середине 1890-х гг., в статье р0сУ о ну^ КОВСКОГО- См.: Глубоковский Н. Н. / Вафинский / / . / К вон- ^7-№> я ЯУх°вно-академического образования / / Странник.
' ' С- 519-540.
132 133
богословия, то есть задач реальной церковной жизни (миссия, борьба с сектантством, популяризация богословского знания, катехизация и т.д.), так горячо обсуждаемая в дискуссиях Советов 1890-х гг., в кулуарах, личной переписке, при комментировании конкретных ситуаций, не получила плодотворного обсуждения на межакадемических форумах. Единственным вкладом, который эти дискуссии внесли в практическое богословие, была общая мысль и убеждение, что сама жизнь Церкви представляет предмет, чрезвычайно важный для богословских исследований.
Кроме того, был вклад практический — и Предсоборное Присутствие, и Поместный Собор при обсуждении разных проблем церковной жизни опирались на профессоров-специали- стов из духовных академий. И это было свидетельством того, что проблемы церковной жизни являются предметом попечения духовных академий, а практическое богословие — не просто приложением или отдельными заданиями церковной власти, но неотъемлемой частью богословской науки.
Проблемы активизации знаний, получаемых студентами в академиях, и соучастия студентов в формировании своего образования были в числе основных в дискуссиях 1905-1918 п. С одной стороны, почву для обсуждения давало противостояние Уставов 1869 и 1884 гг. в этих вопросах. С другой стороны, давало себя знать постепенное изменение отношения к высшему богословскому образованию вообще, а также обострение внимания к этим вопросам под влиянием времени. Уже в проектах и дискуссиях 1905-1906 гг. были сформулированы две главные идеи, разделяемые всеми авторами и участниками:
1) Необходимость практических занятий студентов, на которых должны, с одной стороны, изучаться источники, классические научные исследования, методы исследования, с другой стороны, делаться самостоятельные доклады, обсуждаться, т.е. получаемые знания должны активизироваться.
2) Необходимость более тесного руководства студентам'1 со стороны преподавателей, как на младших, так и на старший курсах. Лишь это внушало надежды на разрешение мной'*
_____________ Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
1 3 4
Богословское образование в нагале XX в. - полемика, анализ, синтез
проблем, сформулированных в последние десятилетия. Непосредственное научное руководство должно было: а) усовершенствовать процесс написания студентами первых самостоятельных работ; б) поставить самостоятельные занятия студентов под контроль преподавателей, не дисциплинарный, но научный;в) установить тесный контакт преподавателей со студентами, способствовать авторитетному влиянию первых на последних.
Все проекты 1905 г., несмотря на введение новой формы активизации студенческих знаний — практических занятий, как на старших, так и на младших курсах54, считали необходимым сохранить и традиционную академическую форму работы студентов - семестровые сочинения. Однако высказывалось пожелание сократить их число (до двух), в надежде на более серьезные работы. Предлагалось построить возрастающую систему самостоятельных работ — простые сочинения на 1-2 курсах, «одну или несколько научных работ на избранные... темы по своей специальности» на третьем курсе, наконец, выпускная диссертация на четвертом курсе. Не прошли даром многолетние размышления о разумности предлагаемых студентам тем, которые велись как в рамках Устава 1869 г., так и в 1890-е гг. — все проекты настаивали на утверждении тем, даже для семестровых сочинений, Советом или, по крайней мере, собранием отделения.
Рассуждения о практических занятиях повторились и в 1909 г., нотам не было достигнуто единства. Практические занятия, введенные Уставом 1910 г. по всем преподаваемым предметам (из 5 положенных часов 3 полагалось на лекции и 2 на практические занятия), были определенным совершенствованием традиционного духовно-академического процесса55. Устав указывал, что должны делать студенты на практических замятиях
г" Все проекты, видя в этом одну из проблем академического образования, даже оговаривают особо обязанность всех штатных преподавателей (и в особых примечаниях — и приват-доцентов) - «руководить студентов в их специальных занятиях» (Свод проектов 1906 г.§84)
“ Устав 1910 г. § 85, 156.
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
и на что может употребить занятия преподаватель, но эти комментарии повторяли уже много раз высказанные пожелания об изучении источников науки и учебных пособий, разборе важнейших сочинений из литературы предмета, знакомстве с учебниками и учебными пособиями семинарского курса и т.д. По кафедре пастырского богословия и гомилетики, кроме изучения и разбора важнейших патрологических и гомилетических произведений, студенты занимались практическим проповедованием, упражнялись в произнесении заранее приготовленных проповедей «на память» и экспромтов. Это было возвратом к традиции митрополита Платона (Левшина), хотя, конечно, не бесполезной. Определенный интерес студентов к практическим занятиям был, преподаватели старались вырабатывать конкретные формы, набираясь опыта по ходу дела. Отмечалась несом ценная польза от практических занятий: «приближение студентов к основам науки», «ученое любопытство», возбуждаемое чтением рефератов, ответственность, возлагаемая на каждого студента. Выражались надежды на то, что именно практические занятия будут той живой струей, «которая может смыть средневековую схоластику, тяжелым бременем давящую нашу богословскую науку доселе»56. Однако они не достигали во всей полноте поставленной цели: это отмечали сами преподаватели, их проводящие. Назывались два основных недостатка - сама организация занятий и перегруженность студентов. Согласно Уставу, все студенты участвовали во всех практических занятиях по всем предметам, и профессору приходилось заниматься одновременно с целым курсом студентов, более ста человек. В результате каждому студенту уделялось мало времени, и практические занятия мало чем отличались от лекций. Как показал опыт, аудитория на практических занятиях не должна превышать 20-30 человек, иначе они перестают быть
56 Журналы образованной при Святейшем Синоде особой Комиссии для выработки проектов Уставов и штатов духовных средне-учебных заведений и соответствующих изменений в Академическом Уставе. СПб., 1911. С. 132, 181-182.
1 3 6
Богословское образование в нахале XX в. полемика, анализ, синтез
эффективными. Участие в практических занятиях по всем предметам перегружало студентов, от которых требовалось, кроме того, написание трех сочинений за год. Поэтому требовать от них активного участия в занятиях было невозможно. Кроме того, сократилось количество свободного времени студентов, которое они использовали ранее на чтение книг.57 *.
Проект Нормального устава 1917 г. учитывал этот позитивный и негативный опыт. Он предполагал на группах практические занятия и по общим курсам, и по спецкурсам общеобязательных предметов, и по групповым предметам (§ 121). В связи с общими курсами студенты должны были знакомиться на практических занятиях с ученой и учебной литературой, с целью выработки навыка к чтению и усвоению серьезных книг, умения разбираться в методах и тенденциях крупных научных исследований. В связи со специальными курсами практические занятия предполагали большую самодеятельность со стороны студентов: изучение и анализ источников, подготовку письменных и устных ответов на поставленные профессором вопросы™.
Третные и курсовые сочинения, как единственное средство к воспитанию самостоятельной работы, необходимо удержать; но, как требующих большого времени и сил, сократить число третных сочинений с 9 до 6 и поставить их в связь с практическими занятиями, что может достигаться следующим:1) третные сочинения, при их расширении на практических занятиях, могут перерастать в семестровое сочинение; 2) третные сочинения могут быть разбираемы и защищаемы во время практических занятий, что послужит основанием к зачетам;3) отдельные трактаты, разбираемые на практическом занятии, могут быть связаны между собой и друг друга дополнять - следовательно, подача сочинений может быть не связана с определенным сроком для всех студентов.
’7 Устав 1911 г. § 85, 156.wОбъяснительная записка к Уставу православных духовных
академий, выработанному Комиссией делегатов от всех академий 10 мая - 5 июня 1917 г. (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 381. Л. 247).
137
УА
Особым попечением преподавателей было выпускное сочинение студентов. Все проекты 1905 г. подчеркивали его важность. Проблемы, возникающие с магистерскими диссертациями при Уставе 1869 г., участившиеся случаи неподачи в срок кандидатских сочинений при Уставе 1884 г. заставляли задуматься на эту тему. Судьба большинства академических выпускников, попадающих в провинциальные семинарии с бедными библиотеками, не позволяла надеяться на их дальнейшую активную научную работу. Но в выпускном сочинении они могли проявить все полученные знания и умения и сделать свой вклад в отечественное богословие. Надо было предоставить им эту возможность и наилучшим образом организовать их деятельность. Не менее важно было получить своевременно первую ученую степень для тех лучших, которые останутся преподавать в академии: первые годы преподавательской деятельности отнимали много времени. Но лишь КазДА предлагала увеличить срок написания выпускного сочинения до полутора лет, остальные проекты Советов считали достаточным максимально освободить для этого выпускной курс (наиболее радикально МДА — только спецкурс по предмету специализации) и подготовить студентов к сознательному написанию этого сочинения всей предыдущей специализацией. В обоих проектах СПбДА специальные занятия последних двух курсов в широком смысле были ориентированы на подготовку к написанию выпускной работы. Дальнейшие комиссии повторяли те же идеи, настаивая лишь на творческом подходе к этому деланию как преподавателей-руководителей, так и студентов.
Действительно, контакт преподавателей и студентов был одним из нелегких вопросов в жизни духовных академий. Он коррелировал с вопросом о степени свободы студентов в формировании своего образования, который в обсуждениях 1905 г. оказался одним из важнейших59. В вопросе «свободы образования» было выделено две проблемы, отмеченные еще при
59 Вопрос отягощался борьбой студентов за свои «права»: своекоштным студентам жить на квартирах, иметь особую студенческую библиотеку и читальню и заведовать ими самим студентам, вступать
_____________ Я . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
138
Богословское образование в нагале XX в. — полемика, анализ, синтез
разработке Устава 1869 г.: 1) В какой степени может студент участвовать в формировании состава изучаемых наук? 2) Какова должна быть доля времени, выделяемого студенту для самостоятельных занятий и каким образом должны быть направляемы и контролируемы эти занятия со стороны преподавателей? Большинство преподавателей в начале XX в. считало соучастие в построении своей научной специализации необходимым для каждого студента, но оставался вопрос: как ее организовать, избежав узости и произвола, обусловленных неопытностью студентов? Для высшего образования и научного роста необходима значительная доля самостоятельных занятий, но как их направить, избежав школьного примитивного контроля? Оба вопроса приводили к выводу: необходим более тесный научный контакт преподавателей со студентами. Устав 1869 г. переносил решение этой задачи на отделения, Устав 1884 г. предлагал такое «водительство» лишь профессорским стипендиатам. Проекты 1906 г. предполагают осуществить это путем введения семинаров и побуждения преподавателей к более основательному руководству выпускными работами студентов.
В 1909 г. мысль об участии студента в формировании образования была уточнена: степень свободы познающего о построении своего образования должна учитывать постепенно возрастающую самостоятельность мышления и появляющиеся научные интересы, но не должна упразднять системы, определяемой целями и задачами школы, и должна курироваться непосредственным научным руководством со стороны прено- давателя-специалиста.
в брак до окончания курса, иметь свою организацию и право сходок, собственный товарищеский суд для решения личных отношений межд у студентами, своих представителей для переговоров с Правлением и Советом, участвовать в выработке правил общежительной дисциплины и частной жизни студентов. Все эти студенческие стремления, поддерживаемые в разной степени частью профессоров, также нашли отражение в проектах (§ 121, 136, 150, 154-156 Свода проектов 1906' г.). Но здесь идет речь о соучастии студентов в формировании состава изучаемых предметов и самостоятельных занятиях но освоению наук.
139
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Наконец, не мог не вызвать размышления членов корпораций и вопрос о подготовке смены академическим профессорам. Ни один из вариантов, опробованных историей высшей духовной школы — бакалавры Устава 1814 г., приват- доценты Устава 1869 г., профессорские стипендиаты Устава 1884 г. — не был признан в свое время удачным™. В 1905г. многим казалось разумным возобновить приват-доцентуру,не исчерпавшую своих резервов: это давало дополнительную возможность расширения системы специальных курсов, на которую возлагались большие надежды* 61. Их оппоненты оставались верными системе профессорского стипендиатства, но считали необходимым ее усовершенствовать. Н. Н. Глубокое- ский предлагал синтезировать эти две формы: наиболее успешных и профессионально нужных академиям (вакантные или перспективные кафедры) стипендиатов оставлять после стипендиатской выучки на практическую приват-доцентскую стажировку.
Институт приват-доцентуры признавался полезным и в 1917 г., при этом было предложено расширить эту систему, не связывая непосредственно с вакантными кафедрами, но расширяя академические штаты молодыми исследователями. Академии, таким образом, получали бы штат молодых преподавателей (это было особенно важно для реализации системы практических занятий и специальных курсов), молодой же человек не забрасывал книги, находился под влиянием научных суждений и получал практические навыки преподавания. Это подготавливало бы достойных заместителей профессорских вакансий, создавало творческую научную атмосферу в академии и положительно влияло на студентов.
н1) Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. С. 177-200.61 Свод проектов 1906 г. § 75-77. Приват-доценты, как и при Уставе
1869 г., могут занимать и штатные кафедры, с возложением соответствующих прав и обязанностей (§ 18), для допущения к чтению лекций прочитать две пробные лекции в присутствии Совета и студентов, в кандидаты богословия — представить еще диссертацию pro venia legendi.
140
i
Богословское образование в нагале XX в. —- полемика, анализ, синтез
Таким образом, дискуссии первых десятилетий XX в. по духовно-учебным и научно-богословским проблемам были очень активны, напряженны и в определенном смысле плодотворны. С одной стороны, был осуществлен синтез опыта, накопленного высшей духовной школой за 110 лет, хотя иногда синтез подменялся механическим соединением высказанных ранее идей, без критической оценки. С другой стороны, была попытка решить актуальные проблемы, поставленные перед духовной школой определенной временной обстановкой (вопросы «настоящего дня»). Эпоха ставила эти вопросы очень энергично, и не было времени для оценки их значимости, поэтому иногда ответ на эти вопросы включался в набор положений, не обусловленных временем. Но высшая духовная школа, несмотря на некоторую увлеченность настроениями времени, актуализировала и в этих решениях свой многолетний опыт, и дала пример его преломления на конкретную церковно-общественную ситуацию. Наконец, в дискуссиях начала XX в. были высказаны новые идеи, нацеленные на перспективу и требующие опытной проверки. Составленный в эти годы «банк идей» так или иначе, непосредственно или конструктивно, может быть использован современной высшей богословской школой.
Следует иметь в виду изменение ситуации. Организационно-административные вопросы, связанные с деятельностью высших духовных школ, приходится решать по-иному, учитывая современные отношения Церкви и государства, общественные настроения. Претерпело изменение поприще служения выпускников высшей духовной школы: кроме основных - пастырского, духовно-педагогического, научно-богословского делания, появилось много других сфер, требующих высших богословских знаний. Но проблемы, связанные с учебной и научной сторонами жизни высшей богословской школы, вопросы о ее месте в церковной жизни и обязанностях перед Церковью, об отношениях со светской наукой невозможно решать без учета исторического пути российской духовной школы, а также многолетнего опыта, удачного и неудачного. Для всестороннего обсуждения и взвешенного решения этих сложных вопросов
141
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
необходим круг компетентных собеседников, способных аналитически осмыслять сущностные вопросы богословского образования и науки. Современный опыт не столь велик, поэтому привлечение лучших идей предшественников как никогда актуально. Многие идеи, высказанные в начале XX в., относятся как раз к этому полезному и очень актуальному наследию.
НАУЧНО-БОГОСЛОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ - ПРОБЛЕМЫ И ПОИСК
(XIX — начало XX в.)
Богословие существовало и развивалось в Русской Православной Церкви с первых лет ее бытия, то есть - с первых веков христианства на Руси. Богословская реакция на проблемы, возникающие в церковной жизни, интеллектуальное осмысление живого церковного опыта давало и вполне конкретные плоды — трактаты, рассуждения и сочинения иных жанров, и вносило вклад в формирование традиции церковного богословия в целом1. Но систематическое развитие богословия, выработка
1 Можно выделить два основных пути развития русского богословия: усвоение догматических, канонических и нравственных основ христианства и богословский ответ на актуальные проблемы, возникающие в церковной жизни (борьба с остатками язычества и ересями, полемика с католичеством и протестантизмом, канонические и литургические вопросы, нравственные проблемы). Первый путь, наиболее значимый в первые века христианства на Руси, дал «Слово о законе, Моисеем данном, и о благодати и истине, Иисусом Христом бывших» митрополита Илариона (X I в.), «Послание пресвитеру Фоме» митрополита Климента Смолятича (XII в.), проповеди и слова епископа Кирилла Туровского (XII в.), «вопрошания» диакона Кирика Новгородца (XII в.) и др., а в более поздние времена сочинения святителя Петра Могилы, «Слово о Царствии Небесном и о славе святых» инока Антония Подольского, «Венец веры кафолической» Симеона Полоцкого (XVII в.) (несмотря на богословские проблемы, связанные с некоторыми из этих сочинений) и др. Второй путь, полу-
1
143
4
методов, формирование исследовательских традиций естественно связывалось с богословским образованием. В русской истории богословское образование исторически оказалось связано с духовными школами, усиленное развитие которых было начато в XVIII в. При структуризации духовно-учебной системы, проведенной в России в начале XIX в. (1808-1814 гг.), была выделена в особую ступень высшая духовная школа (четыре академии), перед которой и была поставлена, среди прочих, конкретная задача — развитие наук, связанных с «духовным служением». Однако на деле процесс развития науки в духовных академиях шел очень медленно. Множество задач, возложенных на академии — учебный процесс, цензура богословской и духовно-нравственной литературы, административное и учебно-методическое руководство духовными семинариями2 - не позволяли заняться впрямую разработкой науки. Возникали проблемы и более высокого уровня. Они стали заметны, когда богословские лекции в академиях начали читать по-новому: постепенно преодолевалась схоластическая отвлеченность и в изложение вводились исторический и критический элементы. К этому процессу отчасти привлекались и студенты. Привычные отвлеченно-формальные темы текущих и курсовых сочинений сменялись иными, представлявшими больший церковно-исторический или церковно-практический интерес2. Но
_____________Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
чивший преимущество в последующие века, дал поучения и слова митрополита Кирилла и епископа Серапиона Владимирского (XIII в.), «Просветителя» преподобного Иосифа Волоцкого, полемические и нравоучительные трактаты преподобного Максима Грека, «Истины показание, к вопросившим о новом учении» преподобного Зиновия Отенского (XVI в.), созданные в полемике с протестантами анонимные трактаты «Об образах, о кресте, хвале Божьей хвале и молитвах святых и о иных артикулах веры Христовой» (XVII в.), «Изложение» Ивана Наседки, «Акос», «Показание истины», «Диалоги грека учителя с некоторым иезуитом» и «Мечец духовный» братьев Лихудов (XVII в.) и др.
2 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. 1814 г. Л. 7 об.-10 об., 14-17,:1Так, в КДА уже с середины 1820-х гг. давались темы для курсо
вых сочинений по истории киевских монастырей и церквей, по изу-
144
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX — наг. XX в.)
появление элементов критического анализа в научных сочинениях преподавателей и студентов вызывало неоднозначную реакцию начальства* 4. Уже в 1825 г., после высказанных претензий в адрес направления преподавания и выпускных работ в академиях, была применена первая мера порицания: ни один из выпускников этого года не получил в тот год магистерской ученой степени5. Членам преподавательских корпораций тогда
чению и описанию древних актов, особенно связанных с историей самой академии, по истории русского и православного в целом богословия («О судьбах богословских наук в России от начала в ней христианства до нашего времени» выпускника 1827 г. Ф. С. Шимксиича, «О символических книгах Восточной Православной Церкви» выпускника того же года В. П. Чеховича)). В 1830-е гг. во всех академиях все большее место получают исследования по конкретным вопросам истории Церкви, истории богослужения, догматического и сравнительного богословия: «Святой равноапостольный Константин и сто эпоха в истории Церкви», «О времени крещения святой княгини Ольги», «Кто был первый митрополит Киевский», «Историческое обозрение богослужебных книг Греко-Российской Церкви», «О первоначальном переводе Священного Писания на славянский язык», «О римской литургии», «Историко-критическое обозрение учения Римской Церкви о главенстве папы», «О благодати по учению святых отцов подвижников» и др.
4Так, ректора КДА архимандрита Иннокентия (Борисова) подозревали в вольномыслии и сочувствии к «неологизму». См.: Малышевский И. Историческая записка о состоянии Киевской Духовной Академии в истекшее пятидесятилетие (далее: Малышевский. Указ, соч.) / / ТКДА. 1869. № 11-12. С. 94-98 . Ср.: Очерк жизни святителя Иннокентия / / Святитель Иннокентий Херсонский (академик Борисов). Избранные сочинения. СПб., 2006. Приложение. С. 495-497.
5 Конкретных претензий не предъявлялось, но было выражено недовольство общим ходом преподавания в академиях. Такое отношение к новопреобразованным академиям отчасти было обусловлено участием преподавателей СПбДА и МДА в переводе Священного Писания на русский язык, который проводился иод эгидой Российского Библейского общества (РБО ). И сам перевод, и вся деятельность РБО вызывала в эти годы критику со стороны некоторых представителей церковной власти, и эта критика распространилась на академии. См.: ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 23. Л. 1-2 об.
L 145
4
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
же было строго указано: в учебном процессе — по классу богословия, герменевтики, церковного красноречия и философии - вернуться к старым «классическим» книгам, а собственные научные изыскания обнародовать, лишь убедившись в их надежности и «безопасности»6. В 1830-1850-х гг. духовные академии и академическое богословие неоднократно подвергались обвинениям в либерализме, «неологизме», протестантизме, что отражалось и на отношении к профессорам академий и их выпускникам, и на судьбе богословских сочинений7. Разумеется, эта критика не была следствием необоснованных интриг.
6 Распоряжение Комиссии духовных училищ (КДУ) 1825 г. объясняли влиянием митрополита Евгения (Болховитинова), который пребывал тогда в Петербурге и 25 февраля 1825 г. был сделан членом КДУ, и сочувствием к этим идеям столичного митрополита Серафима (Глаголевского). См.: Малышевский. Указ. соч. С. 90-92. Ср.: Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд. Вильнюс, 1991. (далее: Флоровский. Указ, соч.) С. 142, 165, 173. По словам святителя Филарета, в 1825 г. «начался обратный ход, от общевразумительного учения к схоластицизму». Это вызвало «в училищах неблагоприятное для учения уныние и недоумение о том, чем недовольно начальство, и чего оно желает от училищ». Ректор СПбДА архимандрит Григорий (Постников) счел необходимым, в качестве оправдательного документа, напечатать лучшие диссертации выпускников VI курса. См.: Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885-1888 (далее: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений). Т. II. С. 209-210; Письмо архимандрита Григория святителю Филарету (Дроздову) от 30 августа 1825 г. //П исьм а духовных и светских лиц к митрополиту Московскому Филарету. Изд. А. Н. Львова. СПб., 1900. С. 85; Некоторые упражнения студентов Санкт-Петербургской Духовной Академии шестого учебного курса. В 4-х частях. СПб., 1825. Символично было в этой апологии сочинение одного из студентов, И. Сиротин- ского, на тему: «Когда и для чего нужен свет разума по отношению к религии». См.: Указ. сб. Ч. IV. С. 273—311.
7 Был уволен в 1835 г. с обвинением «в неправославном направлении» профессор СПбДА протоиерей Герасим Павский (магистр
146
Цаугио-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
В целом в период действия Устава 1808-1814 гг. удалось заложить основы богословской науки, и это открывало перс- пективы ее дальнейшего развития. К середине XIX в. новые проблемы одолевали все ступени духовной школы: сказались недостаточно продуманные принципы проведенной реформы, изменились ситуация и требования, предъявляемые к духовной школе, внутреннее развитие духовного образования поставило новые вопросы. Одной из главных проблем, на решение которой была направлена новая реформа, была скудость в специальных богословских исследованиях. Развитие богословской науки было настоятельно необходимо и для Церкви, и для общества, и для российской науки в целом. Духовная ученость, бывшая доселе по преимуществу сословной обязанностью и достоянием, должна была принять на себя полноту ответственности и за адекватное научно-богословское решение возникающих проблем церковной жизни, и за богословско-катехизическое воспитание общества. В середине 1850-х гг., когда на просвещения и науку было обращено особое внимание, вновь был поставлен вопрос о систематическом развитии богословских исследований и о месте и значении богословия в развившейся и усложнившейся системе наук.
Проблемы были связаны и с влиянием критической бого
СПбДА выпуска 1814 г.), была осуждена за «протестантские тенденции» «Церковная история» бакалавра СПбДА С. И. Краспоцвстова (магистр СПбДА выпуска 1829 г.), покинул СПбДА протоиерей Ф. Ф. Сидонский (магистр СПбДА выпуска 1829 г.), пытавшийся - удачно или нет — провести в своем курсе новую идею «генетического» построения догматического богословия. Обвинения преследовали академии и в дальнейшем: в столичных высших церковных кругах в 1850-х гг. усматривали те же тенденции в лекциях пи истории Церкви профессора МДА А. В. Горского (магистр МДА выпуска 1832 г.), к его большому огорчению.
В 1837 г. вышло постановление Синода, предостерегающее от «худого направления» в преподавании всеобщей истории в академиях: односторонней критики, произвольного философствования, политического направления. См.: Дьяконов К..П. Духовные школы в царствование Николая 1. Сергиев Посад, 1907. С. 284-285.
147
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
словской науки, уходящей в своем критицизме далеко от церковной традиции и вступавшей в противоречие со Священным
Преданием8. Тяжелое положение к середине XIX в. православной богословской науки в целом и отсутствие серьезных исследований по конкретным вопросам не позволяли ни оценить допустимость идей, методов и выводов, ни, тем более, противопоставить недопустимым взглядам компетентную православную позицию. Ситуацию обостряли активизировавшиеся в конце 1850-х гг. контакты Русской Православной Церкви с иными христианскими конфессиями. Интерес, который проявляли их представители к русскому православию, требовал, с одной стороны, богословской точности и осмысления конфессиональных особенностей православия, с другой стороны, более четкого понимания догматических, исторических, канонических, церковно-организационных особенностей других конфессий.
Но российская богословская наука не имела достаточного опыта, чтобы самостоятельно «переводить» эту востребованность на язык науки, то есть, исходя из актуальных проблем церковной жизни, оперативно формулировать конкретные задачи для научных исследований. Слабо работали на начальном этапе и внутренние силы развития, а научный интерес не мог самостоятельно открывать исследовательские перспективы. Таким образом, развитие богословской науки следовало стимулировать искусственно, прилагая особые усилия и вырабатывая специальные методы.
Преподавательские корпорации, анализируя путь, пройденный отечественной духовной школой, приходили к печаль
8 В данном контексте имеется в виду не научно-критические методы, которые богословие использует как всякая наука, но направление, возникшее в среде протестантских ученых в XIX в., ставящее под сомнение не только датировки священных книг и их традиционную атрибуцию, но и богодухновенность Библии, предлагавшее пересмотреть основополагающие моменты истории христианской Церкви. Это направление, внесшее определенные новые методы и идеи, в дальнейшем используемые православным и католическим богословием, часто руководствовалось антицерковными и нехристианскими принципами
148
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX — наг. XX в.)
ным выводам. «Увлекшись полемикой с западными вероисповеданиями, — полемикой, имевшей в свое время самое жизненное значение», высшая духовная школа распространила этот «демонстративный метод со всем его многосложным механизмом логических определений, подразделений, доводов и ир.» и на внутреннее, научное развитие и уяснение истин веры'. Но цель научного богословия — в разъяснении внутреннего смысла и значения Божественного Откровения во всех его аспектах и проявлениях. Кроме того, новое время, с его новыми требованиями и новыми запросами по отношению к науке во всех ее отраслях, уже не довольствуется простым внешним сопоставлением фактов и логически-формальными доводами. Новый подход к науке, в том числе к богословской, требует критического анализа, проникающего вглубь предмета, тщательного и основательного изучения первоисточников.
Новый Устав духовных академий, утвержденный в 1869 г., ставил развитие науки в центр духовно-академической жизни. С одной стороны, был сделан акцент на специализации преподавателей по кафедрам, студентов по отделениям и группам наук. С другой стороны, академиям была предоставлена возможность стимулировать развитие науки и распространять ее достижения. Одним из таких стимулов было жесткое соединение преподавательских должностей с учеными степенями: ординарный профессор должен был иметь степень доктора богословия, экстраординарный профессор и доцент — степень магистра богословия. При этом богословская наука выводилась из затвора: представленные на соискание ученой степени доктора и магистра диссертации после одобрения Советом академии должны были непременно печататься и публично защищаться. Профессора, занимавшие ординарные кафедры на момент введения Устава, должны были в трехлетний срок представить сочинения на соискание докторских степеней. Прочие * Ч.
''Рождественский В. Об изучении Священного Писания в виду современных потребностей жизни и богословской науки//ХЧ. 1869.Ч. II. № 11. С. 786.
149
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
преподаватели, не имевшие степени магистра богословия, обязывались в такой же срок представить магистерские диссертации'0. Таким образом, Устав побуждал членов духовно-академических корпораций не только усилить научную деятельность, но в скором времени представить на аттестацию ее конкретные результаты. Конечно, провести серьезное исследование за два- три года было практически невозможно. Надежды возлагались на то, что старшие преподаватели академий занимались научными исследованиями в академическом затворе, и теперь остается лишь предъявить результаты. Кое-какие результаты были, но некоторые из них вызывали сомнения в своей адекватности и требовали проверки. Но времени на осмысление и проверку не оставалось, и приходилось предъявлять рабочие выводы, которые, естественно, могли содержать ошибки. Первые после- реформенные годы подтвердили эту опасность.
В ноябре 1872 г. в Совет КДА была представлена диссертация ректора Академии архимандрита Филарета (Филаретова) «Происхождение книги Иова»" . Совет признал диссертацию достойной степени доктора богословия, однако митрополит Киевский Арсений (Москвин), не отрицая научного достоинства работы в филологическом отношении, счел тон и выводы автора не соответствующими богодухновенному характеру Священного Писания. Необоснованным показалось изменение датировки книги, употребление слов и выражений, «неприличных и несвойственных боговдохновенному характеру» обсуждаемой книги — «комбинация, адвокатура, драма, прогресс, рельеф», манера «изображать исторические факты». Были и более существенные претензии: увлечение автора открытиями «отрицательной германской школы» библеистики, не предававшей большого значения древним преданиям — иудейскому и христианскому. Все это, по мнению преосвященного Арсения, 10 *
10 Устав духовных академий, Высочайше утвержденный 30 апреля 1869 г. § 46-48, 144-147, 169-171, 177-180.
" Сочинение было опубликовано в академическом журнале: ТКДА. 1872. № 3, 5, 8, 9 и отдельно.
1 5 0
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX — наг. XX в.)
привело диссертанта к противоречиям с православным взглядом. Как пример подобного противоречия, преосвященный Арсений указывал на неверный перевод классического места (Иов 19.25-27): архимандрит Филарет, вслед за новыми западными экзегетами, понимал эти стихи как ожидание Иова «во плоти» увидеть Бога защитника на земле (когда Он «на земле явится»), а не в традициях древней Церкви, как проявление веры Иова в воскресение плоти и будущую жизнь (когда «восторжествует над тлением»). Митрополит Арсений предлагал удостоить ректора Академии степени доктора богословия, но не допускать до публичной защиты, которая послужит соблазном для людей малосведущих и молодых ученых12. Святейший Синод поручил архимандриту Филарету переработать диссертацию, однако диссертация так и не была защищена".
В конце 1872 г. с подобной сложностью встретилась и столичная академия. Ректор протоиерей Иоанн Леонтьевич Янышев представил докторскую диссертацию «Состояние учения о совести, свободе и благодати и попытки к разъяснению згою
12 В качестве подобного неверного отношения к обсуждаемой работе преосвященный Арсений приводил отзыв доцента А. А. Олес- ницкого, рекомендующий молодым ученым-богословам выбранный архимандритом Филаретом метод исследования (ПЗС КДА за 1873 1874 уч. г. Киев, 1874. С. 214-227).
"Указ Святейшего Синода от 12 января 1874 г. Архимандрит Филарет, а с июля 1874 г. епископ Уманский, викарий Киевской епархии, пытался написать новое сочинение на докторскую степень «Происхождение книги Екклезиаст» (ТКДА. 1874. № 10; 1875. № 4, 5), но оно не было окончено.
Митрополит Киевский и Галицкий Арсений ( М о с к в и н )
Он «устоит над прахом», или
151
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
учения», состоявшую в критическом разборе определений этих понятий у преподобного Иоанна Дамаскина, в патриарших грамотах, «Православном исповедании» митрополита Петра Мо гилы, Катехизисе, а также в современных догматических руно водствах. Автор приходил к печальному выводу — «достаточно определенного учения» эти книги не содержат, - и пытался составить новые определения. Критический вывод работы и «несовпадение» основных мыслей диссертации с существующими воззрениями Православной Церкви относительно символических книг вызвали смущение членов богословского отделения14. Совет СПбДА, ссылаясь на недостаточную компетентность для решения вопроса о символических книгах Православной Церкви, представил сочинение о. Ректора на рассмотрение Синода. Сочинение было послано на экспертизу в МДА, после чего отклонено15.
Докторская диссертация ректора Петербургской семинарии архимандрита Хрисанфа (Ретивцева) — 1-й том «Истории древних религий», — представленная в начале 1873 г., хотя и была рекомендована к публичной защите, но подверглась строгой критике рецензента. Преподаватель основного богословия доцент Н. П. Рождественский, не отрицая достоинств сочинения и блестящего изложения, находил в работе слишком сильную зависимость от западных сочинений, представлявших
14 Участник описываемых событий профессор А. Л. Катанский в своих воспоминаниях замечал, что все идеи протоиерея Иоанна, как богословские, так и учебные, непросто воспринимались старыми членами академической корпорации, ибо были новы и неожиданны (Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора (1847-1915) (далее: Катанский. Воспоминания) / / ХЧ. 1916. № 3, С. 297-299).
,5ОР РГБ. Ф. 78. К. 12. Д. 32. Л. 1 -7 . В 1888 г. учеником протоиерея И. Л. Янышева профессором КазДА А. Ф. Гусевым были изданы сохранившиеся лекции о. Иоанна по нравственному богословию «Православное христианское учение о нравственности», куда вошла основная часть диссертации, существенно переработанная. В 1899 i протоиерей Иоанн был удостоен за этот труд докторской степени, по правилам Устава 1884 г., то есть без публичной защиты.
152
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
нетрадиционный взгляд на развитие религий и место христианства в этом процессе. Столичный митрополит Исидор (Никольский) счел, что критические замечания в адрес богословского сочинения ректора семинарии, высказанные публично, дискредитируют академическую науку, и защита была отменена. Архимандрит Хрисанф получил докторскую степень лишь через пять лет, в 1878 г., уже будучи епископом Нижегородским"’.
Весной 1873 г. в КазДА возникла еще одна проблема, связанная с научными исследованиями.Докторское сочинение профессора П. В. Знаменского «Приходское духовенство в России со времени реформы Петра», одобренное Советом академии, вызвало недовольство архиепископа Казанского Антония (Амфитеатрова). Преосвященный Антоний не приветствовал новый метод церковно-исторического исследования, примененный автором: полное беспристрастие в изложении фактов, почерпнутых из источников. И хотя профессор II. В. Знаменский был допущен к докторскому диспуту и утвержден в степени доктора богословия* 17, вопрос был поставлен так: допустимо ли критическое исследование проблемных сторон церковной жизни без особых - апологетических — пояснений?
Отверженные диссертации 1872 1873 i t . вызнали в академических и околоакадемических кругах дискуссию о требованиях, предъявляемых к сочинениям, представляемым на высшую богословскую степень, и о богословской науке в целом. Эта дискуссия позволила сформулировать несколько вопросов,
" По представлению КазДА, за все три тома «Истории древних религий» (Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916. № 3. С. 299 300).
17 ПЗС КазДА за 1873 г. Казань, 1874. С. 16-17, 73-85, 135-146, 196.
1534
связанных с научно-богословскими исследованиями. 1) Определение поприща богословской науки: какие темы могут и должны предлагаться для научно-богословского изучения?2) Выбор методов богословских исследований: любые ли методы, выработанные гуманитарной наукой, могут применяться в богословском исследовании, а если снять ограничение с их применения, то как должны интерпретироваться полученные результаты? 3) Вопрос о степени научной беспристрастности и научного критицизма. 4) Популяризация научно-богословских исследований: должны ли все их результаты печататься и защищаться публично, или же требуется некоторая «дисциплина аркана» (disciplina arcana), оберегающая неподготовленных лиц от возможного соблазна? Последний вопрос вызывал наиболее горячие споры в контексте обсуждения публичных защит богословских диссертаций. Противники публичных защит, ссылаясь на опыт Древней Церкви, разделявшей учение огласительное, начальное, и тайноводственное, сокровенное, предлагали разделить популярные лекции и научное изучение богословских и церковно-исторических проблем.
С особой значимостью все эти вопросы вставали при оценке богословских диссертаций, ибо утверждение их авторов в ученой богословской степени высшей церковной властью придавало выводам особый авторитет. Исследователи-богословы пытались сформулировать позицию богословской науки. Любая наука, в том числе богословская, лишь ищет истину, открывая ее в каждом, даже самом добросовестном, исследовании лишь отчасти. Поэтому следует признать за научным богословием право на более или менее удачные опыты18. Не следует однозначно отрицать и неожиданные результаты, противоречащие традиционным взглядам, ибо есть область неизменных догматических и коренных нравственных истин, а есть соприкосновенная с ней, допускающая изменения во времени область древних взглядов исторического, археологического, экзегетического, канонического характера. Именно эта проблемная
,кЦОВ. 1874. № 16. С. 1-3.
_____________H. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
154
Наугно-богословские исследования - проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
область, где Церковь встречается с историко-культурной реальностью, является сферой научно-богословских исследований. И в этой области существует авторитет Церкви, ее духовный опыт, вескость древних утверждений, но в этой области возможны критический подход, корректировка взглядов и положений. Богословие, изучая Божественное Откровение в мире, в исторических условиях его проявления и относительными силами человеческими, выражает познаваемое в научных категориях, поэтому имеет все научные права и обязанности.
Однако вопрос о соответствии академической науки православной традиции был очень непрост. Русская богословская наука формировалась под сильным влиянием западной богословской литературы, что наложило определенный отпечаток не только на терминологию и формы изложения, но и внесло некоторые элементы, несвойственные восточной богословской традиции. Но многие вопросы и не могли быть просто и непосредственно проверены древней богословской традицией, ибо были сформулированы в более поздние времена. Научное исследование подразумевало беспристрастность автора и право ставить любые вопросы, если они содействуют выяснению истины, но этим нравом надо было учиться пользоваться. Методы современной церковной науки постепенно вырабатывались, но очень непросто.
Перед богословской наукой стояла еще одна проблема - умение применять научные достижения при решении актуальных проблем церковной жизни. Иногда это пожелание формулировалось и в более «жесткой» форме: занятия «чистой», отвлеченной наукой не приносят пользы Церкви. При проведении новой реформы высшей духовной школы в 1884 г.|!' были сформулированы главные принципы развития богословия: сочетание научности с церковно-практической направленностью, преодоление секулярной настроенности и возвращение духовной школе традиций истинно церковной школы. Но применение этих принципов на практике было не столь просто. 11
11 Устав православных духовных академий, Высочайше утвержденный 20 апреля 1884 г. / / 3 ПСЗ. Т. IV. № 2160.
155
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
В 1885-1886 гг. с большим трудом прошло утверждение в Святейшем Синоде магистерской диссертации выпускника КазДАА. И. Алмазова «История и чино- последование крещения и миропомазания», написанной под руководством Н. Ф. Красносельцева. Смущали некоторые неожиданные выводы работы, ломавшие привычные взгляды на историю этих таинств20 . Неудачей окончились две попытки экстраординарного профессора МДА Н. Ф. Каптерева защитить докторскую диссертацию, связанную с исследованием древ
них форм перстосложения21. Труды Каптерева были признаваемы Советом МДА достойными докторской степени, но получали отрицательный отзыв в Святейшем Синоде22. Наконец,
Профессор МДА Николай Федорович Каптерев
20 А. И. Алмазов, в те годы преподаватель Симбирской ДС, писал 20 марта 1886 г.: «Через два месяца будет год, как я защитил сочинение... синодского решения о моем труде все нет, как нет... Прихожу к тому несомненному заключению, что тут проволочка недаром, По всей вероятности, направление моего исследования не подходит к духу настоящего времени... Я писал так, как говорит мне историческая правда, а не как требовали житейские выгоды». Диссертант и его руководитель просили о ходатайстве члена Учебного комитета И. В. Помяловского, что, возможно, отчасти способствовало успеху (ОР РНБ Ф. 608. On. 1. Д. 513. Л. 20-22; Там же. Д. 892. Л. 5-6 об.)
21 Характер отношений России к православному Востоку в XVI- XVII столетиях. М., 1885; Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. М., 1887. См. положительные рецензии на последнюю работу: РМ. 1888. Кн. 2. Отд. 3. С. 71-74; ИВ 1888. № 6. С. 701-704. За последнее сочинение Каптереву была присуждена малая Уваровская премия, по отзыву П. В. Знаменского (ЖМНП. С. 260. 1888. Ноябрь. Отд. 4. С. 2-10).
22 Ситуация была усугублена полемикой между Н. Ф. Каптеревым
1 5 6
Ноугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX наг. XX в.)
третья диссертация Н. Ф. Каитере- ва была удостоена в 1891 г. степени доктора церковной истории21.
16 августа 1888 г. Святейшим Синодом был издан указ, подтверждающий духовным цензурным комитетам и Советам духовных академий, чтобы в разрешаемых ими к печатанию книгах и ученых исследованиях, имеющих отношение к расколу, не содержалось «неправильных мнений и ошибочных суждений»21. Но проблемы имели отношение не только к старообрядческой теме. В феврале 1889 г. указом Синода в Советы академий были разосланы «Правила для рассмотрения сочинений, представляемых на соискание ученых богословских степеней»2,5.
Митрополит Санкт- Петербургский и Новгородский
Исидор (Никольский)
и Н. И. Субботиным. Последний в своем журнале «Братское слово» и вличных письмах к К. П. Победоносцеву и архиепископу Серг ию (Ляпидевскому) указывал на церковно-практическую опасность сочинений Н. Ф. Каптерева: недоумение, которое они порождают и православном народе, и использование их старообрялиами в полемике с православными (Братское слово. 1887. Т. 1. С. 468-475, 710; Субботин //. И. Переписка профессора Н. И. Субботина, преимущественно неизданная, как материал для истории раскола и отношения к нему православия (1865-1904 гг.) Изд., ввел, и комм, В. С. Маркова / / Чтения в Обще- стве истории и древностей российских. 1915. Кн. 1 (252). С. 479 48.')).
г'КаптеревН. Ф. Сношения Иерусалимского матриарха Лоснфся с русским правительством 1669-1707 it . М., 1891.
^Основанием для указа послужило заявление съезда иротиворас- кольнических миссионеров 1887 г. в Москве о том, что идеи, высказываемые в ученых сочинениях последних лет, используются (шсколышками для своих целей, против православной ис тины и ее защитников. Имелись в виду, в числе прочих, сочинения Н. Ф. Каптерева.
“ Правила были составлены в Учебном комитете и утверждены Синодом, но традиционно связываются с именем обер-прокурора
1 5 7
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович
Победоносцев
«Правила» обращали внимание на недостатки богословских диссертаций, и выдвигали два требования: 1) верность православию и 2) соответствие темы и содержания искомой степени. Верность православию должна быть засвидетельствована отсутствием каких- либо «смущений» для православного читателя* 26, а также такой полнотой и определенностью изложения, «при которой не оставалось бы сомнения в истинности православного учения», и точностью выражений, «которые устраняли бы всякий повод к ложным вопросам»27. Тема и содержание должны были
К. П. Победоносцева. Действительно, главные идеи «Правил» созвучны линии К. П. Победоносцева, но следует иметь в виду, что и многие члены Синода, в том числе первенствующий член Синода митрополит Исидор (Никольский), высказывали в эти годы такие же опасения относительно некоторых тенденций в богословской науке. См. в журналах и протоколах заседаний Советов, например: Журналы заседаний Совета СПбДА за 1888-1889 уч. г. СПб., 1894. С. 123-130; отдельное издание: Правила для рассмотрения сочинений, представляемых на соискание ученых богословских степеней. СПб., 1889; ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 3237. Л. 1 -8).
26 То есть сочинения должны быть «согласны с духом и учением православной Церкви», не иметь неправильных взглядов на «происхождение, характер и значение тех или других церковных учреждений и памятников, преданий, обычаев»; не отрицать, «хотя бы и с видимостью научных оснований», тех событий, к которым «церковное предание и народное верование» привыкли относиться как к достоверным; рассматривать события священной истории и действия священных лиц с должным благоговением и т.д. См.: Журналы заседаний Совета СПбДА за 1888-1889 уч. г. СПб., 1894. С. 126, 127,128.
27 Ж ЗС СПбДА за 1888-1889 уч. г. СПб., 1894. С. 125.
1 5 8
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
отвечать богословской ученой степени, то есть разрабатывать вопросы богословские, а не имеющие лишь «отдаленное отношение к богословию», использовать соответствующие методы и делать богословские выводы. При этом указывалось, что целью ограничений не является стеснение «ученой изыскательно- сти» академий в богословии или общеобразовательных науках: все благонамеренные труды будут ценимы по достоинству.
«Правила» не содержали ничего принципиально нового", но подтверждали существование двух серьезных проблем в области научно-богословских исследований: определение самой области богословских исследований и соотнесение свободы научных исследований и церковной ответственности автора.
Ученые духовных академий по-разному оценили Правила 1889 г. Одни увидели в этом губительное для науки стеснение свободы исследований и узаконенную подчиненность интересов богословской науки сиюминутным интересам современной церковной жизни и опасности «смутить невежество»". 28
28 Проблемы с богословскими диссертациями возникали и в 1870-х гг., а архиепископ Макарий (Булгаков) в ревизорском отчете в 1875 г. обращал внимание на «гуманитарность» тем диссертаций на богословские степени. См.: РГИА. Ф.802. Оп. 9. 1874. Д. 18. Л. 14, 20 об.; Протоколы заседаний Совета КазДА за 1875 г. Казань, 1875. С. 23,69; Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии после ее преобразования. 1870-1892. Казань, 1892. С. 218-219.
в Высказывались опасения, что такие ограничения приведут к тому, что всякий, кто хочет получить ученую степень, будет стараться взять для исследования «безопасную» тему, избежать сомнительных частных мнений, смелых гипотез, неосторожных выражений. Отечественная богословская наука будет загромождена «периферийными» работами - биографиями церковных деятелей, изданиями актов, документов и историко-археологическими исследованиями. Основные богословские темы, важнейшие и более тонкие, в которых, но их новизне и неразработанности, естественны перечисленные промахи, будут вечной terra incognita. В дальнейшем эта точка зрения высказывалась в заседаниях V отдела Предсоборного Присутствия. См.: Журналы Предсоборного Присутствия. Т. IV. С. 45-47; Лебедев А. П. Слепые вожди. М„ 1907. С. 43-46 .
1 5 9
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Другие отнеслись к изданному документу с пониманием: церковная ответственность иерархии дает им возможность пред видеть опасность там, где ее не видит увлеченный своими исследованиями и промежуточными научными результатами исследователь. Третьих отмеченные «Правилами» проблемы подвигли на размышления: 1) как разделить собственно научное исследование, обязанное быть свободным и бескомпромиссным, и церковно-апологетическую деятельность? 2) следует ли научным исследованиям придавать статус «незаслуженной ими общецерковной силы»30? «Правила» 1889 г., назвав проблемы, их не разрешили: и после 1889 г. коллизии возникали вновь.
В 1894 г. возникли проблемы с магистерской диссертацией и.д. доцента СПбДА Е. П. Аквилонова, посвященной поиску «научного определения» Церкви31. В работе автор ставил под сомнение полноценность катехизического определения Церкви
30 Глубоковский Н. Н. [Вафинский Н .] К вопросу о нуждах духовно-академического образования / / Странник. 1897. № 8. (далее: Во- финский Н. Указ соч.) С. 532. Через 10 лет Н. Н. Глубоковский оценивал Правила 1889 г. более резко, называя их «пагубным ярмом» для развития богословской науки (Глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы (средней и высшей) и об Учебном комитете при Святейшем Синоде. СПб., 1907. С. 139). Но в дальнейшем профессор относился к ограничительным мерам церковной власти с большим пониманием.
31 Аквилонов Е. П. Церковь, научные определения Церкви и апостольское учение о ней как Теле Христовом. СПб., 1894. См. об этой диссертации и ее дальнейшей судьбе: Магистерский коллоквиум в Санкт-Петербургской Духовной Академии и доклад доцента Евгения Аквилонова. СПб., 1894. С. 10-12, 15-16; Катанский. Воспоминания / / ХЧ. 1916, № 5 -6 . С. 513-515; Беляев А Д. Дневник за 1895 г. / / ОР РГБ. Ф. 26. К. 2. Д. 3. Л. 2 2 -22 об.; Флоровский. Указ. соч. С. 419-421; Воронов Л., прот. Догматическое богословие. С. 109-118; Владимир (Сабодан), митр. Экклезиология в отечественном богословии. Киев, 1997. С. 203-228. Кроме того, см.; Сухова Н. Ю. Становление и развитие богословской науки в России: проблемы и пути их решения (вторая половина XIX — начало XX в.) / / Материалы Ежегодной Бого словской конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 2007 г. М., 2007. С.
160
как «общества верующих» и предлагал новое определение Церкви ■—«всмысле Богочеловеческого организма истинной жизни», что, по его мнению, есть выражение апостольского учения о Церкви как теле Христовом (Еф. 1,22-23), как наиболее точного, полноценного, основанного на библейском тексте.Е. II. Аквилонов не был утвержден Святейшим Синодом в искомой степени, и в качестве обоснования был приведен ряд замечании: уклонение от традиционного право- славно-богословского воззрения на Церковь, рационализм, использование неоправданно усложненных богословских категорий. Коллеги Е. П. Аквилонова но академии признавали, что диссертация имела слабые места, сама тема - «научные определения Церкви» — была не совсем корректно сформулирована, а заявленная цель — дать научное определение Церкви, взамен катехизическому — не была достигнута. 11о в процессе обсуждения вновь был поставлен общий вопрос: допустима ли попытка пересмотра традиционных богословских определений, и является ли это предметом занятий богословской науки*2 ?
Эта ситуация, усугубленная некоторыми другими событиями, вызвала новое определение Святейшего Синода о диссертациях-на богословские ученые степени. Определение содержало три основных положения: 1) следует проводить исследования, основываясь на Священном Писании и святоотеческом
12 Е. П. Аквилонов к 1896 г. значительно переделал работу, с бо- •кч'точным названием и жанром — «Новозаветное учение о Церкви. Опыт догматико-экзегетического исследования» ~ и стал магистром 1:1499 г. Но вопрос о постановке гем для богословских исследований и определении границ самих исследований оставался актуальным.
Нвугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX — наг. XX в.)
Профессор СПбДА священник Евгений Петрович Аквилонов
161
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
учении, а не подвергать рациональному рассмотрению предметы веры, основываясь на ученых взглядах протестантов; 2) писать чистым литературным русским языком, не злоупотребляя иностранной терминологией; 3) цитаты из святоотеческих творений приводить по подлинникам или русским переводам, а не «из немецких книг». Члены корпораций духовных академий, соглашаясь с правильностью последних двух требований, ставили под сомнение первое; насколько возможно научное исследование без рациональных рассуждений и каким образом без этого раскрывать предметы веры, если не сводить раскрытие к схоластическому обычаю ограничивать работу подбором библейских и святоотеческих цитат33.
Определение 1895 г., как и «Правила» 1889 г., не сняло проблем, связанных с научно-богословскими исследованиями и их научной аттестацией. Богословская наука продолжала развиваться, новые исследования ставили новые вопросы и вызывали дискуссии. В 1897 г. профессор Священного Писания СПбДА Н. Н. Глубоковский попытался выделить и сформулировать «болевую точку» системы научно-богословской аттестации3* . Если научные сочинения — лишь ступеньки лестницы, ведущей к познанию истины, и выражают истину далеко не совершенно, то не следует им придавать «общеобязательной авторитетности». Утверждение же докторских и магистерских степеней Святейшим Синодом, по мнению профессора Глубо- ковского, налагает на эти научные труды печать высшей обязательности в глазах читателей. В этом автор видит две проблемы для богословской науки; тормозится здоровая научная критика исследований, «освященных» печатью синодского признания, и закрывается путь новым исследованиям, не претендующим на подобное совершенство. Н. Н. Глубоковский предлагал
Определение Святейшего Синода от 16 января — 3 февраля 1895 г. (№ 112) «о сочинениях на ученые богословские степени» (Циркуляр Учебного комитета. 1895. № 15. С. 3-4; РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1895 г. Д. 8. Л. 2-3; Беляев А. Д. Дневник за 1895 г. / / ОР РГБ. Ф. 26. К. 2.Д. 3. Л. 21 об.)
:и Вафинский Н. Указ. соч. / / Странник. 1897. № 8. С. 519-540.
1 6 2
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX — наг. XX в.)
восстановить истинную иерархию научных и общецерковных ценностей: ответственность за научную оценку работы полностью передать академиям, право же утверждения в кандидатских и магистерских степенях передать епархиальному преосвященному, а относительно докторских степеней предоставить ему право, в случае несогласия с Советом, выходить на благоусмотрение Синода1'5. Н. Н. Глубоковский касался и второго больного вопроса - определения поприща научно-богословских исследований - и настаивал: специальные богословские исследования в традиционно-гуманитарной области обогатят гуманитарные науки, дадут более адекватные ответы на те или иные научные вопросы®. Идеи профессора Глубоковского были спорны. Автор и заявлял их в качестве частных мнений, требующих подробного обсуждения.
Через два года коллега Н. Н. Глубоковского по академии профессор церковной истории В. В. Болотов высказал свою точку зрения на значимость и статус научно-богословских исследований. При публикации своих знаменитых «Тезисов о
:й Причем в этом вопросе он видит соответствие своих мыслей и ♦Правилам» 1889 г.: «не стеснять ученую изыскательность духовных академий и не поставлять каких-либо преград благонамеренным исследованиям в области богословской науки или в предметах общего образования» (Правила 1889 г. С. 8).
‘' Таким образом, желательно осуществление на практике § 170 Устава 1869 г. и § 168 Устава 1884 г., разрешающих академиям искать способы «к возвышению уровня» не только всех областей богословия, но «равно и прочих наук с тех сторон, которыми они соприкасаются с христианством и богословской ученостию».
Профессор СПбДА Николай Никанорович Глубоковский
1 6 3
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Felioque» он предлагал «тройную градацию» богословских утверждений: догмат, теологумен (Qeolo- уобцеуоу) и частное богословское мнение. Первые принимаются со- борно и общеобязательны для богословских воззрений всех членов Церкви; вторые высказываются одним лицом, но обладающим особым авторитетом для Церкви (святые отцы и учители Церкви), третьи формулируются частными лицами, которые «не более как только богословы» (курсив В. В. Болотова)37. Поэтому в выборе своих мнений богослов свободен, но не безусловно — эти мнения не долж
ны входить в противоречие с догматами. Частные же богословские мнения могут критиковаться и отвергаться, что подразумевает научное исследование и поиск истины относительными силами человеческими, а в исследовательской практике это означает не только возможность, но и неизбежность научнобогословской полемики, критической оценки всех результатов и достижений.
Итогом этих дискуссий и размышлений ученых-богосло- вов над результатами своей научной деятельности и самим исследовательским процессом было выделение основных проблем, требующих осмысления и работы: 1) определение места богословия в системе наук, границ богословской науки и ее внутренней структуры; 2) разработка методологии богословской науки в целом, допустимость включения в нее методов других наук, осмысление специфики методов исследований в 17
Профессор СПбДА Василий Васильевич Болотов
17 Болотов В. В. Тезисы о Filioque / / Бриллиантов А. И. К вопросу о философии Эригены и др. Труды по истории Древней Церкви. СПб, 2006. С. 336-343.
164
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
конкретных областях научного богословия; 3) совершенствование системы научно-богословской аттестации, выработка критериев и определение статуса научно-богословских исследований; 4) взаимосвязь теоретического богословия и актуальных проблем церковной жизни.
Высшая церковная власть, в свою очередь, оценивала пути и перспективы развития богословских исследований. Указы Синода, обращавшие внимание на те или иные проблемы богословской науки, издавались весьма часто. Но они добавляли мало нового и в осмысление проблем научно-богословских исследований, и в установившийся процесс их аттестации, а были скорее дисциплинарно-регламентирующими ш.
Определенная новизна появилась в начале XX в. Церковно-общественный подъем этих лет привел к постановке новых вопросов в церковной жизни, и богословие неизбежно должно было включить эти вопросы в свою палитру w. Во-первых, многие проблемы церковной жизни требовали оценки с догматической, канонической, церковно-исторической, историко-литургической точек зрения. Во-вторых, сама церковная жизнь с ее новыми проблемами, вопросами, чертами и тенденциями требовала богословского исследования, анализа и осмысления. Это было тем требованием, которое всегда предъявлялось Церковью к своей науке — богословие должно постоянно развиваться и быть готовым дать ответ на тот или иной вопрос, выработать церковно-богословскую позицию по той или иной теме.
Это привело к трем выводам. 1) Тематика богословских исследований должна быть расширена, и на нее не должны накладываться искусственные ограничения, обусловленные косвенными соображениями о «небогословских» или слишком * *
Указы Святейшего Синода: о правилах выбора тем лля сочинений, представляемых на соискание ученых степеней, от 11 мая 1899 г.; о порядке представления сочинений на соискание ученых степеней от 5 мая 1900 г.
* 0 проблемах высшей духовной школы см. статью настоящего сЦшика «Богословское образование в России в начале XX в. - борьба идей».
165
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
«современных» вопросах. Тесное взаимодействие богословия с другими науками — как гуманитарными, так и естественными — должно быть всячески развиваемо. Это ведет, с одной стороны, к взаимообогащению открытиями и результатами исследований, методами и приемами исследований, научными взглядами и суждениями. С другой стороны, лишь это позволяет найти ответы на многие вопросы, как частной личности, так и человеческого рода в целом, рассмотреть с богословских позиций социальную и гуманитарную тематику. Наконец, лишь в таком взаимодействии могут быть уточнены место, значение и специфика каждой области науки, в том числе и богословия, в системе наук. 2) Н еобходимо оперативное введение актуальных проблем церковной жизни, вопросов, возникающих в межконфессиональных богословских диалогах, в миссионерской деятельности в процессе научно-богословских исследований. Только это позволит компетентно использовать для решения этих вопросов многовековой опыт церковной науки и дать своевременное и обоснованное решение. С другой стороны, это позволит богословской науке получать живительную «подпитку» для своего развития. 3) Фрагментарные исследования, усилия одиночек способствуют развитию науки, но не могут обусловить ее нормального систематического развития. Для этого нужна последовательная, централизованная, отчасти планируемая научная богословская работа, направленная на развитие всех областей богословия и учитывающая единство и целостность богословской науки. Лишь при таком подходе возможно выделение средств и сил на развитие приоритетных направлений богословской науки, введение современных методов, систематические контакты и научное взаимодействие с зарубежной богословской и гуманитарной наукой, разработка и реализация значительных научных проектов, организация научных экспедиций.
Некоторые изменения произошли и в системе научно-богословской аттестации. В конце 1905 г., учитывая экстремальную ситуация в духовно-учебной системе, Святейший Синод ввел для духовных академий Временные правила, корректиру-
166
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
ющие действующий Устав'10 11. Несмотря на общую политизированность правил, они содержали пункт, имеющий отношение к научным исследованиям: Советам академий предоставлялось право не только присуждения, но и окончательного утверждения в ученых богословских степенях. Но правила, не оправдав себя, были отменены в 1909 г., и система научной аттестации приняла свой старый вид.
В 1909 г., в заседаниях комиссии, созданной при Святейшем Синоде для разработки проекта нового Устава духовных академий, вопрос о централизации научно-богословской деятельности был поставлен с особой остротой41. Члены комиссии выдвинули предложение об учреждении при Святейшем Синоде Академии богословских наук или Учено-богословского Совета, и даже разработали проект его Устава12. Это учреждение могло бы, по мнению некоторых членов Комиссии, исполнять и роль Высшей научно-богословской аттестационной комиссии41. При обсуждении проекта проявились вновь
10 Определение Святейшего Синода за № 6081 от 26 ноября 1905 г. (РГИА. Ф. 796. Оп. 186. 1 отд., 2 ст. Д. 486. Л. 1 1 об.)
41 Это было обусловлено, с одной стороной, общими выводами о необходимости систематического развития богословской науки. С другой стороны, эпоха частичной «децентрализации*, определенная Временными правилами, привела к опасным явлениям, которые были обнаружены при ревизии 1908 г. и насторожили и преосвященных ревизоров, и высшую церковную власть.
12 Журналы учрежденной при Святейшем Синоде Комиссии для выработки проекта нового Устава духовных академий. СПб., 1909. С. 12; Приложение. С. 1-7.
11 Эта проблема — отсутствие особого органа при Святейшем Синоде, занимающегося вопросами богословской науки обсуждалась в духовно-учебных кулуарах и особых комитетах при Святейшем Синоде с 1860-х гг. Составлялись проекты Ученою совета или Ученого комитета, подобно Ученому комитету при Министерстве народною Просвещения. Тогда же было высказано сомнение: можно ли считать Совет, даже состоящий из «лиц, особенно знаменитых ду- ховною ученостию*, более компетентным решать вопросы церковной науки, нежели «высший собор иерархов»? (Проекты преобразования
167
i
специфические проблемы богословской науки, сформулированные в 1870-1890-е гг. Будет ли проектируемый орган иметь право принятия окончательного решения о присуждении ученых степеней, о верности и полноценности решения богословских проблем? Если да — то кто компетентен это решать - ученые, архиереи? В проекте, составленном в результате обсуждения, Совету отводилась лишь совещательная роль при Синоде, хотя и с весомым списком полномочий* 44. Но проектируемый Ученый Совет так и не получил реального существования.
Следует отметить, что работа этой Комиссии 1909 г. была очень сложной — практически каждый вопрос вызывал дискуссию, при этом единые решения чаще всего найти не удавалось. Однако единственное, в чем все члены Комиссии сходились - это важность для академий их научно-богословской задачи. Поэтому Устав духовных академий, введенный в 1910-1911 гг.,
центрального управления духовными училищами, оставшиеся от 1862 года / / Приб ЦВед. 1908. № 2. С. 68-81; Гиляров-Платонов НЛ. Проект преобразования центрального духовно-учебного управления (ок. 1866 г.) (О Р РНБ. Ф. 847 (Н . В. Шаховской). On. 1. Д. 309. Л. 9)).
44 В проекте предполагалась работа Совета по четырем основным направлениям: 1) руководство длительными систематическими учеными работами (переводами и толкованиями Священного Писания, творений святых отцов и учителей Церкви, богослужебных книг, источников церковного права и т.д.) (п. 2 а); 2) рассмотрение недоуменных актуальных церковно-практических вопросов, требующих научно-богословской компетенции (п. 2 б); 3) рассмотрение научно-богословских сочинений, как представляемых на премии и конкурсы, так и привлекших особое внимание церковной власти, а также диссертаций на ученые богословские степени (п. 2 в, г, д); 4) обсуждение важнейших вопросов, касающихся высшего богословского образования (п. 2 е, ж). Кроме того, Ученый Совет, по мнению Комиссии, должен был иметь право самостоятельной постановки вопросов для своих занятий и занятий духовных академий, имеющих важное теоретическое и практическое значение для Церкви, богословской науки и духовного просвещения (п. 4) (Проект положения об Ученом Совете при Святейшем Синоде / / Журналы учрежденной при Святейшем Синоде Комиссии для выработки проекта нового Устава духовных академий. СПб., 1909. Приложение. С. 5 -6 ).
_____________ Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
168
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
вменял академиям в обязанность, прежде всего, высшую ученую разработку богословия на церковном, строго-православном основании'15.
Изменения духовно-академических Уставов, Правила 1889 г. и дальнейшие их интерпретации не повлияли негативным образом на научную результативность духовных академий. Творческий подъем, начавшийся в середине XIX в., продолжал давать результаты, а приобретаемый опыт позволял совершенствовать процесс научных исследований. Это сказывалось и на увеличении числа диссертационных работ, представляемых на ученые богословские степени™. Возникающие в процессе научно-богословских исследований сложности, связанные с адап-
43Устав православных духовных академий 1910 г. СГ16., 1910. § 2.46 Статистические данные, в той или иной степени отражающие
результативность богословской науки, подтверждают это. Число докторских и магистерских богословских степеней, присужденных Советами духовных академий за 15 лет действия Уставов 1869 и 1884 гг. (1869-1884 гг. и 1891-1905 гг.), свидетельствует даже в пользу Устава 1884 г.Академия СПбДА МДА
доктор. магистер. доктор. магистер.дисс. дисс. дисс. дисс.
Устав 1869 г. (1869-1884 гг.)
9 23 10 21
Устав 1884 г. (1891-1905 гг.)
16 28 19 48
Академия КДА КазДА
доктор.дисс.
магистер.дисс.
доктор.дисс.
магистер.дисс.
Устав 1869 г. (1869-1884 гг.)
10 14 К) 15
Устав 1884 г. (1891-1905 гг.)
8 23 19 51
1 6 9
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
тацией научно-критических методов, иноконфессиональных заимствований, преодолевались по мере сил. Расширившиеся контакты с западным богословием наметили возможные пути их творческого и более плодотворного использования — критическое осмысление опыта и традиций богословия Востока и Запада. Богословы-исследователи, в молодые годы выступавшие с радикальными проектами, по мере научного и духовного роста видели большую глубину проблемы и приходили к выводам о необходимости более трезвых обсуждений и взвешенных решений. Духовные академии являлись «учреждениями конфессиональными, а — значит — должны были возвещать и оправдывать свое исповедание... сообразоваться с принципиальным положением в своей научной работе... быть мудрыми в выборе самих тем... иметь и хранить достаточное самоограничение»* 47. Богословие проблематично, ибо и развивается как реакция на проблемы, возникающие в человеческой интерпретации истин Божественного Откровения или в церковной жизни. Богословие полемично, ибо совершенствуется в условиях сосуществования и дискуссий разных богословских концепций и школ. Богословие критично, ибо призвано критически оценивать существующие и возникающие в церковной жизни частные предания и традиции с точки зрения Предания обще-церковного, Священного. Но этот общий критерий должен преломляться на конкретные ситуации и вопросы, выражаться в критической оценке фактов, источников, гипотез, уже устоявшихся воззрений. Это обязанность церковного богослова, и компро-
Прим. 1884 г. до введения нового Устава (15 августа) относится к периоду действия Устава 1869 г. Второй период выбран из соображений корректности сравнения: в первые годы действия Устава 1884 г. защищались диссертации, подготовленные при Уставе 1869 г., а с начала 1906 г. действовали Временные правил, согласно которым Советы академий имели право окончательного присуждения всех ученых степеней.
47 Глубоковский Н. Н. Санкт-Петербургская Духовная Академия во времена студенчества там патриарха Варнавы / / ЦИВ. 1999. № 2- 3. С. 232-236.
170
миссы в этом вопросе наносят вред Церкви. При этом сочетание исследовательской ответственности и свободы научного поиска с верностью церковной традиции — не непреодолимая проблема, а собственно задача богословия, труд. Научная богословская деятельность, призванная участвовать в изучении конкретных фактов и свидетельств исторической жизни Церкви, сохраняя научную свободу, сама должна быть выверена Преданием, как живой реальностью Откровения в Духе Святом.
Наугно-богословские исследования — проблемы и поиск (XIX - наг. XX в.)
НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ РОССИЙСКИХ БОГОСЛОВОВ ЗА ГРАНИЦУ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БОГОСЛОВСКОЙ НАУКИ
(вторая половина XIX - начало XX в.)
Активное развитие богословской науки в российских духовных академиях началось в середине XIX в. Поощрение и даже настойчивое побуждение к этому развитию было одной из главных черт Устава духовных академий, введенного в 1869-1870 гг.1 Ставя развитие богословской науки духовным академиям в непосредственную обязанность, Устав 1869 г. предоставлял им и определенные возможности, способствующие этому развитию. Одним из таких средств были научные командировки преподавателей и кандидатов на преподавательские кафедры за границу и в российские университеты. Действительно, с этого времени такие командировки стали заметным явлением в духовно-академической жизни. Они были разными по продолжительности, направлениям, одни из них совершались по заданию Советов академии и с конкретной целью, другие инициировались самими преподавателями, с обоснованием необходимости посещения тех или иных научно-образовательных мест, библиотек, архивохранилищ. Совершались и самостоятельные поездки преподавателей за границу — с паломнической или экскурсионной целью, но для служителей науки они всегда были не праздными, но связанными с их научными интересами. То, что любое расширение поприща исследования, научное общение,
1 См. статью настоящего сборника «Реформа духовных академий 1869 г. и развитие богословской науки в России».
1 7 2
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
изучение иных образовательных традиций, знакомство с письменными, церковно-историческими, церковно-археологическими памятниками было и есть полезно для научных занятий — не вызывает сомнения. Но, рассматривая поездки за границу в контексте научного порыва духовных академий, следует поставить вопрос: какое значение имело это мероприятие для реализации порыва, какой конкретный вклад они внесли в развитие богословской науки и духовного образования в России?
Постараемся в этом небольшом исследовании оценить значение процесса заграничных командировок для духовноакадемической науки. Для этого выделим приоритетные направления и маршруты поездок за границу представителей духовной школы, наиболее важные и плодотворные из них, имеющие «ключевое» значение для научно-образовательного процесса, проанализируем задачи командировок и степень их исполнения. Комплекс источников состоит из двух частей: документов, связанных с организацией и осуществлением поездок (прошения на поездки, планы с описанием задач и маршрутов, протоколы обсуждений этих вопросов Советами академий, разрешительные указы Синода, задания командируемым от Советов и отчеты первых об исполнении этих заданий и т.д.), и «плодов» командировок в виде научных статей, исследований, а также документов, фиксирующих реальное воплощение полученных знаний в деятельности преподавателей и ученых (например, проекты по реорганизации учебного процесса или его отдельных элементов).
Но для того, чтобы определить, насколько заграничные командировки 1870-1910-х гг. были новым явлением для высшей духовной школы, а также понять проблемы, которые были сопряжены с их орг анизацией и плодотворным использованием, следует предварить само исследование историческим экскурсом. Поездки молодых представителей российских духовных школ в Европу с научно-образовательными целям и случались и раньше. В конце XVII - начале XVIII в. обучение мало- российского юношества философии и богословию в западных университетах и коллегиях было заметным и важным явлением
173
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
в истории русского богословия. В это время основным направлением «учебной миграции» служили Польша и Южная Европа, прежде всего Италия. Католические и униатские коллегии Польши — Львова, Ольмюца, Вильны, силезского Нейссе, а также коллегия святителя Афанасия в Риме охотно принимали малороссийское юношество, хотя и при условии перехода в униатство2 3. Митрополит Петр Могила, реформировав Киевскую школу в 1632-1634 гг., заграничные командировки лучших воспитанников принял за один из неизбежных образовательных принципов. Образовательная система католических коллегий, перенесенная в киевскую школу в 1630-е гг., философские и богословские системы, положенные в основу учебных курсов, вырабатывали в учащихся определенное мировоззрение, структуру знания, методологию. Этой подготовкой они вполне благополучно вписывались в лучшие католические школы и могли, поступая в старшие классы, использовать уже имеющиеся познания, понятийный аппарат, привычную терминологию. С другой стороны, западно-русские школы, перенимая многовековой опыт католической системы образования, не могли в короткие сроки ни достигнуть уровня лучших школ запада, ни, тем более, адаптировать в должной степени эту систему к русским условиям и православному церковному опыту богословия. Поэтому в «классических» католических школах киевские выпускники могли значительно повысить уровень своего знания, хотя русскому богословию пришлось за это расплачиваться многолетним влиянием католических терминов, понятий, идей. Московская Богоявленская школа братьев Ли- худов, принявшая «еллинское» направление образования, также не отрицала «западного» довершения образования своих лучших воспитанников1. Со второй четверти XVIII в. приори
2 О заграничных коллегиях и академиях, как местах высшего образования для киевских и вообще южно- и западно-русских ученых / / ТКДА. 1896. С. 167. По ходатайству униатского Киевского митрополита папа Григорий XIII (1572-1585) учредил в коллегии святителя Афанасия четыре казенные стипендии для русских юношей-униатов.
3 Так, например, будущий архимандрит Палладий (Роговский),
174
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
тетным направлением заграничных учебных путешествий стала Северная Европа — Германия, Голландия, отчасти Англия (университеты Галле, Лейпцига, Кенигсберга, Лейдена)1. Особой популярностью пользовался университет города Галле, с традицией школы А. Г. Франке на богословском факультете* * * * 5.
один из первых учеников Лихудов, проучившись у них два года (16851687), затем более десяти лет (1687-1698) жил за границей «ради лучшего учения философии и богословия»: год в Вильие в иезуитской школе, год в Нейссе, год в Ольмюце, наконец, семь лет - в знаменитой коллегии святителя Афанасия в Риме. Архимандрит Палладий получил в заграничных школах ученую степень доктора философии и богословия. Его судьба осложнилась тем, что, отправившись за границу иеродиаконом, в Риме он принял священство от греческого униатского митрополита Онуфрия. Тем не менее, впоследствии (в 1700 г.) он стал ректором Московской славяно-греко-латннской академии. См.: Никольский М. Русские выходцы из заграничных школ в XVII столетии / / ПО. 1863. № 10. С. 162-193; Смирнов С. К. История Московской Славяно-греко-латинской академии. М„ 185.'). С. 30. Документы, засвидетельствовавшие его покаяние — челобитная и исповедание веры, составленные Палладием (Рогоноговским) по требованию патриарха Адриана, были опубликованы II. И. Новиковым: Древняя российская вивлиофика. Ч. 18. С. 148-197.
^Хотя среди посланцев были юноши духовного сословия, а также' молодые представители малороссийского дворянства, связанные родственными узами с духовенством, они в основном обучались не на богословских факультетах, а на философских, медицинских, юридических. На фоне общего потока российских студентов, отправлявшихся на заграничное обучение в XVIII в., его богословская составляющая выглядит очень скромно: около 10% в XVIII веке (48 из 471), немногим более 3 % (10 из 303) — в первой половине XIX и. «Великороссы» и «малороссы», обучавшиеся на немецких (югославских факультетах, составили за весь XVIII в. всею 20 человек (А н д р еевЛ . К). Русские студенты в немецких университетах XVIII - первой половины XIX века. М., 2005. (далее: А н д р е ев . Указ, соч.) С. 51, 52).
’Франке Август Герман (Francke) (1663- 1727) - немецкий богослов и педагог; представитель миетистического богословия. Преподавая в Лейпцигском университете, собрал кружок магистров (collegium ptiilobiblicum) для основательного изучения Священною Писания в оригинале, а также классических языков, преподавал
175
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
С 1722 г. в Галле на богословском факультете учился племянник Новгородского архиепископа Феодосия (Яновского) Афанасий Яновский. В 1729-1735 гг. здесь же учился Симеон То- дорский, будущий архиепископ Симон6. Случались загранич-
педагогику и дидактику в школах Гамбурга, герменевтику в Авгус- тинской церкви в Эрфурте; с 1692 г. был профессором греческого н восточных языков во вновь учреждавшемся Галльском университете и священником в Глауха, подле Галле. Основатель известных школ: Педагогиума (Pfldagogium) и Латинской школы (Lateinschule) для подготовки в университет, Восточной коллегии (Collegium orientale) для приготовления профессоров восточных языков и миссионеров. В последней преподавались языки; халдейский, сирийский, арабский, раввинский, талмудический, эфиопский и, в случае возможности, армянский, персидский, китайский, турецкий, новогреческий, польский, русский, французский, итальянский и английский. Греческий и еврейский языки учили практическим методом, на оригинальных текстах Священного Писания. А. Г. Франке имел особую связь с Россией, состоял в переписке с государственными и церковными деятелями, в том числе, с архиепископом Феофаном (Прокоповичем), покровительствовал российским юношам, учившимся в Германии, пытался содействовать становлению образования в России. В 1699 г. профессор А. Г. Франке предложил учредить постоянно действующую русскую семинарию в Галле (проект не был реализован); в 1701 г. послал в Россию «для учения школьного греческого, латинского, немецкого, еврейского языков» своего ученика магистра философии И. В. Пау- са, который в 1703-1707 гг. преподавал в московской Gymnasium Petrinum (школа переводчиков), основанной пастором Эрнстом Глюком; в 1707 г. Франке послал в Россию еще троих учителей для той же школы. См.: Белокуров С. А., Зерцалов А. Н. О немецких школах в Москве в первой четверти XVIII в. / / ЧОИДР. 1907. Кн. 1. С. 38; Винтер Э. И. В. Паус о своей деятельности в качестве филолога и историка / / XVIII век. Т. 4. Л., 1959. С. 313-322.
к Симон (Тодорский Симеон) (1700-1754), архиепископ Псковский и Нарвский. Учился в Киевской академии в 1718—1727 гг., в 1727- 1738 гг. учился и работал в Европе, в том числе, в 1729-1735 гг. - на богословском факультете университета в г. Галле (на содержании Киевского митрополита Рафаила). Преподаватель греческого, древнееврейского и немецкого языков в Киевской академии. В 1740 г. пострижен в монашество. Сумел поставить на новый уровень препода-
176
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
ные поездки духовного юношества и во времена Екатерины II, причем была попытка придать заграничным поездкам духовного юношества направленный характер. В 1765-1775 гг. правительством была организована поездка 15 представителей духовной школы в Оксфорд, Геттинген и Лейден для познания «наук и восточных языков, не выключая и богословия»7. Идея подготовки кандидатов на духовно-учебные кафедры за границей и
ванне древних языков в Киевской академии. Через своих учеников (ученых иноков Иакова (Блонницкого), Варлаама (Ляшевского), Гедеона (Сломинского), принявших в 1840-х гг. активное участие в работе над новым переводом славянской Библии) оказал влияние на развитие русской библеистики, внеся в переводческую и исследовательскую традиции научно-филологические элементы.
7Чистович И. А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1857. С. 6 2 -6 3 . Для поездки были отобраны студенты Московской академии, Петербургской Александро-Невской, Троицкой, Новгородской и Тверской семинарий. С целью использования заграничных знаний для повышения учебно-богословского уровни был разработан проект Богословского факультета мри Московском университете — по образцу заграничных, но под особым управлением Синода и личным покровительством императрицы. Но проект не реализовался, а заграничных выучеников Святейший Синод распределил по учительским должностям в Московский кадетский корпус, Московскую академию, Петербургскую и Новгородскую семинарии. Они принесли пользу отечеству и духовному образованию, хотя, рассеянные по разным школам, не смогли принципиально изменит/, систему преподавания и сделать российское духовное образование научно-богословским. См. также: Знаменский //. В. Духовные ///колы в России до реформы 1808 года. Казань, 1881. Псреизд.: СПб., 2001.С. 520-523.
Некоторые выпускники Александро-Невской семинарии имели возможность пополнить систематическое богословское образование, служа при заграничных посольских церквах в Берлине, Копенгагене идр. В псаломщики к этим церквам назначались студенты средних классов (грамматики, риторики и философии) Александро-Невской семинарии, хорошо знающие иностранные языки и имеющие репутацию «честного поведения». См.: Чистович И. А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1857. С. 54-56.
177
Ф
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
в дальнейшем не оставляла правительство. В 1777 г., при составлении проекта Богословского факультета, было указано избирать в профессора лиц, завершивших образование за границей, хотя осуществления не последовало8. В 1787 г. Высочайший указ позволил Киевской академии «посылать по рассмотрению Киевского митрополита студентов в иностранные университеты» для приобретения лучших знаний в науках». На основании указа митрополит Самуил (Миславский) в том же году послал двух студентов в Слуцкий реформатский конвент для совершенствования в новых языках, и двух — в польский Виленский университет, с общим указанием «приготовления к учительству»9.
Во времена Александра I, несмотря на преобразование духовной школы и явную нужду в образованных богословских кадрах, академии командировками в заграничные университеты не воспользовались, хотя российские университеты этим средством не пренебрегали10. В эпоху Николая I духовно-ака-
8 Чистович И. А. История СПбДА. СПб., 1857. С. 66-67. См. также: Проект богословского факультета при Екатерине II / / Вестник Европы. 1873. Т. VI (XLIV ). № 11. С. 300-317.
9 Аскоченский В. И. Киев с древнейшим его училищем — академий. Киев, 1856. Т. И. С. 344, 346.
10 Университетский Устав 1804 г. предусматривал для оставленных при университете для приготовления к профессорскому званию» стажировку в лучших университетах Западной Европы. В смету университетских расходов даже вводилась специальная ежегодная сумма — 2.000 руб. — на командировки за границу сроком на два года двух лучших адъюнктов или магистров, «из россиян, отличившихся своими талантами». Совет университета должен был давать командируемым письменное задание, а они обязывались представлять в Совет регулярные отчеты о своих занятиях. При подготовке к преобразованию столичного главного педагогического института в университет (оно совершилосьлишьв 1819 г.) в 1808 г. в европейские университеты были отправлены 12 лучших выпускников, предназначенных к занятию мест профессоров и адъюнктов «в предполагаемом Санкт- Петербургском университете». См.: О лицах, командированных Министерством народного просвещения за границу для приготовления
J178
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
демические кадры были привлечены к образовательным контактам с Европой, но, к сожалению, не для богословских целей". Многие члены корпораций духовных академий к 1840-м гг. ощущали необходимость повышения уровня образовательного процесса, применения методов научных исследований, при этом трезво понимали, что своими внутренними силами этого повышения достичь практически невозможно. Однако практических мер по непосредственной связи с мировым богословием не предпринималось. Эта печальная пассивность была обусловлена двумя основными причинами: нехваткой денег - затянувшаяся духовно-учебная реформа не только «съела» все отпущенные на нее средства, но потребовала новых вложений, — и надеждой на самостоятельное развитие православного богословия. Использование европейских ипокон- фессиональных богословских трудов подразумевалось, но в контексте православной церковной жизни. Преподаватели
к званию профессоров и преподавтелей с 1808 но 1800 год / / Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833 1843 гг. СПб., 1864, С. 1-2; Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России: В 4 т. М., 2002-2004 (далее: Петров. Указ, соч.) Т. 1.С. 157, 235-236, 261-262.
"В 1827 г., по предложению М. М. Сперанского, были отобраны по три лучших студента из СПбДА и МДА, для обучения юриспруденции, с целью дальнейшего использования в государственной службе. В 1829 г. был второй «призыв» — пять воспитанников духовных академий. Все они прошли обучение при 11 отделении Собственной Е. И. В. Канцелярии и в Санкт-Петербургском университете, затем были командированы в Берлинский университет, где в течение трех лет под руководством Савиньи занимались энциклопедией и философией права, историей и теорией государственно/ о нрава, нравами римским, германским, прусским и европейским международным. Но возвращении из-за границы они были допущены к экзамену прямо на степень доктора нрава. Но эти питомцы духовных академий, не посрамив чести духовной школы, были потеряны для богословской науки. См.: Письма Знаменского В. П„ Благовещенского А. А. и Неволина К. А. к протоиерею Ф. А. Голубинскому / / БВ. 1914. № 10/11.( ' . 276 - 313.
1 7 9
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
духовных академий вынуждены были использовать эти труды, но часто с опозданием на целую эпоху, что приводило к парадоксальному явлению: зависимости от богословской науки прошлой эпохи и «выпадению» из современного ее контекста12. Возможность познакомиться с последними достижениями европейской богословской и гуманитарной науки, а также познакомиться непосредственно с источниками богословской науки предоставлялась по-прежнему лишь тем выпускникам академий, которые направлялись на служение священниками и псаломщ иками в посольские церкви или миссионерами13.
12 Иностранные пособия и монографии использовались либо в подлиннике, либо в переводе, либо в пересказе. В курсах Священного Писания использовались не только в качестве классических книг, но и для подготовки лекций: «W altheri officina biblica. Carpzovii introduction in lectionem Novi Testamenti, cum supplementis Hoffman- ni», чаще всего в переводе преосвященного Амвросия (Подобедова) (М., 1799); «Buddei Isagoge Historico-Theologica» (Lipsiae, 1724);переводы и пересказы «Institutiones hermeneuticae sacrae» Якова Рамбахия (1723; 2-е изд.: 1738) («Сокращенные правила Священной Герменевтики по методу Рамбаха» Е. А. Болховитинова, будущего митрополита Евгения (1792-1794); «Ио. Иакова Рамвахия правила священной герменевтики, разными примечаниями и обильнейшими библейскими примерами изъясненныя. Перевод с латинского» или в докторской диссертации архимандрита И оанна (Доброзракова) «Delineatio hermeneutiticae sacrae» (1825)). По догматическому богословию долго использовались старые книги и курсы лекций: Буддея («Institutiones theologiae dogmaticae» (Leipzig, 1728)), лекции преосвященного Ф еофана (Прокоповича), доработанные и изданные преосвященным Георгием (Конисским) (Лейпциг, 1782, 1792), архимандрита Макария (Петровича) («Догматическая богословия» (1763), «Православное учение» (СПб., 1783)), преосвященного Феофилакта (Горского) («Orthodoxae orientalis ecclesiae dogmata seu doctrina Christiana de credendis et agendis» (Лейпциг, 1784, СПб., 1818)). По нравственному богословию (деятельному): Буддея («Institutiones theologiae moralis» (Leipzig, 1711) и «Historia critica theologiae dogmaticae el moralis» (Frankfurt, 1725). Поэтому самостоятельные лекционные курсы были чрезвычайно важны.
13 Так в 1843 г. был послан на Восток, в Палестину и Сирию,
180
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
Некоторые из этих лиц не только использовали предоставлявшуюся им возможность, но и пытались обратить внимание духовно-учебного начальства на этот путь приобщения к европейской богословской науке1'1.
При министре Народного просвещения н президенте Академии наук графе С. С. Уварове (1833-1843) традиция командирования молодых людей за границу стала играть значительную роль в реализации проектов подготовки профессорских *
выпускник СПбДА архимандрит Порфирий (Успенский). Полугодовым пребыванием в Иерусалиме и двухлетним путешествием по Афону, Египту и Синаю с целью изучения состояния православных монастырей не ограничилось знакомство о. Порфирия с православным Востоком. Он стал начальником первой русской духовной миссии и Иерусалиме, с февраля 1848 г. по май 1854 г., до начала Крымской войны. Следует отметить, что и дальнейшие духовные миссии в Палестине возглавляли преимущественно выпускники духовных академий: выпускник СПбДА 1847 г. доктор богословия ошском Кирилл (Наумов) (1858-1864), выпускник КДА 1843 г. архимандрит Антонин (Капустин) (1865-1894), кандидат СПбДА 1896 г. архимандрит Александр (Головин) (1899-1903) и кандидат МДА 1902 г. архимандрит Леонид (Сенцов) (1903-1918). Выпускники духовных академий привлекались и к деятельности в Пекинской духовной мисс ии (РГИА. Ф. 802. Оп. 2.Д. 228. Л. 1-6; ЦГИА СПб. Ф. 277. Он. 1.Д. 2434. Л. I 45). Было еще место служения, предоставляющее доступ к библиотекам, архивохранилищам и церковно-археологическим памятникам Востока — при посольской церкви в Константинополе.
и Именно в эти годы представитель образованного «заграннчно го» духовенства, выпускник СПбДА протоиерей Иоанн Базаров указал на необходимость заполнять псаломнические вакансии при заграничных русских церквах выпускниками духовных академий, причем с постановкой перед ними конкретной задачи дальнейшего самообразования в богословской науке (Намров И. И., прот. Воспоминания / / PC. 1901. № 4. С. 62-65; Там же. № 9. С. 533). Лта идея была принята, и первые магистры и кандидаты академий, попавшие заграницу с таким заданием, подтвердили полезность начинания. Примером могут служить выпускник 1861 г. Михаил Горчаков будущий профессор университета. См.: Отправление воспитанников МДА за границу / / ПО. VIII. 1862. № 6. С. 70-72.
181
с
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
кадров15. В начале 1850-хгг.совершается единственная в эти годы попытка приобщения к командировочному процессу духовных школ. Направленный в 1848 г. в Санкт- Петербург для проверки переводов на татарском языке богослужебных книг бакалавр турецко-татарского языка КазДА Н. И. Ильминский был командирован на Восток, причем с определенной целью: подготовиться к преподаванию на проектируемом в это время в КазДА про- тивомусульманском отделении.
Профессор КазДА Нмолай Трехлетнее путешествие (1851-Иванович Ильминский 1854 гг.) по Турции, Сирии и Егип
ту — Константинополь, Дамаск, Каир — позволили Ильминскому изучить арабский, турецкий и персидский языки, а также получить обширные сведения по всем сторонам жизни мусульман16. Поездка дала больше, чем
15 Андреев. Указ, соч.; Петров. Указ. соч. Т. 3: Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года. М., 2003. С. 211; Шевченко М. М. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных реформ. М, 2003. С. 74. «Занавес», возникший в ответ на европейские события 1848-1849 гг., осложнил ситуацию с заграничными командировками. 14 марта 1848 г. С. С. Уваров издал официальный циркуляр, запрещавший командировки за границу в рамках ведомства Министерства народного просвещения. Тем не менее, и в эти годы командировки с учебно-научными целями осуществлялись, и довольно активно.
16 РГИА. Ф. 802. Оп. 5. Д. 13584, 13820. Была выделена немалая по тем временам сумма (3.000 руб.), большую часть которой Н. И. Ильминский потратил на книги и ценные памятники, переданные в дальнейшем в библиотеку КазДА. См. также: Витевский В. N. Л. И. Ильминский. Директор Казанской Учительской семинарии. Казань, 1892 С. 7-8; Колчерин А. С. Н. И. Ильминский. Директор Казанской Инородческой Учительской семинарии / / ПС. 2002. № 1. С. 54.
182
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
от нее ждали: перед командированным ставили задачу обратить особое внимание на «слабые стороны ислама», он же, обратив внимание и на сильные стороны и поняв, что примитивная критика приводит лишь к дискредитации христианства, разработал самостоятельную коппеипию работы с мусульманским населением. Во вновь открытом в 1854 г. при КазДА н|ютинемусульманском миссионерском отделении Н. И. Ильминскому было поручено преподавание арабского и турецкого языков и других предметов, связанных с данным направлением. Миссионерские отделения были преобразованы в 1858 г. в кафедры, н последующие годы положение этих кафедр претерпевало немало сложностей. Но знания Н. И. Ильмииского и нестандартные методы, применяемые им в научной, учебной и практической деятельности, имели несомненный успех и позволили ему стать выдающимся миссионером и просветителем Поволжья.
В начале 1860-х гг. и университетской системе подготовка профессорских кадров за границей приобретает систематический характер17. Некоторым выпускникам и молодым преподавателям духовных академий, лично известным мредет,жителям Министерства народного просвещения, было предложено пройти такую стажировку за границей с целью дальнейшего использования их в университетской системе образовании. Так,
17 Новый Устав российских университетов разрабатывался в 1857-1863 гг. В 1862 г. было начато осуществление проекта министра Народного мроснстении Л. В. Головнина для подготовки к профессорским кафедрам значительное число молодых ученых было отправлено за г раницу (к копну 1862 г. но официальным данным за границу было отправлено 46 человек). Руководство ими поручено Н. И. Пирогову, имевшему личный опыт обучении за границей. Iliijm гон сумел построить стабильную систему, учитывающую специфику специализации самих кандидате»), запросы пославшею их университета, научно-образовательный уровень европейских унингргим-юи и профессионализм их профессоров специалистон. См.: Обзор деятельности Министерства народного просвещения в 1862, 1863. 1864 гг. СПб., 1865. С. 81; Журналы Ученою комитета во Ус таву университетов и замечания иностранных педагогов. СПб., 1862; Соболева Ь. Н. Организация науки в пореформенной России. Л., 1988. С. 218 224.
Н. Ю, Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
например, были привлечены к этой системе выпускники МДА Н. К. Соколов и П. М. Хупотский18. Но духовно-учебная система, отделенная от министерской системы и отягощенная своими особыми задачами, не могла столь быстро адаптироваться к новым условиям и применить новые идеи к своим нуждам, Проблема — недостаточное развитие богословской науки и отсутствие специальных исследований практически во всех ее областях — была сформулирована, но четкой концепции по исправлению этих недостатков выработано не было19, Кроме того, утечка кадров из духовно-учебной системы ставила более актуальные задачи — заполнение вакантных мест в академиях и семинариях. Поэтому систематическое развитие науки, одним из звеньев которого могли бы стать научные командировки, оставляли на перспективу.
18 Интересны письма из-за границы (из Геттингена) 1865-1867 гг. бывшего бакалавра МДА П. М. Хупотского (первый магистр МДА 1860 г. выпуска) своему коллеге по академии В. Н. Потапову (ЦГИА СПб. Ф. 2162. On. 1. Д. 21. Л. 6 об.-7 об., 28 об. и др.) Ср.: Отчеты П. М. Хупотского об обучении за границей / / ЖМНП. 1866. Ч. 130 Отд. III. С. 1-15.
19 В ноябре 1865 г. святитель Филарет (Дроздов), в письме к обер- прокурору графу Д. А. Толстому о преподавании богословия в университетах, высказывает свое мнение о заграничных командировках выпускников духовных академий. По мнению святителя, такие поездки полезны для тех, кто «основательным и твердым знанием вооружен против лжеучений и сможет свое отечественное образование усилить «чрез соприкосновение с сферами иностранной учености» - «обходяй страны умножит хитрость (Сир. 34: 10)». При этом в качестве положительных примеров указываются протоиереи И. В, Васильев, Е, И. Попов и И. Л. Янышев (выпускники СПбДА и настоятели русских посольских церквей в Париже, Лондоне и Висбадене соответственно). Однако святитель предостерегает против увлечения такими командировками, ибо для тех, кто не утвержден «в знании и опытности», поездки могут стать небезопасными. См.: Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885-1888. Т. V. Ч. 2. С. 782-784.
184
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
Таким образом, заграничные командировки духовно-академических представителей начала 1870-х гг. не были принципиально новым явлением. Но до 1870-х гг. такие командировки либо переводили выпускников духовных академий в другие сферы деятельности, либо носили фрагментарный, эпизодический характер и — кроме, может быть, командировки Н. И. Ильминского — не могли оказать заметного влияния на развитие богословской науки и духовного образования. Для плодотворного проведения таких поездок нужна была система, которая, с одной стороны, ставила бы конкретные задачи, предъявляла определенные запросы к контактам с зарубежным богословием, с другой стороны, была способна использовать их результаты для повышения научно-учебного уровня. Новый Устав духовных академий 1869 г. наметил такую систему, но это был лишь проект, не продуманный в деталях и не проработанный в практическом отношении. Элементы надо было продумать самим академиям, а механизм организации командировок отработать на практике. Но самым важным и самым трудным было построение системы полноценного и плодотворного использования результатов.
Первой попыталась реализовать предоставленные возможности МДА. Весной 1872 г. профессор кафедры Истории Русской Церкви Е. Е. Голубинский послал прошение об отпуске обер-прокурору графу Д. А. Толстому, с объяснением причины — необходимости познакомиться с памятниками стран, тесно связанных с русским православием (южных славян и греков), и с современным состоянием исторической жизни Православных Церквей для завершения курса Русской церковной истории и исследования о церковном
Профессор МДА Евгений Ексшпеенич Голубинский
1 8 5
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
просвещении у греков в X III-X IX вв. На запрос обер-прокурора ректор академии протоиерей А. В. Горский дал высокую оценку научной деятельности профессора Голубинского и подтвердил желательность путешествия. Совет присоединился к ходатайству. Несмотря на поддержку и ходатайство Совета, Е. Е. Голубинскому пришлось потратить немало собственных усилий для реализации данного разрешения, в частности, на получение пособия20. Поездка была удачной и плодотворной: профессор не только закончил свое исследование и внес новые элементы в курс лекций, но и приобрел для академической библиотеки ряд редких изданий и рукописей21. Сам Е. Е. Голубинский, оценивая главные достижения своей заграничной командировки для развития науки, выделял два главных момента: 1) возможность собственными глазами исследователя увидеть древние памятники зодчества, 2) практически исследовать «церковную жизнь и церковные нравы и обычаи» народов, церковной историей которых он занимается22.
В том же 1872 г. КДА ходатайствовала о разрешении летней поездки за границу профессора по кафедре истории Древней Церкви Ф. А. Терновского. Путешествие было кратким, но очень насыщенным и целенаправленным — познакомиться с
20 Голубинский Е. Е. Воспоминания / / Полунов А. Ю., Соловьев И. В. Жизнь и труды академика Е. Е. Голубинского. М., 1998 (далее: Голубинский. Воспоминания). С. 207-208. См. также: письма профессораА. Ф. Лаврова к Е. Е. Голубинскому: ОР РГБ. Ф. 541. К, 9. Д. 13. Л. 7,9.
21 ЖЗС МДА за 1872 г. Сергиев Посад, 1873. С. 13-17. Отчет о заграничном путешествии (с конца мая 1872 г., полтора года) в Грецию и Славянские православные земли, для ближайшего ознакомления с внутренним бытом современной и памятниками исторической церковной жизни / / ЖЗС МДА за 1874 г. Сергиев Посад, 1875. С. 8- 21. См. также: Голубинский Е. Е. Очерк истории просвещения у греков со времени взятия Константинополя турками до настоящего столетия: I. Школы. П. Писатели. М., 1872 (Отт. из: ПО. 1872. № 5. С. 699- 730; № 6. С. 818-841; № 7. С. 35-58). См. также письма Е. Е. Голубинского протоиерею А. В. Горскому: Полунов А. Ю., Соловьев И. В. Жизнь и труды академика Е. Е. Голубинского. М., 1998. С. 239-251;
22 Голубинский. Воспоминания. С. 209.
186
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
церковными древностями в афонских монастырях и музеях Западной Европы (Дрезден, Берлин). Оно имело немалое значение для развития церковной археологии в духовных академиях, ибо профессор Терновский, познакомившись с «музейным оснащением» Берлинского университета, по приезде поставил вопрос о необходимости учреждения Церковно-археологического общества и музея и при КДА2!.
Но эти поездки, имеющие несомненную пользу, не представляли собой системы, направленной на повышение уровня преподавания и научно-богословских исследований, на подготовку ученых нового поколения и более высокого уровня. В1873 г. со стороны двух академий - МДА и КДА — была предпринята попытка использовать заграничные командировки в университетских традициях как средство для подготовки к профессорским кафедрам. Необходимость в этом была очень острая и конкретная:Устав 1869 г. учредил в духовных д ,1рофтор 1 ,
Александрович Воскресенский *
а Терновский Ф. Собрания церковных древностей на Афоне, н Дрездене и в Берлине / / ТКДА. 1872. № 12. С.417-418. Советом КДА был составлен проект и подано ходатайство в Синод. Указом Синода от 18 октября 1872 г. музей и общество начали свое официальное существование, хотя митрополит Киевский Арсений (Москвин) нс сочувствовал этой идее, как отвлекающей преподавателей от непосредственной деятельности — учебного процесса. Но активную деятельность и музея, и общества смог наладить только профессор И. И. Петров См.: Петров Н. Тридцатилетие Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной академии / / ТКДА. 1903. № 1. С. 134-151; Бродович И. Тридцатилетие Церковноархеологического музея при Киевской духовной академии / / I КДА. 1903. № 2. С. 231-253.
1 8 7
_____________ Я . Ю . С у х о в а . ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
академиях новые кафедры — русского языка и славянских наречий, и их замещение для всех академий составило немалую трудность24. В 1871 г. МДА решила подготовить собственного кандидата: студент выпускного курса Г. А. Воскресенский был отправлен в столичный университет для специального теоретического изучения славянских наречий, а в ноябре 1873 г. - за гран и ц у25. КДА, после неудачных попыток привлечь к
24 Затруднения не могли быть разрешены силами духовных академий. С П бДА удалось найти подходящую кандидатуру сперва в лице университетского кандидата А. С. Будиловича, затем профессораВ. И. Ламанского. КазДА приглашала университетских преподавателей М. П. Петровского, затем И. А. Снегирева и И. А. Будуэна-де- Куртенэ, но частая смена преподавателей славянских наречий в самом Казанском университете, их отлучки за границу с ученой целью, несовпадение учебных семестров в академиях с университетским учебным ритмом делали решение ненадежным. Ситуация осложнялась тем, что и в университетах в эти годы была проблема со специалистами по языкознанию, в частности, славянскому. Новые кафедры сравнительного языкознания, учрежденные по университетскому Уставу 1863 г., пустовали довольно долго и начали замещаться только к самому концу 1860-х — началу 1870-х годов.
25 Г. А. Воскресенский учился в заграничных университетах и изучал языки и памятники на практике в Праге, Белграде, Загребе, Вене около полутора лет (с ноября 1873 г. по апрель 1875 г.) В 1875 г. он вернулся в М ДА и, по защите диссертации pro venia legendi «О сербском национальном эпосе», занял кафедру. В дальнейшем Г. А. В о скресенский подтвердил свою научную и педагогическую состоятельность, став одним из лучших специалистов в славянской библеисти- ке (маг. дисс. «Древний славянский перевод Апостола и его судьбы до XV века. Опыт исследования языка и текста славянского перевода Апостола по рукописям X I1-X V вв.» (М., 1879); докт. дисс. «Характеристические труды 4-х редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 112 рукописям Евангелия X I-X V I вв.».(М., 1896) и «Древне-славянское Евангелие. Евангелие от Марка по основным спискам 4-х редакций рукописного славянского евангельского текста с разночтениями их 108 рукописей Евангелия XI-XVI вв.» (Сергиев Посад, 1894) и др.) См.: Ж ЗС МДА за 1874 г. Сергиев Посад. 1875. С. 54-55; ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 802. Л. 1-14; Там же. Д. 1020
91 8 8
Командировки п реп о д а ва т ел ей дух, академ и й за границу и их знагение
преподаванию университетских кандидатов, последовала атому примеру: в 1873 г. студент 3 курса КДА В. Н. Малинин был отправлен в Санкт-Петербургский университет, а в 1875 г. - аа границу26.
За 15 лет действия Устава 1869 г. все четыре академии пользовались предоставленными возможностями, хотя и не так часто. Интересна научная палитра командируемых и направления их поездок — профессор еврейского языка и библейской археологии КДА А. А. Олесницкий (Палестина, 1873 1874 уч. г.), профессор новой гражданской истории МДА Д. Ф. Касицын (Германия и Италия, 1874 1875 уч. г.), доцент по кафедре метафизики КазДА Г1. А. Милославский (Германия, 1874—1875уч. г.), доцент по кафедре Священного Писания Ветхого Завета СПбДА И. С. Якимов (Германия, 1876 1877 уч. г.), приват-доцент по кафедре церковной археологии и литургики СПбДА Н. В. Покровский (Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, 1876-1877 уч. г.), доцент КазДА по кафедре церковной археологии и литургики Н. Ф. Красноссльцсв (Пирона. 1881-1882 уч. г.)27 Как видно из приведенного списка, можно * 2
Л. 3-5; Там же. Д. 1136. Л. 3-8; Ж ЗС КДА за 1877 г. С. 126; Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Синода графа Д. Толстого по ведомству Православного исповедании за 1875 г. СПб., 1876. С. 158-159.
2li После годовой заграничной стажировки В. А. Малинин нериул- ся в КДА, занял кафедру. В дальнейшем стал серьезным исследователем древнерусхких источников (маг. дисс. «Исследование Златост- руя по рукописи XII в. Императорской публичной библиотеки» (Киев, 1878); докт. дисс. В. Н. Малинин «Старен Елеазарова монастыря Филофей и его послание» (Киев, 1901)). В. Н. Малинин тесно сотрудничал с университетскими коллегами, и в 1901 г. историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета присудил ему степень доктора русской словесности. См.: Извлечение из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшею Синода графа Д. Толстого по ведомству Православного исповедания за 1875 год. СПб., 1876. С. 158-159; ЦГИАУ. Ф. 711. Он. 3. Д. 2595.
*7РГИА. Ф. 802. Он. 9. 1871 г. Д. 53; ЦГИАУ. Ф. 711. Он. 3. Д. 1020. Л. 1 -2 об.; ЖЗС МДА за 1877г. С. 24 25; (ICC КазДА за 1875 г.
189
Я . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
выделить два основные направления: в Европу, преимущественно в Германию и Италию, или на христианский Восток, Балканы и в славянские земли — Палестину, Грецию, Афон. В Европу, для работы в лучших библиотеках и слушания лекций в университетах, полезно было отправиться практически всем академическим преподавателям, но особенно тем, чьи науки имели преимущественное развитие на Западе — библеистика, церковная история, археология, патрология, философия. Второе направление в эти годы только намечается, определяется и
двойной интерес к этому направлению: научно-педагогический, преимущественно преподавателей-специалистов по библейской археологии, библейской истории, церковной археологии и литургике, патрологии, а также общее для всех представителей духовных академий благочестивое паломническое желание - посетить святыни христианской древности. Научные командировки давались, по ходатайству Совета, с благословения Синода, обычно на год, в исключительных случаях, когда от этого зависела подготовка преподавателя по новой кафедре, — на два, - и осуществлялись на средства из духовно-учебного капитала28. Иногда выделялись, по ходатайствам Советов, особые суммы - на приобретение во время командировок ценных источников, рукописей, книг, фотографических снимков и моделей с древнехристианских памятников29.
С. 54-60; Ж ЗС СПбДА за 1876-1877 уч. г. С. 116-130; ЖЗС СПбДА за 1879-1880 уч. г. С. 145; РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1876 г. Д. 52; ПСС КазДА за 1881 г. С. 13, 355.
2К Командированному выплачивалось его обычное академическое жалованье, с некоторой добавочной суммой (от 300 до 1.000 руб., в зависимости от жалования, так, чтобы в сумме было не менее 1.500 руб. на год). Кандидатам в преподаватели выделялось пособие в те же 1.500 руб. на год.
29 Особенно плодотворными были в этом отношении поездки экстраординарного профессора МДА Е. Е. Голубинского и доцента КазДА Н. Ф. Красносельцева. Н. Ф. Красносельцев еще накануне своей командировки входил в Совет КазДА с предложением об устроении при Академии церковно-археологического музея, необходимого для
1 9 0
Командировки п р еп о д а ва т ел ей дух , а к а д ем и й з а гр а н и ц у и их зн а ген и е
Особо следует отметить командировки церковных археологов илитургистов — Н. В. Покровско- гоиН. Ф. Красносельцева. Церковная археология в 1860-е гг. в России начала бурно развиваться. Археологические съезды, устраиваемые, начиная с 1869 г., регулярно, раз в три года, общие комиссии по сохранению и описанию памятников, экспедиции по отысканию источников соединили усилия светской и церковной науки. Особые надежды, возлагаемые даже светскими учеными на развитие церков- гг . ......................НОЙ археологии В стенах духовной Васильевич Покронский школы, требовали адекватного ответа: построения системы подготовки научных и преподавательских кадров, способных соединить знания историко-археологические и богословские10. Но в академиях эта наука лишь при Уставе 1869 г. получила особую кафедру, да и то в соединении с литургикой, и выработать новое направление, да еще стоящее на уровне мирового развития этой науки, уже серьезно и давно развиваемой в Европе, было очень непросто. Командировка Н. В. Покровского 1876 1877 гг. в европейские *
полноценного изучения студентами церковной археологии, и свои приобретения рассматривал как основу музейной коллекции (IICC КазДА за 1881 г. С. 355).
"Об особой надежде на развитие этих наук в духовных в/колах говорилось на I Археологическом съезде: профессор Ф. И. Буслаев ходатайствовал о выделении для церковной археологии особых преподавателей в академиях. Профессор МДА II. С. Казанский на это заметил, что «археология — наука для людей богатых или, но крайней мере, достаточных» (Цит. по: Покровский Н. В. Желательная постановка церковной археологии в духовных академиях / / ХЧ. 1906.Т. I. № 3. С. 840-341).
191
Н . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
Профессор КазДА Николай Фомич Красносельцев
университеты и музеи стала «ключевым» событием в истории отечественной церковной археологии. Она помогла Н. В. Покровскому выработать новое направление в преподавании, выработать свой особый — литургический — метод в исследовании памятников церковной древности, в учебный курс были введены изучен
ные в лучших европейских музеях древнехристианские памятники, элементы наук, отсутствующих в академическом образовании, но необходимых для полноценных занятий археологией. Практические выводы о пользе музеев христианских древностей при учебных заведениях послужили начальным моментом организации Церковно-археологического музея в СПбДА. Он был учрежден в 1879 г. и в некотором смысле последовал традиции КДА, однако его фонды формировались по определенной системе — Н. В. Покровским была разработана целая концепция музеев при высших учебных заведениях31. Аналогичное
31 Мысль о необходимости музея в СПбДА пришла примерно в одно время Н. В. Покровскому, при его научных занятиях в заграничных музеях, и ректору академии протоиерею И. Л. Янышеву, обнаружившему при осмотре предназначенного к закрытию Новгородского земского музея много древних церковных принадлежностей. Сперва была учреждена Церковно-археологическая коллекция, для «наглядного ознакомления студентов с памятниками церковной древности и сохранения этих памятников в интересах богословской науки», вскоре она превратилась в музей. Бессменным заведующим музея стал Н. В. Покровский. В отличие от многих образуемых в это время музеев древностей, составляемых из случайных предметов старины, Покровский составлял коллекцию по строгим принципам - тематическому и хронологическому, отражающим полноту состава и историю развития христианского искусства на Руси, — ибо преследовал две цели: научную и учебную. См.: XXXV. Профессор Николай Васильевич Покровский директор Императорского Археологического
192
Командировки преподават елей дух, академ ий за границу и их знагение
значение имела командировка Н. Ф. Красносельцева для развития церковной археологии и литургики в КазДА’2.
В эпоху действия Устава духовных академий 1869 г. было предпринято еще две попытки использовать европейскую науку для подготовки к кафедрам — в 1878-1880 гг. централизованная кампания по повышению уровня преподавания классических языков, а в 1882-1884 гг. — единичная, но весьма плодотворная и важная, магистра СПбДА И. С. Пальмова, для приготовления к проектируемой кафедре Истории славянских Церквей. Первая была обусловлена общим «классическим» пафосом конца 1870-х гг. ’’ В 1877 г. Синод согласился
института. 1874-1909. Краткий очерк ученой деятельности. СПб., 1909. Автобиография. С. 9. Указом 30 апреля 1879 г. Святейший Синод разрешил учреждение коллекции. Об истории организации музея СПбДА см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 160. Д. 282; ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2881. Л. 1-13; Там же. Д. 2935; Там же. Д. 2936; Там же. Д. 3012; Там же. Д. 3034; Ж ЗС СПбДА за 1877-1878 уч. г. С. 324-325; То же за 1878-1879 уч. г. С. 89, 172-173; Покровский Н. В. 1809-1909. Церковно-археологический музей Санкт-Петербургской духовной академии. 1879-1909. СПб., 1909; Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи: XIX век. М., 1986. С. 187 188.
:’2 Профессор И. С. Бердников в отзыве на отчет Красносельцева отметил: «Было бы желательно, чтобы подобные путешествия с ученой целью людей, преданных науке и умеющих взяться за дело, повторялись почаще и чтобы дело собирания и разработки рукописного церковно-исторического и археологического материала, хранящегося в западных и восточных заграничных библиотеках, доселе почти нетронутое русскими учеными, было поставлено одною из прямых задач высшей православной богословской науки и велось систематически» (ПСС КазДА за 1884 г. С. 206). Хотя в КазДА скудость средств позволяла открыть Церковно-археологический музей только при действии нового Устава 1884 г., памятники, фотографии, слепки, привезенные Н. Ф. Красносельпевым из своей командировки, легли в основу его коллекции.
“Министр Народного просвещения и обер-прокурор в одном лице граф Д. А. Толстой был последовательным сторонником усиления «классического» элемента во всех системах преподавания. В период разработки духовно-учебных Уставов ему пришлось смириться на
193
Я . Ю . Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
с доводами обер-прокурора и Учебного комитета о необходимости усилить преподавание клас- сических языков в академиях, В 1878 г. оба древних языка были сделаны обязательными для изучения каждым студентом, а для усиления преподавания необходимо было назначение по древним языкам приват-доцентов, в помощь основным преподавателям, а также повышения уровня основных пре- подавателей-классицистов* 34. Это мероприятие дало основание послать в Европу: доцента МДА по латинскому языку П. И. Цветкова
(Германия и Италия, 1878-1879 уч. г.), приват-доцентов СПбДА по кафедрам греческого и латинского языков Я. Смирнова и А. Садова (Берлин, дважды, 1878-1880 гг.), доцента латинского языка КДА Н. М. Дроздова (Берлин, 1880-1881 уч. г.). Эти командировки позволили не только повысить уровень преподавания классических языков, но и ввести в учебный процесс современные достижения в области языкознания и источниковедческой работы с древними текстами35.
Профессор МДА Петр Иванович Цветков
умаление часов по древним языкам в духовных академиях, ввиду многопредметности и учебных перегрузок. Однако семинарский уровень знаний по греческому и латинскому языкам, несмотря на усилия Устава 1867 г., был низок для самостоятельной работы с богословскими текстами, на что сетовали и сами преподаватели академий.
34 Указ Святейшего Синода от 21 апреля 1878 г. за № 1153.; ОР РГБ. Ф. 767. К. 2. Д. 29. Л. 1-2; РГИА. Ф. 802. Оп. 9. 1878 г. Д. 31. Л. 1-15; Там же. 1878 г. Д. 38. Л. 1-3; Там же. 1879 г. Д. 6. Л. 1-2; ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2811. Л. 1-10; Там же. Д. 2868. Л. 1-4; Извлечение из отчета обер-прокурора за 1881 год. СПб., 1882. С. 150.
:,s ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2867; Там же. Д. 2877; Там же. Д. 2898; Там же. Д. 2909; Там же. Д. 3007; Ж ЗС СПбДА за 1880- 1881 уч. г. С. 13-18, 143-155, 149-155.
194
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
Командировка же И. С. Пальмова — выпускника СПбДА, только что защитившего магистерскую диссертацию '" — была уникальной: она предпринималась с конкретной целью — подготовки кандидата на проектируемую кафедру истории Славянских Церквей, продолжалась два года и положила основание церковно-исторической славистике в российских духовных академиях. Инициаторами этой поездки были профессора И. Е. Троицкий, М. О. Коялович и В. И. Ламанский, при организации этой командировки и в переписке, ее сопровождающей, были сформулированы и высказаны определенные идеи и даже концепции по значению европейской науки для российского богословия. В 1882-1884 гг. И. С. Пальмов занимался в архивах и библиотеках Львова, Праги, Бауцена, Терн гута, Белграда, Вены, Загреба, Лайбаха, Болгарии, Константинополя, Афона, Афин, о. Патмоса и Румынии'7. Результатом было открытие при кафедре новой общей церковной истории приват- доцентуры по истории славянских церквей и начало развития исторической славистики в академиях'".
Наконец, ряд командировок членов корпорации СПбДА — протоиерея Иоанна Янышева и профессора И. Т. Осипипа - был связан с присутствием на старокатолических конференциях, проходящих в 1871-1875 гг. в Мюнхене, Кельне, Бонне. Непосредственной организацией, посылающей их на конферен- * 17
)(’Гуситское движение. Вопрос о чаше в гуситском движении. СПб,, 1881.
17 Отчет об этих занятиях был издан: Из путешествия по греко- славянским землям. СПб., 1890.
:и В дальнейшем И. С. Пальмов стал лучшим специалистом в академиях по истории Славянских Церквей (докт. дисс. «Чешские братья в своих конфессиях до начала сближения их с протестантами в конце первой четверти XVI столетия. Т. I. Вып. 1: Главнейшие источники и важнейшие пособия. Вып. 2: Приложения Confessiones fidei fratrum Bohemorum» (Прага, 1904) и др.) См.: ОР РНБ. Ф. 574. Он. 1.Д. 735. Л. 1 -6; Там же. Д . 798. Л. 1 -37 . См. также письмо В. В. Болотова к И. Е. Пальмову: Болотов В. В. Неизданное письмо И. С. Нальмо- ву / Подгот. и публ. Л. А. Герд / / ХЧ. 2000. № 19. С. 39-81 (архивный вариант: ОР РНБ. Ф. 558. Д. 166. Л. 1-23).
195
Н. Ю. Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
ции, был Петербургский отдел Общества любителей духовного просвещения, но его работа, обсуждения, богословское осмысление проблем диалога Русской Православной Церкви со ста- рокатоликами были так тесно связаны с академией, что эти поездки можно занести «в актив» высшей духовной школы39.
Интересно отметить еще одно явление, которое, хотя было и не так заметно на общем фоне духовно-академической жизни, но подчеркивало важность поездок на христианский Восток, к православным святыням — паломничества. В 1870 г. ректор КДА архимандрит Филарет (Филаретов) — библеист, посвятивший свои научные занятия изучению Священного Писания Ветхого Завета, — посетил Святую Землю. Эта поездка внесла научный вклад в русское богословие: архимандрит Антонин предпринял вместе с архимандритом Филаретом поездку на Синай, где составил уже упомянутый каталог рукописей обители40. Это была первая паломническая поездка представителя академических корпораций в Палестину. В дальнейшем такие поездки случались неоднократно, причем инициативу преподавателей поддержали студенты академий. Так, студенты Киевской академии в 1870-1880-х гг. совершили несколько паломничеств на Афон41. Наиболее ярко отразились в истории духовной школы две поездки студента КДА (летом 1883 г. и летом 1884 г.) Авксентия Стадницкого, в будущем известного
39 См. отчеты об этих командировках: Янышев И. Л. Отчет о Кельнском конгрессе / / Сборник протоколов Общества любителей духовного просвещения за 1872 г.; Он же. Отчет о Боннской конференции / / Сборник протоколов Общества Любителей Духовного Просвещения за 1874-1875 гг.
40 Об этом путешествии: [Филарет (Филаретов), архим.] Из записок синайского богомольца. Киев, 1873.
41 Первое прошение о разрешении заграничного паломничества по святым местам Афона, Синая и Иерусалима было подано в мае 1870 г. студентами третьего курса иеродиаконом Анатолием [Тиха- ем; идентификация фамилии моя — С. Н.] и Сергеем Терновским (ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 852. Л. 7—9, 12). В дальнейшем путе- шенствия предпринимались студентами КДА неоднократно: Там же. Д. 1561. Л. 1-6; Там же. Д. 1788. Л. 1 -6 об.
196
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
церковного деятеля, священномученика митрополита Арсения. Эти путешествия и переживания молодого богослова при посещении святынь монашеской республики были им описаны в очерке и опубликованы'12.
Оба последующих Устава духовных академий — 1884 г. к 1910-1911 гг. - подтвердили все права академий, связанные с развитием богословской науки, в том числе возможность ездить в командировки с научной целью. Академии, с большей или меньшей ревностью, пользовались этим правом, что служило серьезным стимулом развития и научных исследований, и учебного процесса. Командировки за границу стали даже чаще, ибо преподаватели-специалисты приобретали коллективный опыт по их организации, появлялись «накатанные» маршруты, связи с зарубежными учеными и архивами11. Приобретали опыт и Советы, ходатайствующие перед Синодом, а иногда и имеющие непосредственный интерес к организуемым командировкам. Цели и задачи, а также маршруты командировок преподавателей определялись чаще всего самостоятельно, хотя члены Совета при рассмотрении ходатайства могли порекомендовать корректировку маршрута, расширение или конкретизацию задач, исходя из своего знакомства с зарубежной наукой, учеными, книгохранилищами и музеями, из личного опыта. Задание и маршрут для кандидатов на преподавательские кафедры и профессорских стипендиатов составлялись Советом или руководителем стипендиата, с утверждением Совета. Но при отправлении всем командируемым давалась от Совета «инструкция» с примерным маршрутом и три задания:1) научное: ознакомиться с основными направлениями преподаваемого им предмета в западной науке, 2) методологическое: уяснить положение этой науки среди других богословских наук, * *
и ЦГИАУ. Ф. 711. Он. 3. Д. 1561. Л. 1-6; ГЛРФ. ф. 550. Он I.Д. 510, Л. 2-6, 34-38, 49 об.-53 об. См. также: Стадницкий А. Г. Дневник студента-паломника на Афон. Киев, 1886.
'"Частыми стали посещения немецких университетов Берлина, Лейпцига и Мюнхена, итальянских музеев, архивохранилищ и библиотек Афона, Афин, Иерусалима и Синая.
197
ГН . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
}
внутреннюю структуру, изучаемые вопросы, применяемые методы и т.д., 3) источниковедческое и историографическое: ознакомиться с доступными источниками и лучшими пособиями, составить каталог и по возвращении рекомендовать академической библиотеке.
В этом отношении интересно мнение о заграничных командировках профессора СПбДА В. В. Болотова. Сам он не был любителем путешествий и не признавал общекультурных и общепознавательных мероприятий, как непозволительной траты времени и сил для ученого-слециалиста. Заграничная «ссылка» — отрыв от библиотеки и трудовой кельи — по его мнению, могла быть оправдана только великой пользой для академии. Поэтому надо выбирать в европейских университетах только лучших ученых, непревзойденных специалистов в своем деле, и задания командируемым формулировать очень конкретно и продуманно. Сам В. В. Болотов дважды принимал активное участие в формулировке заданий или «курировании» заграничных научных поездок. Первый раз — в 1882-1884 гг., в письмах к И. С. Пальмову, путешествующему с научной целью по славянским странам. В. В. Болотов был оппонентом на магистерском диспуте И. С. Пальмова, передавал ему просьбы И. Е. Троицкого и не мог отстраниться от научной деятельности своего ближайшего коллеги и личного друга. В этих письмах В. В. Болотов, во-первых, укорял своего младшего коллегу (И. С. Пальмов был на два года и на два курса младше В. В. Болотова) в том, что он в своей командировке слишком много времени уделял светскому общению, «славянофильским» беседам, которые лишь «болтовня приятного с самым бесполезным», вместо того, чтобы сосредоточиться на изучении памятников и источников, на науке в тесном смысле слова — «Geschichte der Altslavischen Kirchen»44. Во-вторых, он призывал выбирать те города и университеты, которые имеют научные традиции и серьезный
44 «...Вместо непорочной архивной пыли (о которой Вы упомянули только вскользь) — благоухание гостиных; вместо гробового молчания архивов — бестолковый гвай оваций» (ОР РНБ. Ф. 558, On. 1. Д. 166. Л. 2 -2 об.)
198
настрой: так, Варшаву он считал «бестолковою (с почтенными, впрочем, исключениями)», а Германию — научным миром, который может обогатить как в отношении источников и научных книг, так и в отношении методологии — умение работать с источниками, внимание к тексту, палеографическая подготовка, знание рукописного материала, просто работоспособность'15 .
Второй раз В. В. Болотов попытался инициировать поездку за границу А. П. Рождественского — выпускника СПбДА 1890 г., рассматриваемого в качестве кандидата на замещение кафедры Священного Писания Ветхого Завета. В. В. Болотов настаивал на том, что это как раз тот случай, когда своими силами - доморощенных ориенталистов — обойтись невозможно, учиться еврейскому и другим семитским языкам нужно филологически в строгом смысле слова и только у лучшего
15 «...Их библиотеки и университеты, их манускрипты и палимпсесты, их иезуиты и sanmaurini, их Дю-Канжи и Монфоконы, их Мппп и болландисты, их Ассемани и мхитаристы, их Geld и Verlej'cri.i...» (ОР РНБ. Ф. 558. On. 1. Д. 166. Л. 9 об.-10). (Прим.: Sanmatinni (млн риниане, мавринцы, мавристы) — ученая конгрегация католических монахов-бенедиктинцев во Франции, созданная и 1618 г., сделавшая большой вклад в развитие палеографии как науки, издавшая многие святоотеческие тексты. Дюканж Шарль (1610-1668) французский ученый, византинист, лингвист, автор сочинений по истории Византии и Франции, издатель греческих и латинских текстов но истории средневековья. Болландисты — фламандские монахи иезуитского ордена, во главе которых стоял Иоанн Болланд (+ 1665 г.), издавшие «Acta Sanctorum» в 63-х томах (начато в XVII в.). Асеемапм Иоеиф- Симон (1687-1768) — хранитель рукописей Ватиканской библиотеки, автор трудов Bibliotheca orientalis Clement ino-Vaticana. T. 1 -4 Roma, 1719-1728; Bibliotheca juris orientalis cammici et civilis. Т Л - 4 . Roma, 1762-1764. Мхитаристы — католический орден, основанный Мхитаром Севастийским (1676-1749) с целью сохранения памяти ков древней армянской письменности и поднятия культурного уровня армянского народа; основанный ими в 1717г. монастырь на о. сн. Лазаря близ Венеции стал центром перевода, изучения и издания памятников армянской церковной истории, литературы, трудов во оогосло- ник) и толкованию Священного Писания).
Командировки п р еп о д а ва т ел ей дух , академий за границу и их знагение
Н. Ю. Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
специалиста в Европе, востоковеда и библеиста, знатока языков и выдающегося методолога — профессора Геттингенского университета де Лагарда46 47. В этом В. В. Болотов убеждал и самого А. П. Рождественского, указывая на то, что экзегету не достаточно такого «утилитарного» знания восточных языков и уровня работы с текстами, какими обладает сам В. В. Болотов17, К сожалению, эта поездка так и не была осуществлена, ибо профессор Пауль де Лагард скончался в том же 1891 г.
В командировках 1880-1910-х гг. по-прежнему наиболее значимы были два направления — на Запад, в европейские университеты и музеи, и на Восток, к святым местам, в поиске источников и взыскании благодатной помощи. Постараемся провести систематизацию этих поездок и отметить наиболее важные.
Из «западных» командировок можно выделить три основные целевые группы. Первую группу составляли командировки преподавателей тех наук, которые имели в европейских университетах высокий уровень научного развития и значимых представителей. Задачей таких поездок было слушание лекций и участие в работе научных семинаров. Философские, филологические и церковно-исторические школы Германии и отчасти Франции притягивали в эти годы специалистов и жаждущих знания. Особый подъем испытывала в эти годы экспериментальная психология, и преподаватели кафедр психологии
46 «Едва ли нужно даже и указывать, как важно для будущего экзегета прослушать курс такой еврейской грамматики... которая является курсом психологии семитов» (О Р РНБ, Ф. 88. On. 1. Д. 118. Л. 3); «Широкая начитанность проф. Де Лагарде в столь разных литературах, как сирская и арабская, дающая ему умение различать между формами эпохи процветания и формами периода увядания языка, проницательность, с которой он в массе лингвистического материала выслеживает железную последовательность, с которой работает закон перебоя звуков, и, наконец, его прирожденная страсть к лексикографии — все это делает его школу... как нельзя более полезной для будущего экзегета» (Там же. Л. 4 -4 об.).
47 ОР РНБ. Ф. 88. On. 1. Д. 267. Л. 2-4 .
200
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
и философии духовных академий были не чужды этого порыва. Они ехали преимущественно в Лейпциг, в знаменитый институт экспериментальной психологии профессора Вильгельма Вундта, в Геттинген, в школу профессора Георга Мюллера, в Берлин, слушать Генриха Эббингауза (до 1894 г.), и в Сорбонну, слушать Теодюля Рябо4*. Философы посещали также лекции Эдуарда Целлера в Берлине и Жана Нуррисона в Париже49. На семинарах этих знаменитых ученых встречались
“ Вундт (Wundt) Вильгельм (1 8 3 2 -1 9 2 0 ) — немецкий психолог, физиолог и философ. Профессор физиологии в Гейдельберге (1874), профессор философии в Лейпцигском университете (1875). Основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии (1879, Лейпциг), где изучались ощущения, время реакции, образование ассоциаций, внимание, чувства. Основатель первого в мире журнала по экспериментальной психологии «P hilosophischen Forschungen» (1883).
Мюллер (МьНег) Георг Элиас (1 8 5 0 -1 9 3 4 ) — немецкий психолог, один из основателей экспериментальной психологии. Профессор Гёттингенского университета (1881).
Эббингауз (Ebbinghaus) Генрих (1850-1909) — немецкий психолог, представитель ассоциативной психологии, один из основателей экспериментальной психологии. Доцент Берлинского университета (1880), адъюнкт-профессор Берлинского университета (1886), профессор университета в Бреславле (Вроцлаве) (1894), профессор Галльского университета (1905). Один из основателей журнала «Zeitsch- rift fur Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane».
pH6o(Ribo) Теодюль Арман (1839-1916) — французский психолог. Профессор Сорбонны (1885) и Коллеж де Франс (1888), где был директором первой французской психологической лаборатории (1889). Основатель и редактор первого во Франции психологического журнала «Revue philosophique». Председатель 1-го Международного психологического конгресса (Париж, 1889).
“ Целлер (Zeller) Эдуард (1814-1908) — немецкий философ, богослов. Приват-доцент богословского факультета в Тюбингене (1840), профессор богословия в Бернском университете, профессор философии в Марбургском университете (1849), в Гейдельберге (1862), в Берлинском ) 1872). Как богослов принадлежал к Тюбингенской школе, издатель «Theologische Jahrbbcher». Начинатель истории философии как самостоятельной дисциплины.
201
Я . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К ДУХОВНЫ Й
представители всех стран, обсуждались проблемные вопросы и новые методы. Из философов, после первой поездки приват- доцента КазДА П. А. Милославского в 1874-1875 гг., дважды ездил в Германию доцент, а затем профессор метафизики и логики МДА А. И. Введенский (в 1891-1892 и 1897-1898 гг.), в начале XX в. в командировки отправлялись приват-доцент МДА по кафедре истории философии П. В. Тихомиров (1903- 1904 уч. г.), профессорский стипендиат той же кафедры П. В. Не чаев (1908-1909 уч. г.), доцент кафедры логики и метафизики СПбДА В. А. Беляев (1909-1910 гг.)* 50. Повышение уровняло экспериментальной психологии началось с поездки приват- доцента СПбДА В. С. Серебренникова (1892-1893 уч. г.), затем традицию продолжили профессор кафедры психологии МДА П. П. Соколов (1906-1907 уч. г.) и доцент кафедры психологии КДА И. П. Четвериков (1906-1908 гг.)51. Эти поездки имели очень большое значение для изменения научной палитры в академиях — экспериментальная психология стала одной из наиболее популярных наук в студенческой среде. Этому способствовал и общий подъем интереса к экспериментальной психологии в России, но от преподавателей требовалась компетентность, умение объяснить студентам суть новых идей и концепций, ввести стихийный интерес в конкретные аудиторные формы и возглавить движение. Конечно, далее составления рефератов и их обсуждения студенты не шли, но интерес был несомненен52.
Нуррисон (Nourrisson) Жан Феликс (1825—?) — французский философ, член Академии нравственных и политических наук в Париже.
50 Ж ЗС М ДА за 1894 г. С. 22-23; То же за 1903 г. С. 88-92; То же за 1904 г. С. 319-326; То же за 1910 г. С. 68; ЦГИА СПБ. Ф. 277. On. I. Д. 3647. Л. 1 -6 .
51 Ж ЗС М ДА за 1906 г.; Ж ЗС КДА за 1905-1906 уч. г. (в извлечении). С. 360; Ж ЗС КДА за 1908-1909 уч. г. С. 2; ЦГИА СПБ. Ф. 277. On. 1. Д. 3647. Л. 1 -6 . См. также: [Серебренников В. С.] Отчет доцента академии В. С. Серебренникова об ученых занятиях его за границей в течение 1892/93 учебного года / / ХЧ. 1895. № 3-4. С. 113— 128.
52 Организовывались студенческие психологические общества,
горячо обсуждались проблемы современной психологической науки
202
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
Филологические и церковно-исторические школы представляли интерес преимущественно для бибде истов, патрологов и историков Церкви. Но командировки богословов-сисци- алистов по этим направлениям системой не стали. В 1889 г. профессор Священного Писания Ветхого Завета II. A. Юнге- ровездил с ученой целью в Германию, слушал лекции профессоров Берлинского и Лейпцигского университетов'’1, а к 1891 г. не удалась планируемая командировка A. II. Рождественского и все. После кончины профессора 11. А. де Лагарда в Гетгингене школу ветхозаветной библеис- тики возглавил Адольф Ральфе.Но попыток отправиться на стажировку в Берлин российские библе- исты более нс предпринимали.Однако контакты с духовными академиями профессор Ральфе наладил сам, пригласив в 1910 г. профессора русского и церковнославянского языков и истории русской литературы СПбДА И. Е. Евсеева, как лучшего специалиста в славянской библеистике, участии вать в критическом издании ЕХХ Sepluaginta — Unternehmen знаменитом библиологическом предприятии Геттингенского Королевского общества наук’1. Из патрологов в командировку за границу съездил доцент МДА по кафедре патристики И. П. Попов (1901-1902 уч. г.), посетив Берлинский и Мюнхенский унииср- * *
Мцофсп <>i> МДЛ И и.ш Bill и м.пип Попон
Наиболее яркими примерами служат Философское общество в МДА и Психологическое общество в СПбДА. См. статью настоящего сборника «Студенты высшей духовной школы в Роггии научный поиск и церковный порыв (1 8 9 0 1900 -е гг.)».
ЯПСС КазДА за 1897 г. С. 247.и См.: Евсеев И. Е. Р ук оп и сн ое предание славянской Библии / /
ХЧ. 1911. № 4. С. 4 3 5 -450; № 5 6. С. 044 000 (отд. над.: Cl/б., 1911).
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ситеты. Следует особо отметить, что И. В. Попов использовал командировку для повышения профессионального уровня не только как патролог, но и как методолог. Одним из плодов его поездки был внелекционный семинар для желающих студентов (чтение и разбор наиболее важных и сложных святоотеческих творений), другим — проект радикального преобразования духовно-академического процесса55. Но все же в этой области возможности стажировки были использованы слабо.
Вторую группу «западных» путешественников составляли те преподаватели, для которых сама Западная Европа, с ее историей и современностью, была предметом исследования - историки западных исповеданий, новой гражданской истории.
Здесь каждая академия имела свою традицию. В МДА, после первой такой командировки «по местам научных занятий» профессора Д. Ф. Касицина, был долгий перерыв. Только в начале XX в. коллеги по академии повторили его опыт: во Францию съездил профессор гражданской истории И. Д. Андреев (1903 г.), в Германию, Францию, Бельгию и Австрию - для изучения памятников средневековой старины и современного устроения католических монастырей - про-
Иван Дмитриевич Андреев ФеССор ИСТОрИИ И обличения ЗЗПад-ных исповеданий А. П. Орлов
(1 909 -1910 уч. г .)56 Все они, кроме изучения собственно памятников и сбора фактов, усердно работали в богатых
55 Идеи И. В. Попова были положены в основу проекта Устава духовных академий, составленного Советом МДА к Предсоборному Присутствию, на котором И. В. Попов излагал преимущества своей концепции. См. статью настоящего сборника «Богословское образование в России в начале XX в. — полемика, анализ, синтез».
56 ЖЗС МДА за 1903 г. С. 92; ЖЗС за 1910 г. С. 311-318.
2 0 4
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
библиотеках Германии и Франции. В КазДА активным путешественником был доцент, а затем профессор истории западных исповеданий В. А. Керенский. Первая его командировка состоялась в 1897 г, после этого он предпринимал поездки разной продолжительности в 1899, 1902, 1904, 1911-1913 гг., причем это были и исследовательские экспедиции, и стажировки в университетах, и работа в библиотеках, с целью обновления курса лекций, и, наконец, профессиональные командировки на старокатолические съезды57.
Следует отметить, что участие в международных съездах в конце XIX — начале XX в. стало хотя и не частой, но крайне важной чертой жизни духовных школ. Отметим только два характерных примера. В 1900 г. профессора МДА по кафедре сравнительного богословия С. С. Глаголева пригласили в качестве вице-президента на Всемирный конгресс религий в Париж, что свидетельствовало о признании достойного уровня российской науки58. В 1904 г. в духовные академии поступило приглашение прислать своих представителей на V Международный психологический съезд. И, хотя Советы академий назначили представителей, Святейший Синод не дал благословения на поездкуобстановка в психологических научных кругах, как показалось Церковной власти, приняла направление, несовместимое с задачами духовной школы59. Эго еще раз подчеркнуло непростую задачу — сочетание новых направлений и науке, иногда
'7ПСС КазДА за 1897 г. С. 17; ИСС КазДА за 1911 г. С 70, 159 ,(Ю; ИСС КазДА за 1913 г. С. 90.
'"ЖЗС МДА за 1900 г. С. 14.'"ЖЗС МДА за 1905 г. С. 19, 29.
205
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
весьма спорных, посягающих на основы православного мировоззрения, с научно-церковной позицией.
Наконец, в Западную Европу ехали исследователи древней Церкви и церковных древностей. Памятники церковной старины, хранящиеся в музеях Европы, составляли предмет изучения церковных археологов. После «судьбоносных» экспедиций Н. В. Покровского и Н. Ф. Красносельцева, существенно повлиявших на судьбу духовно-академической церковной археологии, такие поездки предпринимались еще несколько раз. В 1888-1889 гг. ездил еще раз в европейские музеи и библиотеки Н. В. Покровский, постаравшийся использовать в этой командировке свой опыт и высокий профессионализм60. А после введения нового Устава духовных академий 1910-1911 гг, выделившего церковную археологию в отдельную кафедру, была предпринята целая кампания по подготовке молодых пре- подавателей-специалистов: в 1912-1913 уч. г. исследовал музеи и хранилища Франции, Германии, Италии и. д. доцента СПбДА Н. В. Малицкий, а в 1913-1914 уч. г. и в 1915 г. - доцент МДА Н. Д. Протасов61.
Еще более заметным, важным и живительным для духовно-академической науки в эти годы становится «восточное» направление научных командировок, с целью поиска, изучения, описания источников. Этих поездок значительно больше, чем «западных», они предпринимаются и по направлению Советов, и по личной инициативе преподавателей-специалистов, и на деньги, выделяемые духовным ведомством, и на средства самих членов корпораций. Общая характерная черта «восточных» поездок — их практическое направление, либо поиск и изучение источников, либо внедрение в культурный контекст изучаемых народов. Здесь можно выделить две группы, но не по тематическому, а по географическому принципу.
Первое — в страны древнего Православия, в Палестину,
,ЮЖ ЗС СПбДА за 1888-1889 уч. г. С. 176-180; ЖЗС СПбДА за 1888-1889 уч. г. С. 130-136.
61 Ж ЗС СПбДА за 1911-1912 уч. г. С. 142; ЖЗС МДА за 1914 г. С. 11-14.
206
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
на Афон, в Грецию. В этом потоке можно выделить поездки с научными целями и паломнические путешествия. Но следует заметить, что и научные поездки были связаны с благоговейным поклонением святыням, а паломнические путешествия истинных ученых неизбежно подразумевали и научный интерес. Отметим самые важные из этих экспедиций.
Четыре раза в Палестину и прилегающие к ней области был командируем для научных исследований профессор библейской археологии КДА А. А. Олесницкий: кроме 1873-1874, еще в 1886, 1889 и 1891 гг. В последний раз он участвовал в раскопках памятников Заиорданья. Его научный авторитет был признан Академией наук и Императорским Православным Палестинским обществом — и его приглашали в качестве специалиста-консультанта для проведения раскопок в Святой Земле62.
Дважды ездил в Палестину профессор КазДА 11. Ф. Крас- носельцев: в 1885 г. паломническая поездка привела его к открытию богатств Патриаршей библиотеки, в 1888 г. было совершено уже упомянутое описание славянских рукописей этого собрания6*. В 1886 г. предпринял паломническую поездку в Святую Землю профессор КДА по кафедре библейской истории Ф. Я. Покровский6,1. В 1888 г. профессор КазДА но кафедре Священного Писания Ветхого Завета II. А. 1011 repo в также предпринял поездку с ученой целью в Палестину, причем указал на профессиональную необходимость изучения святых мест для специалиста его профиля66. * У
и ЦГИАУ. Ф. 711. Он. 3. Д. 1999. J\. 1 8; ЖЗС КДА на 1886 г. С. 200; Годичный акт КДА за 1889 г. С. 34.
1,1 Красносельцев Н. Ф. Богослужение Иерусалимс кой Церкви н конце IV в. Казань, 1888; Он же. Славянские рукописи Патриаршей библиотеки в Иерусалиме. Казань, 1889 (отд. отт. из: ПС. 1888. № 12. С. 1-32).
'лПокровский Ф.Я. Путешествие в Снятую Землю//'ГКДА. 1887.У I. С. 404-424; Т. II. С. 3-37, 95-114, 275-293, 563-599; Т. Ш. С. 430-455; Т. IV. С. 309-314, 411-422; 1888. Т. I. С. 316 351, 450 492; Т. И. С. 644-680; Т. IV. С. 248 285; 1889. Т, I. С. 243-281.
65 Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской
207
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
В 1893 г. профессор библейской археологии и еврейского языка КазДА С. А. Терновский был командирован в Палестину на целый год. Интересно, что это полностью изменило мнение профессора о преподаваемой им науке. Первоначально профессор Терновский понимал библейскую археологию как науку исключительно книжную, основанную на текстах Библии как единственном источнике, а свою задачу видел прежде всего в ознакомлении своих слушателей со строем жизни и бытом еврейского народа по священным книгам. Попав в Святую Землю, он установил научный контакт с архитектором Конрадом Шиком, автором всемирно известной реконструкции ветхозаветного Храма. Кабинетный ученый увидел реальную землю, на которой происходили священные события и которая может дать дополнительное свидетельство об этих событиях. Результатом стал главный труд профессора Терновского - переработанный систематический курс лекций по библейской археологии и мастерски разработанная система «священной географии»* 66. МДА командировала в 1899 г. на год для приготовления к кафедре библейской истории профессорского стипендиата Ивана Петровых, будущего митрополита Иосифа67. Опыт МДА — приготовление к преподаванию по кафедре, связанной с библейской реальностью, в библейских местах — переняла КазДА. В 1908 г. доцент Е. Я. Полянский, назначенный на кафедру библейской археологии и еврейского языка, был коман-
духовной академии после ее преобразования. 1870-1892. Казань, 1892, С. 293.
66 Библейская археология. Вып. I, II. М., 1891-1896. Другие его труды: Иудеи рассеяния и их религиозная пропаганда. Очерк из истории приготовления рода человеческого к пришествию Спасителя // ПС. 1881. Т. 1; Патриарх Иерусалимский в древнее время. Казань, 1886; Праздник кущей у евреев. Казань, 1890; Сборник статей по Ветхому Завету. Казань, 1898; О значении имени «Иерусалим». Казань, 1907; Различные названия Иерусалима в Библии / / ПС. 1912. № 6; Топография Иерусалима библейских времен / / Там же. 1912. № 12; Внешние условия жизни в Палестине. Саратов, 1914; Изъяснение некоторых псалмов. Казань, 1915.
67 ЖЗС МДА за 1890 г. С. 171-203.
2 0 8
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
дирован в Палестину на год**. Действующий профессор кафедры - С. А. Терновский — составил развернутое обоснование необходимости этой командировки, ссылаясь на свой опыт преподавания и посещения Святой Земли как места библейских событий. В 1910 г. в Палестину отправился профессор истории Древней Церкви В. И. Протопопов — исследовать памятники первых веков христианства'19.
Девять раз совершал экспедиции по поиску и описанию древних литургических рукописей в библиотеках и хранилищах Православного Востока профессор церковной археологии и литургики КДА А. А. Дмитриевский: летом 1886 г., с июля 1887 г. по 1 сентября 1888 г., в 1889 г.,1891 г., 1893 г., 1896 г., 1897 г.,1898 г„ 1903 г. Он исследовал литургические памятники архивов и библиотек Афона, Иерусалима,Синая, Афин, Фессалоник, Смирны, Патмоса, Халки, Трапезунда, библиотек Италии, Франции, Германии. Исследованные им рукописи евхологиев, типиков, орологиев исчислялись сотнями. Четкий план работы, согласно которому он проводил исследование, был уникален для высшей духовной школы тех лег и открывал новую эпоху в ие- ,Г J Профессор КДА Алексойторико-литургических исследова- Афанасьевич Дмитриеиский
ниях, несмотря па то, что в те годыв этой области вообще был подъем. Одним n;i плодов его поездок стало уникальное научно-аналитическое описание огром-
1ЛПСС КазДА за 1908 г. С. 14-15, 136.1,11 ПСС КазДА за 1910 г. С. 53, 232 -233. Деятельно» i ь профессора
Протопопова была удостоена грамоты Иерусалимскою Патриарха и Золотого Креста и Животворящею Дрена (ПСС КазДА :ia 1912 г.С. 153).
2 0 9
А
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
ного количества рукописей, другим — методологическая система, разработанная профессором Дмитриевским для исследования рукописей и ставшая значительным вкладом не только в отечественную, но и в мировую историческую литургику70,
Неоднократно ездил на Православный Восток - и в командировки, и по собственному почину — профессор СПбДА И. И. Соколов. Византинист, знаток истории православного монашества, профессор Соколов в результате своих поисков убедился в необходимости заняться исследованием источников позднего периода Византийской Империи (XI-XIV вв), призывал учредить в академиях специальные кафедры - Истории православной Греко-Восточной Церкви от разделения Церквей до настоящего времени, чтобы «смотреть на Православный Восток не сквозь тусклые и фальшивые западные очки, а изучать предмет самостоятельно, беспристрастно, при свете и на основании архивных данных»71. При этом И. И. Соколов считал чрезвычайно важным изучать и современную жизнь Православных Поместных Церквей, их церковно-канонические особенности, богослужебный строй72.
70 Дмитриевский А. А. Путешествие по Востоку и его научные результаты. Киев, 1890; он же. Современное богослужение на Православном Востоке. Вып. 1. Киев, 1891; он же. Древнеиудейская синагога и ее богослужебные формы в отношении к древнехристианскому храму и его богослужебным формам. Казань, 1893; он же. Патмосские очерки. Из поездки на остров Патмос летом 1891 г. Киев, 1894; он же. Евхологион IV века Сарапиона, епископа Тмуитского. Киев, 1894; он же. Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. Т. I. Киев, 1895; Т. II. Там же, 1901; он же. Православное русское паломничество на Запад (в Бар-град и Рим) и его насущные нужды. Киев, 1897.
71 Журналы Предсоборного Присутствия. Т. 4. Прил. к. журналу № 25. С. 5.
72 См. его труды по этой теме: Соколов И. И. Очерки истории Пра вославной Греко-Восточной Церкви в XIX в. СПб., 1901; Он же. Цер- ковно-религиозная и общественно-бытовая жизнь на православном греческом Востоке в XIX в. СПб., 1902; он же. Константинопольская Церковь в XIX в. Т. 1. СПб., 1904 (докторская диссертация).
210
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
Доцент КДА по кафедре гомилетики священник Николай Гроссу поддержал это стремление — сближение с братскими православными народами: летом 1909 г. он предпринял путешествие по Востоку с профессиональной целью — не только изучить памятники древне-христианского проповедничества, хранящиеся в архивах и библиотеках, но и «ознакомиться с постановкой церковной проповеди в Православных I Церквах»™.
Интересно, что в эти же страны преподаватели академий ездили для изучения не только древних христианских святынь и памятников, но и ислама. В 1897 и 1909-1910 гг. КазДА отправляла на Ближний Восток практиканта арабского языка и выходца из Сирии П. К. Жузе. Местный житель, получивший высшее богословское образование, поставил перед собой задачу не только новыми глазами посмотреть на положение христиан в Палестине, но и «найти в церковных книгохранилищах древние источники» по истории ислама, еще не введенные в научный оборот. Кроме того, эти командировки имели вполне реальные учебные плоды — русско-арабский словарь и учебник русского языка для арабов, представлявшие собой заме гное явление в российской арабистике™. В 1909 г. КазДА отправила на два года в Сирию, Палестину, Египет, Джсзду (Аравия) экстраординарного профессора М. А. Машанона - для изучения арабского языка и богословской мухаммеданской литературы* 74 75 * 77.
Активизировались в конце XIX — начале XX в. и паломнические путешествия. Из паломничеств в Святую Землю отметим лишь необычное и значимое — группы преподавателей и студентов МДА под руководством ректора епископа Волоколамского Арсения (Стадницкого), совершенное летом 1900 г.76
пЖСС КДА за 1908-1909 уч. г. (в извлечении). С. 305.74 ПСС КазДА за 1911 г. С. 40. См.: Жузе II. К. Учебник русского
языка для арабов: В 2 ч. Казань, 1901-1902; он же. Полный русско- арабский словарь: В 2 т. Казань, 1903 1904. результатом торой командировки стали очерки по исследованию ислама и сю ис точников.
75 ПСС КазДА за 1909 г. С. 35.7,1 См. отчет о поездке, редактированный самим владыкой Арсе
нием: В стране священных воспоминаний. Описание путешествия в
211
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Опыт группового паломничества был повторен преподавателями и студентами КДА в 1911 г. во главе с профессором священником Александром Глаголевым* 77.
Всегда был притягателен для российских богословов Афон - и как место поклонения святыням, приобщения к духовному опыту древних и современных подвижников веры, и как сокровищница источников богословской науки. Одним из частых посетителей монастырских библиотек Афона был А. А. Дмитриевский — и найденные там рукописи позволили решить многие научные загадки, воспол
нив литургическую церковную историю. В начале XX в. путешествия на Афон совершали многие преподаватели академий. Одним из наиболее плодотворных и в исследовательском отношении, и в отношении налаживания связей с представителями православного монашества Святой горы было путешествие доцента МДА иеромонаха Пантелеймона (Успенского)78.
Профессор КДА протоиерей Александр Глаголев
Святую Землю, совершенного летом 1900 г. преосвященным Арсением, епископом Волоколамским, Ректором Московской Духовной Академии, в сопровождении некоторых профессоров и студентов. М, 1902 (отт. из БВ). См. также описание паломничества в Дневнике епископа Арсения (ГАРФ. Ф. 550. On. 1. Д. 511. Л. 53 об.-62).
77 Первая паломническая экскурсия студентов Императорской Киевской духовной академии в Святую Землю летом 1911 г. / Сост. Карнеев С. Е. под ред. проф. свящ. А. А. Глаголева. Киев, 1911. Пере- изд.: По святым местам от Киева до Иерусалима. Киев, 2005.
78ОР РГБ. Ф. 770. К. 2. Д. 14. Л. 1-52; Там же. К. 3. Д. 1-3,5,6. См. также: Пантелеймон [ Успенский], иером. Из записок путешественника по Афону (К вопросу об изучении творений преподобного Симеона Нового Богослова) / / БВ. 1915. № 1. С. 87-121.
212
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
В 1902 г. в командировках на Православный Восток появляется новый организационный элемент — возможность отправлять своих представителей, преимущественно профессорских стипендиатов, в качестве стажеров в Русский Археологический институт в Константинополь. И, хотя на общем фоне «восточных» командировок это было не так заметно, опыт включения духовных академий в общенаучный процесс был очень важен™.
Второе «восточное» направление, менее заметное, но имеющее большое значение для развития миссионерских наук п духовных академиях, прежде всего, Казанской — на нехристианский Восток, для практики в языках, изучения религиозных и бытовых особенностей просвещаемых народов. В 1911- 1912 гг. профессорский стипендиат при кафедре Истории и обличения ламайства иеромонах Амфилохий (Скворцов) отправился с научной целью в Монголию и Забайкалье”0. Это было очень важно как для развития научной миссиологии, так и «буддистского» направления востоковедения — к этому времени уже сложилось ясное представление, что исследованиями в этой 79 *
79См. статью настоящего сборника «Русский археологический институт в Константинополе и участие высшей духовной школы в его деятельности (1894-1914 гг.)»
*°ПСС КазДА за 1911 г. С. 147. О. Амфилохий к этому времени уже имел глубокие знания по буддизму и изучил в совершенстве монгольский язык и, насколько возможно, религиозные и бытовые особенности, имел и опыт жизни среди степных народен - в 1909 1910 уч, г. (будучи студентом выпускного курса КазДА) он был командирован в Астраханскую степь для изучения калмыцкого языка и деятельности в Православной миссии среди калмыков; активно участвовал в миссионерских съездах, на которых обсуждались вопросы перевода Священного Писания и богослужебных текстов на языки народов восточных окраин; его кандидатская диссертация «Религиозно-нравственные переводы на калмыцкий язык как сродства миссионерского воздействия» была удостоена премии митрополи та Иосифа; в 1910-1911 уч. г. он слушал лекции па Восточном факультете Санкт-Петербургского университета, чтобы изучить монгольский язык до свободной) понимания священных рукописей ламаизма.
области должны заниматься лица, имеющие высшее богословское образование. Опыт был удачным, и в 1912 г. иеромонах Амфилохий, уже в статусе и.д. доцента, был командирован по тому же направлению на два года, для научного изучения буддизма81 . Это направление духовно-академической науки имело перспективы.
К этому же направлению можно отнести миссионерские экспедиции, в которых выпускники академий принимали все более активное участие. В конце XIX — начале XX в., когда внешние миссии Православной Российской Церкви набрали силу, очень важно было «оснастить» их богословски образованными кадрами, Старая Китайская, Японская, Иерусалимская, а с 1898 г. Корейская (Сеульская) и Урмийская миссии пополняют свои ряды магистрами и кандидатами богословия. Появление в стенах академий ревнителей этого служения было одной из характерных черт церковного подъема 1890-1900-х гг.82
В октябре 1912 г. академиям было предложено ежегодно отправлять одного из выпускников каждой академии для продолжения образования в Практическую восточную академию при Обществе Востоковедения в Петербурге. Академия готовила кадры для дипломатической, консультативной, торговой, военной деятельности в восточных странах и на восточных окраинах Российской империи — здесь были лучшие специалисты-востоковеды и знатоки китайского, монгольского,
_____________ Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
81 Указ Святейшего Синода от 30 апреля 1912 г. См. также: прошение о. Амфилохия о разрешении остаться в Монголии на 1913- 1914 уч. г., с обоснованием научной необходимости, и разрешение Синода (ПСС КазДА за 1913 г. С. 9, 84). По возвращении из Монголии о. Амфилохий продолжил преподавание, одновременно был помощником директора Историко-этнографического музея в Казани, которому преподнес в дар богатую коллекцию редких предметов буддистского и ламаистского культов (более ста предметов).
82 ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 3065. Л. 1-6; Там же. Д. 3173. Л. 1- 5 об.; Там же. Д. 3189. Л. 1 -6 об.; ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. 1767. Л. 1-4; Там же. Д. 1844. Л. 1 -4 об.; Там же. Д. 2117. Л. Л. 1-2; Там же. Д. 2192. Л. 1 -8 об.; Там же. Д. 2464. Л. 1 -3 и др.
1
214
Командировки преподавателей дух, академий за границу и их знагение
японского, персидского, среднеазиатского (тюркскою) языков. Наиболее актуально это предложение было для КазДА, и Совет этой академии решил направлять в академию тех выпускников, которые предназначаются к служению в восточных окраинных епархиях, духовных миссиях или специализируются по миссионерским кафедрам академии8*. Таким образом, миссионерская деятельность могла получить серьезное научное основание, но эта система не успела реализоваться в задуманной полноте.
Все «восточные» поездки были разными и по задачам, и по итогам. Но их общим результатом стал значительный подъем библейско- и церковно-археологической, церковно-исторической, литургической и миссионерской науки в духовных академиях.
Отметим еще несколько следствий «командировочного» явления для развития учебного процесса и инициативы преподавательских корпораций. Заграничные командировки требовали «живого» знания языков. Слабость выпускников духовных академий в разговорных европейских языках на рубеже XIX-XX вв. стала заметна и мешала благополучному обучению за границей. Поэтому в январе 1900 г. Совет КазДА, а за ним и Советы других академий приняли постановление о повышении значения баллов, полученных абитуриен тами па вступительных экзаменах по новым языкам8*.
Многие члены преподавательских корпораций испытывали необходимость в летние вакационные месяцы поработать в заграничных библиотеках, более богатых, нежели российские. Для получения материальной помощи от духовного ведомства нужно было веское обоснование, подкрашенное ходатайством Совета. Поэтому в начале XX в. стали распространены кратковременные поездки за свой счет. В КДА эта традиция была наиболее основательна, и для подкрепления путешественников в 1908 г. там был даже учрежден особый фонд пи средства, * 215
'"ПСС КазДА за 1912 г. С. 36, 219-220. “ ПСС КазДА за 1900 г. С. 8 -9 .
215
Н . Ю . Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
пожертвованные по завещанию профессорами А. А. и М. А. Оле- сницкими*5.
Таким образом, заграничные командировки представителей духовных академий были чрезвычайно интересным явлением в истории российской богословской науки и важной вехой в развитии высшей духовной школы. Контакты с зарубежными коллегами, временное участие преподавателей духовных академий в учебном процессе европейских университетов позволили ввести и в научно-богословские исследования, и в духовно-учебный процесс новые методы, воспринять новые идеи и новые научные направления. В периоды реорганизации российской учебно-богословской системы знакомство членов преподавательских корпораций с иными моделями богословского образования давало возможность нестандартно решать поставленные задачи, вносить в традицию свежую струю. Реальная работа с источниками, расширение базы исследований, разработка методологии привели не только к активизации собственно российской богословской науки, но и к выходу некоторых ее областей на мировой уровень. Несколько раз с помощью зарубежных командировок удавалось подготовить кандидатов на «проблемные» духовно-академические кафедры и тем самым сделать «рывок» в той или иной области богословия. Не менее важен был «негативный» вклад этих командировок. Члены академических корпораций получили возможность трезво оценить свой научный уровень, более четко выделить «болевые» точки, сделать определенные выводы и предложить более или менее удачное использование мирового учебно-богословского опыта для решения этих проблем. И, хотя значение этих выводов и реакция на критический элемент была неоднозначна, несомненно, это способствовало росту и совершенствованию российской высшей духовной школы.
Кг,Ж ЗС КДА за 1908-2909 уч. г. (в извлечении). С. 4-5.
РУССКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ И Н С Т И Т У Т В КОНСТАНТИНОПОЛЕ И УЧАСТИЕ
ВЫСШЕЙ ДУХОВНОЙ Ш КОЛЫ В ЕГО Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ
(1 8 9 4 -1 9 1 4 гг.)
Данная статья посвящена деятельности выпускников и преподавателей духовных академий в Русском археологическом институте в Константинополе (РАИК). Интерес исследователей последних лет неоднократно обращался к документам Р А И К '. Довольно подробно исследована история основания института, проблемы, которые возникали в его деятельности. Обращено внимание на основные направления его деятельности — собирание письменных, нумизматических и художественных источников, организация экспедиций для изучения и описания древних церквей и монастырей, работа в архивах и библиотеках, создание ценной библиотеки, музея, коллекции фотографий. Оценены по достоинству научные достижения и роль в развитии византинистики, церковной археологии главных деятелей РАИК. Описаны сохранившиеся архивные документы, 1
1Августин (Никитин), архим. Русский Археологический Институт в Константинополе / / БТ. № 27. М., 1986. С. 2 66 -293 (далее: Ав- tустин (Никитин), архим. Указ, соч.); Ершов С. А., Пятницкий 10. А., Юзбашян К. Н.. Русский археологический институт н Константинополе (к 90-летию со дня основания) / / Палестинский сборник. 1987. Ныи. 29 (92); Басаргина Е. Ю. Русский археологический институт в Константинополе: архивные фонды / / Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995.С.62-92; Ее же. Русский Археологический Институт в Константинополе: очерки истории. СПб., 1999 (далее: Басаргина. Указ, соч.)
217
Я . Ю . Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
отражающие работу института. Но есть одна тема, которая требует дополнительного исследования — вклад в деятельность РА И К преподавателей и выпускников высшей духовной школы. Исследователи останавливались кратко на этом вопросе, но это не было предметом специального изучения2. И дело не только в том, что список имен представителей духовных академий, работавших в РАИК, может быть уточнен и расширен1. Важным представляется оценить и значение того вклада, который внесла деятельность РАИК в развитие богословской науки и духовной школы. А такая постановка темы требует и расш ирения источникового комплекса: если предыдущие исследователи брали за основу печатный орган РАИК («Известия РА И К ») и архивный фонд института, то мы постараемся привлечь документы, связанные с деятельностью самих духовных академий.
Одной из главных задач российской богословской науки в конце XIX в. была задача ее полноценной интеграции в общее научное пространство России. Задача эта была поставлена как извне, так и изнутри. С одной стороны, богословие долж но было занять должное место в универсуме наук и активно вклю читься в исследования, совместные с гуманитарными науками. Общие пожелания к такому синтезу подкреплялись конкретными научными запросами, то есть проблемами, которые возникали в гуманитарных исследованиях и требовали компетентного богословского анализа. С другой стороны, в изучении богословских вопросов часто была необходима не просто общая гуманитарная научная эрудиция, которой обладали и выпускники духовных академий, но глубокие профессиональные знания и методы лучших специалистов — историков, филологов.
2 Август ин (Никитин), архим. Указ. соч. С. 285-286; Басаргина. Указ. соч. С. 130.
О. Августин называет шестерых посланцев духовных академий в РА И К (Указ. соч. С. 285-286); Е. Ю. Басаргина — девятерых (Указ, соч. С. 130); автору настоящей статье удалось восстановить список из одиннадцати посланцев.
2 1 8
Русский археологигеский институт в Константинополе
Почему этот вопрос — полноценной интеграции богословия в научное пространство — вообще вставал в православной России XIX в., для которой христианство не просто сыграло важную роль в развитии государственности, культуры, общ ества, но явилось собственно той силой, идеей и духовной основой, которая определила и создала Русь, русский народ, русскую культуру? Основных причин, которые требовали особого внимания к этому вопросу, было две. Первой причиной была специфика исторического пути богословской науки в России'1. Развитие научного богословия в России связывалось преимущественно с духовной школой, ее преподавателями и выпускниками, а духовная школа в России имела отдельную структуру и находилась в ведении Святейшего Синода, а не М инистерства народного просвещения. Хотя замкнутость духовной школы во второй половине XIX в. была преодолена как принцип, практическое «отстояние» отчасти сохранялось5. Поэтому, *
*В первой половине XVIII в., когда в России закладывалось основание новой научно-образовательной системы, богословие заняло в этой системе неординарное положение. Академия наук и художеств, учрежденная в 1724 г., не имела богословского отделения, а Московский университет, образованный в 1755 г., не включил в свою структуру богословский факультет, хотя, конечно, в университет был определен преподаватель Закона Божия. Разумеется, это не означало, что теология исключена из палитры научных направлений, поддерживаемых государством, а было обосновано конкретной ситуацией — основу корпорации Академии наук на раннем этапе составляли иностранные иноконфессиональные профессора. Российское правительство, понимая необходимость такой зависимости на начальном этапе, но желая оградить православное богословское образование от инослав- ных влияний, предпочло стимулировать его самостоятельное развитие, под попечением Православной Церкви. Поэтому на этом этапе государственная власть решила поощрять учреждение особых духовных школ и развитие в них всех наук, как богословских, так и «соприкосновенных» с ними. Но ситуация затянулась, палитра «академических» наук так и не включила теологии.
’В 1860-е гг. духовная школа была отчасти «встроена» в общую гистему образования: Устав российских университетов 1863 г. разрешил поступление выпускников духовных семинарий на общих осно-
2 1 9
н е с м о т р я н а п о л н о е п р и зн а н и е общ ей научной ™
н ы м о б щ е ст в о м а в тор и тета и ссл ед о в а тел ей -б о т * " с т и ж е н и й и у ч е н ы х ст еп ен ей , увенчание н а и б о л Т Г * '' " "
р а б о т н а у ч н ы м и п р ем и я м и , во второй половине XIX Г * * 1 ст а в л е н в о п р о с о б о л е е акти вном участии ученых-бо о б щ е н а у ч н ы х п р оек тах . ГОслововв
Д р у г о й п р и ч и н о й бы ла сп ец и ф и к а богословия как т т
Н е с м о т р я н а у н и в ер са л ь н о ст ь систем ы гуманитарных знаний и с о о т в е т с т в и е б о г о с л о в и я общ и м научным критериям - нал и ч и е н а у ч н ы х зад ач , ак си ом ати к и , перспектив, собственной стр ук т ур ы , п р и н ц и п о в развития , методов и логики исследован и й , — п р и р еш ен и и н ек отор ы х богословских научных проблем вставал в о п р о с о со х р а н ен и и сакральной значимости богослов и я . Э т о т а с п е к т отк р ы в ал н овы е горизонты не только для б о г о с л о в и я в т е с н о м см ы сл е слова, но и для всего универсума ч е л о в е ч е с к о г о зн а н и я . О д н а к о подобн ы е вопросы требовали
о с о б о г о о б с у ж д е н и я .О д н о й и з н а и б о л е е персп ек ти вн ы х областей науки для
о б с у ж д е н и я э т и х в о п р о с о в и п лодотворного сотрудничес^
б о г о сл о в о в , и стор и к ов , археологов , филологов, юрис в и зан ти н и сти к а . К р ом е того, им енно византинистика Р _
л я л а о со б ы й научны й и н тер ес для России, прИН*В гие Чер- сл а в и е от В и за н ти й ск о й Ц еркви и унаследовавше
[ В и за н т и й ск о й и м п ерии . „ моЖНо от-Р о с с и й с к а я в и зан ти н и сти к а , начало кот Р ^ х1х в.
:сти к п ервы м векам хр и сти ан ств а на см0трЯ на «Р"~тела н ем а л ы е и н ауч н ы е усп ехи . рИ^ g й западн°и *г
^ ______ зтпяние достижен |ПЯтав1В‘я
,дыхД
е д ш е ст в у ю щ и е труды v y ~ ....... - „ nHPDOB, пал * 990
' 1 Г
1ел а н ем а л ы е и н ауч н ы е у — - — ий западн«й1ч н о е д л я Р о с с и и и сп о л ь зо в а н и е д о с „ я, впи«»'
:«, с л о ж и л а с ь о с о б а я ш кола * *
(•|Ы .(И
И, с л о ж и л а с ь о с о б а я ш кола и церковНь. „е д ш ест в у ю щ и е труды р усск и х у палом»"X п у т е ш е с т в е н н и к о в и к ол л ек “ t византие»с с и о н е р о в , опы т о тн о ш ен и и Рос
гиях с гимназистами, а Устав « и х гим«а>“"„„„мать в их стены выпускников клас веских средних школ, равных им но с
Русский а р х ео л о ги геск и й и н ст и т ут а К о н ст а н т и н о п о л е
в еск ой культуры с г р е ч е с к о й . Гледует отметить, что д у х о в н ы е академии с д е л а л и д о с т о й н ы й „клад в н а у ч н о е р а з в и т и е в и - чантинистики как в л и ц е т е о р е тиков- исследователей - ц ер к о в ных и стор и к ов , к а н о н и с т о в , литургистов, гом илетов , ц ер к о в ных археологов, так и в л и ц е с в о их в ы п у с к н и к о в -м и с с и о н е р о в . И. Е. Троицкий, Ф . А. К урганов, Ф. А. Терновский, А. П. Л еб ед ев , В. В. Болотов, Н. А. С к а б а л а н о вич, И. И. С околов и д р у г и е у ч е ные высш ей д у х о в н о й ш к ол ы были авторитетны в кругу сп ец и -
Е т к к о н По|>ф п|)|ш ( У с п е н с к и й )
алистов по Византии, з о л о т ы м и камнями в основании этой науки легли труды еп и ск оп а П орф и р и я (У сп ен ск о г о ) и ар химандрита А нтонина (К а п у ст и н а ).
___к 1 8 8 0 -1 8 9 0 -м гг. стало очевидно и то, что усилий отдел ь н ы х уч ены х, зан им аю щ ихся и с с л е д о в а н и я м и и ст о р и ч еск и х , литературны х, канонических, археологических, худож ественны х памятников Византии недостаточно. Требовалось создание спецпа. п.по- го византологичеч ко) о направле-
... . <Ка„у1.Т1Ж)
ним в Российской Академии наук, кафедр византиииетики в университетах и духовны х академиях. Это о т м еч а л о сь на т о р ж еств ен н ы х празднованиях и научных заседаниях, посвященных ю билеям 1000-летию просвещ ения славян (1885 ), 900-летию крещения Руси (1888), 1000-летию со для кончины
990 221
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
патриарха Ф отия (1891)6. Для полноценного научного развития требовался и непосредственный выход на сохранившиеся источники, то есть научная база на территории бывшей Византийской империи.
Идея систематизации и организации деятельности российских археологов на Востоке «витала в воздухе». Археологические институты на Востоке, в непосредственной близости от источников древней Византии, имели практически все страны, претендующие на научное развитие археологии7. Тем более это было важно для российских византинистов, ставивших «ключевым звеном» исследования стремление «отыскивать самую почву, то есть, открывать источники, их инвентаризировать и классифицировать, — расчищать ее, то есть, собирать материал и подвергать его критическому исследованию, восстанавливать факты»8. Но у России такого научного центра не было, и единственную помощь в организации исследований могли оказать
6 На праздновании 900-летия Крещения Руси Ф. И. Успенский высказал надежду, что в будущем «будут открыты в университетах и академиях кафедры по Византии, будут действовать ученые общества, занятые византиноведением, в журналах будут печататься статьи по византийской истории и литературе» (ИРАИК. Т. I. Одесса, 1896. С. 8).
7 Итальянский Францисканский центр и французская Библейская и археологическая школа в Иерусалиме (Ecole Biblique et Archeologique Francaise de Jerusalem) составили костяк католической археологии в Святой Земле. Протестантские группировки в Палестине составили английский Ф онд исследований Палестины (Palestine Exploration Fund), созданный в 1865 г. в Лондоне, и американские центры, несколько попыток создать которые предпринимались с 1840- х гг. (American Oriental Society, 1842; American Palestine Exploration Society, 1870). В Афинах ведущими археологическими учреждениями были немецкий А рхеологический институт (Deutsche» Archaologische Institut in Athen) и Французский археологический институт.
8 Цитата из неопубликованной монографии И. М. Гревса о В. Г. Васильевском (П Ф А РАН. Ф. 726. On. 1. Д. 22 а. Л. 308). Цит. по: Медведев И. П. Некоторые размышления о судьбах русского византиноведения / / Исторические записки. 3 (121). М: Наука, 2000. С. 31.
222
Русский археологигеский институт в Константинополе
лишь Иерусалимская Духовная Миссия и Императорское Православное Палестинское общество (ИППО). Но эти учреждения имели, прежде всего, другие задачи и не могли заниматься непосредственно систематическим развитием научных исследований. В 1887 г. группой профессоров Новороссийского университета — Ф. И. Успенским, Н. П. Кондаковым, А. И. Кирпичниковым — был составлен проект Археологического института, причем в качестве места учреждения был выбран Константинополь9 * . Идея научного укоренения в Стамбуле совпадала с политическими интересами России в этом регионе, а ее реализация укрепила бы авторитет отечественной науки и государства на Востоке. Поэтому проект был активно поддержан русским послом в Стамбуле А. И. Нелидовым. На этом начальном этапе к делу был привлечен И. Е. Троицкий, авторитетный в научных кругах, являвшийся одновременно профессором и СПбДА, и столичного университета. Именно ему было поручено сформировать экспертную группу из ведущих византинистов России и дать отзыв на предложенный проект'0. Сомнения в целесообразности учреждения далекого института были в разных кругах. Так, например, обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев отнесся к идее с сомнением, приводя три аргумента: это отвлечет из России квалифицированные ученые силы, которых и так немного; в неблагоприятном окружении стамбульского общества незначительные силы
“Специальная комиссия в дальнейшем решала вопрос — Константинополь или Афины, об этом же велась дискуссия на VIII Археологическом съезде в Москве в 1890 г. Появился и альтернативный проект профессора-классика Санкт-Петербургского университета В. И. Модестова, об учреждении Археологического института в Риме. См.: Басаргина Указ. соч. С. 26-30.
"'Письмо министра Народного просвещения И. Д. Деляиова И. Е. Троицкому от 20 декабря 1888 г. (О Р РНБ. Ф. 790 (не разобран)). Упоминает об этом письме и описатель фонда И. Е. Троицкого: Герд Л. А. И. Е. Троицкий: по страницам архива ученого / / Мир русской византинистики. Материалы архивов Санкт-Петербурга. СПб., 2004 (далее: Герд. Указ, соч.) С. 17.
2 2 3
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
российских ученых не смогут поставить научные исследования на должном уровне; сумма, которую можно выделить на институт, столь ничтожна, что «на нее нельзя устроить учреждение», а лучше эти деньги употребить «на солидные экспедиции археологов»11. Но члены Синода, напротив, поддержали проект, как и министры народного просвещения (И. Д. Делянов) и Иностранных дел (Н. К. Гире). Было решено ежегодно посылать в РАИК по одному, как минимум, молодому сотруднику от Министерства народного просвещения и от Синода — на два года. Таким образом, исследования в Констан
тинополе изначально проектировались как совместная деятельность университетских и духовно-академических ученых. Проект потребовал длительного этапа обсуждений, повторную экспертизу в 1891-1894 гг., но в конце концов, после семилетних обсуждений, был поддержан. Во время этих обсуждений И. Е. Троицкий старался предусмотреть не только включение ученых-богословов в программу планируемых исследований в Константинополе и стажировку в нем кандидатов и магистров духовных академий, но и полноценное использование этих возможностей для развития богословской науки11 12.
Интересно, что в феврале 1894 г., когда проект РАИК выходил на финишный этап обсуждений, константинопольский
11 Отчет РАИК за 1909 г. / / ИРАИК. Т. XII. С. 246. См. также письма И. Е. Троицкого к К. П. Победоносцеву об организации РАИК: ЦГИА СПБ. Ф. 2182. On. 1. Д. 161.
12 Записка И. Е. Троицкого «Заметка о проектах Устава и Штата Императорского Русского Археологического института в Константинополе» (ОР РНБ. Ф. 790 (не разобран)). Ср.: Герд. Указ. соч. С. 17.
Профессор СПбДА и Санкт-Петербургского
университета И. Е. Троицкий
2 2 4
Русский археологигеский институт в Константинополе
византинист Г. П. Бегл ери в письме к И. Е. Троицкому не только подчеркивал важность этого учреждения, но и высказывал свое мнение о желаемой личности директора. По его мнению, директором должен был стать «исключительно один из профессоров Духовной какой-нибудь академии», в качестве самой подходящей кандидатуры назывался Н. В. Покровский. При этом Г. П. Беглери приводил два главных аргумента в пользу такого выбора: научный — хорошее знакомство с церковной историей и христианскими древностями, ибо именно это составляет главный предмет изысканий предполагаемого института, и политический — более миролюбивое отношение турков к представителю духовной науки, нежели к лицу более официальному, дипломатическому13. В мае 1894 г. Устав и штаты Института были наконец утверждены Александром III, а 26 февраля 1895 г. настоятель посольской церкви в Константинополе архимандрит Борис (Плотников) отслужил торжественный молебен, и состоялось открытие РАИК.
Первым и бессменным директором РАИК стал Ф. И. Успенский - выпускник Костромской ДС, но поступивший по ее окончании не в духовную академию, а в столичный университет. К началу 1890-х гг. это был один из известнейших византинистов, так что выбор был вполне обоснован. Тем более,Ф. И. Успенский был одним из инициаторов и, пожалуй, самым преданным реализатором идеи РАИК. Структура Института была * 12
Директор Русского археологического института
в Константинополе Ф. И. Успенский
'* Письма Г. П. Беглери к И. Е. Троицкому — полученное им12 марта 1893 г. и датированное 21 февраля 1894 г. / / Россия и Православный Восток. Константинопольский Патриархат в конце XIX в. Письма Г. П. Беглери к проф. И. Е. Троицкому (1878-1898 гг.) Изд. Л. А. Герд. СПб., 2003. С. 252, 296.
2 2 5
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
типичной для гуманитарных учреждений тех лет. Штатных сотрудников было только двое, директор и ученый секретарь (с 1900 г.— два ученых секретаря). Личный состав Института включал в себя почетных членов, членов и членов-сотрудни- ков, которые принимали участие в деятельности Института без оплаты (gratis). В число временных сотрудников должны были входить также молодые ученые-стипендиаты, командированные для научных занятий Министерством народного просвещения и Синодом. Среди всех категорий членов РАИК были преподаватели и выпускники духовных академий: почетные члены — ректоры академий епископы Арсений (Стадницкий), Сергий (Страгородский), Алексий (Молчанов), Евдоким (Мещерский) и профессора Н. Ф. Красносельцев (в то время уже профессор Новороссийского университета), Н. В. Покровский, И. И. М алышевский, Е. Е. Голубинский, Н. Ф. Каптерев, Ф. В. Курганов, Н. И. Петров; действительные члены - профессора В. В. Болотов, И. С. Пальмов, А. А. Дмитриевский, И. Д. Андреев, а также выпускники академий и настоятели посольской церкви в Константинополе — архимандрит Борис (Плотников), священник Сергий Орлов, архимандрит Ювеналий; член-сотрудник Н. Л. Туницкий.
Исследования велись Археологическим институтом не только в самом Стамбуле и на территориях Малой Азии, но и в уже освободившихся молодых славянских странах. Почти ежегодно издавались «Известия РАИК» — вышло 16 томов на протяжении 1896-1913 года. Была собрана богатейшая библиотека, коллекция древних рукописей и археологических находок, включающая художественные и нумизматические материалы. В 1911 г. в Институте было организовано Славянское отделение, задачей которого стало изучение южнославянской истории. Благодаря славянской ориентации в научной работе РАИК успешно проходило установление научных контактов с болгарскими учеными.
Были налажены связи РАИК с преподавателями российских духовных академий, причем помощь была двусторонней: сотрудники РАИК помогали в получении копий с рукописей,
226
Русский археологигеский институт в Константинополе
хранящихся в библиотеках Константинополя, а профессора предоставляли необходимые консультации по богословским и церковно-научным вопросам, жертвовали книги1,1. Был взаимообмен периодическими изданиями.
Хотя РАИК просуществовал недолго, всего 20 лет, он внес весьма существенный вклад в византиноведение и добился всеобщего признания. Однако со своей второй — педагогической — задачей институт справлялся хуже. Уже в 1900 г. директором РАИК Ф. И. Успенским было констатировано, что эта сторона деятельности «не организована на прочных основаниях», а без этого следует считать работу института «наполовину не достигающей предположительной цели»|Г>. Институт, призванный стать базой для подготовки кандидатов на соответствующие профессорские кафедры российских университетов и духовных академий, археологической школой, с такой ролью явно не справляется. За шесть лет его деятельности был подготовлен лишь один такой кандидат Санкт-Петербургского университета, правда, очень достойный, будущий замечательный византинист — А. А. Васильев. Причины были понятны: в институте постоянно присутствовал лишь Ф. И. Успенский, остальные ученые приезжали на время, для проведения собственных исследований. Поэтому в РАИК была научная атмосфера, проводились семинары, читались отдельные краткие курсы, но организовать для стажеров систематические занятия и даже методическое руководство их исследованиями было практически невозможно. К тому же в институт могли направляться молодые ученые разных специализаций, а сам Ф. И. Успенский признавался, что не может компетентно руководить ни археологами, ни церковными искусствоведами. Поэтому следовало * 15
м Наиболее активно сотрудничали с РАИК, кроме И. Е. Троицкого, профессора СПбДА И. С. Пальмов, Н. В. Покровский, в дальнейшем - А. И. Бриллиантов, Н. Н. Глубоковский, И. Е. Евсеев; профессора МДА Е. Е. Голубинский и Н. Ф. Каптерев; профессора КДА А. А. Дмитриевский и Н. И. Петров; профессор КааДА Ф. В. Курганов.
15Записка Ф. И. Успенского (РГИА. Ф. 757. Оп. 1. Д. 22. Л. 3-4). Цит. по; Басаргина. Указ. соч. С. 129.
2 2 7
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
пересмотреть начальную концепцию и рассматривать РАИК не как учебный институт, а как научную базу, с прекрасной библиотекой и музеем, с возможностью участвовать в экспедициях и раскопках, организовывать и самостоятельные поездки по странам Востока. Тем не менее, даже в таком значении РАИК мог служить местом подготовки профессоров, в том числе для духовных академий, и Ф. И. Успенский изложил свой проект оживления связей РА И К и духовной школы в записке от 22 марта 1901 г. на имя митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского)16.
Указом от 5 мая того же года Святейший Синод предложил Советам духовных академий высказаться по поводу этого предложения и разработать систему занятий «духовных стипендиатов» при РАИК. Следовало учесть возможности института, интересы самих академий и богословской науки17. Советы обсуждали вопрос с большой заинтересованностью, причем в разных академиях особое рвение проявили профессора разных специализаций. Так в СПбДА очень заинтересовался возможностью отправления выпускников в Константинополь профессор церковной археологии и литургики Н. В. Покровский (И. Е. Троицкий и В. В. Болотов к этому времени скончались)18, в МДА — канонист Н. А. Заозерский19. Были высказаны и некоторые сомнения в полезности отправления профессорских стипендиатов — вчерашних выпускников. Более полезным казался другой вариант — создать специальный денежный фонд и предоставлять возможность оплачиваемых командировок в Константинополь преподавателям, уже определившимся со
,6ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 287. Л. 2 -3 об.17 ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 287. Л. 1; ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3.
Д. 2578. Л. 1.18 В комиссию по обсуждению вопроса о командировках в РАИК
в СПбДА были включены также Н. А. Скабаланович, И. С. Пальмов,
И. Г. Троицкий и А. И. Бриллиантов, но Н. В. Покровский был наиболее увлечен возможностью командировок на христианский Восток
См.: Ж ЗС СПбДА за 1901 — 1902 уч. г. (в извлечении). С. 281-284.19 ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 287. Л. 4 -6 ,
2 2 8
Русский археологигеский институт в Константинополе
своими научными и педагогическими интересами и способными использовать посещение христианского Востока более плодотворно20. Практически все академии высказали пожелание отправлять на Восток ежегодно по одному представителю каждой академии, ибо эти командировки были бы полезны преподавателям многих кафедр: церковной истории, церковной археологии и литургики, древней и новой гражданской истории, канонического права, патристики, греческого языка, русской церковной и гражданской истории, Священного Писания21. Но Свя-
Профгпор МД Л II. Л. Заожргкив
тейший Синод указал на ограниченность средств. Предложения академий были собраны, систематизированы, и указомСинода от 28 сентября 1902 г. всем академиям но очереди (в уже традиционном порядке, установленном в начале XIX н. СПбДА, МДА, КДА, КазДА) было разрешено отправлять своих представителей в Константинополь для научных занятий при Археологическом институте22. Таким образом, каждая академия получала возможность отправить своего кандидата лишь один раз в четыре года. Это было явно недостаточно для развития специальных систематических исследований в области византин истики и связанных с ней научных направлений в каждой академии. Однако посылка стипендиатов была призвана решить, прежде всего, задачу подготовки кандидатов для замещения определенных кафедр, а таковые, разумеется, и не освобождались быстрее. Хотя РАИК не имел разработанной системы и
2,1 Записка профессора кафедры Истории Древней Церкви МДА А. А. Спасского (ЦИАМ. Ф. 229. Он. 3. Д. 287. Л. 7 8 об.)
21 Там же. Л. 4.22 ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 2631. Л. 1.
Н . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
методической основы для педагогической подготовки, но непосредственное знакомство с источниками науки, несомненно, было очень полезным и могло существенно повысить уровень кандидата. А так как в духовных академиях, как и во всех высших учебных заведениях, подготовка к преподаванию должна была совмещаться с личным научным ростом кандидата и кон кретно с подготовкой его магистерской диссертации, то открывавшиеся в РАИК возможности предоставляли неоценимую помощь. Но здесь таилась та же проблема высшей духовной школы, которая вставала и в системе профессорского стипен- диатства в целом. В каждой академии был лишь один (за редким исключением — два) специалиста по каждой богословской науке. Большая часть стипендиатов не могла быть оставлена при академиях, а отправлялась по истечении стипендиатского года в распоряжение Учебного комитета при Святейшем Синоде и распределялась в семинарии или училища, причем не всегда на предметы, близкие к области специализации. Таким образом, углубление в область своих занятий, научный рост не были востребованы на преподавательской стезе. Научные же занятия в провинциальных учебных заведениях часто были практически невозможны. Таким образом, система подготовки квалифицированных научных кадров не могла быть построена во всей полноте, и стажировка стипендиатов могла оказать решающее значение лишь для отдельных ученых.
Всего за десять лет (1903-1913 гг.) в РАИКе удалось позаниматься одиннадцати представителям духовного ведомства (четырем представителям МДА, четырем — СПбДА, двум - КДА и одному — КазДА). Большая часть этих посланцев были профессорскими стипендиатами или бывшими профессорскими стипендиатами (ибо возможность послать выпускника академии в РАИК не всегда совпадала по времени с годом его сти- пендиатства), причем иногда соответствие темы кандидатского сочинения научной сфере РАИК способствовало включению выпускника в число профессорских стипендиатов, даже вопреки месту в разрядном списке. Среди одиннадцати было два «волонтера», то есть не командированных духовным ведомством,
230
а приобщившихся к РАИК но собственной ревности. Jin были два выпускника МДА, преподававших в Русском коммерческом училище в Константинополе: А. К. Мишин (занимался п РАИК первым, в 1902 -1903 уч. г.) и П. С. Златоустов (занимался в РАИК в 1905 1906 уч. г.)*1.Оба, кроме заманчивой близости уникального научного центра, имели и непосредственный исследовательский интерес к занятиям в РАИК: Л. К. Мишин писал в 1901 г. кандидатское сочинение И. В, Моному но кафедре патрологии «Догматическое учение Вигеиии Кесарийского», а П. С. Златоустов в 1905 г. кандидатское сочините И. Д. Андрееву (официально преподававшему но кафедре новой гражданской истории, но в области научных интересом тяготевшему к визинтинистике) «Законодательная деятельность Исаврийского дома». В отзывах на эти работы рецензенты отметили особую научную ревность авторов, которая могла получить реализацию и удовлетворение в занятиях при РАИК7*. А. К. Мишин за стипендиатский год (1901 1902 уч. г.) сумел 71
Русский археологигеский институт в Константинополе
71 Мишин Александр Константинович (20.02.1876 01 03.1943), выпускник Воронежской ДС (1897). МАЛ (1901), окончил 2-м по списку кандидатом-магистрантом, профессорский стиненлиат (1901 1902). В 1902 -1903 уч. г. преподаватель в Русском коммерческом училище в Константинополе и волонтер мри Русском Археологическом институте. В дальнейшем (в 1901 г.) избирался cobitom МДА на кафедру гомилетики, но не был утвержден митрополитом московским. В 1904 1910 гг. преподавал церковную историю и философ киг предметы в Воронежской ДС, математику в Воронежском РЖУ, гражданскую историю в реальном училище. В 1910 1911 гг. и. д. доцента МДА по кафедре обшей гражданской истории Открытой по Уставу 1911 г), до 1918 г. преподавал там же французский язык. В 1912 1918 гг. преподавал историю в гимназиях Сергиева 11осада, в 1918-1933 гг. там же в средней школе, затем переехал в Москву, в Норонеж. 27.07.1941 арестован, приговорен к 10 годам, выслан в Сибирь. Скончался нм- н ре пос. Баим (Кемеровская обл.)
Златоустов Павел Сергеевич выпускник Кострома - 9(1901) и МДА (1905).
'Отзыв зкетраорд. проф. И. В. Попова па кандидатское сочи ill-пие А. К. Мишина / / Журналы заседаний Совета МДА за 1901 г.
значительно повысить уровень своей диссертации, а также изучить все доступные в России источники, церковно-исторические и патрологические сочинения, относящиеся к Византии IV в. Несомненно, что и работа в коммерческом училище выбиралась обоими выпускниками преимущественно по его местонахождению. Про А. К. Мишина, предварившего по времени официальных посланцев духовного ведомства, известно, что он старательно изучал в течение года первоисточники по церковной истории и прослушал курс палеографии, обрабатывал свое сочинение, готовясь к магистерской защите, но работа так и не была завершена. Однако никакой системы в занятиях этих волонтеров не было, и, кроме предоставления рекомендации, академия никак не участвовала в их стажировке.
Однако остальные девять выпускников духовных акаде мий были официальными посланниками духовного ведомства, снабженными не только стипендиями, но и определенным заданием на год — программой занятий. Первым был профессорский стипендиат СПбДА И. А. Карабинов, командированный в РА И К на 1903-1904 уч. г. Талантливый литургист, он уже в своем кандидатском сочинении «Постная Триодь, ее состав и происхождение», написанном под руководством Н. В. Покровского по кафедре церковной археологии и литургики, проявил не только научно-аналитические способности, но и особую историко-литургическую интуицию и чуткость к источникам2’, Во время своей стажировки И. А. Карабинов не только выполнил план стипендиатских занятий по изучению греческих литургических рукописей, составленный им вместе со своим руководителем Н. В. Покровским, но и засвидетельствовал свою особую ревность и творческий подход к научной работе. Он тщательно изучил рукописный фонд библиотеки Иерусалим- * 25
Сергиев Посад, 1902. С. 125-130; Отзыв зкстраорд. проф. И. Андреева на канд. соч.П. С. Златоустова / / Журналы заседаний Совета МДА за 1905 г. Сергиев Посад, 1905. С. 175-178.
25 Отзыв орд. проф. Н. В. Покровского на кандидатское сочинение И. А. Карабинова / / Журналы заседаний Совета СПбДА за 1902' 1903 уч. г. (в извлечении). СПб., 1903. С. 300.
_________________ н . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К ДУХОВНЫЙ
2 3 9
Русский археологигеский институт в Константинополе
скоро подворья в Константинополе.По собственной инициативе и при содействии руководства РАИК он совершил путешествие в Палестину, посетив Иерусалим, Голгофу, Вифлеем, ездил на Синай и на Афон28. Этот год имел большое значение и для дальнейшей судьбы И. А. Карабинова, и для всей литургической науки в России. Уже магистерская диссертация И. А, Карабинова (доработанное и расширенное кандидатское сочинение) внесла серьезный вклад в историко-литургические исследования, а дальнейшие его работы открыли перспективы, представляющие немалый интерес и в наши дни* 27.
Наследующий 1904-1905 уч. г. в Константинополь был отправлен помощник секретаря Совета МДА магистрант 1901 г. М. И. Бе- неманский28. Хотя он не был профессорским стипендиатом, но представил в Совет академии конкретный проект своих занятий
“ Отчет РАИК за 1903 г. / / ИРАИК. Т. IX. Вып. 3. София, 1904. С. 425.
27 Карабинов И. А. Постная Триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. СПб., 1910; Его же. Евхаристическая молитва (анафора). СПб., 1908; Его же. Святая Чаша наЛитургии Преждеосвященных Даров / / ХЧ. 1915. № 6, 7; Его же. Студийский типик в связи с вопросом о реформе нашего богослужебного Устава//ХЧ. 1915. № 9 .
2К Бенеманский Михаил Ильич (04.11.1877—после 1923)), окон- чилТверскую ДС (1897), МДА (1901) 4-м по списку кандидатом-ма- гистрантом. Распределен классным надзирателем Александро-Невского духовного училищ а, но с 02.03.1902 перебрался в МДА, помощником секретаря Совета академии. В дальнейшем работал в Казанском университете, был редактором «Известий общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском
Профессорский стипендиат СПбДА И. А. Карабинов
2 3 3
Н . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У ХО ВН Ы Й
в РАИК. М. И. Бенеманский специализировался по церковному праву, писал в свое время кандидатское сочинение Н. А. За- озерскому « О И Т Т Т Т 1 Т Т П 1 Т П Т ] императора Василия Македонянина» и получил высокую оценку, причем была отмечена даже излишняя увлеченность автора предметом исследования, вносящая в исследование некоторую дисгармонию* 29. Непосредственно перед отправлением в РАИК М. И. Бенеманский подал магистерское сочинение, получил принципиальное одобрение от рецензентов — Н. А. Заозерского и И. Д. Андреева, а также ряд советов, которые надеялся выполнить при открывшейся возможности30. М. И. Бенеманский, изучив все доступные греческие источники канонического права, сумел значительно повысить уровень своего исследования. Кроме того, именно в эти годы он наметил дальнейшее направление своих исследований — выявление роли и степени влияния византийских законодательных сводов на русское церковное и светское законодательство, исследование происхождения тех или других институтов нашего национального права31.
В 1905-1906 уч. г. настала очередь КДА посылать своего представителя в Константинополь, и им оказался и. д. доцента
университете». В 1920-е гг. был секретарем президиума коллегии Тат- наркомпроса.
29 Отзыв орд. проф. Н. Заозерского на кандидатское сочинение Бенеманского / / Ж ЗС М ДА за 1901 г. С. 76-80
30 Магистерская диссертация Бенеманского — « О Г П Т Т 1 111 П Л Г императора Василия Македонянина. Его происхождение, характеристика и значение в церковном праве. Выпуск первый» (Сергиев Посад, 1906). Отзывы: Н. А. Заозерского / / Ж ЗС МДА за 1904 г. С. 194- 198; И. Д. Андреева / / Там же. С. 198-202.
31 Отчет М. И. Бенеманского о его работе в РАИК: ЖЗС МДА за 1905 год. Сергиев Посад, 1906. С. 401-423; Отчет РАИК за 1904 г.// ИРАИК. Т. XIII. София, 1905. С. 312. Продолжение магистерского исследования составило следующую значительную монографию М. Бенеманского, в которой он прослеживает влияние греческого Прохи- рона в разных областях отечественного права с древнейшего времени до XIX в.: Закон градский. М., 1917.
234
Русский археологигеский институт в Константинополе
иеромонах Анатолий (Грисюк)32. Его стипендиатский год также окончился, но он был оставлен в академии преподавателем по кафедре Общей церковной истории, и знакомство с источниками по истории Церкви как древнего, так и византийского периода была ему профессионально необходима33. Немалую помощь о. Анатолий мог
32 Анатолий (Грисюк Андрей Григорьевич) (1880-1938), епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии и ректор КазДА. Окончил Кременецкое ДУ (1894), Волынскую ДС (1900), КДА (1904). В 1903 г. пострижен в монашество, в 1904 г. рукоположен в сан иеромонаха. С июня 1905 г. исполнял должность доцента в словия, доцент; архимандрит; с 1912 г. экстраординарный профессор. С июня 1912 г. инспектор и профессор кафедры Истории Древней Церкви в МДА; с мая 1913 г. ректор КазДА. В июне 1913 г. хиротонисан во епископа Чистопольского, викария Казанской епархии. Руководил КазДА даже после ее официального закрытия, вплоть до марта 1921 г., был арестован и осужден на год принудительных работ. В дальнейшем епископ Самарский и Ставропольский (1922-1923), архиепископ Одесский (1928) и член Временного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страгород- ском). С 1932 г. митрополит, в 1934-1935 гг. исполнял должность временно управляющего Харьковской епархией, с 1936 г. вновь в Одессе. В августе 1936 г. арестован, осужден по статье 54-10 («систематическая контрреволюционная работа») и приговорен к пяти годам в исправительном трудлагере и отправлен в Ухт-Печорскин.В 1997 г. причислен к лику местночтимых святых Украинской Православной Церкви, на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. включен в Собор новомученикон и испонелппков Российских для общецерковного почитания.
«ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 2837. Л. 1-2 об.
Профессор КДА иеромонах Анатолий (Грисюк)
КДА. С 1911 г. магистр бото-
2 3 5
Я . Ю . Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
получить от этой стажировки и для доработки своей магистерской диссертации «Исторический очерк сирийского монашества до половины VI века», он постарался освоить сирийский язык, познакомиться с разными версиями жития преподобного Симеона Столпника и других подвижников. Иеромонаху Анатолию удалось осуществить путешествие на Афон, в Сирию и Палестину, ознакомиться на месте со многими письменными памятниками, церковными древностями, а также с самим продолжением древней монашеской традиции в обителях Востока34.
Первый круг «посланцев» в РА И К заверш ила в 1906-1907 уч. г. КазДА в лице своего и.д. доцента по кафедре гомилетики и истории проповедничества А. Ф. Преображенского35 . Он был выпуск- ником академии 1898 г., только что защитившим магистерскую диссертацию «Григорий V, патриарх Константинопольский. Обзор его жизни и деятельности»36. Академия была намерена использовать командировку как возможность подготовки новых кандидатов на кафедры, но соответствую
щей кандидатуры из профессорских стипендиатов не было * 33
И. д. доцента КазДА А. Ф. Преображенский
м Отчет РАИК за 1906 г. / / ИРАИК. Т. XIV. Вып. 2-3. София. 1907. С. 127. Магистерская диссертация была защищена о. Анатолием в 1911 г.: Анатолий (Грисюк), иером. Исторический очерк сирийского монашества до половины VI века. Киев, 1911.
33 Преображенский Алексей Феоктистович (1875-1920) — выпускник Ярославской ДС (1894), КазДА (1898), преподаватель по кафедре гомилетики. В дальнейшем профессор богословия в Саратовском университете (1 910 -1918 ) и Мариинского института, протоиерей (1912). Надворный советник (1907). Член Собора 1917 г.
'“ПСС КазДА за 1906 г. Казань, 1906. С. 184-185, 220; То же и 1907 г. С. 21.
236
найдено’7. А. Ф. Преображенский же сумел разработать определенный план своей стажировки на Востоке, учитывающий как его личные научные интересы, так и более широкие интересы своего предмета преподавания. Он поработал в библиотеке Иерусалимского подворья, собрал интересные документы по новейшей истории греческого патриархата и, как и его предшественники, совершил поездку в Грецию и на Афон.
Но первый круг духовных стипендиатов РАИК, в котором поучаствовали все академии, начал и окончил эту «правильную» систему. В дальнейшем в РАИК были отправлены еще четыре стипендиата: в 1908-1909 уч. г. — профессорский стипендиат МДА по кафедре церковной археологии и литургики Н. К. Махаев; в 1911-1912 уч. г. — два профессорских стипендиата СПбДА, по кафедре Истории Греко-Восточной Церкви со времени отпадения Западной Церкви от Восточной до настоящего времени А. Г. Степанов и по кафедре церковного нрава А. Н. Акимов; в 1913-1914 уч. г. — профессорский стипендиат КДА по кафедре церковного права А. Д. Дмитрев’А Ни
"Директор РАИК Ф. И. Успенский предлагал в своей записке 1901 г. в качестве возможного кандидата для командировки в РАИК «лично известного» ему выпускника КазДА 1900 г. Федора Павловича Успенского (первый магистр своего курса, профессорский стипендиат 1900-1901 уч. г.), который мог бы использовать стажировку с большой пользой. Но посылать в командировку выпускника шестн- летней давности, уж е не связанного с академией, было сложно, поэтому выбирать пришлось из преподавателей академии. См.: ЦИАМ.Ф. 229. Оп. 3. Д. 287. Л. 2 -2 об.
,в Выбор посланцев проводился, исходя из их специализации, а не «законного» профессорского стнпендиатства двух первых по успехам выпускников. Так, Н. К. Махаев был 6-м по спис ку, но первый по баллам — священник Павел Флоренский — был оставлен преподавателем по кафедре философии, а двое следующих — II. В. Нечаев и С, И. Голощапов, оставленные стипендиатами, выбрали кафедры философии и догматического богословия соответственно (причем первый был отправлен на год в Берлин). Хотя непосредственная тема кандидатского сочинения Н. К. Махасва — «Литургическая деятельность Геннадия, архиепископа Новгородского» — не требовала и ре-
Русский археологигеский институт в Константинополе________
2 3 7
Н. Ю- Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
одному из них не удалось доработать магистерское сочинение, никто не занял и кафедры в академии. Но послание в РАИК сразу двух стипендиатов столичной академии, причем специализирую щ ихся по одному научному направлению, проявило тенденцию, наметившуюся в СПбДА и распространившуюся о той или иной степени на все академии — интерес к позневизан- тийскому периоду (IX -X V вв.). В 1903 г. корпорация СПАДА добилась открытия новой кафедры — истории Греко-Восточной Церкви со времени отделения Западной Церкви от Все ленской39. Занял ее И. И. Соколов — выпускник КазДА,уже известный византинист, автор многих трудов и теоретик ни зантинистического и неоэллинистического направлений в церковно-исторической науке40. Новый Устав духовных академий 1910 г. ввел кафедру истории Греко-Восточной Церкви во всех академиях, но столичная академия, благодаря историческому первенству, а более того — тесному контакту с петербургской средой византинистов, лидировала41. И. И. Соколову удалось
бы вания в К онстантинополе, но в целом для богослова, специализирую щ егося по литургике, эта поездка могла дать много.
М ахаев Н иколай Константинович ( | 1966) — выпускник Московск ой Д С (1 9 0 4 ), М Д А (1 9 0 8 ). С 1910 г. преподавал русский язык и литературу, педагогику, ф илософ ию в Витебской ДС, затем в школах С евастополя и Керчи. В последние годы жизни исследовал и редактировал рукописи архиепископа Л уки (Войно-Ясенецкого).
!Ч РГ И А . Ф . 802. Оп. 10. 1902 г. Д. 77. Л. 1 -13 . См. также: Мнение проф ессоров С П бД А по истории Церкви А. И. Бриллиантова и церковной археологии и литургики Н. В. Покровского по этому вопросу / / Ж З С С П бД А за 1 9 0 1 -1 9 0 2 уч. г. СПб., 1902. С. 296-299, 300-301 соотв.
40И . И. С околов постарался обосновать необходимость учреждения во всех академиях особой кафедры «История Православной Греко-В осточной Церкви от разделения Церквей до настоящего времени» на П р е д с о б о р н о м П р и су т ств и и в 1906 г. См.: Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного Предсоборного Присутствия. Т. IV. СП б., 1907. Приложения. С. 1-11.
41 П оследняя версия Устава, принятая в 1911 г., соединяла на одной кафедре в КДА, М Д А и КазДА историю Греко-Восточной Церкви
2 3 8
Русский археологигеский институт в Константинополе
обосновать п о сл а н и е и И Л И К д в у х ст и п ен д и а то в но своем у направлению, причем оди н ил них был оставлен сверхш татным стипендиатом12. П ок азател ьн о задан и е, составленное И. И. С околовым для св ои х п и том ц ев - кром е непосредствен ной работы с источниками и л и т е р а т у р о й по тем е исследовани и, они должны были изучить византийскую историоф нф ию XIII XV ни., наняться греческой п а л ео гр а ф и ей , новогреческ им литературным и разговорны м я зы к о м 1*.
Кроме того, сл ед у е т отм ети ть ком андировку Л. Д . Д м и трова. состоявш ую п р еи м у щ ест в ен н о в разработке его гемы о
коронации в и за н т и й с к и х н а еи л ев ео в . В отзы в е проф ессора Ф. И. М ищ енко на отчет итого сти п ен ди ата отмечены главные достоинства ком анди ровок в Р А И К дл я богословск ой науки и духовной школы: с о б с т в е н н о а р х ео л о ги ч еск и е находки, пре
красная библиотека с и зд а н и я м и , тр у д н о доступны м и или нов (('недоступными в Р о сси и , худож еств ен н ы й , нумизматический
и фотографический м атер и ал , в озм ож н ость поездок в другие регионы Востока. О тм еч ен о и ещ е одн о , нем аловаж ное для м о
лодых представителей д у х о в н о й школы тех лет: естественное, рабочее включение в научны е о б су ж д ен и я , общ ение с п род ста- кителями см еж ны х научны х о б л а стей , расш и рени е научного кругозора и научны х « за п р о с о в » 11. В частности, у А. Д. Д м и т
рова после посещ ения Р А И К возник п.таи исследований в б и б лиотеках и архивах В атикана.
( историей славянских Церквей и Румынской, а в СПбДА < п< т рией Церквей Грузинской и Армянской и других Восточных (Устав православных духовных академий 1911 г. § 191).
«Ж ЗС СПбДА за 1911 1912 уч. г. СПб., 1912. С. 81 82. Гемы кандидатских работ: А ф анасия Никитича Акимова «Состояние Византийской Церкви но второй половине ХП века (1143 1180)* ( « 1 H.IHW профессоров И. С. Пальмона и И. И. Соколова / / ЖЗС’( 116ДА за 1910 1911 уч. г. СПб.. 1911. С. 348 351, 351 352 соотв); Александра Герасимовича Степанова <-Марк Евгению митрополит Гфесгкий. Исторический очерк».
11 ЖЗС СПбДА за 1911 - 1 9 1 2 .уч. i ( 116., 1912. ( . I 1Ь 117.ЖЗС КДА за 1913 1914 уч. г. (в извлечении). Киев, 1914.
С 682 G84.
239
1
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
В 1912-1913 уч. г. был использован еще один вариант помощи РАИК высшей духовной школе и богословской науке. И. д. доцента МДА по кафедре патрологии иеромонах Пантелеймон (Успенский) отправился с научной целью на Афон. Как в организации этой командировки, так и при ее осуществлении были использованы связи РАИК с афонскими обителями и сведения о библиотеках и конкретных рукописях115.
Последним представителем высшей духовной школы в РАИК был студент уже ПгДА А. И. Иванов, работавший над темой «Кирилл I Лукарис, Патриарх Константинопольский»16. Серьезная работа по теме, необходимость исследования редких источников, наконец, археологические интересы молодого исследователя побудили руководство академии послать в Константинополь в 1914 г. не выпускника или преподавателя, а студента последнего курса. Это могла быть одна из самых удачных 45 46
45 Пантелеймон ( Успенский), иером. Отчет о командировке на Афон в 1 9 1 2 -1 9 1 3 уч. г. / / О Р РГБ. Ф . 770. К. 2. Д. 14. Л. 1-52. См. также грамоты, выданные о. П антелеймону на осмотр монастырей, библиотек и архивов Афона (Там же. К. 3. Д. 1 -3 ) и его переписку с иеромонахами афонского русского Пантелеймонова монастыря (Там же. Д. 5, 6).
46 Иванов Алексей Иванович (12.05.1890-03.10.1976) - выпускник Владимирской Д С (1 9 1 1 ), П гДА (1915); профессорский стипендиат (1 9 1 5 -1 9 1 6 ) . Параллельно окончил Петроградскую духовную академию и П етроградский историко-археологический институт (1917). В дальнейшем преподавал историю в различных светских вузах, был доцентом, проф ессором . В 1 9 1 9 -1 9 3 0 гг. был директором Владимирского областного государственного музея, заведующим подотделом искусств Владимирского горисполкома, председателем областной комиссии по охране памятников искусства и старины. В1951- 1956 гг. преподавал византологию и греческий язык в возрожденной М осковской ДА, доцент; в 1 9 5 6 -1 9 6 1 гг. — византологию и общую церковную историю в Ленинградской ДА, был ученым секретарем Совета ЛДА. Магистр богословия (1956; «Критические издания греческого Н ового Завета и общ епринятый Православной Церковью текст»); доктор церковной истории (1960; «История Византийской Церкви (от Константина Великого до отпадения Западной Церкви от Вселенской). Т. I. Ч. 1, 2»),
2 4 0
Русский археологигеский институт в Константинополе
командировок духовных воспитанников, ибо А. И. Иванов начал работать под непосредственным руководством Ф. И. Успенского, и это давало помощь, необходимую для систематической работы. Но начавшаяся первая мировая война прервала и эту работу, и саму деятельность РАИК. Он был спешно эвакуирован в Петроград, и работы так и не были возобновлены.
Однако сотрудники РАИК во главе с Ф. И. Успенским еще раз проявили себя в восточном регионе, проведя в 1916-1017 гг. две экспедиции в Трапезунд, занятый тогда русскими войсками. В составе последней экспедиции был и профессор церковной археологии МДА Н. Д. Протасов — он занимался изучением архитектуры и живописи древних церквей47.
Таким образом, РАИК представляет собой интересный пример совместной научно-образовательной деятельности, преимущественно в области византинистики, ученых Императорской Академии наук, российских университетов и православных духовных академий. Несмотря на краткость периода своей деятельности, Археологический институт показал свою жизнеспособность как научно-исследовательский центр, форпост и база российской науки на Востоке, расширяющая перспективы исследований по научным направлениям, представляющим особое значение для богословия. Включение в программу исследований ученых-богословов имело большое значение и для развития византинистики, ибо многие «византинистские» темы прямо, и практически все — косвенно — требовали учета богословского аспекта.
Однако проект РАИК не был реализован во всей полноте, и за 20 лет своей деятельности институт не успел исполнить все поставленные задачи и реализовать все открывающиеся перспективы ни в научно-исследовательском, ни в педагогическом отношении. Одной из таких перспективных задач, которая лишь начала выполняться, являлось вовлечение в
"ИРАН. 1918. Сер. VI. № 5. С. 207-238; Басаргина И. Ю. Историко-археологическая экспедиция в Трапезунд (1916) / / Вспомогательные исторические дисциплины. 1991. Т. XXIII. С. 295-306.
2 4 1
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
деятельность РАИК научно-богословских сил. Анализ документов, отражающих участие преподавателей и выпускников духовных академий в работе РАИК, а также плодов этой работы — научных исследований и собранных материалов -позволяет сделать определенные выводы. РАИК предоставлял возможность работы представителям духовных академий, но программа конкретных исследований не была достаточно четко разработана, хотя в духовных академиях были специалисты по научным направлениям, реализуемым в РАИК. Византинисты, церковные историки, канонисты, литургисты духовных академий лишь в отдельных случаях использовали возможности, предоставляемые РАИК, и это было преимущественно результатом личных усилий, а не систематической работой. Не были в должной степени богословской наукой использованы и возможности РАИК по организации исследований в других регионах Востока, как технические, так и научные, налаженные институтом связи.
Что касается вклада РАИК в развитие духовной школы, то есть, стажировки выпускников духовных академий и подготовки к профессорским кафедрам по соответствующим специальностям, то и в этом потенциал не был реализован полностью. Разумеется, для всех выпускников академий, прошедших научную стажировку в РАИК, она принесла пользу — расширение кругозора, научная атмосфера, богатая библиотека и музей древностей. Были и более значительные успехи - реальная подготовка выпускника академии к кафедре, оказавшая благотворное влияние на его профессиональный рост. Но в налаживании такой подготовки как системы необходимо было приложить особые усилия, продумать ее теоретически и организовать практически. В первые годы тесной связи академий с РАИК (1903-1907) казалось, что такая система начала налаживаться. Но в дальнейшем это не было продолжено с должной основательностью, возможности РАИК не учитывались при определении направлений специализации студентов духовных академий, не всегда соблюдалась даже регулярность их стажировки в РАИК. Поэтому и эти перспективы, которые РАИК
2 4 2
Русский археологигеский институт в Константинополе
мог предоставить высшей богословской школе, были использованы лишь фрагментарно и частично.
Конечно, деятельность РАИК была окончена насильственно и, возможно, научно-учебные связи высшей духовной школы с институтом в дальнейшем расширились бы и систематизировались. Тем более следует иметь в виду удачный и неудачный опыт наших предшественников в настоящее время, когда вновь появляются российские научные базы в восточном регионе — активно действует Императорское Православное Палестинское общество, открылись реальные перспективы возобновления деятельности РАИК, а совместная деятельность светской и церковной науки уже засвидетельствовала свою жизненность и плодотворность.
ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ В РОССИЙСКИХ ДУХОВНЫХ АКАДЕМИЯХ - ПРОБЛЕМА
ПОНИМАНИЯ И СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
(XIX — начало XX в.)
В последние годы в российских высших богословских школах появилось особое направление специализации — практическое богословие. Предмет занятий, состав дисциплин, объем этого направления в учебном и научном отношении понимается неоднозначно. По-разному трактуется отношение практического богословия с пастырским и нравственным богословием, с мис- сиологией, диаконией, христианской педагогикой, психологией и психиатрией. Еще большее разнообразие в трактовке самого понятия «практическое богословие» или «практическая теология», научно-исследовательских методах, учебных принципах и программах. Попытки обратиться к практике богословских школ Православных Поместных Церквей или иноконфес- сиональных высших учебных заведений расширяют опыт современной российской духовной школы и предлагают определенные пути решения, позволяют воспользоваться научными исследованиями и учебными наработками, расширить методическую палитру. Однако и история отечественного духовного образования имеет достаточно богатый опыт размышлений и поисков в этой области, более или менее удачных попыток по осмыслению понятия «практическое богословие», определению его специфики, состава и принципов.
Изучение проблем практического богословия в XIX - начале XX в. следует предварить историческим экскурсом. Вплоть
2 4 4
Практигеское богословие в российских духовных академиях
до XVIII в. понятие «практическое богословие» как таковое не появлялось в контексте российского церковного образования. Однако интуитивно оно присутствовало в школах при церквах и монастырях, в духовных училищах, учреждаемых архиерея- ми-ревнителями, как практическая подготовка к приходскому пастырскому служению, хотя в очень скромном объеме «причетнического курса» — славянский язык, богослужебные книги, элементы Устава, литургическая практика. Единственное расширение этого скромного набора можно найти в братских школах Западной Руси в XVII в. — сложные условия межкоифессиональ- ной полемики побуждали руководителей этих школ включать в учебные планы элементы полемического богословия, уделяя особое внимание проповеди, делая акцент на изучении, обсуждении и практическом освоении конфессиональных особенностей — догматических, канонических, литургических.
Активное развитие духовного образования, начавшееся в России в XVIII в. должно было рано или поздно поставить вопрос о более тесной связи учебного курса и практической церковной жизни. Однако введение в образовательную систему принципов, выработанных Киево-Могилянской коллегией на основе западной школьной традиции, ориентация на западные пособия, далекие от актуальных проблем российской жизни и от самой церковной реальности, латинский язык, формадьная система постижения богословских истин надолго затормозили этот процесс. Подготовка студентов к приходскому служению и решению актуальных проблем церковной жизни трудно было совместить с латинизированным и закованным в строгие схоластические рамки учебным богословием. Церковная жизнь не получала богословского осмысления, возникающие и ней проблемы не формулировались и, тем более, не решались на должном научном уровне, а само богословие оказалось лишенным питательной поддержки — церковной реальности и движущей силы - необходимости решать проблемы, возникающие в этой реальности.
Во второй половине XVIII в. многие . ф л ж реи предпринимали попытки разрешить эту проблему. К этому побуждало
245
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Митрополит Московский и Калужский Платон (Левшин)
и то, что епархиальные школы постепенно становились духовными в прямом смысле слова, то есть, ориентировались на подготовку священнических кадров для своей епархии. Но прямая ориентация на церковное служение не позволяла сохранить богословскую ученость. Латинский язык и освоение «схоластической классики» служили «выходом» в мировое научное пространство, потерять который было бы губительно для Русской Православной Церкви и ее зачинающейся богословской науки. Поэтому для сочетания двух задач - науч
но-образовательной и церковно-практической — требовались архипастырская чуткость, церковная мудрость и немалое преподавательское искусство. Наиболее показателен в этот период опыт митрополита Московского Платона (Левшина). Он решал проблему двумя способами: 1) введением в учебные планы своих епархиальных школ — Московской славяно-греколатинской академии и Троицкой семинарии — особых элементов, непосредственно связанных с предстоящим пастырским служением выпускников (чтение Кормчей с толкованием к практическому применению, «О должностях пресвитеров приходских», пасхалия, основы гомилетики); 2) практическим преломлением привычных предметов богословского курса (толкование трудных мест Священного Писания и применение их к составлению проповедей, этика, церковная история). Одной из «находок» преосвященного Платона была гомилетическая система, главные принципы которой были изложены в предисловии к собранию его проповедей. Все студенты старшего богословского класса должны были составлять проповеди и произносить их в семинарском или академическом храме, и в течение обучения в этом классе посвящались в стихарь.
246
Практигеасое богословие в российских духовных академиях
В начале XIX в. было решено привести в единую систему разнообразие епархиального духовно-учебного опыта. Строгая централизация и универсализация умалили значение архиерейского творчества и поиска, но поставили более сложную задачу: сделать все российское духовное образование одновременно и научно-богословским, отвечающим современному уровню духовной «учености», и практически-полезным, способным обеспечить Русскую Церковь пастырями, подготовленными к своему служению и решению связанных с ним проблем. Святитель Филарет (Дроздов), явившийся одной из «ключевых фигур на последнем этапе разработки и проведения этой реформы (1808— 1814 гг.), видел ее главное значение именно в том, что было «введено преподавание деятельной богословии; таким образом, богословское учение сделалось ближе к употреблению в жизни»1. Как отражалась «деятельная богословия» (Practica) на учебных планах духовной школы? Сам святитель Филарет, составляя в 1814 г. структуру духовно-учебного богословского курса ■ (Architectonica Theologica), выделял деятельное богословие (Practica) в качестве одной из составляющих, но понимал под ним нравственное богословие, то есть практическое применение христианских догматов в жизни человека, но отнюдь не практическую деятельность* 2. Заметим, что в качестве особых разделов в обще-богословском курсе присутствовали и обличительное богословие (Polemica), и собеседовательное (Homiletica), и правительственное (Jus Canonicum). Святитель Филарет выделял еще богословие пастырское (Theologia Pasteralis), но оно,
' Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885 1888 (далее: Сет. Филарет (Дроздов). Собрание мнений. Т. И. С. 208.
2Деятельное Богословие (Practica), являясь одной из частей Учительного Богословия, обращается к воле, «дабы повреждение се исправить» (Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах / / Сет. Филарет (Дроздов). Собрание мнений. Т. I. С. 208).
24 7
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
по его мнению, могло быть присоединено к богословию деятельному, практическому. Конечно, эта богословская система была более отражением старой традиции XVIII в., хотя и осмысленной во взаимосвязи ее составляющих. Сама деятельность новой преобразованной школы должна была указать перспективы развития и изменения богословского курса. Интересно, что принципы составления учебных планов были едиными и для высшей духовной школы — академий, перед которыми ставились научная и кадрово-педагогическая задачи, и для средней - семинарий, которые готовили к практическому пастырскому служению, то есть были духовной школой по назначению. Как «развести». на практике учебные планы этих двух ступеней и укрепить «практичность» семинарий «научностью» академий — было непонятно. Опыт должен был подсказать и решение этой проблемы, и уточнить понятие «практического богословия», его церковные задачи и место в духовно-учебной системе.
В 1820-1840-х гг. главной чертой развития духовной школы было уточнение структуры собственно богословского образования — выделение составляющих из общего богословского курса и оформление их в особые дисциплины, включение в их состав новых разделов, в том числе, заимствованных из небогословских наук, разработка методов изучения и преподавания новых богословских предметов. Одной из наиболее значимых тенденций этого процесса явилось оформление предметов, связанных с пастырским служением. Чаще всего инициатива исходила от средней школы — специальная подготовка пастырей требовала самостоятельного значения в богословском образовании, а следовательно, пересмотра старой системы и преодоления привычных границ. Новые предметы требовали преподавателей, а педагогическая обязанность высшей духовной школы подразумевала введение этих предметов и в учебные планы академий. Но, попадая в недра высшей духовной школы, каждая дисциплина для подтверждения права на самостоятельное существование должна была осмыслить свою теоретическую особенность, то есть предмет изучения, цель и задачи, источники и методы.
2 4 8
Практигеское богословие в российских духовных академиях
Пастырское богословие в традиции духовных школ XVIII в. было представлено отдельными наставлениями пастырю в прохождении его обязанностей, более или менее успешно готовящими к приходскому служению. С другой стороны, определенные теоретические положения, имеющие отношение к пастырству, входили в нравственное богословие. Выделившись в особый предмет, пастырское богословие долго сохраняло непосредственную зависимость от обеих традиций, склоняясь у разных преподавателей то в одну, то в другую крайность*. Ни один из этих вариантов не давал оснований для самостоятельного научного развития пастырского богословия, тем более часть вопросов, касающихся пастырского служения, были взяты на себя новыми предметами — наукой о православном богослужении и гомилетикой. Еще более сузило, казалось бы, область пастырского богословия проектируемое, а затем и реальное введение педагогики: «практический элемент» пастырского богословия, который в основном замечали и ценили, предлагалось присоединить к педагогике в виде особого раздела «пастырской педагогики». Этот вопрос требовал дополнительного осмысления богословия пастырского служения.
Гомилетика, или Церковное проповедничество, с одной стороны, определялось совокупностью правил церковной проповеди для будущего пастыря, с другой стороны, опиралось на курс церковной словесности'1. Однако в 1830-1840-е гг. появи- * 3
3 Пастырское богословие понималось как «систематическое изложение правил и наставлений, руководствующих к тому, как успешнейшим образом проходить пастырское служение в Церкви Христовой и через него святейшую религию христианскую употребить во спасение людей» (Антоний (Амфитеатров), архим. Пастырское богословие. Киев, 1851. С. 3) или как «систематическое изложение нравственных обязанностей пастыря Церкви» (Кирилл (Наумов), архим. Пастырское богословие. СПб., 1853. С. 2).
3 Гомилетика называлась «наукой прикладной, наставляющей пастыря на его поприще церковного проповедничества — совокупностью правил касательно церковного собеседования вообще и частных видов (форм) его в особенности» (Макарий (Булгаков), архим. Введение в православное богословие. СПб., 1847. С. 3).
249
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
лись попытки дать этому предмету совершенно новый и вполне самостоятельный характер. Так, профессор КДА Я. К. Амфитеатров (1829-1848) попытался читать курс церковного красноречия в историческом аспекте: как проповедь открывается в Библии, у великих учителей Церкви, в непрестанном учительстве Церкви, в богослужебной ее жизни5. Но, несмотря на историческую последовательность изложения, велось оно в старых традициях схоластического схематизма, и теоретические конструкции — принципиальные законы искусства проповедничества — брали верх над жизненностью проповеди. Офор- мление гомилетики как особой богословской науки совпало с
^ “ ’оживлением в 1840-х гг. в академиях самой проповеди6. ь Каноническое право, или церковное законоведение, выде
лившееся в 1840 г. из общего курса богословия без значительных споров, сразу вышло за границы простого толкования Кормчей и завоевало статус самостоятельной науки. Но с этой наукой был сопряжен очень непростой вопрос, отчасти связанный с церковным служением: должна ли эта наука иметь характер более богословский или юридический. Академические канонисты понимали свой предмет в смысле богословской науки, «церковного законоведения». Однако некоторые исследователи задавались вопросом: в качестве «общества, организованного канонически и юридически», Церковь становится юридическим институтом, в таком случае церковное право становится наукой юридической, изучающей в юридической стороне церковного строя не jus divinum, но jus humanum, учитывающей всю юридическую специфику и логику, но теряющей само-
/Т; бытность7. Но и у сторонников церковно-богословской точки» .
5 Амфитеатров Я. К. Чтения о церковной словесности: В 2 ч. Киев, 1847. Ср. программа курса церковного красноречия в СПбДА (ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1.Д . 1712).
вВсе преподаватели духовных академий — не только духовенство, но и миряне — произносили проповеди в городских храмах. Так, члены корпорации СПбДА в 1840-1850-х гг. читали проповеди в Казанском соборе (ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2186. Л. 1-12).
1 «Церковное право есть богословие, раскрытое в законах и законо-
2 5 0
Практигеское богословие в российских духовных академиях
зрения были разногласия — должен ли учебный курс канонического права сохранить практические элементы.
Таким образом, в эти годы «практическое богословие» стало подразумевать в контексте высшей духовной школы не практическую подготовку к пастырству, почти механически присоединяемую к теоретическому богословскому курсу, но набор дисциплин, равноправно включаемых в общую палитру богословского образования, имеющих такие же задачи — полноценного научного развития и подготовки преподавателей в семинарии, но и те же проблемы, связанные с этим развитием. Причем последняя из указанных задач — педагогическая — в данном случае усложнялась, ибо выпускники академий, как потенциальные преподаватели «пастырских» предметов в семинариях, после изучения этих предметов в недрах академий должны были преподавать их будущим пастырям-практикам.
Новое звучание термин «практическое богословие» приобрел в «реалистические» 1850-е гг. С особой остротой был поставлен вопрос о «практических» задачах академий: должно ли богословское академическое знание иметь прикладное значение, отвечая насущным проблемам церковной жизни? Важно, что этот вопрос был поставлен не графом Пратасовым, увлеченным приданием духовному образованию реальности и трезвости, но ученым епископатом. Принципиальным расширением академического поприща стало введение в начале 1850-х гг. миссионерских предметов”. Введение этих дисциплин прово- * *
правильных, особенно обрядовых и таинственных, действиях, составляющих видимую жизнь Церкви», — писал один из первых преподавателей этой науки в МДА, иеромонах Гавриил (Воскресенский) (Гавриш (Воскресенский), архим. П онятие о церковном праве и его история. М., 1844. С. 4). «Юридического» направления придерживался профессор КДА П. А. Лашкарев, позднее — выпускник СПбДА 1861 г.М. И. Горчаков. Ср.: Иоанн (Соколов), архим. Опыт курса церковного законоведения. СПб., 1851.
* Главным инициатором стал магистр первого курса преобразованной СПбДА Григорий (Постников), в те годы уже архиепископ Казанский и Свияжский. Мысль о целенаправленном использовании
2 5 1
Я, Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
дилось с практической целью — подготовка миссионеров-прак- тиков, но с хорошим богословским уровнем.
«М иссионерская кампания» началась в 1853-1854 уч. г. со средней духовной школы, причем после обсуждения было решено ввести в семинариях Казанского учебного округа миссионерские предметы, направленные на деятельность в восточных регионах (противомусульманские и противобуддистские), а в остальных округах — учение о русском расколе* 9. В академиях до 1853 г. элементы учения о расколе включались в курс обличительного богословия. Но миссиология требовала преподавателей и лиц, компетентных в высшем богословии. Был разработан проект особого миссионерского института, который планировалось учредить близ Петербурга или Новгорода, но средств для этого не нашли, и было решено учредить при СПбДА особое миссионерское отделение «для приготовления воспитанников на дело с раскольниками»10 11. В это отделение были помещены 20 священников из епархий, имеющих старообрядческие проблемы, с целью подготовки для полемики с расколом11. Однако само устроение требовало большей стабильности и основательности, и в 1855 г. учение о расколе, в полном его составе, вошло в общий курс академического преподавания, а в 1857 г. в академиях были открыты кафедры учения о русском расколе
выпускников духовных школ в миссионерской деятельности не была нова: это осуществлялось и на практике, составлялись по этому вопросу и особые проекты, правда, лицами недостаточно сведущими. См, например, проект члена совета Министерства внутренних дел Ф. Л. Переверзева: РГИА. Ф. 1661. On. 1. Д. 708.
9 В курсе предполагалось преподавать: а) историю русского раскола; б) современную статистику русского раскола; в) обозрение сочинений, написанных как раскольниками, так и против них; г) положительное опровержение раскольнического учения; д) практическое наставление миссионерам для их будущего служения.
1(1 ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 2323. Л. 1; Там же. Д. 2435. Л. 1-4; Там же. Д. 2489. Л. 1 -3 об. Ср. Родосский А. Списки первых XXVII курсов С.-Петербургской духовной академии. СПб., 1907. С. LXIH.
11 Лекции на этом отделении читали: сам архиепископ Григорий, находящийся в то время в столице, — о способах опровержения разных
2 5 2
Практигеское богословие в российских духовных академиях
(но без расширения штата преподавателей). Предмет был новым, заявлен как «практический», но в понимании принципов его преподавания были существенные разногласия. Одни преподаватели считали, что «практичность» новой дисциплины состоит в изложении набора полемических правил, другие предлагали практически «внедриться» в старообрядческое учение, то есть, критически разбирать как источники — раскольничьи книги, так и сочинения, написанные о расколе12 *.
В КазДА элементы особой миссионерской направленности были введены еще с момента ее преобразования в 1842 г.: основу составляло преподавание «инородческих» языков, связанных с мусульманством — татарского и арабского, и с буддизмом - монгольского и калмыцкого11. В 1854 г., в связи с общим «миссионерским» подъемом в академиях, в КазДА было организовано четыре миссионерских отделения: противорас- кольничий, противомусульманский, противобуддистский и черемисско-чувашский. Последний был закрыт через два года, как мало нужный, а три первых набрали силу. В каждом из них, кроме соответствующих языков, было введено преподавание миссионерской педагогики, этнографических подробностей, связанных с теми или иными верованиями, и полемики против этих верований14. Поступать в них могли студенты как высшего, так и низшего отделений, имеющие желание по окончании
раскольничьих толков; ректор академии епископ Макарий (Булгаков) - по истории раскола; и молодой бакалавр иеромонах Никанор (Бровкович) — по опровержению раскольничьих заблуждений.
|2Так читал курс в МДА экстраординарный профессор Н. П. Гиляров-Платонов. См.: Голубинский Е. Е. Воспоминания / / Полунов А. Ю., Соловьев И. В. Жизнь и труды академика Е. Е. Голубинского. С. 181 — 182; ОР РНБ. Ф. 847. Оп. 1.Д. 532. Л. 1-5; ЦГИА СПб. Ф .2162. On. 1. Д. 17. Л. 72 об.
пЗнаменский П. В. История КазДА. Т. 2. С. 8 -9 . Заметим, что это создавало дополнительные сложности для КазДА: по штату в ней было положено лишь 14 преподавателей, в то время как в остальных, «старших», академиях — по 18.
и РГИА. Ф. 796. Оп. 141. Д. 1042. Л. 41-44.
2 5 3
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
академии быть миссионерами или преподавателями по миссионерским предметам в семинариях.
Миссионерские предметы, введенные с практической целью, некоторое время сохраняли такую направленность. Однако по прошествии нескольких лет встал вопрос и об их «научно-правовом оформлении» в рамках духовно-академического курса. Либо миссиология — и «старообрядческая», и «восточная» — должна была показать свои научные перспективы, либо миссионерские предметы оставались в статусе временно-утилитарных, и их присутствие в учебных планах высшей школы всегда могло быть поставлено под сомнение.
Таким образом, к концу 1850-х гг. в духовных академиях сформировалось два блока предметов, так или иначе связанных с церковно-практической деятельностью — пастырско-приходской и обличительно-миссионерский. Все эти науки имели несомненное практическое значение, но в стенах духовных академий этот аспект рассматривался как прикладной. Даже если дисциплина изначально вводилась с практической или педагогической целью, она должна была выявить свое научное значение (в понимании первой половины XIX в.), и лишь это укореняло ее в недрах высшей духовной школы. Научное изложение мыслилось лишь в двух вариантах — систематическое и историческое. Но была опасность, что, попадая в разряд теоретических дисциплин, они потеряют практическую значимость, и этот аспект будет принципиально отвержен в понимании высшего богословия.
Эпоха бурных изменений конца 1850 — начала 1860-х гг. побуждала искать новые формы просветительской деятельности академий — богословствования вне школьных стен. Как преподавательские, так и студенческие корпорации стремились к практической церковной деятельности, к применению богословских знаний. В 1859 г. СПбДА выразила желание открыть у себя публичные лекцииПредусматривалось два варианта: 15
15 Это было ответом на воскресные проповеди монаха-доминикан- ца Сойара, которые новизной тем и талантливым словом привлекали массу публики, в том числе образованной.
2 5 4
Практигеское богословие в российских духовных академиях
либо сделать обычные академические лекции открытыми для всех желающих, либо проводить в академии силами профессорско-преподавательской корпорации особые публичные беседы. В том же году студенты МДА, под влиянием широкого обсуждения вопроса о значении воскресных школ в нравственном и духовном воспитании народа, хотели открыть при академии такую школу для мещанских детей Сергиева Посада. Однако расширение внеакадемической просветительской деятельности как преподавателей, так и студентов не было признано полезным. В частности, воспротивился этому святитель Филарет (Дроздов). Допускать посторонних на ординарные академические лекции — неприлично для академии и даже вредно, ибо будет отвлекать внимание наставников и студентов, особые же публичные беседы будут отнимать у них время, нанося ущерб существенным их обязанностям. Заниматься школами для народа должны приходские священники, но никак не студенты академий, ибо лучше употребить время «для усиления своего знания латинской и греческой словесности»16.
Святитель приводил и более вескую причину опасений: церковная школа, принимая на себя несвойственные ей формы деятельности и дискуссии, рискует быть неуспешной на чужом поприще17. Это противление, казалось, не отвечало общему настрою тех лет: вывести богословскую науку из затвора, дать ответ на богословские вопрошания общества, продемонстрировать светской науке достойный уровень науки богословской, наконец, побороть многолетнюю застенчивость и молчаливость преподавателей и выпускников духовной школы, их отстраненность от образованного общества. Но академии, по мнению святителя Филарета, особое богатство Церкви — они призваны решать богословские проблемы, встающие в церковной жизни. Для сего они должны жить углубленно и сосредоточенно, только тогда они смогут служить опорой в решении насущных церковных проблем — организации миссии, просвещения народа,
Сет. Филарет (Дроздов). Собрание мнений. Т. IV. С. 575.17 РГИА. Ф. 832. On. 1. Д. 91. Л. 3 -5 об.
2 5 5
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
приходской жизни. Не следует подменять задачи высшего богословия внешними, прикладными. Однако следует отметить, что сам святитель Ф иларет давал церковно-практические и богословские ответы на все вопросы, возникающие в жизни Церкви. Это указывало путь и для пестуемой им школы - богословского исследования и осмысления актуальных проблем, возникающих в церковной жизни, на основе фундаментального научного знания.
Новая реформа духовных академий 1869 г. ввела в духовных академиях «отделенскую» систему, причем одним из трех отделений было церковно-практическое. Предложение о введении этого отделения исходило от архиепископа Макария (Булгакова), который предлагал в своем проекте «пастырскую» направленность — четыре составляющие (охватывающие три стороны пастырской деятельности — учительство, богослужение, управление — и дающие богословскую основу для этого служения): 1) пастырское богословие; 2) науки о церковном проповедничестве (гомилетика, история духовной словесности, общая словесность, как наука вспомогательная); 3) науки о церковном богослужении (церковная археология, православная литургика, литургика неправославных церквей и обществ);4) науки о церковном управлении (церковное право)18. В окончательном варианте Устава эта идея была «размыта», и в церковно-практическом отделении более четко выделялось два направления: пастырско-практическое (пастырское богословие, гомилетика и история проповедничества, литургика, церковное право) и словесное (теория словесности и история русской литературы, с обзором важнейших иностранных литератур, русский язык и славянские наречия)19. Нельзя не обратить внимание на то, что этот состав перекликался с учебно-богословской
18 РГИА. Ф. 797. Оп. 37. Отд. 1. Ст. 2. Д. 1. Л. 451-452.19 Устав 1869 г. § 114. Нравственное богословие по традиции со
единялось с теоретическим богословием, а не с «практическим» пастырством, поэтому его оставили в теоретическом богословском отделении (Там же. § 112).
2 5 6
Практигеское богословие в российских духовных академиях
традицией немецких университетов20 21. В этой традиции практическое богословие понималось как одна из частей богословского курса, в дополнение к систематической и исторической, без выделения каких-то особых функций этой части и специфики в подходах и методах.
Логика была и в окончательном варианте церковно-практического отделения: гомилетика должна подкрепляться общей словесностью, пастырь должен знать идеи, которые черпает общество из современной литературы, русская традиция наиболее адекватно отражена в русской литературе. Но словесное направление этого отделения более всего пользовалось популярностью среди студентов вследствие бурного развития в 1870-х гг. журналистики, как духовной, так и светской, что придавало словесному направлению самостоятельную значимость/'.Двой- ственность церковно-практического отделения стала объектом критики уже при введении Устава 1869 г., в дальнейшем она усилилась. Призыв к развитию специальных научных исследований, введение исторического аспекта в исследования и преподавание, расширение Источниковой базы, акцент на применении научно-критических методов существенно повлияли на
20 В период разработки Устава 1869 г. обсуждалась немецкая система богословского образования, выделяющая практическое богословие в качестве одной из четырех частей учебного курса. В состав практического богословия Устав Богословского факультета Берлинского университета включал: практическое богословие общее, катехетику, литургику, гомилетику, пастырское богословие и церковное право (С. Т. Богословский факультет Королевского Берлинского университета// ХЧ. 1869. Т. И. № 8. С. 343, 345, 349).
21 Зеленецкий А. Воспоминания о Санкт-Петербургской духовной академии / / РШ. 1902. № 12. С. 25-30. Церковная журналистика не рассматривалась в те годы как возможное церковное служение выпускника академии, к которому может готовить церковно-практическое отделение. Кроме того, студенты, увлекшись литературными исследованиями, иногда смотрели на богословие не как на основную цель образования, а как на необходимый «элемент», который надо было как-то совместить со своими научными увлечениями. См.: Там же. С. 27-28.
2 5 7
О . Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
научное развитие канонического права, церковной археологии, литургики. Это кардинально изменило взгляд и на учебную постановку этих предметов, что, несмотря на положительный эффект, не способствовало решению вопроса о «практической» подготовке пастырей. Хаким образом, проблема применения научных достижений к решению актуальных вопросов церковно-приходской жизни отошла на второй план в сравнении с призывом к развитию специальных научных исследований.
Интересна судьба миссионерских дисциплин в этой реформе. «Полемика с русским расколом» сумела найти научную основу, встав на исторический путь и попав, таким образом, в церковно-историческое отделение. КазДА с трудом удалось сохранить миссионерские кафедры (противому- сульманскую и противобуддист- скую), но в ущербном положении: на местные епархиальные средства, вне основной структуры трех отделений. Это сильно умалило их значимость и на некоторое время лишило возможности искать особые подходы в их преподавании и на
учном развитии, а также осмыслять их в свете «практического богословия». На таких же правах МДА ввела кафедру естественно-научной апологетики, и с теми же проблемами: единственный в высшей духовной школе представитель этой науки - профессор Д. Ф. Голубинский — не мог серьезно развивать ни научные, ни практические методы апологетики22.
22 Об истории учреждения кафедры естественно-научной апологетики подробнее см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 151. Д. 912. 1870 г. Л. 1-3; Там же. Ф. 802. Оп. 9. 1870 г. Д. 56. Л. 1-7; ОР РГБ. Ф. 7 6 / I. П. 14. Д. 13. Л. 13 об., 14, 38-38 об., 39; Там же. Д. 14. Л. 18, 19 об., 26, 34 об., 38 об.; Там же. Д. 15. Л. 28 об., 29, 33 об.; Там же. Ф. 78. К. 31. Д. 9. Л. 1-8.
258
Профессор МДА Д. Ф. Голубинский
Л
Практигеское богословие в российских духовных академиях
Устав 1869 г. предложил еще один вариант понимания «практического богословия». Особые «специально-практические» занятия, которые вводились для выпускного курса и должны были готовить одновременно и к научной работе, и к преподаванию, трактовались в документах тех лет как «практическое применение теоретических знаний» или прямо как «практическое богословие». Этим применением было чтение и анализ источников, умение критически осмыслять историографию, компетентно работать в архивах и библиотеках, наконец, реализовывать полученные знания в проведении специальных исследований по конкретным вопросам и составлении лекций21.
Однако и этот вариант церковно-практического направления в богословской науке продержался недолго, ибо отделения были отменены уже через 15 лет новым Уставом духовных академий 1884 г. Предметы, связанные с пастырским служением (нравственное и пастырское богословие, каноническое право, гомилетика), были включены в учебные планы в статусе общеобязательных. При этом пастырское богословие соединялось в одну кафедру с педагогикой, гомилетика и нравственное богословие получили отдельные кафедры* 24. Но при разработке и проведении этой реформы обращалось внимание на необходимость изменить подход к преподаванию предметов, связанных с пастырским служением, усилив акцент на практической подготовке к служению. Существенно улучшилась ситуация с миссионерскими науками в КазДА — они составили особую группу специализации. Это не только утвердило их положение в академии, но и открыло возможность их осмысления и специальной разработки.
Но главным вкладом новой эпохи в развитие «практического богословия» был ее особый «церковно-практический» настрой. Пафос вовлечения духовных школ, в том числе, высших, в практическую церковную деятельность постепенно изменил и отношение к некоторым предметам, и их преподавание, и дал
и РГИА. Ф. 797. Оп. 37. 1 огд. 2 ст. Д. 1. Л. 423.г' Устав 1869 г. Прил. к § 117.
2 5 9
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
новый поворот в осмыслении «практического богословия» как такового. Наиболее ярко это проявилось на примере кафедр по истории и обличению русского раскола. Особое внимание к этому предмету определилось уже тем, что в 1881-1887 гг. особые «противораскольнически-противосектантские» кафедры были учреждены в духовных семинариях «с целью приготовления священнослужителей, способных бороться с расколом и охранять православных от увлечения им»25. Необходимы были преподаватели, причем не просто богословски грамотные, но обладающие специальными знаниями и методикой, академические выпускники. Епархиальные архиереи неоднократно заявляли о проблемах, связанных с противораскольнической полемикой, с плохой изученностью вероучений и традиций сект, действующих в той или иной епархии26. В 1885 г., на архиерей-
25 В 1870-х гг. архиереи епархий, зараженных расколом, предпринимали попытки введения учения о расколе в семинарское преподавание на епархиальные средства. Так был введен этот предмет в 1873 г. в Казанской семинарии архиепископом Антонием (Амфитеатровым). Но преподавание «вне Устава» было необязательным для учащихся и имело нетвердую постановку. В 1881 г. в 7 семинариях - Московской, Саратовской, Архангельской, Казанской, Вифанской, Калужской и Нижегородской — были учреждены на местные епархиальные средства и сделаны общеобязательными для учащихся кафедры по истории и обличению русского раскола и существующих в епархиях сект. Наконец определением Святейшего Синода от 28.07.1886 во всех духовных семинариях учреждались самостоятельные штатные кафедры истории и обличения раскола и сектантства. Исполнить определение предполагалось за три года, причем с начала 1886- 1887 уч. г. такие кафедры открывались в 20 семинариях. Это делало необходимым и особую подготовку преподавателей по этим кафедрам в академиях. К новоучрежденным кафедрам присоединялось преподавание сравнительного богословия. См.: Извлечение из отчета обер-прокурора за 1881 г. С. 152; Извлечение из отчета обер-прокурора за 1886 г. СПб., 1888. С. 143-147. См. также: ОР РГБ. Ф. 23. К. 1. Д. 10. Л. 1-1 об.
2,1 Большое внимание уделял этому вопросу обер-прокурор К. П. Победоносцев, горячо приветствующий разработки в области полемики раскола. Свидетельством этого является переписка К. П. Победонос-
2 6 0
Практигеское богословие в российских духовных академиях
ском съезде в Казани, было признано полезным учреждение особых должностей епархиальных миссионеров27 *. И на эти должности епархиальных миссионеров стали определять академических выпускников — прямо со школьной скамьи. В некоторых епархиях миссионерские обязанности стали возлагать на преподавателя истории и обличения раскола местной семинарии, то есть тех же выпускников академий. Да и гем, кто с принятием священного сана занимал должности законоучителей светских учебных заведений, наблюдателей церковно-приходских школ, места простых приходских священников, часто требовались специальные знания, связанные с расколом. Наконец, предмет истории и обличения русского раскола был сделан в 1897 г. общеобязательным2”. Аргумент был приведен «пастырский» — эти знания необходимы каждому священнику, окончившему академический курс.
Преподаватели истории и обличения раскола пытались сочетать в своих учебных пособиях исторический материал,
цена с профсссором-расколоведом МДА Н. И. Субботиным. См.: Субботин Н. И. Переписка профессора Н. И. Субботина, преимущественно неизданная, как материал для истории раскола и отношения к нему православия (1865-1904 гг.) Изд., введ. и комм. В. С. М аркова// ЧО- ИДР. 1915. Кн. 1 (252).
27Определением Святейшего С и н о д а o i 18 марта 1886 г. такие должности были учреждены, содержание и количество их устанавливалось местным архиереем (Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева но ведомству Православною исповедания за 1886 год. СПб., 1888. С. 74-82). Средства искали в епархии: архиерей обращался к настоятелям «достаточных» монастырей и церквей с призывом о пожертвованиях в пользу содержания миссионеров и устроения миссионерских библиотек. В зависимости от болезненности раскольнических и сектантских вопросов в епархии и от собранных средств учреждалось от 1 до 3 миссионерских должностей и устанавливалось им содержание: например, в Нижегородской епархии - 2, в Тобольской — 3.
2"Указ Святейшего Синода от 4 января 1897 с., но ходатайству Совета МДА и Московского митрополита Сергия (Ляпидевского) (Oner обер-прокурора за 1896 и 1897 гг. С. 188- 189).
2 6 1
Н. Ю. Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
теоретические выводы и богословское осмысление раскола, практические наблюдения. Творчески и ревностно к этому вопросу подходили профессор МДА Н. И. Субботин и профессор КазДА Н. И. Ивановский. Н. И. Субботин делал акцент на работе студентов с источниками по истории старообрядчества, при этом в учебный процесс вводились неизвестные доселе старообрядческие документы и тексты, найденные самим профессором29. Н. И. Ивановский, кроме того, активно изучал старообрядчество в реальной жизни, иногда при влекая к этой практике и
29 Н. И. Субботин собрал целый комплекс источников, ранее неизвестных, причем получал их разными путями, иногда от бывших старообрядцев. Им изданы: Материалы для истории раскола за первое время его существования: В 6 т. М., 1875-1887; Переписка раскольнических деятелей. Материалы для истории белокриницкого священства: В 3 вып. М., 1887-1899. Научные сочинения Н. И. Субботина также основаны на анализе значительной Источниковой базы, хотя к его исследованиям часто предъявлялись претензии в необъективности, к выводам — в недостаточной научности. См.: Субботин Н. И, Раскол как орудие враждебных России партий. М., 1867; Его же. Новый раскол в расколе. М., 1867; Его же. Русская старообрядческая литература за границей / / РВ. 1868. № 7, 8; Его же. Происхождение ныне существующей у старообрядцев так называемой Австрийской или Белокриницкой иерархии. М., 1874 (докт. дисс.); Его же. Свидетельства древлеписьменных и древлепечатных книг о правильном начертании и произношении достопокланяемого имени Христа Спасителя Иисус. М., 1884; Его же. История Белокриницкой иерархии: В 2 т. М., 1874-1897 и др. Кроме того, профессор учредил в Москве Братство св. митрополита Петра и журнал «Братское слово» (1875-1876, 1883-1899, 1906-1917), направленные на полемику с расколом.
Профессор МДА Николай Иванович Субботин
262
Практигеское богословие в российских духовных академиях
студентов30. Но полноценно включить все три составляющие учения о расколе — историческую, теоретическую и практическую - в учебную деятельность студентов было гораздо сложнее. Призывы высшей церковной власти — сделать предмет более практическим, чтобы студенты получили умение актуализировать знания в реальных условиях, навыки полемики с раскольниками и сектантами — исполнить было очень сложно. Для этого необходима была организация особой практики, а это не совмещалось с учебной нагрузкой студентов академий. И в высших церковных инстанциях, и в академических кругах развернулась дискуссия: разумно ли привлекать студентов к практической церковной деятельности на академической скамье, или сохранять их время и рвение исключительно для учебнонаучных занятий. В качестве предмета для научных занятий - написания кандидатских и магистерских диссертаций — учение о расколе студенты выбирали не так часто. Скудость этих работ не позволяла построить систему освоения и введения в научный оборот выпускниками академий местных материалов по расколу, хотя отдельные успехи в этом направлении были. Тем важнее казалось профессорам распределение таких воспитанников на места преподавателей раскола в семинарии. К сожалению, распределение, проводимое централизовано, редко учитывало подобные аргументы31. Но из студентов, имеющих интерес
30 Практика у профессора Ивановского была, ибо, кроме бесед с раскольниками, которые он вел с 1871 г., с 1880-х гг. он предпринимал регулярные поездки в Саратов, Нижний Новгород, Петербург для собеседований и более глубокого изучения особенностей раскола в разных местностях. Результатом было самое современное и полное пособие по старообрядческому расколу и русским сектам, составленное профессором: Ивановский Н. И. Руководство но истории и обличению старообрядческого раскола. Ч. I. История раскола. Казань,1886; 2 изд. 1887; Ч. II и III: Обличение раскола с присовокуплением сведений о сектах рационалистических и мистических. Казани, 1887;2 изд. 1888.
11 Так в 1893 г. оказался преподавателем науки о рус ском расколе в Тульской ДС профессорский стипендиат СПбДА А. И. бриллиантов, занимавшийся в свой стипендиатский год историей древней Церкви и
263
Н. Ю. Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
и склонность к практической церковной деятельности, даже при этих условиях удавалось вырастить специалистов32.
писавший магистерскую работу «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены» (СПб., 1898). С преподаванием совмещались обязанности епархиального миссионера, и А. И. Бриллиантову, более склонному к библиотечной работе и не имевшего реального опыта полемики, пришлось заниматься расследованием дела об отправлении молитвословия и треб раскольниками поморского согласия, разоблачением тайных сектантов скопческого направления, налаживанием православной пропаганды, собеседованиями со старообрядцами (ОР РНБ. Ф. 102. On. 1. Д. 8, 9, 99).
Профессор МДА Н. И. Субботин сетовал К. П. Победоносцеву, основываясь на конкретных примерах, о том, что на кафедры по учению о расколе распределяют студентов, «не занимавшихся этим предметом, не расположенных, да и не способных им заниматься». Он предлагал назначать на эти специфические кафедры «писавших кандидатские диссертации на темы о расколе» и тем проявивших интерес к проблеме. См.: Письма от 24.10.1883 и 05.11.1883 / / Субботин Н. И. Переписка профессора Н. И. Субботина, преимущественно неизданная, как материал для истории раскола и отношения к нему православия (1865-1904 гг.) Изд., введ. и комм. В.С. Маркова / / ЧОИДР. 1915. Кн. 1 (252). С. 347, 348.
32 Примером может служить выпускник и профессорский стипендиат СПбДА И. Т. Никифоровский — знаток старообрядчества, успевший, несмотря на раннюю кончину ( t 1895), досконально исследовать новый толк, появившийся в Самарской епархии. См.: Никифоровский И. Т. К истории Славяно-Беловодской иерархии. Самара, 1891; Его же. Разбор ответов, данных беспоповцами пригорода Белого Яра на предложенные им вопросы, и ответ на двенадцать их вопросов. Самара, 1893. Такие же надежды возлагал профессор МДА Н И. Субботин на одного из лучших студентов 1889 г. выпуска — И. В. Арсеньева, писавшего кандидатское сочинение «по расколу»: О равночестном почитании Святого Креста четвероконечного и осьмиконечного (опубликована: М., 1889). Но уже магистерскую диссертацию священник Иоанн Арсеньев писал по западным исповеданиям: «Ультра- монтанское движение в XIX столетии до Ватиканского собора (1869- 1870 г.) включительно» (Харьков, 1895). См. письма Н. И. Субботина К. П. Победоносцеву об Арсеньеве: Субботин Н. И. Переписка профессора Н. И. Субботина, преимущественно неизданная, как
2 6 4
j
Практигеское богословие в российских духовных академиях
О «сектантском» дополнении к кафедрам по расколу в официальных документах говорилось очень неопределенно — «сведения о сектах рационалистических и мистических». Серьезных научных исследований по русским сектам было мало, и подразумевалось, что преподаватель, пополняя свои знания непосредственной практикой, сумеет выбрать наиболее важные сведения, подвергнуть их систематизации, анализу и составить учебный курс. Но специалисты по расколу не всегда являлись самостоятельными исследователями и в области сектантства, и эта часть курса читалась чаще всего кратко и неглубоко. В 1887 г., на съезде противораскольнических миссионеров в Москве, была отмечена слабость преподавания учения о русских сектах в духовных академиях и семинариях. Это, по мнению участников съезда, могло привести к угрожающей ситуации: русские сектанты, поддерживаемые «заграничными миссионерскими обществами» и находящие подспорье в религиозно ослабленной части русского общества, активизировались. При этом их враждебное отношение распространялось не только на Православную Российскую Церковь, но и на Русского Государя и весь строй русской общественной ж и з н и 33. 2 0 сентября 1889 г. состоялось определение Святейшего Синода: для противостояния этому страшному злу необходимо обличение этих еретиков ввести в круг предметов, преподаваемых в духовных академиях34 . Но отдельной кафедры по изучению сект при действии Устава 1884 г. так и не было введено. Кампанию по учреждению такой кафедры на епархиальные средства вела МДА в 1904-1905 гг., но результата эта кампания не имела35. Отдельные
материал для истории раскола и отнош ения к нему православия (1865-1904 гг.) Изд., введ. и комм. В. С. Маркова / / ЧОИДР. 1915. Кн. 1 (252). С. 514-516 .
"ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 3172. Л. 1-7; ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1897. Л. 1-4 об.
и Среди наиболее опасных и активных сект назывались: субботники, хлысты, скопцы, духоборцы, молокане, баптисты и штундисты. См.: ЖСС СПбДА за 1889-1890 уч. г. СПб., 1890. С. 91-93.
"ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 315. Л. 1 -5 об.; ЖСС МДА за 1904 г.
265
Н. Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
исследования феномена русского сектантства проводились - в частности, в МДА это направление развивал и. д. доцента по кафедре греческого языка Д. Г. Коновалов, - но и с ними возникали проблемы)В. Лишь Уставом 1911 г. во всех академиях была введена История и обличение русского сектантства, причем в качестве общеобязательного предмета37.
Введенная Уставом 1884 г. миссионерская группа предметов имела в КазДА определенный успех. Проблемы мусульманства и буддизма были актуальны в поволжских и сибирских епархиях, это делало востребованными и научные исследования в этих направлениях, и выпускников, обладающих специальными знаниями и методами по этим предметам. Студенты КазДА охотно выбирали специально-миссионерскую группу предметов и соответствующие темы для курсовых работ. Некоторые сочинения представляли собой исследования очень добросовестные и глубокие, несколько раз переиздавались и были востребованы как учеными-востоковедами, так и прак- тиками-миссионерами18. В 1889 г. при КазДА, по ходатайству * 36
Сергиев Посад, 1905. С. 357-369; То же за 1905 г. Сергиев Посад, 1906. С. 20.
36 ЖСС МДА за 1905 г. Сергиев Посад, 1906. С. 333-334 и др. Результатом исследований Д. Г. Коновалова была его магистерская диссертация «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. Ч. I. Вып. I. Физические явления в картине сектантского экстаза» (Сергиев Посад, 1908). Диссертация была удостоена Советом МДА степени магистра богословия (24 октября 1908 г.), но указом Святейшего Синода от 16 июня 1909 г. это решение было отменено. Основанием был отрицательный отзыв на диссертацию рецензента от Синода — архиепископа Волынского Антония (Храповицкого), в котором указывалось, что работа «не имеет богословского характера», а также не приемлема для «православно-богословской науки» и не соответствует «задачам духовно-академического образования». См.: ЖЗС МДА МДА за 1909 г. Сергиев Посад, 1910. С. 230-233, 416-444.
,7 Устав православных духовных академий 1911 г. § 130.:iK На некоторых курсах доходило до 12 студентов, пишущих выпу
скное сочинение по миссионерским предметам. Темы кандидатских диссертаций, написанных на миссионерские темы в 1884-1892 гг.
266
Практигеское богословие в российских духовных академиях
архиепископа Павла (Лебедева), с разрешения Святейшего Синода, были учреждены сокращенные двухгодичные миссионерские курсы, как по татарскому, так и по монгольскому отделу®. Аргументация была достаточно естественной: КазДА, в условиях нового Устава, почувствовала себя ответственной за развитие миссии в Поволжье, причем не только теоретическое, но и практическое. В то же время не все из кандидатов, присылаемых преосвященными епархий, в которых находится мусульманское и языческое население, для основательной подготовки к миссионерству, способны получать высшее богословское образование. Курсы могли бы разрешить эту проблему. К тому же, занятия на этих курсах могли бы посещать миссионеры-практики, проезжающие через Казань к месту назначения или специально приезжающие в Казань для получения советов по миссионерским делам, а также священники инородческих приходов Казанской епархии10.
С конца 1880-х гг. практический настрой, инициируемый «сверху», дополнился живым ответом «снизу», хотя и не совсем согласованным с первым — внеучебной просветительской и проповеднической деятельностью студентов. Студенты принимали участие в народных чтениях и внебогослужебных собеседованиях в городских церквах или местах общественных собраний11. Создавались кружки религиозно-нравственного 30
(Терновский С. А. Историческая записка о состоянии Казанской духовной академии после ее преобразования. 1870 1892. Казань. 1892 (далее: Терновский. Указ, соч.) С. 326-327).
39 Отчет о состоянии КазДА за 1888-1889 уч. г. С. 31 39.30 Часть предметов слушателям курсов преподавалась вместе со
студентами академии, но были и специальные предметы - этнография и история распространения христианства, общий филологический обзор языков. Курсы функционировали довольно стабильно и признавались учреждением весьма полезным, хотя учащихся там было немного. За 5-летний период курсы окончили: в 1891 г. - 5 слушателей, в 1892 г. - 11, в 1893 г. - 7, в 1894 г. - 14, в 1895 г. - 4 (Тернов- гкий. Указ. соч. С. 253-255, 3 4 0 -3 4 2 ; Отчет обор-щюкурора за 1894 и 1895 соды. СПб., 1898. С. 308).
См. статью настоящего сборника «Студенты высшей духовной
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
просвещения, проповеднические. Желание студентов практически приготовиться к тем проблемам, которые встретят их по выходе из академии, определяли их рвение к практической церковной деятельности.
Отзывы о просветительской и социальной деятельности студентов убеждали в ее полезности как для «практического богословия» самих студентов, так и для просветительской миссии Церкви. Однако в академической среде были различные мнения по этому вопросу — вопрос о разумности такого практического аспекта в богословском образовании многими членами корпораций подвергался сомнению.
При разработке нового Устава духовных академий в 1909 г. был поставлен вопрос о более последовательной подготовке студентов академий к главному церковному служению, которое дано в удел духовной школе — пастырству. Вопрос вызвал горячую дискуссию: следует ли специально готовить студентов академий к священству и настойчиво призывать их, как будущих семинарских преподавателей, к принятию сана? Преосвященные Антоний (Храповицкий) и Сергий (Страгород- ский) считали, что сомнения в этом вопросе выражали неопределенность принципов, которой страдала духовная школа. Подготовка к пастырству должна стать структурообразующей идеей высшего духовного образования и практическим применением теоретического богословия к жизни Церкви. Представляя пастырство лишь одним из возможных выходов для своих выпускников, академии изменяли, по мнению преосвященных, своей главной задаче и лишали богословие его итоговой — практической — составляющей. А это обуславливало слабость в исполнении и других задач — педагогической и научно-богословской* 42 . Однако другие члены Комиссии воспротивились такой
школы в России — научный поиск и церковный порыв (1890- 1900-е гг.)».
42 Могут ли научить и вооружить будущих пастырей те, кто сам уклонился от пастырства по нежеланию или боязни? Могут ли заниматься разработкой церковной науки те, кто не пожелал взять на свои плечи предлагаемого креста священства? Вывод: первый параграф
2 6 8
Практигеское богословие в российских духовных академиях
однозначности. Академии — не пастырские школы, как семинарии, а должны заниматься научным изучением богословия. И хотя, конечно, желательно, чтобы питомцы академий стремились служить Церкви в священном сане, и служение, и практическое применение богословских знаний не столь однозначно'*1.
Новый Устав 1910-1911 гг. был попыткой компромисса этих точек зрения, но неудачной. Общеобязательный статус нравственного богословия, пастырского богословия с аске- тикой, гомилетики и церковного права подтверждался, но без каких-то особых акцентов или ремарок. Хотя Устав вводил практические занятия, которые должны были сопровождать все лекционные курсы, и особо указывал на необходимость составления и аналитического разбора проповедей на занятиях по гомилетике, это не выходило принципиально за прежние понятия и подходы к практическому богословию.
Гораздо важнее были обсуждения самой проблемы - исследования практической жизни Церкви — в преподавательских кругах. Церковно-общественный подъем начала XX в. привел к постановке новых вопросов в церковной жизни, и богословие неизбежно должно было включить эти вопросы в свою палитру'14 . С одной стороны, было заметно оживление церковной жизни, обсуждались вопросы активизации приходской деятельности, близости пастыря и паствы, социального служения, просвещения. С другой стороны, в бурных событиях 1905-1906 гг. так или иначе оказались задействованы не только отдельные члены Церкви, но и церковные институты, в частности, духовные школы. Эти действия, а также реакция церковной власти на них обнажили многие проблемы, которые требовали осмысления и оценки с догматической, канонической, церковно- * 4
Устава необходимо должен четко формулировать мысль о приготовлении на служение Церкви преимущественно в священном сане ("Журналы 1909 г. С. 6 -8 ).
4'Журналы 1909 г. С. 8 -9 .4'10 проблемах высшей духовной школы см. статью настоящего
сборника «Богословское образование в России в начале XX в. — полемика, анализ, синтез».
2 6 9
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
исторической, историко-литургической точек зрения. Возникла необходимость богословского исследования самой церковной жизни с ее новыми проблемами, вопросами, чертами и тенденциями. Но при этом исследования должны были сохранять жизненность — «практичность», то есть: а) в формулировке самих проблем и задач исследований должны участвовать те, кто имеет личный опыт или близко знает исследуемую сторону церковной жизни или форму церковного служения (пастырскую, просветительскую, миссионерскую, социальную); б) результаты исследований не должны оставаться исключительно достоянием научных обсуждений, аудиторий и архивов, а вводиться в жизнь, способствуя решению тех проблем, из которых они исходили. Это было тем требованием, которое всегда
> предъявлялось Церковью к своей науке — богословие должно постоянно развиваться и быть готовым дать ответ на тот или иной вопрос, выработать церковно-богословскую позицию по той или иной теме. То есть практическое богословие получало несомненный научный статус, свои научные задачи, источники и методы исследования, но они имели особенность - взаимосвязь теоретического богословия, с его историческим и систематическим подходами, концептуальной основой и специальными исследованиями по конкретным вопросам, и реальной современной жизни Церкви, с ее актуальными проблемами. Темы, связанные с проблемами современной церковной жизни и духовного служения, стали предлагаться для исследова- ния студентам45. Таким образом, в контексте высшей духовной
45 Например: выпускные сочинения студентов СПбДА «Христианское мировоззрение и научный социализм в России (историко-философский очерк отношений между ними со 2-й половины XIX века до настоящего времени)» (1908 г.) (О Р РНБ. Ф. 574. Оп. 2. Д. 144); «Пастырско-проповеднические перспективы в современной обстановке церковно-общественной жизни» (1918 г.) (ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 2. Д. 135); студентов МДА «Церковно-приходская благотворительность: исторический очерк и современное состояние)» (1905 г.) (ОР РГБ. Ф. 172. К. 182. Д. 5, 6); «Современность в проповеди (теоретико-критическое исследование до нынешнего дня)» (1905 г.) (Там же. К. 187.
270
Практигеское богословие в российских духовных академиях
школы начало формироваться новое понимание «практического богословия», с одной стороны, синтезирующее весь предыдущий опыт, с другой стороны, ставящее перед необходимостью разработки особых подходов, методов исследований.
На фоне этих обсуждений и интересных находок трактовка практического богословия в проекте последнего Устава духовных академий, разработанного в 1917-1918 гг., кажется шагом назад. Сама учебная концепция этого проекта была синтезом всех прошлых Уставов — она сочетала общеобязательный курс, причем построенный по определенным принципам, и пять направлений специализации, в виде групп предметов. Одним из таких направлений была церковно-практическая группа, состоящая из: пастырского богословия (с аскетикой, катехети- кой и историей миссий), церковного права, истории проповедничества и гомилетики, литургики, церковной археологии и истории христианского искусства, истории старообрядчества и разбора его учений, истории сектантства и разбора его учений, истории социальных учений, педагогики с методикой преподавания Закона Божия™. Само понимание «практического богословия», постепенно формируемое, но к 1917 г. уже заявленное, с трудом совмещалось в единой специализации с полноценным научным развитием таких наук, как церковное право, литургика, церковная археология, а также научным изучением истории и учения старообрядчества. Каких-либо указаний и
Д. 1); «Современные гадания о грядущих судьбах человечества и их оценка в связи с общим вопросом о смысле истории» (1905 г.) (Там же. К. 204. Д. 7); «Пасторологический анализ русской изящной литературы последнего десятилетия» (1913 г.) (Там же. К. 203. Д. 5) и др.
'"‘Проект Устава православных духовных академий 1917-1918 i t . § 123 (ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 382. Л. 77-78). Ср.: обсуждение вопроса о церковно-практической группе на заседаниях комиссии профессоров духовных академий в мае — июне 1917 г. (РГИА. Ф. 797. On. 86. Д. 91. Л. 47-49). Для КазДА предполагалось еще одна группа, для специального изучения мухамеданства и буддо-ламаизма (две подгруппы), а также языка и быта тех населяющих Россию народов, которые исповедуют эти религии (ГАРФ. Ф. 3431. Ом. 1. Д. 382. Л. 78 79).
2 7 1
OB,рассуждений по поводу особой постановки этих практик, связанных с их учебным освоением и п р и Г ^ ^ научных достижений богословия к жизни Церкви п р о е е т Т ^ ва не содержал, не успели этот вопрос полноценно обсуд ^ на заседаниях Отдела о духовных академиях Поместного с ” бора. Однако эта ущербность отчасти восполнялась обсуждениями актуальных проблем церковной жизни и их связи с богословской наукой. Такие обсуждения проходили не только в рамках Отдела о духовных академиях, но также Отделов о бла- гоустроении прихода, о единоверии и старообрядчестве, о миссиях, о богослужении и других и на пленарных заседаниях Собора. Профессора духовных академий - специалисты в области догматики, церковной истории, канонического права, литургики, истории старообрядчества, миссии — не только давали компетентные справки из области своих научных занятий, но и в оперативном режиме вырабатывали «технику» применения этих знаний к решению обсуждаемых проблем. Эти обсуждения, несомненно, также можно считать вкладом в развитие «практического богословия» Русской Православной Церкви.
Следует отметить еще один учебный проект 1917 г., имеющий определенное отношение к развитию практического богословия — проект богословского института47. Авторы проекта
предлагали преобразовать в такие институты старшие 272
------------------ н - Ю - СУХОва• ВЕРТОГРАД Н А У К д у х о р и ч п
ПЯТЫЙ
и шестой — классы семинарии. Учебные планы проектируемых институтов мало отличались от семинарских: сохранялисьти все богословские предметы семинарского курса, с до ав
ем патрологии, истории христианского искусства и нео ной заменой «Практического руководства для пастырей предмета исключительно практического и не прон общей идеей, на «церковное право». Вводились также ты, ориентирующие студентов на знание современн ства — «обзор социальных учений», с элементами пол аКцеН'экономии, и «история русской философской мысли -том на ее современном состоянии. Однако главная
---------------------------------------------- - П г 1917. С. 2 9 '47'47 О реформе духовно-учебных заведении, п •>
богословских институтов была в подготовке студентов к ^рковной жизни и активной деятельности. Недостаток дейст
ppntmuzecKoe богословие в российских духовных академиях
вующих семинарий авторы проекта видели в оторванности отжизни отвлеченности преподаваемых наук и изоляции от живых церковных дел. Нельзя создать замкнутых лабораторий для изготовления пастырей. Наилучшей средой, созидающей пастырскую настроенность, является христианская семья — «домашняя церковь», церковная общественность, приход с его задачами и проблемами, просветительской и социальной деятельностью. Церковное воспитание проект видел не в строгой регламентации жизни, свойственной старым семинариям, но в активном участии в богослужении, проповеди в приходских храмах, ведении религиозно-нравственных бесед; участии в благотворительных и просветительских организациях и братствах; поездках в места, зараженные расколом и сектами, под руководством местных миссионеров; паломничестве к святыням и пр. Вся эта практическая деятельность должна была осмысляться с богословской точки зрения и исследоваться с целью ее совершенствования. Однако этому проекту, как и проекту традиционных духовных академий, не суждено было реализоваться.
Таким образом , практическое богословие в истории российской духовной ш колы им ело непростой путь и, как кажет - Ся> не успело выработать четкую постановку, учебную и науч- нУк> концепцию, методы исследования и обучения. Однако оп Р^Деленная палитра п ри нцип ов и реш ений была составлена.
°*н о выделить некоторы е из них: не ^ Практическое богословие ставит своей задачей приме
ие богословских знаний к конкретным проблемам церков Нои жизни.
ком ^ Практическое богословие долж но не только давать ре цИа Д,а ии По применению этих знаний, но вырабатывать с Пени НЬ1С Mero7lHKn — «технику» — их практического при Ных v В КонкРетных ситуациях, с учетом специфики WP
яРеждений, регионов, местных и временных про )ЛС 'в ом Рактическое богословие должно действовать и в J
правлении, то есть исследовать явления совреме
272 273
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
церковной жизни и формулировать возникающие в этой жизни проблемы на языке научного богословия, для решения их в рамках теоретического богословия.
4) Для исследования современной церковной жизни практическое богословие должно вырабатывать особые методы исследования, использовать достижения и методы других наук, занимающихся проблемами современности.
5) Особое внимание практического богословия должно обращаться на комплекс наук, связанных с церковным служением — пастырским, миссионерским, проповедническим, ибо даже их учебная постановка должна учитывать их особую - практическую — направленность.
6) Наконец, практическое богословие должно быть тесно связано с церковной практикой как таковой, то есть активным участием исследователей, преподавателей, студентов в реальном церковном служении.
Российская духовная школа не успела реализовать эти планы, но был намечен путь — последовательная реализация и синтез этих положений.
СТУДЕНТЫ ВЫ СШ ЕЙ ДУХОВНОЙ школы В РО ССИ И - НАУЧНЫ Й поиск
И Ц ЕРКО ВН Ы Й ПОРЫВ (1 8 9 0 -1 9 0 0 -е гг.)
Настоящая статья посвящена исследованию одного из интересных явлений в истории российского православного духовного образования: организации и деятельности студенческих кружков и обществ в конце XIX — начале XX в. В течение полутора десятилетий (с середины 1890-х до 1910 г.) во всех четырех академиях было учреждено более десяти кружков и обществ разной направленности. В одних случаях инициатива их учреждения принадлежала студентам, но возглавлялась представителями духовно-академических корпораций, в других случаях активной силой являлись сами преподаватели-энтузиасты. Желание студентов и преподавателей расширить круг своих занятий, наложить на себя лишние обязанности и ответственность вызывает удивление, ибо духовные академии осуществляли один из самых трудоемких процессов высшего образования, и перегруженность преподавательских и студенческих корпораций духовных академий к концу XIX в. была «притчей во языцех»1. Небезынтересен и сам опыт кружковой
1 Многопредметность, сочетание в учебных планах богословского и гуманитарного образования, новизна многих из преподаваемых предметов, труднодоступность источников, слабо разработанная методология требовали больших усилий и от учащих, и от учащихся.Все эти проблемы проявлялись с самого начала бытия высшей духовной школы, оставались они вполне актуальны и к концу XIX и.
2 7 5
Я . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
деятельности. Какие проблемы ее участники пытались решить таким путем, какие интересы удовлетворить? Было ли это явление связано с внутренним учебным процессом или вызвано какими-то церковными или общественными причинами, внешними по отношению к духовной школе? Какие формы студенческой самодеятельности оказались наиболее приемлемыми для высшей духовной школы? Решили ли кружковые занятия те задачи, которые перед ними ставили их инициаторы? Наконец, как относились к этим занятиям представители церковной власти, епархиальные архиереи, было ли единство в отношении к этому явлению в преподавательской среде? Все эти вопросы требуют специального исследования. Однако их изучение помогает не только лучше представить состояние высшей духовной школы и «академического» студенчества в определенный исторический период, но глубже понять некоторые сущностные черты духовного образования и развития богословской науки.
«Кружковой» порыв 1890-1900-х гг. был, как казалось, совершенно новым явлением для высшей духовной школы, доселе редко отходившей от данных высшей властью уставных положений. Однако история духовных академий уже имела подобный прецедент, хотя и задолго до исследуемого периода. Этот уникальный опыт принадлежал студентам первого курса преобразованной по новому Уставу МДА2. Организованный ими в 1816 г. кружок «Ученые беседы» действовал недолго: как только студенты этого курса стали преподавателями, у них появилось профессиональное поприще для актуализации полученных знаний, а последующие курсы преемниками в этом деле не стали. Но деятельность этого кружка - обсуждение рефератов, составленных по проблемным темам богословской науки, - стала примером проявления самостоятельного твор-
2Голубинский Ф. Л., прот. «История общества, составившагося под названием «Ученых бесед» в Московской Духовной Академии 1816 года марта дня» / / У Троицы в Академии. 1814-1914. Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 1-9. См. также: РГИА ф . 796. Оп. 205. Д. 367.
2 7 6
Студенты высшей духовной школы - наугный поиск и церковный порыв
чества юношества, призванного к постижению самых высоких истин человеческого знания.
В дальнейшей истории академий был еще пример внеучеб- ной деятельности подобного рода, уже в условиях нового Устава духовных академий, принятого в 1869 г. В Уставе оговаривалось право академий «учреждать ученые общества», а к деятельности обществ в учебном заведении могли привлекаться и студенты*. Ректор СПбДА протоиерей Иоанн Янышев попытался устроить в СПбДА такое общество: по субботам после всенощной желающие студенты и преподаватели собирались в аудитории и читали рефераты, «кто о чем хотел»'* 1. Рефераты посвящались актуальным вопросам научного богословия и церковной жизни.
Но оба эти прецедента были особыми случаями, обусловленными энтузиазмом конкретных личностей, и не создали традиции. Кружковая деятельность 1890-1900-х гг., хотя и опиралась на инициативу отдельных лиц, представляла собой не особые случаи, а некоторое явление. Поэтому для определения
Сказанная цель обществ: изучение и издание источников христианского вероучения, памятников и материалов, относящихся к истории и современному состоянию Церкви, обзор произведений отечественной и иностранной литературы, изыскание способов к «возвышению уровня всех богословских наук» и наук, соприкосновенных с богословием и т.д. См.: Устав духовных академий, Высочайше утвержденный 30 мая 1869 г. Гл. XIV: О средствах к совершенствованию и распространению богословских знаний. § 170-171. Западное богословское образование практиковало такую форму обучения: в Уставе теологического факультета Берлинс кого университета оговаривалась деятельность «богословских обществ» из профессора и студентов, для катехетических, гомилетических, археологических упражнений, богословских сочинений и богословских состязаний (ХЧ. 1869.Ч. И. № 8. С. 345).
1 «Общество» протоиерея Иоанна студенты вспоминали с большой благодарностью, как нечто «новое и небывалое» в духовно-учебной системе (Бронзов А. А. Протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев. СПб., 1911. С. 69-70). Но распространения это начинание при Уставе 1869 г. не получило.
2 7 7
1
Н. Ю. С у х о в а . ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
причин этого явления необходимо проанализировать ситуацию внутри и вне академий.
Одной из характерных черт жизни высшей духовной школы в 1880-1890-е гг. были нестроения в студенческой среде. Процесс расцерковления, неповиновения, беспорядков в начале 1880-х гг. охватил студенческую среду российских университетов и институтов5. Эта волна захлестнула и духовные академии, несмотря на их еще сохранявшуюся, хотя и ослабленную к этому времени, обособленность. Попытки духовно-учебного начальства наладить дисциплину, .i также меры, предпринятые новым обер-прокурором К. П. Победоносцевым, вызывали обратную реакцию, и в конце 1883 — начале 1884 г. по академиям прокатилась волна нестроений6. В КДА один из студентов был
5 Юхнева Н. В. Студенческое движение в Петербургском университете и первые демонстрации 1901 г. / / Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962. С. 129-139; Жуйкова Р. Г. Революционное студенческое движение в Петербурге в 80-х гг. XIX в. (1881-1887 гг.). Автореферат дис... к. и. н. Л., 1965; Она же. Революционные студенческие кружки Санкт-Петербургского университета 80-х годов XIX века / / Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 2. Л., 1968. С. 41-51; Из истории революционного движения учащихся в России в 80-х годах XIX в. / Публ. А. Н. Катренко / / Сов. архивы. 1983. № 6. С. 31-35; Щетинина Г. И. Студенчество и революционное движение в России, последняя четверть XIX в. / АН СССР. Ин-т истории СССР. М., 1987.
6 К. П. Победоносцев видел наиболее действенную меру борьбы с беспорядками в запрещении своекоштным студентам жить на «вольных» квартирах, за исключением родительского дома. По его предложению Святейший Синод 6 /15 июля 1883 г. принял соответствующий указ. Первое применение этого указа последовало в августе того же 1883 г., при образовании новых курсов. Указом Синода от 3 ноября 1883 г. Советы академий обязывались на заключительных страницах годичных отчетов «О состоянии академии» сообщать о поведении студентов и деятельности инспекции. В 1884 г. Святейший Синод неоднократно указывал на необходимость улучшения религиозно- нравственного воспитания студентов духовно-учебных заведений, в том числе и академий. См.: РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 451. Л. 305; Там же. Д. 452. Л. 420-421; Там же. Ф. 684. On. 1. Д. 34. Л. 2; ОР РНБ Ф. 608. On. 1. Д. 1117. Л. 23 23 об.
278
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
арестован за хранение революционных сочинении и бомбы, предоставление ночлега членам террористической фракции, в марте 1884 г. студентами этой академии была организована демонстрация, неспокойная обстановка была в МДА7. Состав студентов духовных академий попытались усовершенствовать количественно и качественно: более строго стали подходить к выбору семинаристов, посылаемых в академии, ректорам академий было указано входить в конфиденциальные сношении с семинарским начальством для выяснения благонадежности ко
лонтеровк. Церковным руководством принимались меры, направленные на ограждение духовных академий от внешнею влияния, но они не имели заметного успеха. Со второй полонимы 1880-х гг. часть студентов духовных академий стала активнее реагировать на нарастающие нестроения в обществе, волнения следовали за университетскими, хотя в менее сильной форме. Приходилось принимать радикальные моры. Синод издал ряд указов с запрещениями разной степени тяжести".
'Студент 3 курса КДА К. Дашкевич; пыла выявлена п о связь г киевской организацией «Народной ноли». См.; ЦГИАУ. Ф 711 Он. 3. Д. 1592. Л. 1-8; ЦИАМ. Ф. 229. Он. 3. Д. 191. Л. \ 7
"Обзор деятельности Ведомства православною исповедания ,ы время царствования императора Александра III. СПб., 1901. С. 158 167. Волонтеры выпускники семинарий, поступающие в академию нс по назначению семинарского начальства, а но собственной инициативе. Разрешение на такой вариант поступления всем выпускникам духовных семинарий 1-го разряда было дано Уставом духовных семинарий 1867 г. (§ 13) и Уставом духовных академий 1869 г. (§ 123 128).
'Определение Святейшего Синода за № 2572 от 25 ноября - 10 декабря 1886 г. запрещало любые отлучки студентов из учебных заведений, в том числе и из академий вне вакаций, <>■ бою разрешения инс пекции. Указ Синода от 15 декабря того же года за № 22 воспрещал воспитанникам духовно-учебных заведений иметь огнестрельное оружие, а указ от 23 декабря за № 25 принимать участие во всех чествованиях общественных деятелей, имеющих публичный характер. Иниду нес троений 1886 1887 гг. 22 июня 1888 г. Связей bj и й Синод издал новый указ; нарушителей предлагалос ь лишать отпусков, самовольно уходящих из академий н а....и, - исключать.
279
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
В августе 1888 г. дела об исключении студентов из академий и увольнении по прошениям были переданы из Советов, в состав которых входили все профессора академий, в Правления10 11. Эта мера повышала личную ответственность руководства академий, но отстраняла большую часть преподавателей, причем не только молодых, но и опытных, от влияния на судьбу нарушителей и возмутителей спокойствия. Однако скоро стало ясно, что отстранение преподавателей от воспитания студентов действует губительно: наказания и усиление инспекторского надзора побуждали студентов искать связей с современной жизнью и осмыслять возникавшие проблемы, и в этом их никто не мог скорректировать.
С конца 1880-х гг. обвинение в недостатках воспитания студентов духовных академий было перенесено на всех членов корпораций: занимаясь наукой, они не думают о том, чем живут студенты, не имеют на них нравственного влияния". Несоответствие настроений студентов духу церковной школы и занятиям богословской наукой волновало и профессорско-преподавательские корпорации, но они видели выход в сближении со студентами на почве интересов науки и усилении
10 Указ Святейшего Синода, Высочайше утвержденный 31 августа 1888 г. В указе приводился аргумент: в состав Советов входят профессора, не имеющие непосредственного отношения к вопросам воспитательного характера, но своим большинством могущие стеснять действия непосредственных начальников — ректора и инспектора. См.: ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 3031. Л . 1 -11; Там же. Д. 3032. Л. 1 -3 об.; РГИА. Ф. 802. Оп. 9 .1888 г. Д. 9. Л. 1-4; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 191. Л. 1 -3 об.; Обзор деятельности Ведомства православного исповедания за время царствования Александра III. СПб., 1901. С. 563-564.
11 В августе 1892 г. К. П. Победоносцев сетовал в письме к архиепископу Амвросию (Ключареву): «Беда нам от академистов. Увы! Ныне профессора ставят себя так, что читают лишь свои лекции, и то не все внимательно, с мыслью о слушателях, а большею частью с мыслью о своей науке, коей якобы служат. До общего направления, до духа нравственного - нет им дела. Отсюда и нравственные нестроения в академиях, и непомерное развитие глупой гордости в ее питомцах...» (ОР РГБ. Ф. 230. П. 9804. Д. 10. Л. 6 -6 об.).
2 8 0
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
научного и нравственного влияния на студентов. Эти соображения побуждали некоторых преподавателей поддерживать организацию студенческих кружков и обществ — научных, а не общественно-политических.
Но воспитательной причиной, конечно, нельзя полностью объяснить творческий порыв. Кружковая деятельность должна была восполнить пробел, возникший на месте вводимых Уставом 1869 г., но отмененных реформой 1884 г. учебных практических занятий. Хотя опыт этих занятий в эпоху действия Устава 1869 г. был признан в целом неудачным, их отмена явилась неудовлетворительным решением. Творческие силы студентов и желание обсуждать изучаемые вопросы не находили выхода. Знакомство с опытом заграничных университетов - а преподаватели духовных академий, начиная с 1869 г., имели такую возможность - подтверждало необходимость проведения практических занятий. Без чтения и анализа источников, разбора проблемных вопросов - в аудитории, под руководством преподавателя-специалиста, — невозможен плодотворный учебный процесс, особенно в такой сложной области науки, как богословие. При обсуждении в 1895-1896 гг. проектов новой духовно-учебной реформы, так и не состоявшейся, преподавательские корпорации настойчиво предлагали ввести практические учебные занятия в той или иной форме12. Когда стало ясно, что официального централизованного введения практических занятий не последует, некоторые члены корпораций духовных академий решили взять инициативу в свои руки и воспользоваться разрешением действующего Устава учреждать ученые общества и применять другие способы «к возвышению уровня» богословской науки12.
Третьей причиной «кружкового» явления была попытка приобщить студентов академий к церковно-практической
12 Сухова Н. Ю. Несостоявшаяся духовно-учебная реформа 1890-х годов / / Сборник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. II: История: История Русской Православной Церкви. Вып. 3 (20). М„ 2006. С. 7-26.
"Устав 1884 г. § 163-164.
281
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
деятельности. В Уставе духовных академий, введенном в 1884 г., был поставлен акцент на подготовке студентов духовных академий к церковно-практическому служению. Но в каких формах эта подготовка должна осуществляться, указано не было. Чтения лекций по дисциплинам, имеющим отношение к пастырскому служению — пастырскому богословию, гомилетике, литургике, истории и полемике с расколом и сектами - явно было недостаточно. Надо было вырабатывать умение применять эти знания практически, решая с помощью полученных знаний актуальные проблемы церковной жизни, иметь опыт не только участия, но и организации приходской жизни, навыки в церковно-просветительской и церковно-социальной деятельности. С середины 1896 г. часть преподавателей пыталась искать выход в усилении практической составляющей богословского образования, то есть привлечении студентов к реальной церковно-просветительской, церковносоциальной и миссионерской деятельности в форме кружков и обществ.
Наконец, побудительным мотивом для организации внеплановых студенческих занятий послужило повышение церковно-общественной активности в конце XIX — начале XX в. С особой значимостью встал вопрос: в какой степени студентам высшей духовной школы необходимо знать умонастроения общества, духовные искания, новые веяния в литературе, будоражащие умы. Студенты не были ограждены от этого процесса непроницаемой стеной, особенно после того, как в духовных академиях были разрешены студенческие библиотеки. Но надо ли придавать этому процессу познания общественных интересов систематическую и официальную форму, ставить под руководство преподавателей? Члены профессорско-преподавательских корпораций неоднозначно отвечали на этот вопрос. Одни считали, что студентов следует ограждать от влияния расцерковленного общества, настраивая исключительно на традиционный духовно-учебный процесс. Другие преподаватели считали необходимым для будущих пастырей и богословов знать все эти проблемы и учиться вырабатывать решения в
2 8 2
Студенты высшей духовной школы - наугный поиск и церковный порыв
трудных ситуациях, не убегая от проблем, а работая над воцер- ковлением общественной инициативы и .
Таким образом, «кружковое» явление было закономерным явлением духовно-академической жизни конца XIX - начала XX в. Преподавательские корпорации чувствовали насущную необходимость ввести новые формы учебной деятельности, активизирующие студентов в интеллектуальном отношении. Многие преподаватели, как и церковная власть, видели единственный путь правильного развития высшей духовной школы в усилении церковно-практической деятельности студентов. Как представители церковной власти, так и большая часть преподавателей, хотя и относились настороженно к общественно-дисциплинарному возбуждению студентов, видели единственный выход во введении этого возбуждения в правильное русло, возглавляемое преподавателями академий и контролируемое церковной властью.
Организуемые в конце 1890 — начале 1900-х гг. студенческие кружки и общества имели разное направление, отлича-
ы Епископ Антоний (Храповицкий), будучи ректором КазДА, писал в 1896 г. о необходимости приближения академий к реальной церковно-общественной жизни, привлечения как профессоров, гак и студентов «к участию в обще-церковной жизни». При этом «проповедь слова Божия должна была быть... живою общественною речью». Некоторые преподаватели академий призывали к еще более активному знакомству студентов с реальной жизнью и «нравственными нуждами общества», предоставлению им возможности «самодеятельною практического участия... в церковном учительстве и церковной жизни». Отрыв академий от образованного общества оценивался, как беда обеих сторон: «не хотим знать иного мира, в котором живет интеллигенция...» «Необходимо православному богослову... чутко вслушиваться в запросы времени... глубоко, напряженно-пристально вдумываться в особенности духовных интересов, которыми живет современное общество». См.: Антоний (Храповицкий), еп. В защиту наших академий / / ПС. 1896. № И . С. 16, 39; О специализации духовных академий / / ВиР. 1897. Т. 1. Ч. 1. С. 432; Светлов П. Я., свищ. Образованное общество и современное богословие / / БВ. 1901. № 11. С. 524; Введенский А. И. Запросы времени / / Там же. 1903. № 10. С. 243.
2 8 3
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Профессор СПбДА Виталий Степанович Серебренников
лись по форме и уровню. Можно выделить три направления в этом процессе.
Кружки и общества первого вида учреждались с целью актуализации знаний, полученных в лекционных учебных курсах. Это были практические занятия, хотя не введенные в строгие учебные рамки и охватывающие только ревнителей того или иного предмета. Основу составляло чтение и обсуждение источников или интересных и спорных научных исследований. За пример были взяты подобные занятия на теологических и философских факультетах немецких университетов. Наиболее значимыми были подобные занятия по психологии под руководством В. С. Серебренникова в СПбДА и по философии под руководством П. В. Тихомирова в МДА,;\
15 Командировки с научной целью в европейские университеты побудили некоторых преподавателей академий сопровождать и свои лекционные курсы факультативным чтением и анализом источников для желающих студентов. Для этого испрашивалось согласие ректора. И. д. доцента СПбДА В. С. Серебренников проводил в 1894- 1898 гг. с желающими студентами за
нятия по экспериментальной психологии. Он взял за образец семинар Вильгельма Вундта в институте психологии при Лейпцигском университете, в работе которого сам В. С. Серебренников участвовал в 1892-1893 гг. во время стажировки в Германии. С 1904 г. попытался
Профессор МДА Павел Васильевич Тихомиров
284
А
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
Второй формой было составление и обсуждение рефератов по злободневным вопросам богословия и наук, соприкосновенных с богословием (психология, философия, литература), а также по проблемам церковной и общественной жизни. В КазДА в 1897-1898 уч. г. был организован студенческий Философский кружок под руководством профессора метафизикиВ. И. Несмелова и профессора логики и психологии А. Н. Потехина.В КДА в 1898 г. был учрежден проповеднический кружок, участники которого, кроме практической деятельности — составления и произнесения проповедей, занимались разработкой теоретических вопросов в области гомилетики. Руководил кружком по просьбе студентов и. д. доцента священник Николай Гроссу. В МДА в 1899 г. был организован Философский кружок, вскоре переименованный в Общество; мысль о его создании родилась у студентов и нашла поддержку и.д. доцента психологии П. П. Соколова и и. д. доцента но кафедре истории философии П. В. Тихомирова. В 1900 г. в СПбДА было организовано студенческое Психологическое общество,
Ректор СП6ДА епископ Сергий (Страгородским)
вести регулярные занятия по философии профессор МДА П. В. Тихомиров. Он же сформулировал обоснование такого порыва: «Сознание пользы этого дела [практических занятий — С. H.J и наблюдение тех завидных результатов, какие оно дает у немецких профессоров, преисполнило меня желанием и решительностью завести и при своей кафедре такое же чтение и обсуждение философских отрывков. С разрешения Преосвященного Ректора это и сделано мною в настоящем учебном году - пока для желающих только студентов 3 курса, а впоследствии по указаниям опыта можно будет это дело и расширить, как по количеству читаемого материала, так и по составу участников» (ЖЗС МДА за 1904 г. Сергиев Посад, 1904. С. 349).
2 8 5
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
по инициативе самих студентов, но под руководством профессора психологии В. С. Серебренникова. Через год в СПбДА было организовано и студенческое Литературное общество под руководством доцента Д. И. Абрамовича, занимавшего в Академии кафедру русского и церковно-славянского языков и истории русской литературы. В 1903-1904 гг. в КДА были организованы еще два кружка — Богословско-философский и Златоустовский, а в начале 1907 г. в МДА, по инициативе студентов 4-го курса и с согласия и. д. доцента по кафедре русского и церковно-славян
ского языков и истории русской литературы Н. Л. Туницкого, был учрежден Литературный кружок. В состав каждого кружка входило от 40 до 150 человек (с членами-соревнователями), хотя действенных участников, делающих доклады, было существенно меньше — от 15 до 40. При разработке уставов использовались правила подобных студенческих учреждений при германских и французских университетах, а также уникальный опыт кружка «Ученые беседы». Во главе обществ стояли ректоры (в СПбДА епископ Сергий (Страгородский), в МДА епископ Арсений (Стадницкий)), кружками руководили преподаватели-инициаторы или те, кто согласился принять на себя руководство
2 8 6
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
по просьбе студентов. Н аиболее активными участниками студенческой общ ественно-кружковой деятельности были преподаватели: в СПбДА протоиерей Сергий Соллертинский, В. В. Успенский, А. В. Карташев, В. С. Серебренников, Д. И. Абрамович, И. Г. Троицкий, Д. П. Миртов; в МДА П. П. Соколов, П. В. Тихомиров, И. В. Попов, Н. Л. Туницкий; в КДА священник Николай Гроссу, В. 3. Завитневич, В. И. Экземплярский, Д. И. Богдашевский, иеромонах Анатолий (Грисюк); в КазДАB. И. Несмелов, А. Н. Потехин16.
Деятельность кружков и обществ стала очень ярким явлением в студенческой жизни — даже те, кто планировал писать выпускную работу по другим кафедрам и темам, с увлечением составляли рефераты и участвовали в заседаниях. Это, в свою очередь, вырабатывало в студентах качества, необходимые для научной работы — аналитическое чтение научных трактатов, в том числе иностранных авторов, критический разбор спорных идей, корректная полемика, оперативная реакция на формулируемые теории и положения. Некоторые общества, ощутив недостаток специальной литературы, ходатайствовали — и успешно — о расширении фондов академических фундаментальных
,г’См.: РГИА. Ф . 796. Оп. 205. Д. 367; Там же. Ф. 802. Оп. 16.Д. 190. Л. 2 -6 , 7 -8 , 61-64; Арсений (Стадницкий), митр. Дневник за 1897 г. / / ГАРФ. Ф. 550. On. 1. Д. 511. Л. 66-67, 69 об., 70, 72; Из академической жизни / / БВ. 1900. Т. I. № 2. С. 338-345; Отчет о деятельности студенческого философско-психологического кружка за 1899-1900 и 1900-1901 учебные годы / / БВ. 1902. Т. I. № 2. С. 411- 430; Отчет о деятельности студенческого философско-психологического кружка за 1901 -1902 учебный год / / БВ. 1903. Т. II. № 6.C. 322-327; О деятельности студенческого Психологического общества в СПбДА / / ЦГИА СПб. Ф. 277. On. 1. Д. 3460. Л. 1-3; Материалы, относящиеся к деятельности этого же общества / / ОР РНБ.Ф. 574. On. 1. Д. 970. Л. 1-31; Студенческое Психологическое общество при Санкт-Петербургской духовной академии / / ЦВ. 1903. № 14.С. 440-442; А. А. Студенческое Психологическое общество / / ХЧ. 1903. Ч. II. № 5. С. 811-815; Отчет о состоянии СПбДА за 1902 г. (в извлечении). СПб., 1903. С. 520-521; Отчего состоянии КДА за 1909— 1910 уч. г. Киев, 1910. С. 37-38 , 74-75.
2 8 7
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
библиотек, а иногда и о создании специальной библиотеки общества, с правом выписывать зарубежную периодику и новейшие исследования западных и отечественных ученых17. Была заметна определенная динамика в развитии самих кружков и обществ: так, участники Психологического общества СПбДА с удовлетворением констатировали в начале третьего года своей деятельности, что «из психологического семинариума оно обращается в ученое философско-психологическое общество»18. Дерзновение студентов не столь высоко оценивалось преподавателями — вкладов в науку от деятельности студенческих обществ не ждали, но отработка элементов научной работы, как и сама научная устремленность, были чрезвычайно важны для духовно-академического процесса. Определенным вкладом в культурное развитие студентов были литературные и музыкальные вечера, организуемые самими студентами и дозволяемые начальством19.
Наконец, в конце 1880-х гг. появилась и еще одна — третья — форма внеучебной деятельности студентов — участие в церковно-практической жизни: проповедь, просветительская деятельность, катехизация, миссия, собеседования со старообрядцами и т. д. Нельзя сказать, что это была совершенно новая форма деятельности для высшей духовной школы. Существовала традиция еще со времен митрополита Платона — привлечение к проповеди преподавателей и студентов. Но в середине XIX в. святитель Филарет высказал мнение: активное привлечение к церковно-практической деятельности преподавателей
17 Отчет о состоянии СПбДА за 1902 год (в извлечении). СПб., 1903. С. 521; А. А. Студенческое Психологическое общество / / ХЧ. 1903. Ч. И. № 5. С. 812.
18 ХЧ. 1903. Ч. И. № 5. С. 814.1!| Наиболее активны в организации культурного отдыха были
студенты СПбДА и МДА. См. программы литературных и музыкальных вечеров в СПбДА в 1896-1905 гг. (О Р РНБ. Ф. 574. On. 1. Д. 966. Л. 1-11; Там же. Д. 967. Л. 1-7); записки ректора МДА епископа Арсения (Стадницкого) о музыкально-литературных вечерах в академии (ГАРФ. Ф. 550. Д. 511. Л. 51-52 об., 71 об.).
2 8 8
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
и студентов может понизить уровень научных занятий, переключить внимание на иное поприще. Церковно-практические дела следует возлагать на выпускников академий. Таковым примером было Общество любителей духовного просвещения, учрежденное по ходатайству самого святителя перед Синодом. Но изменилось время, и для новой эпохи предлагались некоторые новые решения.
Первые опыты участия студентов во внебогослужебных собеседованиях были проведены в СПбДА еще в 1888 г., после беспорядков 1887 г., по инициативе ректора академии епископа Антония (Вадковского). В МДА в 1892 г. по инициативе ректора, архимандрита Антония (Храповицкого), был создан кружок религиозно-нравственного просвещения, но это были отдельные опыты. После 1896 г. процесс начал развиваться активнее. В 1898 г., по инициативе ректора епископа Арсения (Стад- ницкого) и с благословения митрополита Владимира (Богоявленского), была возобновлена студенческая просветительская деятельность в МДА: собеседования с народом после воскресных и праздничных богослужений в храме академии, народные чтения религиозно-нравственного содержания со студенческим пением духовных и патриотических песен, церковно-исторические и литературно-нравоучительные чтения для детей. СПбДА, КДА и КазДА поддержали пример. Студенты участвовали в церковной практике достаточно активно: так, например, в СПбДА в 1898-1899 гг. в рядах проповедников было 90 студентов, при 176 в составе всех четырех курсов, в 1904 г. — около 100. В других академиях число проповедников было меньше — около 20 в каждой, но проповедники работали активно,
МитрополитМосковский и Коломенский Владимир (Богоявленский)
2 8 9
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Ректор МДА архимандрит Антоний (Храповицкий)
Ректор МДА епископ Арсений (Стадницкий)
произнося до 10 проповедей в год. В народных чтениях принимало участие значительное число студентов: например, в МДА — до 74. С интересом относилась к студенческому проповедничеству и беседам и аудитория: так, в храме МДА на внебогослужебных беседах бывало до 1 200 человек, что для Сергиева Посада было немалым числом. Поприще студенческой церковно-просветительской деятельности расширялось, при этом адми- нистрация некоторых заводов, фабрик и мануфактур, стремясь отвлечь рабочих от порочного проведения досуга, сама приглашала сту-
i центов20. В 1895-1896 гг. студенты СПбДА начали особое издание «Народная Академия», для публикации проповедей и отрывков из сочинений современных и древних церковных писателей. Но уровень проповедей студентов у некоторых преподавателей вызывал неудовлетворенность. С 1897 г. студенты всех академий проповедовали не только в храмах духовных академий, но и в городских, вели регулярные внебогослужебные собеседования в школах и столовых при заводах, фабриках, в ночлежных
20 В 1890-х гг. студенты-проповедники СПбДА охватывали своим вниманием главные фабрики столицы (Тортона, братьев Варгуновых, Штиглица, Чугунный завод), ночлежки и тюрьмы, рабочие столовые и больницы.
2 9 0
Студенты высшей духовной школы - наугный поиск и церковный порыв
домах, преподавали в воскресных школах. При МДА активно действовала с 1899 г. детская церковно-приходская школа, в которой преподавали выпускники МДА и студенты старших курсов, а законоучителями были студенты в священном сане. С 1900 г. по инициативе ректора епископа Арсения (Стадниц- кого) была открыта и воскресная школа для взрослых, через два года соответствующая по программам одноклассной и двуклассной церковно-приходским школам21.
Еще одно направление церковно-практической деятельности, к которому предлагалось привлечь студентов духовных академий — миссия среди раскольников и сектантов. Отдельные эксперименты привлечения студентов к реальной полемике со старообрядцами и сектантами проводились. В 1886 г. в СПбДА была проведена серия публичных собеседований со старообрядцами в присутствии профессоров и студентов. В этом же году в Москве был проведен диалог с московскими старообрядцами в храме Московской ДС, куда были приглашены преподаватели и студенты МДА. Профессор КазДА Н. И. Ивановский неоднократно приглашал на свои собеседования с раскольниками желающих студентов22. Но это были фрагментарные опыты, не имеющие церковно-практического значения.В 1885 г., на архиерейском съезде в Казани, было признано полезным учреждение особых должностей епархиальных миссионеров, причем было высказано пожелание определять на эти должности выпускников духовных академий. Участники Первого миссионерского съезда, который состоялся в Москве в 1887 г., подтвердили желательность привлечения к миссии среди старообрядцев и сектантов лиц с высшим богословским образованием2* . Во исполнение решений этих съездов Святейший
21 РГИА. Ф. 802. Оп. 16. Д. 190. Л. 9-60 об.; ЦГИА СПб. Ф. 277. Ом. 1.Д. 3457. Л. 1-2 об.; Отчет обер-прокурора за 1899 год. СПб., 1902. С.181;То же за 1903 и 1904 годы. СПб., 1909. С. 208-211; Рункевич С.Г. Студенты-проповедники. СПб., 1892; Евдоким, еп. Доброе прошлое Московской Духовной Академии. Сергиев Посад, 1915. С. 31-44.
22 Отчет обер-прокурора за 1886 год. СПб., 1888. С. 83-84, 86 87.21 ЦГИАУ. Ф. 711. Оп. 3. Д. 1897. Л. 1-4.
291
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Синод ввел должности епархиальных миссионеров, причем преимущество при определении на эти должности имели выпускники духовных академий. Но отсутствие практического опыта не давало возможности этим выпускникам быстро ориентироваться в конкретной ситуации и применять на практике свои богословские познания. Новое поприще требовало особой подготовки, но в какой форме вести эту подготовку и как вводить новые занятия в напряженные учебные планы академий - было непонятно. Частное решение этого вопроса предложила Казанская епархия, открыв в 1889 г. при КазДА двухгодичные миссионерские курсы для лиц, имеющих практический опыт мис- сионеской деятельности. На Втором московском миссионерском съезде в 1891 г. было высказано пожелание - шире привлекать к практической миссионерской деятельности не только выпускников, но и студентов духовных академий. Вопрос подвергся длительному обсуждению в Синоде и в Учебном комитете, наконец указ Святейшего Синода 1892 г. подтвердил это пожелание и возложил его исполнение на епархиальных архиереев. Но вовлечение студентов в практическую миссионерскую деятельность требовало специальных усилий, организационных и методических, а заниматься этим было некому. Кроме того, начальство и большинство преподавателей академий считали, что высшее богословское образование требует полного сосредоточения, и все силы студентов должны быть направлены на учебный процесс и научную деятельность. Поэтому миссионерская деятельность студентов в систему не превратилась, а осуществлялась лишь фрагментарно, в особых случаях. Так, в 1893-1894 гг., в связи с усилением деятельности секты паш- ковцев в столице, силами приходского духовенства и студентов СПбДА были проведены тематические собеседования с разбором заблуждений сектантов24.
Но в 1897 г., на Третьем миссионерском съезде в Казани, вопрос о систематическом привлечении духовной школы к цер-
24 Орнатский Ф.Н., прот. Ответ на Пашковские вопросы. СПб., 1893.
292
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
ковно-практической деятельности был поставлен вновь. С одной стороны, в обстановке обострения не только политической борьбы, но и деятельности различных сект, миссионерское дело нуждалось в свежих силах, подготовленных теоретически и практически. Предполагалось создание на заводах и фабриках воскресных школ для обучения рабочих и их семей основам православия и антисектантских миссионерских центров, и студенты духовных школ могли бы помочь в этом деле. С другой стороны, занятие студентов реальным церковным делом должно было нормализовать ситуацию в академиях и семинариях25 *. Циркулярный указ Святейшего Синода 15 декабря 1900 г. «По вопросу о мерах к улучшению пастырско-миссионерской подготовки воспитанников духовных академий и семинарий» пытался выстроить систему: 1) участие студентов в богослужении и проповеди слова Божия в приходских храмах и в собеседованиях с раскольниками в духовно-учебных заведениях; 2) более основательное введение в учебный процесс чтения святоотеческого наследия, особенно полезного для миссионерской деятельности;3) организация поездок преподавателей кафедр истории и обличения раскола в места, зараженные расколом и сектантством, для практического ознакомления с их особенностями2'*. В перс-
25 По ходатайству Совета МДА и Московского митрополита Сергия (Ляпидевского), указом Святейшего Синода от 4 января 1897 г. история и обличение русского раскола, а также изучение и разбор западных исповеданий были сделаны общеобязательными предметами, причем не только для МДА, но и для всех остальных академий. В обязанность преподавателям истории и обличения раскола вменялось и знакомство студентов с основными сведениями по русскому сектантству. Отчасти это решало проблему теоретической подготовки всех студентов академий к миссионерской деятельности в среде старообрядцев и сектантов, но мало содействовало приобретению практического опыта. См.: Отчет обер-прокурора за 1896 и 1897 годы. СПб., 1899. С. 188-189; Отчет о состоянии МДА за 1896-1897 уч. г. С. 12; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 249. Л. 2-4 .
ж Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода 1867-1900 гг. Собр. А. Завьялов. СПб., 1901. С. 102- 104; ЦГИАУ.Ф. 711. Оп.З. Д. 2575. Л. 1-1 об.
2 9 3
Н. Ю. С у х о в а . ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
пективе предполагалось привлечение студентов к таким поездкам, в виде практик, но на добровольной основе. Эта деятельность также попадала в разряд «кружковой».
Таким образом, организация и деятельность студенческих научных кружков и обществ свидетельствовали о желании и
способности студентов обсуждать богословские и философские вопросы, работать дополнительно с источниками и литературой. Отзывы о просветительской и социальной деятельности студентов убеждали, что она не бесполезна, как для самих студентов, так и для просветительской миссии Церкви. Но оценка «кружкового» процесса не была однозначной. Критические замечания в адрес студенческих кружков и обществ высказывались представителями высшей церковной власти. Некоторые архиереи относились к самому явлению кружков положительно, но опасались обсуждения в студенческой среде злободневных тем, а также
«ухода» от собственно научно-богословских занятий, потере не только рабочего настроя, но и интереса к созерцательному богословию. Так, митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) в 1900-1903 гг. благословлял деятельность студенческих обществ в СПбДА, но в 1905 г., в изменившейся ситуации, счел это вредным27. Часть этих замечаний имела основание: деятельность кружков повышала возбуждение студентов, активное участие в городской жизни вовлекало их в опасные контакты, увлечение практической деятельностью рассеивало
27 Отчет о состоянии СПбДА за 1902 год (в извлечении). СПб., 1903. С. 521.
1
/
Митрополит Санкт- Петербургский и Ладожский
Антоний (Вадковский)
2 9 4
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
внимание. Было и опасение, что настроения, охватывающие общество и обсуждаемые в кружках, определят направление умственной деятельности студентов академий. Кроме того, настороженное отношение к некоторым новым тенденциям в богословской науке вызывало желание ограничить неформальные контакты профессоров духовных академий со студентами.
Деятельность студенческих кружков разной направленности породила дискуссию и в корпорациях духовных академий. Если одни преподаватели были готовы руководить студентами в этой деятельности, считая ее положительным содействием учебному процессу и стараясь использовать в интересах этого процесса, то другие были недовольны отвлечением студенческого внимания от плановых учебных занятий. Были различные мнения и по поводу просветительской деятельности студентов28. После событий 1905-1906 гг., когда реакция высшей духовной школы на внешние события выявила внутреннее неблагополучие, доселе прикровенное, взгляды на привлечение студентов к церковно-практической и общественной
28 Так, в МДА неоднозначную реакцию вызывала деятельность философского студенческого кружка. Руководители кружка — и. д. доцента П. П. Соколов и П. В. Тихомиров — считали его деятельность значительным подспорьем учебному процессу, многие же члены корпорации критиковали своих молодых коллег, видя в работе кружка ненужное возбуждение молодых умов и препятствие планомерным и традиционным самостоятельным занятиям студентов. Ректор академии епископ Арсений (Стадницкий), регулярно участвуя в заседаниях, занимал взвешенную позицию: «учреждение жизненно... вполне отвечает потребностям той среды, среди которой оно возникло». Он считал, что задача кружка «благопотребная и благовременная», ибо один из главных недостатков высшей духовной школы то, что она не приучает студентов «к самостоятельному мышлению», а заставляет «жить чужим умом», не позволяет «указать отношения нашей узкой специальности к общему кругу знаний» и не способствует «выработке истинного миросозерцания». Однако он предостерегал руководителей, что неправильный подход к обсуждению важных вопросов может принести вред, разжигая «и без того излишнее самомнение молодежи». См.: ГАРФ. Ф. 550. On. 1. Д. 511. Л, 66-67, 74 об.
295
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
деятельности окончательно поляризовались. Сторонники го процесса считали, что оторванность студентов от реальной церковной жизни с ее проблемами, недостаток опыта приводят к неумению верно оценить то или иное общественное явление применить богословские знания к решению проблемы и выбрать верную — церковную — линию поведения. Поэтому надо придать всей просветительской и церковно-общественной деятельности студентов более серьезную и систематическую форму29. Их оппоненты, напротив, в увлечении студентов внешней деятельностью видели главную беду последних лет и измену доброй традиции высшей духовной школы. Уврачевание этого недуга они предлагали искать в восстановлении приоритетов, традиционных для высшей школы, сосредотачивая внимание студентов на учебно-научных занятиях. Единство этих противоположных точек зрения было в одном: кружки, даже при более стабильной их организации, не могли заменить систематических занятий, как научных, так и церковно-практических. А школа должна давать систему, учить думать и действовать, разрабатывать методологию.
Завершением этой краткой эпохи студенческих кружков послужили архиерейская ревизия всех четырех духовных ака демий 1908 г. и последующие ей разработка и введение нового
Устава30. Отзывы ревизоров были критическими, и главной
29’ В МДА в 1906 г. было предложено создать студенче ^ ^ ч11. тырско-просветительское братство, в котором нашли место внания студентов, выработанные в 1890-1900-х гг. Ьрат еЛЬСкий своем составе: Проповеднический, Попечительный, ЗДаЯби6ли°' отделы, Отдел по организации народных чтений, бесплат ^ тека для жителей Посада, приют-школа для бедных детей гйев кым, еп. Доброе прошлое Московской Духовной Академи ^ ^ Ду Посад, 1915. С. 294-298; Голубцов С. А., протодиак. М°^К£ р0метог°: ховная Академия в эпоху революций. М., 1999. С. 133 , А Г .6 Д - 190- Христианин. 1907. № 1. С. 215-219; РГИА. Ф- 802. Оп. др.Л. 9-60 об., 65-66; ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 3. Д. 611, 834, 890, в
30 Ревизию, согласно решению Святейшего Синода, „ д ^мигР1111СПбДА и МДА — архиепископ Херсонский и Одесским
„ ~ Лчупеной школы - наугный поиск и церковный порывСкудея*» высшеиоу---------------------- . --------------------
----ной беспорядка, по мнению преосвященных ревизоров,
^ g ременные правила духовных академий, введенные в кон- ^1905 - начале 1906 г.31 Временные правила были отменены,
определение Синода содержало еще несколько положений, более частных32. Каждый из ревизоров составил список нарушений - учебных, воспитательных и дисциплинарных, допускаемых преподавателями и студентами академий. В результате ряду преподавателей было предложено подать заявления об увольнении, а действия их подвергнуты критике. Среди уволь
няемых были некоторые энтузиас- ^ты - руководители кружков (профессор русского и церковно-славянского языков и истории русской литературы СПбДА Д. И. Абрамович, профессор логики и психологии КазДА А. Н. Потехин), и по поводу самого «кружкового» явления было сделано п редуп реж ден и е:«Академическое начальство должно сохранять за собою общ ее наблюдение за кружками, утверждать выборных, поручать руководство каждым одному из преподавателей.
РУжки, несоответствую щ ие по своему характеру задачам школы, профессор епбдл
ДОЛЖНЫ быть разрешаемы»33. Дмитрий Ившюичч Абрамович
статью нас тоягцего сборника «Богословское образов;- -мнтез».
анис в
в начале XX в. - полемика, анализ, сии г .,а № 8943.России а * <qn9 г. за •--------- „ „т 18 июня >9 • р. 2192 Определение Святейшего Синод еВ ЦосаД.например: Ж ЗС М ДА за 1909 г. ^ л 55.
23°- См. также: Ф. 797. Он- 78. 1 отд- 2 с ‘’ЖЗС МДА за 1909 г. С. 2 2 4 -2 2 5 .
2 9 6297
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Таким образом, хотя кружки не запрещались, но общий настрой уже не вызывал энтузиазма к их учреждению ни у ггреподава- телей, ни у студентов. Кроме того, как оказалось, ревизоры сделали из своих наблюдений более жесткие выводы о деятельности некоторых кружков. Это проявилось в процессе разработки нового Устава духовных академий.
Комиссия, составлявшая проект нового Устава, включала в свой состав всех преосвященных, проводивших ревизию 1908 г., а также профессоров — выборных представителей всех академий. Вопрос о практических занятиях в академиях вызвал дискуссию, в которой так и не удалось прийти к единому мнению34. С тем, что практические занятия нужны и «кружковой» порыв это продемонстрировал — были согласны все, но задачи и организация таких занятий представлялась членам Комиссии по-разному. Архиепископ Арсений (Стадницкий) и группа профессоров настойчиво предлагали ввести в академиях специальные занятия для студентов двух старших курсов по избранным ими группам наук35. Кроме главных аргументов - необходимости работать с источниками, читать богословские тексты под руководством преподавателя, обсуждать научные проблемы — приводилось два положительных исторических примера: «специально-практические» занятия, вводимые Уставом духовных академий 1869 г., и горячее желание студентов и многих преподавателей академий работать в таких семинарах, проявившееся в кружковой деятельности36. При этом кружки,
34 Журналы 1909 г. С. 194-210. Особое мнение членов подкомиссии: Там же. Приложение. С. 7-12 .
35 В подкомиссию вошли, кроме архиепископа Арсения, профессора И. С. Бердников (КазДА), А. И. Введенский (МДА), М. А. Остроумов (Харьковский университет) и Д. И. Богдашевский (а затем сменивший его К. Д. Попов — КДА). В мнении о введении практических занятий с подкомиссией был полностью согласен и профессор СПбДА И. Г. Троицкий.
зв Члены подкомиссии считали, что следует лишь учесть ошибки и недостатки Устава 1869 г., не давшие проявиться всем достоинствам практических занятий — неопределенность задач, плохую организа-
298
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
по мнению членов подкомиссии, проявили энтузиазм преподавателей и студентов, но были явно несовершенной формой учебной деятельности. Главные их недостатки: 1) это образовательно-просветительские содружества «при академии», а не в недрах ее; 2) они, при всей их полезности, отвлекают студентов от прямой цели — систематического богословского познания; 3) организация и церемониал кружков дает повод их участникам считать себя общественными просветителями и учеными людьми, предлагающими в виде рефератов «плоды своих ученых домыслов», что ведет молодые умы к самообольщению37 .
Архиепископ Антоний (Храповицкий) считал, что идея особых занятий с «авторской» постановкой «неудобоисполнима», ибо «требует особого подъема духа и энергии, как со стороны профессоров, так и со стороны студентов». Но у профессоров нет сил на это после обычных лекций, а у студентов нет желания, их и на обычные лекции «не заманишь». Кружковое явление он объяснял мертвенностью учебного процесса в академиях, приводящей к столь странным эксцессам. Архиепископ Антоний предлагал устроить практические занятия в виде дополнений к лекциям — чтение и разбор семестровых сочинений. При этом будет отрабатываться система совместной работы студентов и преподавателей, что явится началом научного руководства38.
Архиепископ Сергий (Страгородский) придерживался традиционного мнения о том, что практические занятия перегрузят студентов, поэтому в учебный план надо ввести занятия только по трем главным предметам, требующим особого внимания к текстам — Священному Писанию, патрологии и пастырскому богословию, а по всем остальным дисциплинам допустить внелекционные занятия для желающих, но поставить
цию, неготовность академических преподавателей к осуществлению этих замыслов.
"Журналы 1909 г. Приложение. С. 8-9.’"Журналы 1909 г. С. 194-195, 204-205.
2 9 9
я . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
их под строгий контроль преподавателей39. При этом если по первым двум выделенным наукам внимание на практических занятиях надо обращать на чтение и разбор источников, то по пастырскому богословию должны быть проводимы занятия двух видов: а) составление, произнесение и разбор проповедей; б) составление рефератов по проблемным вопросам пастырской деятельности, их аудиторное чтение и обсуждение40.
Но самую резкую оценку кружкового явления дал председатель Комиссии 1909 г. архиепископ Димитрий (Ковальниц- кий). Он очень подробно разбирал уставы психологических и литературных студенческих кружков и некоторые темы докладов и рефератов, изученные им при ревизии СПбДА и МДА. Вывод был негативным: это, «под вывеской науки, не собрания научные, а партийные кружковые сборища, свою безобразную шумиху направляющие к освобождению от доброго авторитетного влияния академий». Кружки, как и все прочие самообразования студентов — а кружковое «бюро» предоставляет преподавателям лишь фиктивное руководство — по мнению преосвященного Димитрия, должны быть в академиях вовсе отменены. К практическим занятиям, введенным в учебный план и поставленным под строгий контроль преподавателей, преосвященный относился также настороженно: 1) опыт 1869 г. «специально-практических» занятий выпускного курса дал негативные результаты — профессора ничего дельного на этих занятиях не предложили, а для студентов это был год лени, безделья, скуки; 2) предлагаемые подкомиссией специальные занятия напоминают студенческие образовательно-просветительские общества и кружки, скомпрометировавшие себя; 3) сомнителен сам смысл введения особых специально-практических занятий по группам. При этом преосвященный Димитрий предлагал свой вариант — регулярные семинары, начинающиеся с первого курса и сопровождающие все лекционные курсы41.
:*9 Там же. С. 204,210.40 РГИА. Ф. 797. Оп. 96. Д. 205. Л. 52-52 об.41 Там же. С. 195-202, 203, 207-209.
300
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
Именно такой вариант и вошел в окончательный вариант Устава. Следует отметить, что в проекте, составленном Комиссией 1909 г., есть параграф, строго воспрещающий проявление студенческой «кружковой» инициативы: «все студенческие общества и кружки для самообразования и со своими уставами и самостоятельной организацией совсем отменяются»42. В окончательный вариант Устава этот параграф не вошел.
Новый Устав духовных академий, введенный в 1910 г„ отчасти восполнял эти потери. Согласно этому документу, в учебные планы духовных академий вводились практические занятия по большей части богословских и гуманитарных предметов43 . На них студенты под руководством преподавателей должны были изучать источники и учебные пособия, делать «разбор важнейших сочинений из литературы предмета», знакомиться с «учебниками и учебными пособиями к преподаванию известных наук в семинарии». Предполагался и разбор третных сочинений студентов, с обсуждением и комментариями преподавателя. Всем преподавателям ставилось в обязанность предоставить в начале учебного года в Совет академии не только годичную программу теоретических лекций, но и «соображения о предполагаемом ходе практических занятий»44. На практических занятиях по кафедре пастырского богословия и гомилетики — а им Устав уделял повышенное внимание - студенты должны были, кроме того, составлять проповеди, учиться произносить «заранее приготовленные проповеди на память» и «экспромты».
Комиссия по корректировке Устава, собранная в 1911 г., особо рассматривала вопрос о практических занятиях. С одной стороны, был отмечен их положительный эффект - студенты проявили интерес, мысль их занята делом, а не общественными «смущениями», наконец-то появилась надежда на оконча- * 11
« § 156 (РГИ А . Ф . 797. Оп. 96. Д . 205. Л. 51).11 Устав 1910 г. § 156.^Объяснительная записка к Проекту Устава духовных академий
1910 г . / / ЦВед. 1910. № 18 (1 мая). С. 137-138 .
3 0 1
Н. Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
тельное преодоление «средневековой схоластики», но и проблемы — у каждого студента слишком много практических занятий, а на практических занятиях слишком много студентов. Но высказанное предложение — разделить студентов для посещения практических занятий, обязав каждого посещать лишь часть из них — не было принято45. Система осталась прежней: все студенты должны были работать на практических занятиях по всем предметам учебного плана.
Введение практических занятий было шагом вперед в развитии высшей духовной школы, отчасти это было и ответом на «кружковой» порыв 1890-1900-х гг., но всех проблем не решило. Сама организация занятий критиковалась и в дальнейшем. Как показал опыт, участие в занятиях всего курса в 70-100 человек, без разбиения на группы, лишало смысла саму идею практического занятия. Перегрузки студентов не давали возможности серьезно и глубоко работать ни на одном из практических занятий по задуманной схеме — изучать источники, делать доклады. А это приводило к тому, что интерес студента к тому или иному предмету не мог быть полноценно реализован, специфические методы исследования в той или иной области богословия на таких занятиях не могли быть изучаемы, а участие в семинарах не помогало подготовиться к специализации и серьезной научной работе. Но после введения практических занятий поощрять «кружковое» явление уже никто из преподавателей не решался, даже если считал официальную систему неудачной и сожалел об окончании «харизматического» периода. Ошибки Устава 1910-1911 гг. в организации учебных практических занятий попытались учесть при составлении проекта нового Устава духовных академий в 1917-1918 гг., но этому проекту не суждено было реализоваться.
Несмотря на свою непродолжительность и незначительные успехи на фоне многолетней истории высшей духовной
45 П редлож ение было высказано архиепископом Сергием (Стра- гор одск и м ) — председателем К ом и ссии 1911 г. (Ж урналы 1911 г. С. 1 8 1 -1 8 2 ) .
302
Студенты высшей духовной школы — наугный поиск и церковный порыв
школы, «кружковой» порыв дал интересный опыт. Этот опыт представляется весьма полезным на настоящем этапе развития высшей богословской школы в России, когда идет творческий поиск новых форм, методов, жанров, когда перед преподавательскими и студенческими корпорациями стоит насущная задача стать современными учебно-научными и экспертнопрактическими центрами, способными, с одной стороны, полноценно развивать научное богословие, с другой стороны, оказывать компетентную помощь в решении церковно-практических задач.
УЧЕНОЕ МОНАШ ЕСТВО В РОССИИ: НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОБЛЕМА КОНСОЛИДАЦИИ
Статья посвящена особой группе российских богословов и духовно-учебных деятелей, внесшей немалый вклад в развитие духовной школы и богословской науки — ученому монашеству. Тема слишком обширна и не нова в историографии, как отечественной, так и зарубежной. Поэтому в статье будет подвергнут исследованию конкретный вопрос — выработка особых форм организации иноков, получивших высшее духовное образование и подвизающихся на научно-богословском поприще. Вопрос проблематичен — горячие дискуссии, разгоревшиеся в начале XX в., свидетельствуют о его непростом прошлом. Не всегда просто решается этот вопрос и в настоящий период - активного развития духовного образования и разработки новых форм научно-богословской деятельности. Но проблема имеет глубокие исторические корни, поэтому основной части доклада предшествует обширное введение.
Формирование ученого монашества, как особого разряда иночества, началось в России в X V II-X VIII вв. Естественно, и до этого времени история знала монашествующих, занимающихся созданием богословских трудов, несмотря на характерную особенность русской религиозной мысли: решать богословские проблемы не в научных трактатах и богословских системах, а в многообразии церковной жизни. Церковно-писательская традиция и была по преимуществу связана с монашеским
3 0 4
Угеное монашество в России
званием: от митрополита Илариона (XI в.) и митрополита Климента Смолятича ( f после 1164) до преподобного Иосифа Во- лоцкого ( | 1515) и преподобного Максима Грека ( | 1555). С первых веков христианства на Руси именно при монастырях учреждались школы более или менее высокого уровня. Тем не менее, систематическая богословская наука появилась лишь с развитием систематического духовного образования.
Зарождение такого образования связано с развитием западно- русских братств и ими учреждаемых школ, так или иначе тяготеющих к монастырям. Определенное влияние на ф ормирование этой традиции оказал пример католических школ, преимущ ественно иезуитских, с которыми братским богословам приходилось вести полемику. Наиболее ярким примером православной реализации этой традиции может служить Киевская братская школа, неразрывно связанная с Киевским Братским монастырем. Монашество, подвизающееся на учено-учебной стезе, являлось одновременно братией монастыря. Эта традиция была закреплена при преобразовании Киево-братской школы в коллегию в 1633-1634 гг. митрополитом Петром (Могилой)1. При этом стало еще более заметно
1 П ослуш ания вы п уск н и к ов Б ратской школы, поступавш их и Киево-Печерскую лавру, бы ли оп редел енн ы м образом связаны со знаниями, полученны ми в проц ессе обучения: издательская и цензорская деятельность. П ечерскими архимандритами нередко становились выпускники и бы вш ие ректоры К иевской коллегии: Иннокентий (Ги- зель) (ректор 1 6 4 6 -1 6 5 0 гг.; архим андрит 1 6 5 6 -1 6 8 3 гг.); Варлаам (Ясинский) (р ек т о р 1 6 6 6 - 1 6 7 3 гг.; ар хи м ан дри т 1 6 8 4 -1 6 9 0 гг.); Иоасаф (К роковский) (ректор 1 6 8 9 -1 6 9 0 , 1 6 9 3 -1 6 9 7 гг.; архимандрит 1697-17093 гг.). П ри этом 8 из 16 Киево-Братского монастыря
С вят ит ель Петр (Могила), митрополит Киевский
305
Н. Ю. С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
влияние католических школ, с их монашеским устроением, через которые прошли многие преподаватели Киевской коллегии. Просветительские успехи иезуитских и базилианских монастырских школ, возникших на территории Западной Руси, усиливали это влияние. Но следует отметить, что и представители восточного богословия, попадавшие в западно-русские пределы, были учеными монахами. Однако, оторванные от своих обителей, они были вынуждены вырабатывать особые традиции — мигрирующего, а не монастырского, ученого монашества. Так традиция — с одной стороны, развития богословского образования силами монашества, с другой стороны, специфической монастырской жизни этого монашества — закрепляется, по крайней мере, в Западной Руси.
В конце XVII в. эта традиция переносится и в великорусские пределы. С одной стороны, приглашаемые государственным и церковным правительством киевские ученые иноки поселяются при монастырях. Примером могут служить школа при московском Андреевском монастыре, школа при Спасском монастыре. С другой стороны, представители греческой учености, вносившие вклад в формирование русского богословия, вполне естественно, поддерживали эту традицию.
В начале XVIII века новые духовные школы, возникающие в епархиях, помещались преимущественно в монастырях.
были выходцами из лаврской братии. См.: Петров Н. И. Киевская академия во второй половине X V II в. Киев, 1895. С. 130 -1 3 1 ; Голубев С. Т. Память митрополита Петра М огилы в К иевской Академии 31 декабря 1754 г. / / ТК ДА . 1910. № 12. С. 6 2 8 -6 2 9 ; Титов Ф. И„ прот. К истории Киевской духовной академии в X V II-X V III ст. Вып. 3: Воспитанники А кадемии на сл уж бе в К иево-П еч ер ской лавре в связи с биографией С оф рония Тернавиоота / / Т К ДА . 1911. № 1. С. 63-80: № 2. С. 1 9 6 -2 3 3 ; № 6. С. 2 2 9 -2 5 6 ; № 12. С. 6 4 0 -6 7 9 ; Сенченко Н. И., Тер-Гршорян-Демъянюк Н. Э. К иево-М огилянская академия: История К иево-братской школы. Киев, 1998; Киево-Могилянськаакадем1я в iM eH ax. X V II-X V III ст. Кипв, 2001; Ксиамлик С. Р. Киево-Печерсь- ка лавра: свИ православноп духовносН i культури (X V II-X V III ст.) Кшв, 2005. С. 1 0 0 -1 1 9 .
306
Угеное монашество в России
Это объяснялось не только бытовыми проблемами помещения, трапеза, но и устойчивой традицией: монастырская аскеза как нельзя более способствует постижению высших наук и, тем более, богословия. Хотя были и исключения: школа архиепископа Феофана (Прокоповича) в Петербурге на Карповке. Церковно-государственные документы тех лет - Духовный регламент, «Объявление о монашестве» 1724 г. — закрепляли опыт богословско-монашеской деятельности и даже настаивали на его канонизации2. По мнению авторов этих документов, п российском монашестве следовало провести жесткую дифференциацию: ббльшая часть монастырей должна быть вписана в общую социально-благотворительную деятельность, меныпая же часть имела бы право и обязанность заниматься богословской наукой, переводами, проповедью. Это главное послушание братии таких обителей, и его добросовестное исполнение разрешило бы сразу несколько проблем Русской Церкви: монашество, тяготеющее к учености и писательской деятельности, могло быть собрано воедино и не смущать прочую братию, а богословская наука и епископат получали бы хорошо подготовленные кадры. Разумеется, не все воспитанники духовных ж кол при монастырях принимали пустриг, но лучшие студенты, тем более, оставляемые преподавателями при школах, практически все были монахами. Но это были монахи монастырские, хотя и занимались преимущественно духовно-учебной деятельностью. Были и иные, не менее интересные примеры, актуализирующие
2 Духовный регламент, тщанием и повелением Всепресветлейше го, Державнейш его Государя Петра Первого, императора и самодержца всероссийского, по соизволению и приговору Всероссийского духовного чина и Правительствующ его Сената в царствующем Сан- ктпетербурге в лето от Рож дества Христова 1721 сочиненный. СПб., 1722. Часть вторая. О епископах. § 9, § 11; Там же. Домы училищные. § 1-10. С. 38, 4 9 -5 5 ; О бъявление о монашестве. Указ от 31 января 1724 г. / / П олное собрание законов. Собрание первое. Т. VII. № 4450. Совместное авторство обоих документов - царя и епископа Феофана - подразумевает согласие обоих с основными идеями этих документов.
3 0 7
н. ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
идею сочетания монашества и богословской учености: монашеское братство, организованное и воспитанное преподобным Паисием (Ве- личковским). Сочетание личных иноческих подвигов, общежития, духовничества и в то же время переводческой богословской деятельности дало не только прецедент, но и традицию, определившую дальнейшие пути русского монашества.
В конце XVIII в. была предпринята еще одна попытка организовать ученое монашеское сообщество, в виде «соборных иеромона
хов»3. «Соборные» должны были упражняться в переводах, сочинениях, проповеди слова Божия, в преподавании наук по академиям и семинариям. В том месте, где они состоят соборными, они должны отправлять «собором своим службу Божию» в назначенные им дни4.
Определенным рубежом в истории ученого монашества стала реформа духовной школы начала XIX в. (1808-1814 гг.)5 Она заметно сместила акценты в самих принципах духовного
Преподобный Паисий (Величковский)
3 В Вы сочайш ем ук азе от 18 декабря 1797 г. «О просвещении и благонравии духовн ого чина» говорится об учреж дении вакансий «соборн ого духовенства» при трех Лаврах (в 1798 г. к ним была присоеди нен а четвертая — Т роице-С ергиева), ставропигиальном московском Д он ск ом м онасты ре (п о 10), церкви З и м н его дворца, Успенском и Б лаговещ енском соборах (п о 6 ). Если обы чному иеромонаху полагалось содерж ан и е 24 р. в год, то соборном у — 150 р. в год. См.: ПСЗ. Т. X X IV . № 18273; Там же. Т. X X V . № 18797.
4 В «первейш ие» Господские праздники, в дни рождения, тезоим енитства и коронования. См.: П С З. Т. X X IV . № 18273.
5 См. статью настоящ его сборника «Д уховно-учебная реформа 1 8 0 8 -1 8 1 4 гг. и становление высшей духовной школы в России».
3 0 8
Угеное монашество в России
образования, в частности, выделила его высшую ступень в отдельную школу — духовные академии — с особыми задачами. Академии должны были стать одновременно богословскими университетами, духовно-педагогическими институтами, научно-экспертными центрами, а для их выпускников образование становилось главным делом жизни. Централизованное распределение выпускников академий по духовно-учебным местам и преподавательская деятельность вырывали этих избранников из семейных кланов, а часто забрасывали довольно далеко от родных мест. При этом выпускники, принимавшие монашество, становились наиболее «подвижной» частью «академистов», ибо традиция — а не Устав — именно на них возлагала начальственные должности — инспекторов и ректоров семинарий и академий6. Восхождение по этой духовно-учебной начальственной лестнице делало ученое монашество странниками по разным епархиям, причем смена места происходила иногда довольно быстро: год-два — и повышение, с перемещением в новую семинарию или академию. Именно в эти годы окончательно формируется новый тип «ученого монаха», чаще всего лишенною постоянной обители, а в некоторых случаях вовсе обреченного проводить всю жизнь вне монастырского режима.
Разработка новой реформы высшей духовной школы в конце 1850 — начале 1860-х гг.7 показала, что большая часть
6 В период дей ст в и я У става 1814 г. монашествующие, преподающие в академиях, п р о д о л ж а л и назначаться соборными иеромонахами, причем часто в оби тел и , находивш иеся в другом городе. Так, например, в 1841 г. бакалавр М Д А иеромонах Евгений (Сахаров-Платонов), будущ ий еп и ск оп С им бирский и Сызранский, был назначен соборным иером онахом А лександро-Н евской Лавры. Разумеется, служить в этой оби тели он не мог, но трижды в год исправно получал из Канцелярии А л е к са н д р о -Н е в с к о й Лавры полож енное жалованье (правда, оклад к этом у врем ени был снижем до 43 р. в год). См.: ЦИАМ.Ф. 229. Оп. 4. Д . 5063 . Л . 5, 8, 11.
7 Первые ш аги по п одготовк е новой реформы духовных школ начались в 1 8 5 7 -1 8 5 8 гг., затем над составлением проекта реформы средней и низш ей д ухов н ой школы работали две комиссии, в 1860- 1862 гг. и в 1 8 6 6 - 1 8 6 7 гг., а над составлением проекта реформы
3 0 9
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
епископата именно с ученым монашеством связывает основные надежды на развитие богословской науки. И это несмотря на то, что именно в 1860-е гг. белое духовенство получает доступ к начальственным должностям в духовной школе, а проведенные реформы закрепляют эти частные случаи. Московский Святитель Филарет (Дроздов), Петербургский митрополит Григорий (Постников), Киевский митрополит Арсений (Москвин), Казанский архиепископ Антоний (Амфитеатров) в своих духовно-академических проектах этих лет полагали, что беда русского богословия — в неправильном, хотя и неизбежном, церковном использовании ученых иноков8. Они при исполнении своих начальственных должностей рассеиваются по стране, и из них невозможно создать ученые сообщества, а каждый представитель ученого монашества сам по себе лишается возможности углубленно заняться научно-богословскими исследованиями. В результате Русская Церковь не может в полной мере использовать преимущество, которое отличает ученых монахов от их семейных коллег и которое давно заметило и учло католичество: возможность беззаветно и аскетично работать на благо духовной науки. То, что ученое монашество использовали преимущественно на начальственных должностях в духовных школах, создавало еще одну проблему, которая иногда приводила к корпорационным конфликтам. Молодые иноки, недавно окончившие академию и не имевшие духовно-учебного и жизненного опыта, ставились руководителями над своими бывшими учителями и должны были принимать решения в непростых духовно-учебных, административно-организационных и нравственно-воспитательных ситуациях. Святитель Филарет указывал одну из главных задач духовного начальства: постараться найти пути организации выпускников академий
духовн ы х академий — комиссия 1 8 6 7 -1 8 6 9 гг. Н овы е Уставы духовны х сем инарий и училищ бы ли введены в 1867 г., новый Устав духовн ы х академий — в 1869 г.
8 Г А РФ . Ф . 1099. On. 1. Д . 676. Л. 8 - 8 об.; РГИА. Ф . 1661. On. 1. Д. 705 . Л. 2 9 -3 0 ; РГИ А . Ф . 797 . Оп. 3 7 .1 отд., 2 ст. Д . 1. Л. 172 -180 об., Л . 2 4 6 -2 8 4 об.; Там же. Л. 1 8 2 -2 1 4 об.
3 1 0
Угеное монашество в России
из монашествующих в ученые коллегии, которые главным своим подвигом ставили бы подвиг научно-богословский9.
Но монашеский постриг принимало все меньшее число выпускников академий, и в корпорации самих академий в 1870-х гг. входило не более чем 2 -3 преподавателя монашеского звания. Поэтому вопрос об организации этих сил в особые ученые коллегии не был актуален. Ситуация начала меняться в середине 1880-х гг. Особенно это было заметно в столичной Академии, в которой на протяж ении 20 лет, при ректорстве протоиерея Иоанна Леонтьевича Янышева, не было ни одного студенческого пострига, а с 1884 г. они совершались ежегодно 10 *. В КазДА первый постриг после долгого перерыва был совершен в 1890 г.п Общий церковно-аскетический настрой выявлял новых подвижников учено-богословского монашеского подвига, а эти подвижники, в свою очередь, усиливали этот настрой. Архимандрит, в дальнейшем митрополит, Антоний (Вадковский) показал пример организации дружины ученого иночества, которую составили его ученики и последователи.
9 Святитель Ф и л ар ет (Д р о зд о в ) высказывал это пожелание в записке 1858 г.: задерж ивать уч ен ое монаш ество при духовных академиях для занятий наукой, а особен н о способны х и ревностных «оставлять при академии навсегда для трудов ученых» (РГИА. Ф. 1661. On. 1. Д. 708. Л. 29 о б .-З О ).
10 П ротоиерей И оанн Л еонтьевич Янышев был ректором Санкт- Петербургской духов н ой академии с 29.11.1866 по 19.10.1883. Он не был сторонником ранних постригов, считая, что молодой человек должен сначала определиться в своем жизненном нуги, успеть написан, первую научную работу — вы пускное сочинение в академии, — а затем решать свою судьбу. Н а ректорской должности его сменил епископ Ладожский А рсений (Б рянцев), но инициатором и вдохновителем в о з р о ж д е н и я с т у д е н ч е с к о г о м онаш ества был и нспектор Академии, архимандрит А нтоний (Вадковский), с 03.05.1887 епископ Выборгский, а в 1 5 .04 .1887-24 .10 .1892 ректор Санкт-Петербургской духовной академии.
" Письмо ректора К азД А протоиерея Александра Владимирского архимандриту Б орису (П лотникову) от 14 ноября 1890 г. (О Р РНБ.Ф. 91. Оп. 1 . Д. 198. Л. 23 об .)
3 1 1
J L ] 0 . Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУх т т ЧГт
Для этих последователей поп пивших ряды ученого монашестГ а затем и ученого епископата Михаила (Грибановского) и Анто ния (Храповицкого) - и для их учеников вновь стал актуален вопрос не только об объединении своих научных сил, но и о создании наиболее адекватных форм для этой деятельности. И если на начальном — студенческом — этапе желание ученого монашеского со- работничества определялось преимущественно дружескими чувствами, то в дальнейшем наиболее последовательны е становились идеологами ученого иноческого содружества. Так, преосвященный
Антоний (Храповицкий) в зрелые годы постарался осмыслить этот юношеский порыв и сделать выводы12. Его размышления имели и заметный практический успех: в пору ректорства епископа Антония в Казанской духовной академии было заложено основание удивительному иноческому братству преподавате лей и студентов. В этом братстве гармонично сочетались ДУ ховный подвиг и научный подъем: благодаря влиянию пре освященного Ректора, с одной стороны, духовному окормлени® академических иноков старцем Гавриилом Седмиозернои
12 А р х и м а н д р и т А н т о н и й (Х р а п о в и ц к и й ) (с 0 7 .0 9 .1 8 9 7 епИС^ Ч еб о к са р ск и й , а с 0 1 .0 3 .1 8 9 9 Ч и с т о п о л ь с к и й ) п о сл е инспекторе
б ы л РеК °К азан ск ой (19-1
ЕпископТаврический и Симферопольский
Михаил (Грибановский)
д о л ж н о с т и в С а н к т -П ет ер б у р гск о й д у х о в н о й академ ии , ) 005- р ом М оск о в ск о й ( 1 9 .1 2 .1 8 9 0 -1 9 .0 7 .1 8 9 5 ) и К азан ск ой (19 .0 ■
академии сМ)1 4 .0 7 .1 9 0 0 ) д у х о в н ы х ак адем и й . И м ен н о в п о сл ед н ей а удал ось воплотить св ои и д еи н а и б о л ее осн овател ьн о. аа
1,1 С тарец С ед м и о зер н о й пусты ни К азанской епархии схиарх^ ^ др и т Гавриил (в м и р у Гавриил Ф ед о р о в и ч Зы рянов , д о принят мы 5 .1 0 .1 8 9 2 — и ер ом он ах Т и х о н ) д у х о в н о окорм лял многих
пустыни, с другой11. Однако следует отметить и то, что преосвященный Антоний (Храповицкий) был сторонником именно братско-академического варианта организации ученого монашества, но не жесткой фиксации этого братства в институционно-монастырском варианте. Последнее он считал нереальным, поэтому и не обсуждаемым^.
Академическим инокам, многие из которых стали архиереями и приняли вскоре мученический крест - иеромонахи Иувеналий (Масловский), Амфилохий (Скворцов), Афанасий (Малинин), Евсевий (Рождественский), Варсонофий (Лузин), Софроний (Сретенский), Иона (Покровский), Викентий (Буланов) — в определенной степени удалось реализовать идею ученой монашеской коллегии. Их аскетический путь, послушание определялись служением Богу на ниве церковного богословия, но и само изучаемое богословие, святоотеческое наследие становилось камертоном духовного возрастания. Стены академии стали стенами святой обители, преданность науке и Церкви создавало духовную питательную среду и особый настрой, преодолевающий казенные требования, уставные ограничения, сложившиеся стереотипы «ученого монашества».
О дним из ярких и деятельных представителей ученою иноческого братства Казанской духовной академии был иеромонах, архимандрит, а с 1909 г. ректор Московской духовной академии и епископ Волоколамский Феодор (Поздеевский) .
Давателей и студен тов К азанской духовной академии. Особенно эта Духовная связь уси л и л ась в годы ректорства архимандрита (с вис копа) Антония (Х р ап ов и ц к ого), всячески способствовавшею .пому и имев Но в этом видевш его путь возрож дения духовности академии и о со бенно - уч ен ого иночества. Вплоть до своей кончины ( f 24.09.1.Л .>) старец Гавриил не терял со своими чадами, мносие из к о т р ы х с >а.in «астоятелям и м онасты р ей и архиереями, духовной и молитвеннойсвязи.18891 А н т он и й (Х р а п о в и ц к и й ), архим . О б ученом монашестве. СПб.,
,Г‘ А рхим андрит, а с 21 .08 .1909 епископ Волоколамский, Ф еодор ^ о з д е е в с к и й ) бы л р ек тор ом М осковской ду х о в н о й академ ии с
9 °8 .1 9 0 9 по 01 .05 .1917 .
______________Угеное монашество в России
3123 13
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Духовный сын старца Гавриила, творческий последователь идей архиепископа Антония (Храповицкого), строгий аскет, знаток святоотеческого богословия и канонического права епископ Феодор (Поздеевский) пытался реализовать свои идеи в Московской академии. Не все удавалось — были успехи и понимание, были неудачи и обиды членов преподавательской корпорации. Возможно, владыке Феодору не хватало той надежной духовной поддержки, которую имели казанские иноки в лице старца Гавриила, возможно, окружающая обстановка обострила те проблемы, которые могли быть уврачеваны в более спокойные времена. Но восемь лет ректорства епископа Феодора в Московской академии для него и его единомышленников были периодом формирования определенной концепции: для плодотворной научно-богословской и духовно-учебной деятельности ученого монашества нужны особые формы его организации. Весна 1917 г., изменившая многие стороны российской церковной жизни, обострила этот процесс: владыка Феодор был удален из Академии с помещением на должность наместника московского Данилова монастыря с правами настоятеля. Но это не поколебало, а утвердило его в главной духовно-учебной идее.
В июле 1917 г. в Троице-Сергиевой лавре состоялся Всероссийский съезд ученого монашества. Проблемы этой части российского иночества были столь специфичны, что и обсуждать их решили отдельно от проблем монастырского монашества16 . Председателем съезда был Московский архиепископ Тихон (Беллавин), но реально деятельность съезда возглавили епископ Феодор (Поздеевский) и инспектор Казанской академии архимандрит Гурий (Степанов). Основная тема съезда была сформулирована достаточно определенно: духовно-учебное, ученое и просветительское служение российского ученого монашества; консолидация сил с целью более успешного решения
1Н В сер осси й ск и й съ езд ученого м онаш ества п роходи л в Троице- С ер ги ев о й л авр е 7 - 1 4 и ю л я 1 9 1 7 г., с ъ е зд м о н а ш ест в а м уж ски х м онасты рей — там же, 1 6 - 2 3 июля. См.: Ц ерковны е ведом ости. 1917. № 2 2 - 2 3 . С. 1 4 6 -1 4 7 .
314
Угеное монашество в России
Епископ Волоколамский Феодор (П оздеевский)
Архимандрит Гурий (Степанов)
этих задач. Один из вопросов, поставленных на обсуждение, был вопрос о создании особого объединения ученых иноков, заключавшего консолидированные силы во вполне конкретные формы, с определенной структурой, внутренними связями, нормированными правами, обязанностями. Идеи, прозвучавшие на съезде, легли в основу двух проектов — Иноческого всероссийского церковно-просветительского братства и Высшей церковной богословской школы, то есть особой монашеской академии, которую предполагалось учредить на основе одной из имеющихся духовных академий17 * * * * * 23. Оба предполагаемых учреждения должны были базироваться в монастырях, с одной стороны,
17 Всероссийский съезд ученого монашества (7-14 июля 1917 г.)М., 1917. Работа съезда, кроме того, довольно подробно освещалась вмосковских церковных периодических органах: ВЦОВ. 1917. № 68, 70-76, 80; БВ. 1917. № 6 -7 . С. 143-144. Итоги и некоторые решения съезда ученого монашества были обсуждены на последующем емусъезде представителей монастырей и опубликованы в материалахпоследнего: Постановления Всероссийского съезда представителейот монастырей, бывшего в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с 16 по23 июля 1917 г. М., 1917.
3 1 5
реализуя тем самым древнюю идею особых «ученых стырен, с другой стороны, обеспечивая ученом»™,? мо"а' можность полноценной монастырской жизни, n™ ” ” ® качестве специальных монастырей для ученого монашек? ‘ братства были предложены Александро-Невская лавва п'" кровский монастырь в Москве, Ново-Иерусалимскй - , о московье, Григориево-Бизюков - в Херсонской епарх™ Князь-Владимирским - в Иркутске18. Конкретный выбор
-------------------------- н а у к д у х о в н ы й Угеное монашество в России
инициаторов проекта монашеской академии, возглавляемых епископом Ф еодором (П оздеевским) и архимандритом Гурием (Степановым), пал на Московскую духовную академию.
Но эти два предложения вызвали разную реакцию членов съезда. Идея учреждения Всероссийского церковно-просветительского братства практически всеми учеными иноками была воспринята положительно. Дух монашеского братства, в котором новоначальный инок мог бы возрастать и воспитываться, опираясь на опыт монашеской жизни и духовного служения, а
через это — и на опыт Церкви, святых отцов, учителей и подвижников, был необходим — это осознавал каждый, подвизающийся на ученой службе. Но в прениях по вопросу о м онаш е
ской академии члены съезда разделились на два течения. Одно, включавшее большинство членов съезда (31 голос), п о д д ер ж а
ло идею учреждения новой академии — монашеской19. ДрУгое 18 19 * *
18 В Ц О В . 1 9 1 7 . № 7 0 . С . 4 . й19 Д о п о л н и т е л ь н ы м а р г у м е н т о м в п о л ь зу п ер едач и Московско^
а к а д е м и и в р у к и у ч е н о г о м о н а ш е ст в а д л я м н о ги х сторонников а ^ м н е н и я б ы л о ж е л а н и е о гр а д и т ь ч и ст о т у « п р а в о с л а в н о -б о г о с л о т ^
н а у к и от т о й о п а с н о с т и , к о т о р а я ей у гр о ж а ет при р еф ор м е ан а н а ч а л а х а в т о н о м н о с т и » (В Ц О В . 191 7 . № 75. С. 2 ). Временнь в и л а д л я д у х о в н ы х а к а д ем и й , в н о ся щ и е в ак адем и ч еск ую ж ^ ин0да ц и п ы а в т о н о м и и , б ы л и в в ед ен ы о п р е д е л е н и е м С вятеиш д . 78-
о т 2 4 - 2 7 м ар та 1 9 1 7 г. за № 1 7 9 6 (Р Г И А . Ф . 8 °2 -О " с • ^ т уд0В- Л . 3 - 8 ) . О п ы т д е й с т в и я п о д о б н ы х ж е правил в 1 Уио н0 прил е т в о р я л м н о г и х ч л ен ов д у х о в н о -а к а д е м и ч е ск и х кори р авидам и э т о м бы л а о п р е д ел ен н а я т ен д ен ц и я ставить в укор эт богосл00' б о л е е о б щ и е п р о б л ем ы вы сш его д у х о в н о го обр азован
ск о й н аук и .
3 1 6
чение оппонирующее первому (19 голосов), предлагало ог- ничиться существующими академиями: с одной стороны,
среди современного ученого монашества нельзя найти должного числа богословов для кадрового обеспечения такой акад е м и и 2 0 , с другой стороны, вообще замыкание богословской науки в рамках тесного круга монашествующих лиц крайне неполезно как для богословской науки, так и для самого института ученого иночества. Выразителями второго течения явились и. д. ректора МДА архимандрит Иларион (Т роицкий) и игумен Варфоломей (Ремов)21. Съезд поручил (большинством в 40 голосов) епископу Феодору и архимандриту Гурию разработать проекты Всероссийского церковно-просветительского братства и Высшей церковной богословской школы с монашеским направлением и представить на рассмотрение грядущего Поместного Собора Православной Российской Церкви.
Священный Собор Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. явился своеобразным под- ВеДением итогов синодального периодаМого- но, без сомнения, периода наибольшей зрелости и самосознания Русской Церкви. На Соборе обсуждались конкретные
ЕпископИларион (Троицкий)
- во многом критикуе-
Так, в 1914 г. среди преподавателей всех четырех духовных акаде- ин бьию только 19 монахов, включая четырех ректоров-епископов.
. Архимандрит Иларион и игумен Варфоломей сделали даже осо е заявление, в котором подчеркивали опасность подобною о юсо >
„ НИя <<м°нашеской» богословской науки, особенно в современном стоявнн когда <<ученое монашество... не близко к богословской на- е’ а часто, к сожалению, относится к ней без должного уважения» ЦОв- 1917. № 76. С. 3. Ср.: БВ. 1917. № 6-7. С. 143-144).
317
А
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
проблемы, стоящ ие перед Российской Церковью в начале XX в., но при решении этих проблем использовался весь церковный опыт, накопленный за столетия. В полной мере это относилось и к идее консолидации сил ученого монашества, его связи с определенными монастырями и правильно устроенной уставной монастырской жизнью. Проекты Всероссийского церковно-просветительского братства и Высшей церковно-богословской школы, составленные епископом Феодором (Позде- евским) и архимандритом Гурием (Степановым), обсуждались в соборном Отделе о монастырях и монашествующих в течение I сессии и первой половины II сессии. В результате первый проект — Всероссийского церковно-просветительского братства — был включен в общий доклад Отдела о монастырях и монашествующих в качестве особой главы «Иноческое всероссийское церковно-просветительское братство»22 23, а второй проект — Высшей церковно-богословской школы — 2 апреля 1918 г. был подан Святейшему патриарху Тихону, а 10 (23) апреля передан на рассмотрение в Отделы о духовных академиях и о монастырях и монашествующих22.
Доклад Отдела о монастырях и монашествующих обсуждался постатейно на пленарных заседаниях Собора на протяжении большей части III сессии: начали его читать на 135 заседании (14 (27) июля), а принято постановление было лишь на
22 Доклад Отдела о монастырях и монашествующих представлял собой проект одноименного определения Собора. Определение было принято Собором 31 Августа (13 Сентября) 1918 г. и опубликовано: Собрание определений и постановлений. М., 1918, изд. Соборного Совета, прил. к «Деяниям» 2-е. Т. 4. С. 3 1 -43 . Проблемам ученого монашества было посвящено две главы определения: гл. XIV «Об ученом монашестве» (§ 90-101 в проекте определения, §83-90 в окончательной редакции) и гл. XV «Иноческое Всероссийское Церковно- Просветительское Братство» (§ 102-107 в проекте определения, § 91- 97 в окончательной редакции). Эти главы обсуждались на 140-141 пленарных заседаниях (26 и 27 июля (8 и 9 августа». См.: ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1.Д . 143. Л. 54-119; Там же. Д. 144. Л. 118-187.
23 Выписка из протокола Соборного Совета от 10 (23) апреля 1918 г. за № 86 ст. И (ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 383. Л. 1, 6).
3 1 8
Угеное монашество в России
164 заседании (31 августа (13 сентября) 1918 г.) Немало споров вызвали вопросы, связанные с ученым иночеством. Само право выпускников духовных академий, принимающих постриг, но не живших в монастырях, причислять себя к монашеству вызывало сомнение, ибо «в реальности ученый монах не может исполнять обетов», а проект братства ученых иноков лишь заявляет внешнюю связь ученого монаха с монастырем2/|. Некоторых членов Собора смущали ранние студенческие постриги, оторванность учащихся иноков от монастыря, права, которые получали ученые монахи* 25. Но защитники традиции ученого монашества уверяли, что монашеские постриги студентов духовных академий совершаются лишь по благословению старцев: ни один студент Московской духовной академии не может быть пострижен без благословения старца Зосимовой пустыни Алексия (Соловьева), в Казанской 15 лет не постригали без благословения схиархимандрита Гавриила (Зырянова), а после его кончины сносились по этим вопросам со старцами Оптиной пустыни26. Но некоторые члены Собора, имевшие личный опыт подвизания в монастыре, хотя и поддерживали проект, но предлагали наложить на студентов, изъявивших желание принять постриг, обязанность двухлетнего проживания в строгой обители27.
Но главным камнем преткновения стало проектируемое Иноческое всероссийское церковно-просветительское братство. Епископ Феодор (Поздеевский), оглашавший проект, настаивал на необходимости организации ученого иночества: если церковная власть выделяет ученое монашество в особый класс и считает это полезным для определенных целей, то необходимо создать
м Мнение члена Собора Н. Д. Кузнецова (ГАРФ. Ф. 3431. On. 1.Д. 143. Л. 96; Там же. Д. 144. Л. 129-130).
25 Члены Собора епископ Симон (Шлеев), протоиерей Ф. Д. Фи- лоненко, И. П. Николин, Г. А. Ольховский, П. Я. Руднев (ГАРФ.Ф. 3431. On. 1. Д. 144. Л. 120-128, 134).
25 ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 144. Л. 151.27 Мнение наместника Троице-Сергиевой Лавры архимандрита
Кронида (Любимова) (ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 144. Л. 99).
3 1 9
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
условия и для этого разряда монашествующих. К этой организации выдвигается два главных требования: возможность исполнять монашеские обеты и консолидация сил, благоприятствующая самой научно-богословской работе28. По мысли авторов проекта, такой организацией должно быть объединение ученых монахов, ставящее одною из своих главнейших задач разработку высших богословских вопросов, а также осуществляющее религиозно-просветительскую и благотворительную деятельность, имеющее печатные органы и типографию. Особое подразделение Братства должно было заниматься сохранением и изучением церковных древностей. Братство должно было иметь несколько монастырей, в которых бы подвизались или с которыми были связаны члены Братства и на базе которых эти задачи могли бы осуществляться29 30. Оппонентов проекта настораживало столь явное и принципиальное обособление ученого монашества, грандиозность поставленных перед ним научных задач. И. В. Попов предлагал своему бывшему ректору обратить внимание на альтернативный проект, разработанный профессором Б. А. Тураевым, — особого ученого монастыря, во главе которого должен быть поставлен инок, известный своими «ценными научными трудами и имеющий вкус к науке». Особенность этого проекта состояла в том, что на первых порах в монастырь предлагалось помещать и мирян, известных в науке, из духовных академий и даже из университетов — иначе монастырь так и не станет ученым20. Но в целом большинство членов собора признавали, с одной стороны, полезность единения ученых иноков для более плодотворного служения Церкви, с другой стороны, необходимость их связи с определенным монастырем, полнотой и регулярностью исполнения монастырского устава. Поэтому в результате обсуждения было решено признать предложения Отдела о монастырях и монашествующих в отношении организации ученого иночества разумными и полезными31.
28 ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 144. Л. 105.29 Там же. Л. 165-166.30 Там же. Л. 169-170.31 Там же. Л. 180-182.
3 2 0
Угеное монашество в России
Проект Высшей церковно-богословской школы обсуждался в Отделе о духовных академиях в течение 7 заседаний'2. Основной тезис авторов проекта был сформулирован довольно жестко: имеющиеся академии не выполняют своего назначения, ибо они: 1) однотипны, 2) плохо осуществляют определенные им задачи (пастырская подготовка, подготовка к учительству, к миссионерству), 3) не вполне отвечают и требованию научной разработки православного богословия на строго церковной почве. Именно теперь, в момент серьезных изменений в церковной жизни, открылись, по мнению авторов, возможности для принципиального улучшения самого типа высшей богословской школы. В качестве альтернативы предлагался проект монашеской академии. Ее особенности заключались, прежде всего, в изменении учебного плана:
§ усиление изучения Священного Писания и патрологии;§ напротив, уменьшение доли богословских предметов (в
тесном смысле слова) — основное, догматическое, нравственное, сравнительное богословие сводились в единый курс «систематического богословия»;
§ введение агиологии;§ выведение из курса всех общеобразовательных наук,
кроме философии;§ преподавание философии лишь в соприкосновении с
православием (например, вместо психологии — основы православно-религиозного опыта);
§ уменьшение часов, отведенных на изучение древних языков.
Но главное преимущество новой школы — в постановке воспитательной части и условиях жизни: тесная связь учащихся с обителью, в которой будет помещаться школа. Таким образом, во главу ставились идея пастырства и идея монашества, в его религиозно-просветительском служении.
Л2 3 0 -3 7 заседания Отдела о духовных академиях (с 20 июня (3 июля) по 2 (15) августа 1918 г.) См.: ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 380. Л. 108-138.
321
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Проект Высшей церковно-богословской школы подвергся в заседаниях академического Отдела серьезной критике. Несправедливой казалась жесткая оценка существующих академий, воспитавших все же достойных архипастырей, пастырей и иноков, в том числе и авторов проекта. Но главное — критиковались учебно-научные изменения. В проекте проводится идея сокращения академического курса до состояния богословского факультета, но неудачно: без серьезной историко-филологической подготовки невозможно глубокое научное развитие богословия, без основательных знаний в древних языках - работа с первоисточниками. Как именно авторы планируют развивать богословскую науку в строго церковном духе — из проекта не было ясно.
Первый вариант отзыва Отдела, составленный профессором Петроградской духовной академии Б. В. Титлиновым, был, как и можно было ожидать, резко отрицательным33. Но большая часть Отдела о духовных академиях не была согласна с таким заключением. Окончательный вариант отзыва был более мягок и доброжелателен. Высшая церковно-богословская школа не признавалась за новый тип школы, но Отдел ничего не имел против ее создания34. 14 (27) декабря 1918 г. состоялось определение Высшего Церковного Управления: одобрить в принципе проект Высшей церковно-богословской школы, поручив авторам его доработать; но принять содержание этой высшей школы на счет центральной церковной казны лишь тогда, когда для этого явятся благоприятные условия35.
Следует заметить, что идеи, положенные в основу проекта Высшей церковно-богословской школы, в определенной степени отражали тенденцию эпохи. В активных духовно-учебных дискуссиях начала XX в. можно выделить две крайние тенденции: 1) желание удалить духовные школы от развращающего влияния эпохи и поместить их под монастырскую сень, в спо-
33 ГАРФ. Ф. 3431. On. 1. Д. 380. Л. 124-125.34 Там же. Д. 383. Л. 9 -20 .35 РГИА. Ф. 831. On. 1. Д. 21. Л. 149-149 об.
J3 2 2
Угеное монашество в России
койную молитвенную обстановку, наиболее соответствующую формированию будущих пастырей; 2) напротив, приблизить духовные школы к реальной церковной действительности, на практике учить будущих пастырей понимать актуальные проблемы их паствы, уметь ориентироваться в настроениях и духовных запросах общества. Таким образом, проект монашеской академии отражал первую тенденцию и в этом был созвучен многим другим духовно-учебным проектам начала XX в. С другой стороны, этот проект отражал многолетние чаяния русского ученого монашества на консолидацию сил, с целью наиболее эффективного развития богословской науки, — и надежды святителей XIX в. на создание «ученых корпораций из монашествующих».
Оба проекта — Иноческого всероссийского церковно-просветительского братства и Высшей церковно-богословской школы — не были реализованы и не получили практической проверки. Тем не менее, некоторые элементы проектов были использованы преосвященным Феодором (Поздеевским) в деятельности «Даниловской академии» при Свято-Даниловом монастыре в 1920-е гг.
В заключение скажем несколько слов о значении идей, положенных в основу проектов Иноческого всероссийского церковно-просветительского братства и Высшей церковно-богословской школы. Проблемы, которые пытались решить авторы проектов, и идеи, высказанные ими на этом пути, представляются и ныне актуальными.
Организация научной деятельности монашествующих, получивших высшее богословское образование, является немаловажной задачей современной духовно-учебной системы. Немногие монастыри могут полноценно использовать на благо Церкви знания и способности своих насельников, получивших высшее духовное образование и ревнующих о развитии богословской науки. Церковная же наука, вступив ныне в эпоху своего активного развития, нуждается в служителях и, может быть, особенно в тех, кто, не будучи связан семейными, служебными, общественными обязательствами, может аскетично
3 2 3
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
посвятить себя этому служению. Некоторые положения, заявленные авторами проекта Иноческого всероссийского церковно-просветительского братства, осуществляются монастырями: при многих обителях есть издательские центры, учебные заведения и курсы разных уровней, просветительские центры. Но для систематического развития высшего богословия, составления учебных руководств, переводов и научно-критических изданий святоотеческих творений и других древних церковноисторических, канонических, литургических источников нужна более широкая консолидация сил ученого монашества, создание специальных научно-богословских исследовательских центров, координация их сил. Это одна из актуальных задач Русской Православной Церкви, и использование идей наших предшественников расширяет круг компетентных собеседников, открывает более широкие перспективы и предостерегает от ошибок.
Что же касается монашеской академии, то центральная идея проекта — отделение учебной деятельности ученого монашества ото всей остальной духовно-учебной системы — вряд ли может стать плодотворной и жизненной в современной духовно-учебной системе. Напротив, плоды приносит консолидация ученых сил монашества, белого духовенства, мирян с богословским и гуманитарным образованием на духовно-учебном поприще. Эта консолидация вносит «закваску» в современный мир, секуляризованный и рассеянный, имеет немалое значение и для духовно-учебной системы, неизбежно перенимающей не только научные методы, но и определенный уклад образования, далеко отошедшего от Церкви. Тем не менее, отдельные идеи проекта преосвященного Феодора и архимандрита Гурия — акцент на единой богослужебной жизни учащих и учащихся высшей духовной школы, усиление агиографической составляющей учебных планов — являются вполне жизненными и в дискуссиях начала XXI в. Важна трезвая оценка современной духовной школой идей, проектов и стремлений делателей прошлой эпохи — что было частным мнением и может иметь альтернативные решения, что неизбежно сопряжено с научно-богословским деланием. Введенное в самый центр
3 2 4
Угеное монашество в России
церковной жизни властной рукой Петра, российское ученое монашество, преодолевая сложности, решая проблемы или смиренно неся их на своих плечах, стремилось реализовывать в своей жизни традицию святых ученых иноков древней Церкви — святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, преподобных Максима Исповедника, Иоанна Дамас- кина, Феодора Студита. Дальнейший крестный путь лучших представителей российского ученого монашества показал, что их делание не было самоцелью, не было самоутешением, но было жертвенным служением, дающим, с одной стороны, вполне конкретные научные ответы на богословские проблемы, с другой стороны — свидетельство преданности Христу в ответ на вопрошание мира.
БОГОСЛОВСКИЕ НАУКИ В РО С СИ Й С КИ Х УНИВЕРСИТЕТАХ
ТРАДИ Ц И Я И ПЕРСПЕКТИВЫ
Российская наука и образование имеют специфические черты, которые требуют подробного изучения и осмысления, ибо лишь ото позволит сохранить сущностную основу национальной научно-образовательной системы и культуры, правильно использовать важнейшие достижения и находки, учесть ошибки, увидеть и реализовать новые перспективы. Исторический путь российской системы просвещения был непрост: получив начало от византийской учености и испытывая на разных этапах западное влияние, адаптируя национальным сознанием и синтезируя лучшие идеи, она вырабатывала собственную традицию. Эта традиция не только давала замечательные плоды во всех областях человеческого знания и культуры, но оказаласьнастолько стойкой и жизнеспособной, что позволяла опираться
на пес даже в самые тяжелые периоды отечественной MCT0 Одной из характерных черт российских науки и образован является особое положение в них богословия. С одной ш.1. богословское знание развивалось и изучалось в Д У %Q. учебной системе. С др угой стороны , богословие неиЗМб еМу,* V , » , v - - г ,
дпло II II общую государственную образовательнуюучебные планы и средней школы, Да
высшем школы — университетов,причем было включено вющеп общие образование, и высшей школы — уп»~-,специальных институтов (филологических, педагогическимедицинских, лесных, военных и т.д.). Богатое разно о Р 1
форм богословско-учебной и богословско-научной деятельности, появившееся в последние годы, побуждает как к усердному осмыслению опыта наших предшественников, так и к поиску более совершенных форм и методов богословского познания. Как в том, так и в другом отечественное просвещение - и духовное, и светское — имеет немалый опыт. Как и в нашей современной практике, в предшествующую эпоху не только шел постоянный поиск оптимальных форм духовно-учебной и богословско-учебной деятельности, но определялся состав и уровень учебных курсов, причем как для богословских специализаций, так и для богословских курсов, включаемых в учебные планы других специальностей. Какие элементы богословских наук они должны включать, какие вопросы и проблемы затрагивать, в какой степени эти курсы должны быть научными, следует ли при составлении этих курсов учитывать специализацию слушателей? Как из этих вопросов и элементов составить целостное мировоззрение будущего ученого, преподавателя, образованной части российского общества, как разрешать вопросы ищущего разума и дать ему непоколебимое основание для будущего поиска, научного и нравственного? Как должно строиться религиозно-нравственное воспитание этой особой категории людей — не детей, не «простецов», но ищущих истину, вставших на путь разумного, научно-критического, рациональ- Ног° ее познания? Немалые сложности и для наших предшественников составлял подбор преподавателей богословия в вьгешие учебные заведения, компетентных как в богословских НаУках, так и в профессиональной направленности ВУЗа, авторитетных в среде преподавателей и студентов, способных
орчески подходить к преподавательской деятельности, опс- ТьТ- н ° Реагировать на запросы своих слушателей, перераба- кдВаТЬ ^Чеб)Ные курсы и искать новые методы, быть верным (1. ^еРтоном Для формирующегося мировоззрения будущей (| 10 ~°бразо ва тел ыю й элиты? Все эти вопросы и проблемы„го— СовРеменными и как никогда актуальны для нынешне И/ Тапа Российской системы образования. Недоучитывая и
пользуя в должной мере опыт наших предшественников и
Богословские науки в университетах традиция и перспективы
3 2 6 327
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
коллег, мы рискуем не только начать изобретать заново велосипед, но и — что гораздо опаснее — внести в отверзающиеся двери не свет, озаряющий и оживотворяющий, а лишь отблеск, не высочайшее и живейшее из знаний, способное придать целостность всем наукам и предметам, но мертвый слепок, представляющий лишь археологическую ценность.
Действительно, Православной Церкви принадлежит безусловное первенство в деле русской образованности, и до XVIII в. образовательный процесс в России был единым, как в школах и училищах при монастырях и церквах, в братских школах Западной Руси, так и в первых школах более высокого уровня — Киевской и Московской Славяно-греко-латинской академии, в которых последовательная чреда классов венчалась богословием. Перспективные проекты развития образовательной системы начала XVIII в. рассматривали два основных варианта: I) европейский вариант университета с тремя факультетами — богословским, медицинским и юридическим (проект 1710-х гг. Г. В. Лейбница, составленный по просьбе Петра I)* 1; 2) универсальное учебное заведение, включающее как богословие, так и все прочие науки в единый образовательный процесс (анонимный проект отечественного автора 1715 г., считавший оптимальным помещение подобной школы — «Академии политики» — под монастырский кров и попечительство духовных лиц)2. Этот же вариант предлагал и Духовный регламент 1721 г.: Академию, дающую серьезное образование, как богословское, так и общее3.
’ Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России. Т. 1: Российские университеты и устав 1804 года. М., 2002. С. 343-344. Прим. 5. См. также: Геръе В. И. Отношение Лейбница к России и Петру Великому. СПб., 1871.
2 Петров Ф. А. Указ соч. С. 342. Прим. 5. См. также: Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в XVII-XIX веках. Т. I. СПб., 1912.
1 Духовный регламент. Часть вторая. Домы училищные. Первое издание: СПб., 1722. С. 45-68. Академия должна иметь ученый характер, искусных и «остроумных» учителей, давать широкое образование, как богословское, так и общее (курсив мой — С.Н.).
328
Богословские науки в университетах — традиция и перспективы
Впервой половине XVIII в. в России было заложено основание научно-образовательной системы. Может показаться странным, что Академия наук и художеств, учрежденная it 1724 г., не имела богословского отделения, а Московский университет, образованный в 1755 г., не включил в свою структуру богословский факультет, хотя, конечно, в университет был определен преподаватель Закона Божия'1. Но это не было изменением отечественной образовательной традиции. Напротив, именно в это время государственная власть обращала особое внимание на развитие научного и учебного богословия. Но основу корпораций Академии наук и университета на раннем этапе составляли иностранные иноконфессиональные профессора. Российское правительство, понимая необходимость такой зависимости на начальном этапе, но желая оградить православное богословское образование от инославных влияний, предпочло стимулировать его самостоятельное развитие под попечением Православной ЦерквиГ). Поэтому на этом этапе государственная власть решила
1Это кажется странным и потому, что при составлении проекта Академии наук и художеств в 1724 г. ориентировались на Парижскую академию наук (Проект положения об учреждении Академии наук и художеств (22 января 1724 г.): «И понеже сие учреждение такой Академии, которая в Париже обретается, подобна есть...*), в составе которой была теология. При составлении проекта Московского университета в 1755 г. — на европейскую модель Университета, также имеющего в своем составе теологический факультет. «Проэкт о Учреждении М осковского Университета* комментирует .тго отхождение от стандарта: «...§ 4. Хотя во всяком Университете кроме философских наук и юриспруденции должно такожде предлагаемы быть богословские знания, однако попечение о богословии справедливо оставляется Святейшему Синоду*
’Современная историография отказывается от с та|юй версии атеистических взглядов М. В. Ломоносова и других лиц, составлявших проект Московского университета, и приводит иной аргумент: «Русская Православная Церковь традиционно имела собственную сеть духовных учебных заведений, в том числе и высших* (Петров Ф. Л. Указ соч. С. 115). С этим можно отчасти согласиться, но в 1720-е и ., как и в более поздний период, шел поиск оптимальных моделей духов-
3 2 9
поощрять учреждение особых духовны* m школах не только богословских, но и о б ^ Г ^ 6 В наук. Однако вопрос об отношении богословия к ? 3°Вательных месте и значении его в системе просвещения ТпебУГИМ"аУ'!а"’ ления и уточнения. К его обсуждению п р ед п ол аг^ Т " °С“ЫС' в дальнейшем, на более высоком уровне развития образоюГ”ной системы и накопив опыт в построении самостоятельны!богословских учебных курсов. тельных
В 1760-1780-е гг., как казалось, такой момент настал Об Щий образовательный порыв, стимулируемый государственной властью, ставил вопрос о гармонизации всех областей знания. Р оссийская духовная ш кола приобрела некоторый опыт, ее вы пускники, среди которых были архиереи и преподаватели духовных школ, были готовы к новому этапу совершенствовани я духовно-учебной системы, ее преобразованию. Наконец, тесный контакт с Европой требовал определенности в системе просвещения, более четкой ее структуризации. Было составлено несколько проектов гармонизации университ ет ской идеи и богословского образования: 1) учредить свой особый - Духовн ы й — университет, под управлением Святейшего Синода (либо с традиционной последовательно-восходящей чредой классов, венчаемой богословским, либо с параллельными факультета ми, один из которых — богословский)* 6 *; 2) ввести богословы. четвертым факультетом в общую семью университетских
ной школы, поэтому традиция могла получить новую сос ^ вЛи- Но желания полностью вывести богословский факульте власТЬ. яния церковной власти не высказывала и государствен! иссией
t проекте, разработанном в б Петр0'Иннокентия (Нечаева) и Гаврии
5 Первый вариантв с о с т а в е а р х и е п и с к о п о в И н н о к е н т и я (Н е ч а е в /
ва) и иером онаха П латона Со” , Рождестве■некий С.
реждения университетов дтшм^ороссиискогоктн^^ !^.де-uin/i j *“ *■— г
н о м Г Н. Т е п л о в ы м п о п о р у ч е н и ю гетм ан а
В К иевском ось“ ф ак ул ьтета .
АкадемияВ ТОМ 40
е в о - Б р а т с к о м м о н а ст ы р е ,
.„у г Философией, медициной и юриспруденцией, с обще- иверситетским подчинением , о) устроить особый богослов
ский факульт ет при университете, но находящийся в совместном ведении университета и Святейшего Синода6. Ни один из этих проектов не был реализован в полноте, но теоретические наработки были обсуждены, а их основные идеи не раз использовались в дальнейшем и в истории богословского образования, и при составлении новых университетских уставов.
До конца XVIII в. богословие не составляло в Московском университете предмета специализации, но перед законоучителем университета протоиереем Петром Алексеевым — выпускником Славяно-греко-латинской академии, одним из наиболее образованных московских священников — были поставлены обширные задачи: сочетать богословское просвещение
р у о п о вские науки в университетах - традиция и перспективы
Законоучитель Московского университета протоиерей Петр Алексеев
П
богословский, под совместным кураторством гетмана и митрополита Киевского. Похожий проект высшего училища был составлен и сменившим гет-^ана П. А. Р у м я н ц ев ы м . См.: К иевская старина. 1896. № 12. С. 389
90. Петров Н. И. К и ев ск а я ак адем и я в царствование Екатщ
(1 7 6 2 -1 7 9 6 ) / / Т К Д А . 1906 . № 7. С. 4 8 7 -4 8 8 .Такая ст р ук т ур а п р едл агается в проекте проф ессора права
к°вского у н и в ер си т ет а Ф . Г. Д и л ьтея . См.: М атериалы для истории Учебных р еф ор м в Р о сс и и в X V I I I - X I X вв. Сост.: Рождественским .
б, 1910. Т. 1. С. 3 0 - 3 9 . А налогичная структура российского уни- Рситета предлагалась его коллегам и — проф ессорам и А. . (
И. М. Ш аден ом и д р уги м и в «М нении об учреж дении и ( Д УНивеРс итета и ги м н ази и в М оскве», составленном в д
5 г- по ук азан и ю Екатерины И. См.: П ет ров Ф. A. ,IcMCllK L в М оск овск ом универ си тете. М., 1997. С. 4 •
Проект п р и в о д и т с я : Ч ист ович И . А . И с т о р и я Санкт-Пет УР К° И Духовной академии. СПб., 1857. С. 6 6 -6 7 . См. также: Проскг
330 3 3 1
Н. Ю. Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
своих питомцев с наставлением их в благочестии, формирование правильного мировоззрения с изучением церковной культуры, российской и общехристианской* 9. При этом не только сам протоиерей Петр, но и руководство университета рассматривали богословское образование как органичную часть научного образования, а основы вероучения считали непременным компонентом истинного просвещения. Но университет мужал, дифф еренциация факультетов усиливалась, и один законоучитель не мог охватить своим вниманием всех преподавателей и студентов, с их вопросами и интересами. Проповедническая деятельность священников университетской церкви систематического богословского знания дать, конечно, не могла, хотя в университетский храм ставились священники ученые, способные понять духовные запросы и нравственные проблемы деятелей науки и учащейся молодежи10. Эта ситуация обсуждалась,
богословского факультета при Екатерине II / / BE. 1873. Т. VI (XLIV). № 11. С. 300-317: Титплинов Б . В . Гавриил Петров, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский. Его жизнь и деятельность, в связи с церковными делами того времени. Пг., 1916. С. 766-779.
9 Протоиерей Петр Алексеев был почитаемый проповедник и стихотворец, занимался разбором и описанием Синодальной библиотеки. Составил и издал для своих университетских слушателей два словаря — «Церковный словарь или истолкование речений древних, також иноязычных, без перевода положенных, в Священном Писании и других церковных книгах» и «Словарь еретиков и раскольников», составил «Историю Греко-Российской Церкви». Он первый познакомил любителей старины с переводом Библии, сделанным Франциском Скориной и поместил в трудах Вольного российского собрания описание книги Апостол, переведенного Скориной в 1525 г. См. также: А л е к с е е в . П . А . Речь о достоинстве и Пользе катехизиса. М., 1756.
10 В июле 1757 г. Московской Синодальной конторой Университету были переданы находящиеся близ храм Параскевы Пятницы и Воскресенская церковь. В 1784 г. архиепископом Московским Платоном (Левшиным) Университету была передана церковь св. Дионисия Ареопагита, для построения на ее месте нового университетского храма. 5 апреля 1791 г. митрополит Платон освятил церковь во имя св. мученицы Татианы в левом флигеле нового здания Университета
332
Богословские науки в университетах — традиция и перспективы
и перспектива была усмотрена в расширении богословского знания в университете, причем как в университете в целом, так и в образовании каждого студента.
В начале XIX в. в России была наконец создана университетская система. Были основаны Харьковский (1803) и Казанский (1804) университеты, кроме того, в систему были включены Дерптский (1802) и Виленский (1803). Первый университетский Устав 1804 г. вводил в состав отделения нравственных и политических наук две богословские кафедры: 1) догматического и нравоучительного богословия и 2) толкования Священного Писания и церковной истории11. Для этих кафедр несколько лет не могли найти достойных преподавателей, ибо задачи, поставленные перед ними, были очень сложны, и для их решения требовались неординарные личности* 11 12. 30 января 1819 г. по инициативе главы Двойного министерства князя А. Н. Голицына Главное правление училищ срочно заместило кафедры Богословия, чтобы «каждому человеку преподать начала истинного Богопознания и христианского учения, необходимые в жизни»13. Предложенные программы включали догматическое и нравственное богословие, священную и церковную историю. Это был тот минимум, который был признан необходимым для каждого выпускника университета, независимо от выбранной
на Моховой. Настоятелями университетской Татианинской церкви в XVIII в. были: выпускник Киевской академии иеромонах Виктор (1791-1794), выпускники Московской академии иеромонах Евграф (1794-1798) и протоиерей Феодор Алексеев (1798-1812).
11 Уставы Императорских Московского, Харьковского и Каванского Университетов 1804 г. §24 / / Сборник постановлений но МНИ. СПб.,1875. Т. 1:1802-1825. Ст. 299. Университеты Виленский и Дерптский имели свои уставы, причем протестантский Дерптский университет имел особый богословский факультет.
12 Это, в частности, б ы л о отмечено в 1819 г. ревизором Каванского университета М. Л. Магницким как один из самых серьезных недостатков.
11 Ш евы рев С. П. История Императорского Московского университета. Репринт: М., 1998. С. 428.
333
Н. Ю. Сухова. В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
сферы познания и последующей деятельности. В столичный университет, преобразованный в 1819 г. из Главного Педагогического института, был определен профессором богословия ма-
? гистр СПбДА священник Герасим Павский, в Московский университет — его же однокурсник магистр свящ енник Григорий Левицкий. В Харьковский университет был назначен свящ енник Александр М огилевский. В Казанский университет усилиями М. Л. Магницкого, назначенного попечителем учебного округа, были приняты два священника: архимандрит Феофан (А лександров) преподавателем догматического и нравственного богословия, и протоиерей Алек-
Профессор богословия Санкт- сандр Нечаев духовником и ис-Петербургского университетапротоиерей Герасим Павский ПравлЯЮЩИМ ДОЛЖ НОСТЬ аДЪЮНКТ-
профессора по библейско-церковной истории. Профессора богословия и настоятели университетской церкви оказывались одновременно подчиненными двух ведомств: Святейшего Синода и Министерства народного просвещения. Такое двойственное положение ставило перед свя- щенниками-преподавателями одновременно задачи пастырей и интеллектуалов. И, следует отметить, представители богословской науки исполняли эти задачи достаточно успешной
Новый университетский Устав 1835 г. определял для богословских наук одну кафедру, причем делал ее межфакуль
и Так, о. Герасим Павский смог возбудить во многих студентах столичного университета церковную ревность, а его научные труды - «Филологические наблюдения над составом русского языка» и «Материалы для объяснения русских коренных слов посредством иноплеменных» (первый опыт русского этимологического словаря) - получили высокую оценку профессионалов, в том числе тогдашнегоректора университета и известного литератора П. А. Плетнева.
334
Богословские науки в университетах — традиция и перспективы
тетской15. В этом был резон. Межфакультетский статус ставил профессора богословия в равное отношение к студентам православного исповедания всех факультетов. В состав богословского университетского курса было включено все богословие, элементы церковной истории, общей и русской, а для студентов юридического факультета — еще и элементы церковного законоведения. С 1850 г. на профессора богословия была возложена также задача преподавания логики и психологии"1. Эта перегруженность создавала немалые сложности, и многое зависело от личности профессора богословия, его талантов и учености. Вызывали уважение и интерес слушателей лекции священника Иоанна Янышева в Санкт-Петербургском университете, протоиерея Николая Сергиевского в Московском, архимандрита Гавриила (Воскресенского) в Казанском. Магистр КазДА протоиерей Александр Владимирский, занимавший в 1850-1871 гг. кафедру богословия Казанского университета и бывший настоятелем университетского храма, в дальнейшем (в 1865 г.) был избран деканом историко-филологического факультета.
Конец 1850 — начало 1860-х гг. принесли много нового в русское просвещение: пробуждение самосознания русского общества, общий интерес к образованию, становление русской науки. Все это побудило повысить значение богословия в структуре университетского знания. С одной стороны, духовный и
'’Общий устав Императорских Российских Университетов. 1835 г. §14 / / Сборник постановлений по МНП. СПб., 1875. Т.2: 1825-1855. Отделение 1. 1825-1839. Ст. 972.
"'В 1849 г., при министре Народного просвещения кн. II. А. Шн- ринском-Шихматове, в российских университетах были упразднены особые философские кафедры, и преподавание умаленного курса ф и лософии (лишь логика и психология) было возложено на профессора богословия. Таким образом, профессор богословия в 1850 I860 гг. преподавал одновременно в зачатке четыре науки; дог матическое и нравственное богословие, церковную историю, элементы канонического права и общий курс философии. См.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 2. Отд. 2. Стб. 343.
3 3 5
Н . Ю . С у х о в а . В Е Р Т О Г Р А Д Н А У К Д У Х О В Н Ы Й
богословский интерес должен быть укоренен в правильном, системном знании, основанном на лучших достижениях христианской науки и культуры, а не питаться случайными, ущербными, сектантскими учениями. С другой стороны, внимание общества к богословской науке побуждало искать наилучшие формы ее развития.
При обсуждении проекта нового университетского Устава в 1862 г. был высказан ряд мнений по изменению положения богословия в университетах17. Особенно горячо обсуждалось распределение кафедр богословских наук по факультетам, а также состав и уровень учебных курсов по богословским наукам.
Впервые было четко выделено три уровня богословия как предмета преподавания:
1) религиозного, нравственного, культурного фундамента системы человеческого знания в целом;
2) изучение специальных областей гуманитарных наук: церковной истории, церковной словесности, церковного права, религиозной философии;
3) наконец, богословие как самостоятельная область науки, со своей структурой, принципами и методами.
Первый уровень — основа человеческого знания — необходим в любой образовательной системе, в университетах же
17 В процессе разработки нового Устава российских университетов, принятого 18 июня 1863 г., было составлено несколько проектов: в 1858 г. Советом профессоров столичного университета, в 1862-1863 гг. тремя комиссиями: под руководством Е. Ф. фон Брадке, А. Д. Воронова, гр. А. Г. Строганова. Вопросы, связанные с преподаванием богословия, рассматривались в основном в рамках последней комиссии. На проект устава было получено 63 мнения университетских советов, 38 мнений светских и духовных лиц. В частности, на текст Устава дали свои замечания и предложения церковные деятели: митрополит Московский Филарет (Дроздов), архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский), епископ Харьковский Макарий (Булгаков), епископ Смоленский Антоний (Амфитеатров), ректор Московской духовной академии архимандрит Савва (Тихомиров), духовенство Киевской епархии.
J 336
Богословские науки в университетах — традиция и перспективы
он приобретал особое значение —средоточия и мировоззренческой централизации специализированных факультетов. Но большая часть участников дискуссии считала, что обязательность богословского курса в университете должна быть не требованием, а желаемым конечным результатом. С большой заинтересованностью обсуждался и вопрос о цели богословской кафедры в университете. Одни призывали профессоров богословия сосредоточиться на нравственно-воспитательном воздействии на студентов. Другие считали, что преимущественное значение в высших учебных заведениях имеет наука, и присутствие богословия в университетах должно определяться этим главным критерием. Наука есть стремление к истине, которое не может определяться утилитарными соображениями, не может удовлетвориться и ограниченным, замкнутым полем исследования. Каждая сфера познания дает определенную картину бытия, работает с относительными критериями истинности. Предпринимается попытка из конкретного и относительного восстановить, реконструировать само абсолютное. Но как это можно сделать без априорного ориентира? Ведь относительное приобретает основу своего бытия в абсолютном. Лишь богословие — при всех его внутренних проблемах научного поиска - исходит не из частного, а из абсолютного, ищет действительно объективный критерий и ориентирует в истинной реальности. При этом богословие может выражать познаваемое в научных категориях и быть понято другими науками, ибо оно исследует абсолютный объект в исторических условиях его проявления и относительными силами человеческими. Поэтому правильное образование в любой области знания невозможно без богословской ориентации, а ее отсутствие ведет к ущербному представлению о мире и не позволяет верно определить место изучаемой науки в универсуме человеческого знания18.
18 Так, преподаватель СПбДА А. И. Поповицкий не сомневался в недостаточности гимназического богословского курса и в незрелости самих гимназистов, которые «по самому возрасту своему не в состоянии понимать широкого научного развития религиозных истин», Он считал богословский курс необходимым для полноты и основатель-
3 37
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
П ри этом богословская ориентация не является некоторым «прокрустовым ложем» для научных выводов и ограничением для свободы научного поиска. Напротив, она делает науку таковой в самом высоком значении, ибо вместо ограниченных и относительны х человеческих критериев обуславливает научный поиск лиш ь одним — стремлением к истине.
В окончательном варианте университетского Устава 1863 г. была оставлена кафедра богословия межфакультетского значения и введено преподавание церковной истории и церковного законоведения на соответствующих факультетах19. Богословская наука получала в университете трех преподавателей вместо одного. Это позволило углубить богословские учебные курсы и сделало возможным научное изучение специальных вопросов церковной истории и церковного права. Особые требования предъявлялись к преподавателям на эти кафедры. Они замещ ались преимущественно магистрами и докторами богословия, а после 1884 г., когда докторская богословская степень была дифференцирована — также докторами церковной истории и церковного законоведения20. Требовалось, конечно, и понимание специфики факультета. Поэтому идеальным вариантом было сочетание обеих составляющих — богословия и
ности образования, ссылаясь на пример Запада, где «люди истинно просвещенные образованы всесторонне», ибо «научно религиозноеоб- разование шире нашего, и оно глубоко проникло в сознание ученых». При этом Поповицкий считал, что чрезмерный упор на нравственн у ю пользу религиозного образования «подрывает окончательно авторитет богословской науки в глазах молодого поколения и заставляет его смотреть подозрительно на науку, из которой хотят сделать какого-то докучливого наставника, или, что ещё хуже, полицейского агента». См.: Приложение III к Журналу № 10 заседания от 29.09.1862 г. Ученого Комитета Главного Правления Училищ Министерства Народного просвещения по проекту Общего Устава Императорских Российских университетов. СПб, 1862. С.353-358.
19 Общий устав Императорских Российских Университетов. 1863 г. / / Сборник постановлений по МНП. СПб., 1876. Т. 3. 1855-1864. Ст. 1042-1043, 1045.
20 Устав 1884 г. § 141-142.
3 3 8
Богословские науки в университетах — традиция и перспективы
истории, филологии, юриспруденции. Таким условиям могли удовлетворить лишь отдельные лица.Так выпускник и магистр СПбДА (1865) М. И. Горчаков получил магистерскую степень ю ридического факультета столичного университета и аполным правом занял там кафедру церковного законоведения. В дальнейшем он, уже протоиерей, получил и две докторские степени: доктора государственного права (1871) и доктора богословия (в КДА, 1881)21. В 1872 г. кафедры церковного законоведени я, а в 1893 г. и кафедры церковной истории получили право замещ ения своими выпускниками, но при условии сдачи дополнительного экзамена по богословию. В столичном университете уже в 1873 г. был оставлен для подготовки к кафедре ее же выпускник Н. С. Суворов, в будущем известный канонист. В дальнейшем эти кафедры замещались как выпускниками духовных академий, так и выпускниками университетов. Это предоставило дополнительную возможность, с одной стороны, теснее включить церковную тематику в университетские курсы, с другой стороны — выработать и обсудить разные подходы к изучению
Профессорцерковного законоведения
Санкт-Петербургского университета протоиерей
Михаил Иванович Горчаков
21 Степень магистра богословия М . И . Горчакову была присуждена за сочинение «О церковных историках первых восьми веков христианства»; степень магистра государственного — за диссертацию «Монастырский приказ (1649-1725 гг.). Опыт историко-политического исследования» (СПб., 1868). Степень доктора государственного права он получил за работу «О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и Святейшего Синода» (СПб., 1871); степень доктора б о г о с л о в и я — за диссертацию «О тайне супружества. Происхождение, историко-юридическое значение и каноническое достоинство 50-й главы печатной Кормчей» (СПб., 1880).
339
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Профессор церковной истории Московского университета Алексей Петрович Лебедев
этих предметов. Но и после этого на кафедры приглашались преимущественно выпускники духовных академий. Так, в 1895 г. в Московском университете почившего протоиерея Александра Иванцова- Платонова сменил на кафедре церковной истории профессор МДА А. П. Лебедев. В 1900 г. такую же кафедру в Казанском университете занял после Ф. А. Курганова выпускник СПбДА К. В. Харлампо- вич. Ученая богословская степень была гарантией профессиональной компетентности претендента, но вопрос о критериях, предъявляемых к кандидатам на гуманитарно
богословские кафедры, оставался актуальным. Интересен был в этом отношении опыт канониста и византиниста В. Н. Бене- шевича, выпускника университета.
Для межфакультетской кафедры богословия, освобожденной от церковной истории и церковного права, стал особенно актуален вопрос о содержании курса. Был проведен своеобразный форум профессоров университетских богословских кафедр: профессор богословия Московского университета протоиерей Н. А. Сергиевский посетил российские университеты, совещаясь с коллегами по кафедре, при этом сообщая им уже высказанные соображения. Мнения, аналитические записки и перспективные проекты были собраны, систематизированы, и на основе этих материалов был сформулирован ряд предложений. К отчету протоиерея Н. А. Сергиевского прилагались мнения опрошенных профессоров: протоиерея Н. Фаворова (Киевский университет), протоиерея М. Павловского (Новороссийский университет), протоиерея В. Добротворского (Харьковский университет), священника А. Владимирова (Казанский университет), протоиерея В. Полисадова (Санкт-
3 4 0
Богословские науки в университетах - традиция и перспективы
Петербургский университет), с аргументами авторов22 23. Главным пожеланием профессоров было: принять меры для повышения статуса и уровня богословской науки в университетах, чтобы «она... являлась в гармонии с... прочими научными истинами»24 25. Были и конкретные предложения: 1) по содержанию учебной программы: ввести в университетский курс, кроме догматического и нравственного богословия, изучение Священного Писания (священную библиологию) и христианскую апологетику, причем с акцентом на последних составляющих21; 2) по организации университетских кафедр богословских наук: из всех профессоров богословских наук образовать в каждом университете особый «комитет», близкий по правам к факультету21;
22 Командировка протоиерея Н. А. Сергиевского была предпринята по поручению министра Народного просвещения А. В. Головнина. Для него и был составлен отчет, который, тем не менее, был опубликован для широкого обсуждения: ПО. 1865. № 10. С. 186-200; приложение с записками шести профессоров: Там же. С. 200-216.
23 Там же. С. 191-192.21 Это предложение было обосновано, во-первых, тем, что в уни
верситете, в окружении всех наук, апологетику развивать удобнее. Во- вторых, студентам университетов интереснее и полезнее слушать лекции по апологетике, нежели по догматике. Наконец, после исключения из духовных академий в 1869 г. физико-математических наук ответственность за развитие научно-богословской апологетики возлагалось преимущественно на университетских профессоров богословия. Естественно-научная апологетика в академиях, представленная одним профессором Д. Ф. Голубинским, не могла претендовать на серьезное научное развитие. Протоиерей Н. А. Фаворов предложил конкретные рекомендации к составлению программы по курсу «Богословской Апологетики». См.: ПО. 1865. № 10. С. 189-193.
25 Это предложение вызвало особое одобрение святителя Филарета (Дроздова) как средство сохранения богословской направленности кафедр церковной истории и церковного законоведения. Святитель настаивал на том, чтобы преподаватели от их предметов приглашались непременно из выпускников духовных академий — магистров, которые либо уже поработали на духовно-учебных должностях, получили опыт и «одобрены начальством», либо состоят на священном служении, но не оставили «ученых занятий». См.:
3 4 1
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
3) по повышению уровня университетских преподавателей богословия: ввести для них регулярные поездки за границу с учеными целями20.
Деятельность протоиерея Сергиевского вызвала дискуссию в образованном обществе. В контексте дискуссии был вновь поставлен вопрос о богословских факультетах и высказаны сомнения: 1) нужны ли такие факультеты при существовании духовных академий? 2) каково назначение их выпускников?3) насколько готовы сами университеты, с точки зрения и нравственной, и научной, для образования в своих недрах богословских факультетов?* * 26 27
Не вызывала сомнения нравственная и мировоззренческая роль богословия в университетах. Но задача эта должна была решаться с учетом непрерывно повышавшегося уровня науки, активизировавшегося общественного мнения и настойчивых запросов к глобальным вопросам. Для этого этапа в университетских кругах были характерны дискуссии на темы: «Что должно быть мерилом гармонии — сама ли религиозная истина или прочие науки?», «Что такое сама наука богословская, каково ее соотношение с другими сферами человеческого знания?».
В дальнейшем высказывались новые предложения по расширению преподавания богословских наук в университетах. Среди этих предложений можно выделить два основных: 1) полностью преобразовать духовные академии в богословские университетские факультеты (наиболее радикальным сторонником этого мнения был профессор богословия Киевского университета протоиерей Павел Светлов); 2) научно развивать богословие в университетах, на долю же специальной высшей богословской школы — духовных академий — оставить апологетическую задачу, подготовку клира и рассмотрение специальных научно-богословских вопросов, связанных с решением
Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. V. Ч. 2. С. 780-783; Тамже. 801-806 .
26 ПО. 1865. № 10. С. 195-199^27 ХЧ. 1866. Ч. I. № 2. С. 141-191.
342
Богословские науки в университетах — традиция и перспективы
актуальных церковных проблем (такой вариант предлагал, например, профессор СПбДА Н. Н. Глубоковский)^. Но эти проекты по понятным причинам не успели внимательно обсудить, и они пополнили банк идей об устроении высшего богословского образования.
Таким образом, богословское образование для наших предшественников было одновременно полноценной реальностью и напряженным творческим поиском. Время показало насущную необходимость глубокого, серьезного, научного богословского знания, причем не только для узкого круга профессионалов, а для любого разума, вставшего на путь научного познания истины. Эта востребованность оказалась значительнее и основательнее, нежели исторические изменения и влияния той или иной эпохи. Неизбежно и объективно перед новой эпохой и новым поколением открылись не только истинные перспективы, но и обязанность реализовать дарованную возможность познания, с учетом опыта предшественников.
Конечно, современная ситуация создает организационные и психологические сложности, которых не знали дореволюционные богословы и дореволюционные университеты. Четко и стабильно действующая научно-образовательная богословская система, институт научно-богословской аттестации, место богословской специализации в университетах и богословия в универсуме наук, роль богословского элемента в образовании по другим специальностям — вопросы, требующие в этих условиях повышенного внимания и самого компетентного и разностороннего обсуждения.
Развитие науки, приведшее к более сильной се дифференциации, оправдывает, казалось бы, узкую специализацию и специфику методов каждой. Однако именно на этом этапе как никогда становится ясна важность богословского знания, его многофункциональность, полнота и значение вхождения в
жЖурналы Предсоборного Присутствия. СПб., 1906-1907. Т. 4.С. 53, 58-61; Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М., 2004. Ч. 2. С. 312-313.
3 4 3
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
научно-образовательный универсум. Изменилась структура богословской науки, ее приоритетные направления потребовали привлечения специалистов из других областей знания. Гуманитарные исследования подразумевают все большую богословскую эрудицию и не могут обойтись без участия профессиональной богословской науки. Естественные науки, поставив вопросы, относящиеся к основам мироздания, неизбежно обращаются к богословскому осмыслению бытия. Общество осознает, что автономная, секулярная культура не жизнеспособна в оторванности от породившей ее духовности. Все большее число служений, сфер деятельности требуют богословской эрудиции, компетентности. Роль богословия в современном мире возрастает, что требует не только тщательного изучения опыта наших предшественников, но творческое соучастие в нем, привнесение нового, соответствующего лучшим традициям и отвечающего современным запросам. Живое — а образование и наука есть самое яркое проявление жизни — не должно быть просто механическим копированием прошлого. Традиция - это не сохранение мертвой окаменелости и в формах, и в методе, такое понимание традиции ведет к торможению, если не к прекращению органического роста. Традиции — живая цепь преемства. А право и обязанность преемника — привнести нечто новое по сравнению с предшественниками, чтобы сделать больше и лучше их и двинуть вперед общую работу. Без такой - творческой — задачи каждого последующего звена в единой цепи не может быть достигнута общая цель. Именно это является истинным преемством. А идеи и проекты, составленные нашими предшественниками, указывают направление творческой работы и дают целый спектр разных вариантов, сочетавших многовековой опыт отечественного светского и духовного образования с изучением теологии в Европе, универсальность системы гуманитарных знаний со спецификой теологии как науки, со своей внутренней структурой и методами, учет социальных и культурных запросов с сохранением сакральной значимости богословия.
СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ)И ВЫСШ АЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА XIX ВЕКА:
НОВИЗНА И ТРАДИЦИЯ
«...Благочестие не есть отрицание наук и знаний: нам именно говорят, и говорят от лица Самого Бога, что благочестие есть премудрость, а премудрость есть мать, воспитательница, покровительница истинных знаний и полезных наук...»
Святитель Филарет (Дроздов). Слово в храме Святыя Мученицы Татианы при Императорском московском университете (1850 год)
Роль святителя Филарета в духовно-учебной и научно-богословской области значительна, как, может быть, ни одного другого русского богослова и святителя. «В истории русского богословия в новое время Филарет Московский был первым, для кого богословие стало вновь задачею жизни, непреложной степенью духовного подвига и делания» ' . Ив историографии прошлых лет, и в современных исследованиях духовно-учебной и научно-богословской деятельности святителя Филарета уделяется значительное внимание* 2. Но этот обширный комплекс
■ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Лереизд. Вильнюс, 1991. С. 176.
2 Корсунский И. Н. О подвигах Филарета, митрополита Московского, в деле перевода Библии на русский язык / / Сборник, изданный Обществом любителей духовного просвещения но случаю столетия со дня рождения Филарета. М., 1883. Т. 1. С. 215-266; Судьбы
345
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
исследований не исчерпывает тему, напротив, ставит новые вопросы и показывает глубину содержащихся в ней проблем. В данной статье внимание будет обращено на методологическую сторону — отношение святителя Филарета к духовноучебной традиции и к тем новым идеям, которые вызревали в недрах самой духовной школы или вносились извне. Активная деятельность святителя — сначала как преподавателя и ректора академии, затем как архиерея и ревизора духовных школ - простирается от одной духовно-учебной реформы, 1809— 1814 гг., до другой, 1867-1869 гг., которая началась в последние годы его земной жизни. Но дело не только в продолжительности его служения и активной позиции в деле образования и богословской науки. Одна из печальных черт русского духовного образования и богословской науки, отчасти обусловленная особенностями исторического пути — слабое использование опыта, причем как опыта предшественников, так и деятелей настоящего. Сам процесс накопления опыта происходил чрезвычайно медленно и проблематично: конкретные явления и события не получали верной оценки, частное не отделялось от общего, в конкретике не просматривались закономерности и принципиальные проблемы. Еще труднее было научиться оперативно использовать этот опыт и осмысленно опираться на традицию: либо традиция понималась как узда, не позволяющая вводить
катехизисов Филарета, митрополита Московского / / Русский вестник. 1883. № 1; Городков А. А. Догматическое богословие Филарета, митрополита Московского. Казань, 1887; Флоровский Г., прот. Указ, соч. С. 145-146, 153-156, 166-233; Цыпин В., прот. Митрополит Филарет и Московские духовные школы / / ЖМП. 1997. № 7. С. 55-65; Хондзинский П„ иер. О богословии святителя Филарета, митрополита М осковского / / Святитель Филарет (Дроздов). Избранные труды, письма, воспоминания. М., 2003. С. 56-86; Гаврюшин Н. К. У истоков русской духовно-академической философии: святитель Филарет (Д роздов) между Кантом и Фесслером / / Вопросы философии. 2003. N° 2. С. 131-139; Мелькав А. С. Митрополит Филарет и Московские Духовные школы / / Сборник материалов по итогам научно-исследовательской деятельности молодых ученых в областях гуманитарных, естественных и технических наук в 2003 году. М„ 2004 и др.
346
А
, . I Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
принципиально новые элементы в учебный процесс и научные исследования, либо, напротив, новизна была столь заманчива, что все прошлое казалось лишь тормозом и лишним грузом, который надо отринуть. Святитель Филарет являет собой как раз пример аналитического и творческого подхода к опыту и традиции, особенно ценного для настоящего времени. Многие проблемы, которых касался святитель в духовно-учебной и научно-богословской сфере, встают и ныне, в нашей возрождающейся и развивающейся богословской научно-образовательной системе. Поэтому рассмотрение их сейчас как нельзя более актуально.
В данной статье обратимся лишь к трем моментам: 1) пониманию святителем Филаретом цели, задач и структуры высшего богословского образования, 2) отношению святителя к методам научного богословия, 3) отношению святителя к реформам духовной школы.
1. Святитель Филарет о цели, задачах и структуре высшего богословского образования. Святитель Филарет являлся одной из ключевых фигур духовно-учебной реформы эпохи Александра I и сделал очень много для ее правильного понимания и проведения3. Преобразование духовно-учебной системы, начатое в 1808 г., было делом новым, как по изменению структуры духовно-учебной системы — она разделялась на отдельные ступени и на духовно-учебные округа, - так и по задачам, которые ставились перед духовными школами. Преобразованная духовно-учебная система, по замыслу авторов реформы, должна была в короткие сроки обеспечить Русскую Церковь образованными священническими кадрами, а ее высшая ступень — академии — стать стабильными педагогическими институтами духовного ведомства, административными, учебно-методическими и духовно-научными центрами округов, экспертно-богословскими и цензорскими комиссиями.
'О реформе 1808-1814 гг. см. статью настоящего сборника «Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг. и становление высшей духовной школы в России».
3 4 7
1
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Д ля духовных академий проблемы, связанные с проведением реформы, отягощались новизной самого типа школы - их «надстроенность» над старой духовной школой вырывала из контекста и опыта XV III в. и заставляла корректировать задачи и вырабатывать новые принципы в процессе самой деятельности. Главное понятие, поставленное во главу угла академической деятельности — духовная ученость (eruditio) - было весьма неопределенным4. Сами идеологи реформы точно не знали, что должна представлять эта ученость, не могли определить область ее занятий, тем более указать пути ее достижения. Было ясно лишь то, что основу этой «учености» составляет богословие, но ограничивается ли этим круг духовных наук? Если же в духовной школе и после преобразования будут присутствовать науки небогословские, то каков должен быть их статус и подлежат ли они научной разработке? За новизну понятий и неопределенность идей пришлось расплачиваться: 1) непомерно тяжелыми учебными программами, в которые старались включить максимум знаний по всем преподаваемым предметам; 2) спецификой «духовного преподавания», понимаемой то в духе мистицизма, то, напротив, в духе светского универсализма; 3) зависимостью от иноконфессио- нальных научных и учебных систем, языка, терминологии, традиций, 4) опытами — не всегда безопасными и удачными - привлечения студентов академий к переводам, общению с представителями иных конфессий, первым попыткам научной деятельности.
Святитель Филарет (Дроздов) не имел отношения к разработке проекта духовно-учебной реформы, составленного в 1808 г., попав в столичный духовно-учебный круговорот в начале 1809 г. Но именно он имел в этой реформе «ключевое» значение, ибо не только довел начатую реформу до конца, но придал ей некоторые новые черты, уточнил смысл заявленных принципов, наполнил содержанием сконструированные формы. Его вклад в редакцию Уставов духовных школ 1814 г. и их
4 РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 1 об.
3 4 8
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
реализацию был столь значителен, что саму реформу 1808- 1814 гг. часто называли и называют «филаретовской».
Пробыв менее года в должности преподавателя философии и инспектора столичной семинарии, иеромонах Филарет в феврале 1810 г. был перемещен в СПбДА — первую, преобразованную по новому Уставу - бакалавром богословия'’. Ему предлагалось сосредоточиться на преподавании церковной истории. Предмет был проблемным: и по разнообразию содержания — в него входила и библейская история, и церковная история в современном смысле, - и по «граничному» положению — поручалась она бакалавру богословских наук, но не всегда просто отделялась от класса исторических наук, - и по отсутствию пособий, годных в качестве «классических».
Вскоре дело осложнилось включением в состав церковной истории церковных древностей'1. В краткие сроки иеромонахом 5 6
5 Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885-1888 (Далее: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений). Т. I. С. 24-26.
6 Под «церковными древностями» понимались церковные памятники в широком смысле слова, то есть все, что имело отношение к жизни Церкви, но вышло из употребления или существовало в измененном виде (в том числе археологические памятники, предметы церковного искусства, обряды и элементы богослужения). О начале XIX в. на Западе изучение этих памятников велось довольно активно, как в среде католических, так и протестантских ученых. Но в научном отношении эта область исследований не была четко определена: ни в отношении круга изучаемых источников и их хронологических границ, ни в отношении методов, понятий и подходов. Не было даже четкого названия («христианские древности», «церковные древности», «христианская археология», «церковная археология»). В России были собиратели церковных памятников, а в конце XVIII в. даже появились описания святынь и церковных памятников в виде путеводителей по русским городам ( Максимович Л. А. Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским: В 4 ч. М., 1792-1793; Ильинский Н. С. Историческое описание города Пскова и его древнейших пригородов. СПб., 1795 и др.). Шагом вперед стали работы
349
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Филаретом была составлена учебная программа по церковной истории и церковным древностям, с необходимыми комментариями7 . Это была первая отечественная учебная программа по церковным древностям, при этом их соединение в одну кафедру с церковной историей определило и значение предмета, и метод изложения — исторический. По крайней мере, иеромонах Филарет формулировал в своей программе: «сии предметы граничат с церковною историей, но, проходя широким путем, она не имеет времени сходить на сии стези»8.
епископа Евгения (Болховитинова) «Исторические разговоры о древностях Великого Н овгорода» (М ., 1808) и архимандрита Амвросия (Орнатского) «Сокровище российских древностей» (журн. Н. И. Новикова (1770), опубл. без указ, авт.; факс. изд. М., 1986). Одной из первых попыток написать церковно-археологический обзор стала работа Г. Успенского «Опыт повествования о древностях русских» (Харьков, 1811). Н о научных подходов к изучению этих памятников выработано не было, тем более, трудно было изучать недоступные в России христианские памятники ранних веков. В 1809 г., по предложению М. М. Сперанского, на кафедру еврейского языка был приглашен из Львова известный профессор Игнац-Аврелий Фесслер. Знаток восточных языков, философии, ветхозаветной герменевтики, при этом человек сложной судьбы: в его жизни были орден капуцинов, католичество, лютеранство, масонство. Профессор Фесслер, по демонстрации своей учености, получил для преподавания, в придачу к еврейскому языку, и церковные древности, а также кафедру философии. Однако весной 1810 г. конспекты профессора Фесслера, проверенные Комиссией духовных училищ, получили жесткую критику члена Комиссии архиепископа Феофилакта (Русанова). Профессор Ф есслер был обвинен в рационализме, пантеизме, идеализме, мистицизме и — одновременно — атеизме (в его лекциях было обнаружено высказывание, что Иисус Христос есть не более как величайший философ). В конспекте иностранного знатока по древностям Восточной Церкви было отмечено, что православное богослужение состоит из двух элементов — поэтического и драматического. После таких заявлений предмет требовал особенно тщательного продумывания при полном отсутствии опыта его преподавания. См.: Горский А. В., прот. Дневник. М., 1885. С. 91-92 .
7 Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. I. С. 26-36.кТам же. С. 30.
350
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
Эта работа имела еще одно — более важное — следствие. Неопределенность структуры духовного образования и места в ней каждого предмета побудила иеромонаха Филарета задуматься не только над местом и значением преподаваемой им науки в богословском образовании, но и о соотношении разных составляющих этого образования, о месте и значении богословских и небогословских наук в духовной школе.
К этим же размышлениям побудило святителя еще одно событие 1810 г. — разработка и введение первой академической «специализации». Она состояла в разделении преподаваемых предметов на основные, «коренные», и второстепенные, вспомогательные, и разделении последних на две группы, предоставляемые выбору студентов — историческую и физико-математическую. В этом процессе иеромонах Филарет отстоял статус церковной истории как науки основной, «коренной», хотя изначально ее собирались определить в науки вспомогательные для богословия9. В официальные документы вошло обоснование, выдвинутое святителем: «история церковная принадлежит непосредственно к наукам богословским»"'.
Через два года архимандрит Филарет был поставлен перед необходимостью определить богословскую составляющую высшего духовного образования. В 1812 г. он стал ректором СПбДА, профессором класса богословских наук и активным деятелем — сначала неофициальным, а затем и официальным — Комиссии духовных училищ (далее — КДУ). Он получил уникальную возможность, с одной стороны, участвовать в обсуждении и решении духовно-учебных дел на высшем уровне, с другой стороны, реализовывать эти решения в деятельности своей Академии, видеть практические плоды и промахи, анализировать их и использовать этот опыт при новых обсуждениях. Ни структура, ни содержание, ни, тем более, методология отечественного богословия не были в те годы достаточно определены, и среди членов КДУ и преподавательской корпорации 11
11 РГИА. Ф. 802. On. 1. Д. 265. 1810 г. Л. 34 об., 38, 59-60 об. "'Там же. Л. 59 об.
3 5 1
н . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
СПбДА проявилось серьезное различие в понимании того, что есть богословская наука и высшее духовное образование. Поэтому взгляды ректора единственной академии, действующей по новому Уставу, имели особое значение, как и его умение, оперативно решая возникающие ситуации, замечать проявление общих проблем духовной школы.
На исходе обучения первого курса преобразованной СПбДА (в 1814 г.) святитель Филарет попытался сформулировать для себя и для окончательного варианта Устава духовных училищ некоторые принципы духовного образования и богословской науки, как он понимал их на тот момент. Отчасти эти взгляды легли в основу его сочинения «Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах»11, отчасти отразились в окончательной редакции Устава. Выделим несколько главных положений.
1) Главная цель духовных академий, при всем обилии и разнообразии решаемых ими задач, — высшее богословское образование. А это значит, что несомненен примат наук богослов- 11
11 Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах. СПб. , 1814. Работа опубликована также: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. I. С. 123-151.
Это и было тем конспектом по богословским наукам, который должен был представить в КДУ архимандрит Филарет как ректор и профессор Академии. Труд был признан КДУ «полезным для сведения и некоторого руководства в преподавании православного богословия в духовных училищах вообще», отпечатан в шестистах экземплярах и разослан во все преобразованны е духовные школы Санкт-Петербургского и Московского учебных округов. «Обозрение богословских наук» — это учебная программа, состоящая из двух частей. В первой части излагается структура богословия (порядок происхождения того или иного вида богословия и их зависимость друг от друга) и последовательность изучения его частей. Во второй части изложено само содержание различных частей богословия, методы и практические указания для их преподавания и изучения, указывается вспомогательная литература для изучения каждого вида богословия (интересно, что среди указанной литературы первое место занимает иностранная, затем — святоотеческие труды и наконец русская).
352
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
ских. Такое утверждение уже прозвучало в 1810 г., при разделении наук на коренные и вспомогательные, однако реализовать на практике это утверждение было трудно, ибо духовные академии вынуждены были стать высшим педагогическим институтом по широкому спектру наук. Обучать первый курс преобразованной Петербургской академии были приглашены лучшие специалисты в своих областях. Естественно, они старались передать студентам интерес и любовь к своему предмету и показать его важность, красоту, и, главное, подготовить профессоров по нему. Недаром профессор математики академикС. Е. Гурьев отказался сокращать часы по математике, аргументируя это тем, что наука сложная, и если он взялся подготовить профессоров по ней, то он не может приносить такие жертвы12. Студенты благодарно ответили на старание профессоров, увлеченно занимаясь не только богословием, но и другими науками академического курса.
Интересно и другое: в проекте Устава духовных училищ была упомянута возможность давать академическую степень магистра не только богословия, но тех из общеобязательных наук, по которым студенты, не достигшие отличных успехов в богословии, заняли первые места. Это магистерство ниже, чем богословское, но все же — магистерство (§ 397, п. е). Подобная широта была связана с начальной идеей об Академии наук «духовному званию нужных», высказанной в проекте реформы. Однако святитель Филарет при выпуске первого академического курса строго установил: не показавшие в богословии довольных успехов, даже при отличных результатах по прочим наукам, не должны получать не только степени магистра, но и кандидата богословия, а выпускаться в звании действительного студента. Студенты, непомерно увлекшиеся математикой, были выпущены из академии в звании студента, без всякой
12 РГИА. Ф. 802. On. 1. Д. 265. Л. 62-63 об. Гурьев Семен Емельянович (1766-1813) — русский математик и механик, академик Петербургской АН (1798), Российской АН (1800). Труды по геометрии, математическому анализу, механике.
3 5 3
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
{
ученой степени'3. «Бесстепенной исход» для «чересчур усердных математиков» означал, что они неверно поняли задачу своего учения. Святитель Филарет всегда совершенно определенно выражал студентам свой взгляд на задачи академического образования: «нужно единство и усиление направления, соответственного их назначению и достоинству академии»13 14, а назначение это — духовное служение и богословская образованность. Все прочие науки академического курса должны быть поставлены так, чтобы и студентам ясна была их вспомогательная роль: либо эти науки лишь оснащают орудиями для богословского познания (языкознание, словесность, гражданская история), либо дают «естественное познание о Боге», которым следует утверждать веру в свет Откровения, помня при этом, что это лишь «светильник при солнце» Откровенного Богословия15. Таким образом, каждый студент должен был понимать, что он получает по преимуществу богословское образование, но при этом быть готовым преподавать, причем на хорошем уровне, любые науки духовно-учебного курса, в том числе и математику, и словесность, и гражданскую историю. Но такая гармония давалась с трудом, и проблема небогословских предметов в высшей духовной школе становится актуальной на ближайшее столетие.
13 Эти 11 «оставленных в звании студента» вообще не приводятся в списке выпускников у И. А. Чистовича, но в архивных документах они есть: РГИА. Ф. 802. On. 1. Д. 1171. 1814 г. Об отчете Комитета для испытания студентов и о разрядном списке первого выпуска Академии. Приводит их и историк СПбДА: Родосский А. Списки первых XXVII курсов Санкт-Петербургской духовной академии. СПб., 1907. С. X X X III-X X X IV . Но усердие этих выпускников не прошло бесследно: один из них — А. Е. Покровский — был затем, правда, недолго, профессором математики в МДА, другой — Я. Магницкий — стал известным автором учебников по арифметике.
14 Речь святителя Филарета приведена у И. А. Чистовича: Чистович И. А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние тридцать лет. 1858-1888. СПб., 1889. С. 25-26.
15 Обозрение богословских наук в отношении преподавания их в высших духовных училищах. С П б ., 1814. С. 2.
3 5 4
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
Заметим, что святитель Филарет отнюдь не умалял значения преподаваемых в академии словесности или математики. Напротив, часто в ревизорских отчетах святитель отмечал, как лучших, профессоров и бакалавров именно этих наук"’. Но они должны были правильно понимать задачи высшей богословской школы, главная из которых — ее целостность и единая устремленность к вершинам богословского ведения.
Учебный курс при окончательной редакции Устава в 1814 г. был сокращен до четырех лет и получил более четкую структуру: два двухгодичных курса, первый — философский - по преимуществу был ориентирован на общее образование, второй был богословским. Некоторые историки академий видели в этом влияние древних богословских училищ: первый круг обучения — огласительный, общий, второй — для посвященных — ведет познающего к глубинным тайнам богословского знания16 17 *. Эта разделенность философского и богословского курсов отстаивалась как наилучшая ректором МДА протоиереем Александром Горским и при обсуждениях проекта Устава 1869 г.1* Но постановка занятий в философском классе вызывала вопрос: должно ли превратить его лишь в педагогический класс по небогословским предметам или ставить более серьезную задачу — самостоятельного развития наук на уровне высшего учебного заведения. Первое было недостаточно для академических наук, второе плохо вписывалось в академический режим. Кроме того, при развитии богословия возникли новые проблемы: богословские науки — сложные и основные для духовного образо-
16 В отчете о каждой ревизии МДА, проводимой каждые /та года, и почти всегда — архимандритом, епископом Филаретом — отмечаются с самых лучших сторон преподаватель философии протоиерей Ф. А. Голубинский и преподаватель математики протоиерей П. С. Де- лицын. См.: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. II. С. 54- 55; Т. III. С. 418-419 и др.
17 Соллертинский С. А. , прот. Опыт исторической записки о состоянии Санкт-Петербургской Духовной Академии по случаю столетнего ее юбилея. 1809-1909. СПб., 1910. С. 6.
w Горский А. В., прот. Дневник. С. 185.
355
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
вания — «не умещались» в одном отделении. Особенно это стало зам етно при диф ф еренциации богословского курса и вы делении в виде особых предметов канонического права, патристики, пастырского богословия, гомилетики, развитии церковной истории19. В младшем же отделении студенты увлекались высотами философии, изяществом словесности или глубинами математики, иногда в ущерб своему основному предназначению20 .
2) Формирование структуры богословского курса. В «Обозрении богословских наук» святитель Филарет (в 1814 г. - архимандрит) рассматривал старые богословские системы, изучаемые в дореформенных академиях, и «строение видов и частей Богословия» (Architectonica Theologica). Система святителя Ф иларета практически не отличалась от богословских курсов, предложенных Комитетом 1807-1808 гг. или проектом Устава духовных академий, составленным М. М. Сперанским в 1809 г.21 Это естественно, ибо такую структуру имели курсы
19 Перенасыщенность старшего — богословского — отделения побуждала руководство академий, начиная с в 1850-х гг., переносить тот или иной богословский предмет в младшее отделение («Введение в богословие», «Патристику»), См.: Чистович И. А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние тридцать лет. 1858-1888. СПб., 1889. С. 47, 73; Родосский А. Списки первых XXVII курсов С.-Петербургской духовной академии. СПб., 1907. С. XVIII.
20 Если при этом они были успешны в старшем отделении в богословских науках и сохраняли правильный взгляд на истинные задачи духовного образования, их углубленные познания в небогословских науках использовали, определяя на соответствующие предметы в академии или семинарии. Если же увлечение заходило чересчур далеко и нарушало иерархию наук, установленную в духовной школе, с этим боролись: беседами, объяснениями, а к не освоившим на должном уровне богословские науки применяли метод 1814 г. — выпускали из академии в звании действительного студента.
21 Начертание правил о поправлении духовных училищ. § 83. «Учение богословское во всех его отделениях» состояло из догматического, нравственного и полемического богословия, герменевтики и гомилетики, канонического и церковного права Греко-Российской Церкви. См.: РГИА. Ф. 802. Оп. 17. Д. 1. Л. 55.
3 5 6
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
богословия лучших российских духовных школ к началу XIX в. Однако святитель Филарет постарался проанализировать эту структуру (Architectonica Theologica), показать логику выделения отдельных частей, их взаимосвязь, намечая тем самым пути дальнейшего изучения и развития богословской науки.
В едином курсе академического богословия святитель Филарет выделяет семь разделов: чтение Священного Писания, богословие толковательное (Herm eneutica), созерцательное (Dogmatica), деятельное или нравственное (Practica), обличительное (Polemica), собеседовательное (Homiletica), и правительственное (Jus Canonicum)22. Святитель Филарет рассматривает историческое богословие как альтернативное изложение слова о Боге, но сам предпочитает изложение систематическое. В дальнейшем в духовных академиях историческое изложение получило большую признательность. Выделим основные положения системы преподавания, предложенной в «Обозрении».
а) Важность чтения Священного Писания и понимания его истинного смысла, по оригинальному изложению и лучшим изъяснениям святых отцов. Поэтому: Священное Писание
22 Совершительное богословие разделяется на толковательное, составительное и применительное. Составительное богословие может следовать или хронологическому порядку, излагая, каким образом открывалось единое слово о Боге (богословие историческое), тогда его можно разделить на богословие пророческое, преобразовательное, символическое и отеческое; или излагать истинное слово о Боге «в разделении и союзе частных истин» (богословие учительное всеобщее). Святитель Филарет берет за основу изложения богословие учительное всеобщее, то есть не исторический, а систематический вариант, и разделяет Богословие учительное всеобщее на Положительное (Theologia Positiva) и Отрицательное, или Обличительное (Negativa, alias Polemica). Положительно слово о Боге обращено к уму и к воле, этому соответствует Богословие Созерцательное (Dogmatica) и Деятельное (Practica). Богословие применительное имеет в виду общество богопочитателей, как учеников, как членов единого тела Церкви, как духовную паству — этим занимается Богословие собеседовательное (Homiletica), правительственное, или право каноническое (Jus Canonicum) и Богословие пастырское (Theologia Pasteralis).
3 5 7
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
должно преподаваться на протяжении всех четырех академических лет, и читать следует подлинники, то есть еврейский и греческий тексты.
б) Догматическое богословие — положительное — должно быть главной наукой. Полемическая часть, хотя и нужна студентам, не должна обращать на себя преимущественного внимания: «Слово Божие не состоит в прениях и умствованиях человеческих».
в) Нравственная часть — деятельное богословие, — напротив, должна сколь можно более быть усилена, в том числе и в практическом направлении: составлении студентами рассуждений на данные им темы.
г) Каноническое право Православной Церкви требует особого внимания, причем не только практического, но и теоретического, ибо менее всего разработано23.
д) Еще раз подчеркнута принадлежность церковной истории и церковной словесности к богословским наукам.
Заметим, что богословие отеческое (Patristica) даже святитель Филарет, при всем понимании значения святоотеческого наследия и уважении к нему, не включает в общий курс Богословия в качестве самостоятельной составляющей: это лишь один из разделов церковных древностей. Эта традиция очень долго препятствовала твердой постановке патрологии в русских духовных школах, даже при выделении ее в особый предмет.
3) Наконец, святитель Филарет дает несколько правил построения обучения в высшей духовной школе:
а) образ преподавания должен быть не только излагатель- ный, но и собеседовательный,
б) слушающих следует вводить самих в исследование и суждение вопроса прежде «открытия» верного мнения,
в) «неослабно» требовать на уроках отчетов, причем требовать не просто ответа на вопрос, но показывать отношение этого вопроса к «целости науки»,
2:1 Устав духовных училищ 1809 г. Часть I. § 137-142: РГИА. ф . 802. Оп. 16. Д. 1. Л. 6 3 -64 об.
3 5 8
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
г) и главное — предаться самому истине всем духом и жизнью, взывая во всяком недоумении и познании к Духу Истины21.
Святитель Филарет, оценивая значение Устава 1814 г. для русского богословского образования, через 13 лет после его окончательного утверждения, выделял основное отличие до- и послереформенного его состояния: «Богословия была преподаваема только догматическая, по методе слишком школьной. Отсюда знание слишком сухое и холодное, недостаток деятельной назидательности, принужденный тон и бесплодность поучений... При преобразовании 1814 г. введено преподавание деятельной богословии; таким образом, богословское учение сделалось ближе к употреблению в жизни»24 25 26. Как понимал святитель «деятельную богословию» — об этом еще будет сказано.
2. Святитель Филарет о методах тучного и учебного богословия. В области методической творчество академических богословов в первой половине XIX в. было направлено, во-первых, на преодоление прямой зависимости от западного — ино- конфессионального — богословия; во-вторых, на придание богословию «жизненности» и доступности, то есть на освобождение схоластических уз. Такие попытки предпринимались и богословами XVIII в. — так, митрополит Платон (Левшин) в своей «Сокращенной богословии» сделал шаг к доступности, но пришлось пожертвовать научностью211. О «научности»
24 Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. I. С. 150-151.25 Там же. Т. II. С. 208.26 Платон (Левшин), митр. Православное учение, или сокращен
ная христианская Богословия, с прибавлением молитв и рассуждения о Мелхиседеке. СПб, 1765. Митрополит Платой составил эту «Богословию», будучи законоучителем наследника Павла Петровича в 1763-1765 гг. В дальнейшем он рекомендован свой труд в качестве основы богословских лекций в Троицкой семинарии и Московской академии, но с двумя оговорками: 1) «Богословия» должна быть переведена на латинский язык, дабы студенты не отпадали от международного богословского языка науки; 2) преподаватель богословия должен добавлять к этой основе «то, что за нужное для студентов почтено будет», то есть расширять и углублять те или иные разделы.См.: ИР НБУВ. Ф. 312. Д. 461П/175С. Л. 2.
3 5 9
Н. Ю . С ухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
богословия говорили много, но единого представления об этом не бы ло — кто-то связывал ее со старым западным богословием, кто-то пытался встать на почву науки «настоящей», вводя историко-критические и филолого-критические методы.
Взгляды святителя Ф иларета в этих вопросах были не так просты. С одной стороны, он трезво сознавал необходимость исп ользован и я западны х богословских учебников и ученых сочинений и в своем «Обозрении богословских наук» рекомендовал по каждой части богословия католические и протестантские сочинения. Святитель понимал также, что труды русских богословов начального периода неизбежно будут представлять собой лиш ь переосмысление трудов западных ученых в православном духе. Знаменитое «Начертание церковно-библейской и стори и »27, составленное святителем Филаретом еще в бытность его ректором СПбДА, обвиняли в сильной зависимости от церковно-исторического сочинения лютеранского богослова Буддеуса (или Буддея)28, называли даже кратким его пересказом.
27 Н ачертание церковно-библейской истории, в пользу юношества, обучаю щ егося в духовны х училищах. Издание второе, исправленное. С П б., 1819.
28 П о словам Н. И. Барсова, «Библейская история» святителя Ф иларета есть почти перевод, слегка обработанный, «Historia eccle- siastica V eteris Testam enti (H alae Magdeburgicae, 1709, 1715, 1720)» Б уддея. А. Смирнов, настаивая на самостоятельной научной значим ости труда святителя Филарета, считал, что переделка была более серьезной: два больш их тома Ветхозаветной истории Буддея были переделаны в небольш ую книгу, вместившую всю Ветхозаветную истории и И сторию I в. Церкви Новозаветной. Хотя основной материал и терминологический аппарат был взят из сочинения Буддея. См.: Б арсов Н. И. Протоиерей Герасм Петрович Павский: Очерк его жизни по новым материалам / / PC. 1880. Т. XXVII. Кн. 1 (далее: Барсов. Указ, соч.) С. 122; Смирнов А. Митрополит Филарет как автор начертания церковно-библейской истории / / Сборник, изданный Обществом лю бителей духовного просвещения по случаю празднования столетнего юбилея со дня рождения Филарета, митрополита Московского. Т. II. М„ 1883. С. 128-129. Joh.-Franz Buddeus (1667-1729)- проф ессор философии в Галле, затем профессор богословия в Иене.
360
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух, школа XIX в.: новизна и традиция
Но в 1828 г. Святитель довольно резко оценил статью своего бывшего ученика по СПбДА о. Герасима Павского, напечатанную в «Христианском чтении»: «Мне кажется, что издатели немецкое кушанье, не разжевав, глотают»29. И дело, видимо, не только в различии иностранных авторов, которыми пользовались святитель Филарет и о. Герасим, как предполагают некоторые исследователи30 *. Главная беда, по мнению святителя, была в том, что «глотают» «не разжевав». При этом в отношении о. Герасима Павского святитель чувствовал особую и непосредственную ответственность: те промахи, которые он замечал в своих бывших учениках, ему следовало выправлять. При этом святитель Филарет всегда подчеркивал, что перспектива русского богословия — в преодолении этой зависимости, создании собственных православных богословских систем, русской научной богословской терминологии, оснащении самостоятельными учебными пособиями. Попытка Устава 1814 г. активизировать богословскую мысль «практическим» богословием приводила к изменениям, но очень медленно".
В 1820-1830-е гг. перед высшими духовными школами встали два насущных вопроса: 1) на каком языке преподавать богословие, 2) по чему преподавать, то есть используя западные «классические» книги или собственные записки. Если лекции по Священному Писанию читал по-русски еще сам святитель Филарет в СПбДА в 1812-1819 гг., а затем и его ученики, то в догматике долго не оставляли латыни. В СПбДА с 1819 г. ректор архим. Григорий (Постников), сменивший на этом посту святителя Филарета, повел активную борьбу за преподавание
29 Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1869. Т. I. С. 57.
10 Объяснительная статья Никольского Н. К. к изданию «Христианского учения в краткой системе» протоиерея. Г. П. Павского. СПб., 1909. С. 145.
" Рассуждение святителя Филарета (Дроздова) в письме к графу В. П. Кочубею от 11 декабря 1827 г. о введении «деятельного богословия», как отличительной черте реформы 1808-1814 гг. ( Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. II. С. 208-209).
3 6 1
Я . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
богословия на русском языке, причем особое значение он придавал самостоятельно составленным лекциям, более живым и понятным. Архимандрита Григория обвиняли в упрощении академического богословия. Но святитель Филарет при ревизии СПбДА в 1819 г. высоко оценил рукописные лекции ректора по разным разделам богословия и рекомендовал их, при соответствующей обработке, издать32. Латынь удалось существенно потеснить: в заседании КДУ 30 августа того же 1819 г., после одобрительного отзыва архиепископа Филарета (Дроздова), академическим Правлениям было разрешено позволять преподавание богословия в духовных академиях и на латыни, и на российском языке, по усмотрению ректора33.
Однако в 1825 г. ситуация неожиданно изменилась: было принято решение о возврате к строгой латыни в преподавании богословия и обязательным латинским «классическим книгам», с запрещением пользоваться преподавателям самостоятельными записками. Разумеется, это событие неотделимо от всей непростой ситуации середины 1820-х гг.: падением Двойного министерства, критикой Библейского общества34. Но был здесь и
32 Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. II. С. 4 -6 .33 Там же. С. 5 -7 .34 Двойное министерство (Министерство духовных дел и народ
ного просвещения) было учреждено 24 октября 1817 г. и соединило в себе управление и делопроизводство всех религий, которые исповедовали народы Российской империи (христианства — православия, католичества, греко-униатства, григориано-армянского вероисповедания, протестантства, - мусульманства, иудаизма, ламаизма), а также управление народным образованием. Министром был назначен князь А. Н. Голицын. К министерству было неоднозначное отношение и государственной власти, и церковной власти, и православного епископата. Упразднено 15 мая 1824 г., в связи с кампанией против А. Н. Голицына. Российское библейское общество (РБО ) основано в Петербурге по указу императора Александра I от 6 декабря 1812г.(до 1814г.назы- валось: Библейское общество). Начальные задачи — распространение изданий Священного Писания, доступных неимущим, и перевод его на языки народов России — в 1816 г. дополнились задачей перевода Писания на русский язык (были переведены все книги Нового Завета '
3 6 2
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
специфический момент, относящийся непосредственно к учебному богословию. Один из инициаторов, член КДУ Киевский митр. Евгений (Болховитинов) сформулировал свою позицию наиболее четко. Он считал удобнейшим преподавание по старым классическим книгам по трем причинам: 1) записи лекций отягощают студентов; 2) составление лекций отнимает у преподавателей время, которое можно употребить на занятие наукой; 3) чаще всего конспекты начинающих преподавателей примитивны и однобоки — лишь в дальнейшем, при усиленной разработке науки, отработав свое понимание и методологию на конкретных собственных исследованиях, они могут приступать к созданию серьезных научных систем и полноценных учебно-богословских курсов. Поэтому молодые силы членов преподавательских корпораций следует направить на самостоятельные научные исследования, а когда они будут способны определить точное место и значение каждого вопроса в общей системе богословского знания, они смогут учить студентов по новым построенным системам. Школа должна быть ограждена от случайностей, непродуманных до конца и непроверенных временем выводов35.
Но святитель Филарет этой позиции не разделял. По его мнению, «начался обратный ход, от общевразумительного учения к схоластицизму»36, и он не оставил своего мнения о преподавательском творчестве. В 1826 г., через год после запретительного указа, составляя отчет о ревизии МДА, проведенной им по поручению Синода, он особо отметил: «богословие догматическое и преподано, и в конспекте означено, и на испытании представлено, сначала на русском языке, а далее на латинском. Предложенное на русском преимуществует порядком и ясностию изложения. Предложенное на латинском, вероятно,
и 8 первых книг Ветхого Завета). Перевод Писания иа русский язык был прекращен в 1824 г., РБО упразднено 12 апреля 1826 г.
1,5Малышевский И. Историческая записка о состоянии Киевской Духовной Академии в истекшее пятидесятилетие / / ТКДА. 1869. № 11-12 (далее: Малышевский. Указ. соч). С. 90-93.
ж Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. И. С. 209-210.
3 6 3
Я . Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
по действию классической книги, более ознаменовано сухим и маловразумительным языком школы, нежели силою истины общевразумительной и общеполезной»37. Но, настаивая на необходимости преподавания богословия на отечественном языке, для философии Святитель считал не только допустимой, но и наиболее приемлемой латынь38.
Новое латинское пленение русского богословия было недолгим и не строгим: оно нарушалось и сразу после 1825 г., а уже в начале 1830-х гг. во всех академиях богословие читали в основном на русском языке. Но, видимо, в силу привычки и для успокоения ревизоров, конспекты к экзаменам по богословским наукам вплоть до конца 1830-х гг. представлялись латинские, даже таким ярким и самостоятельным лектором, как ректор КДА архим. Иннокентий (Борисов), знаменитый будущий архиепископ Херсонский39. В 1837 г. КДУ было дано официальное разрешение читать лекции по своим конспектам и на русском языке.
Святитель Филарет всячески поощрял в преподавателях не только самостоятельное составление «записок», но и доведение их путем постоянного совершенствования до уровня, достойного печати. Однако здесь Святитель был строг: многим казалось, что слишком. Через его строгую цензуру могли пробиться немногие. Приведем примеры.
В 1834 г. Святителя попросили высказать свое мнение об учебных богословских книгах, написанных протоиереем Герасимом Павским для Наследника престола, законоучителем которого был о. Герасим40. Оставив в стороне интриги, сопровож-
37 Там же. С. 141-142.зкТам же. С. 143.39 Малышевский. Указ. соч. С. 95.40 «Христианское учение в краткой системе» и «Начертание цер
ковной истории». Павский Герасим Петрович (1787-1863), протоиерей, богослов, филолог, гебраист. Первый магистр I курса преобразованной С П бД А , бакалавр, затем проф ессор еврейского языка (1 8 1 4 -1 8 3 5 ) , первый профессор богословия Санкт-Петербургского университета, законоучитель наследника престола (1826-1835).
364
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
давшие это событие, участие в нем Двора, митрополита Серафима (Глаголевского), князя А. Н. Голицына и других, популярный в свое время вопрос о противопоставлении монашеского и не-монашеского круга церковных деятелей11, обратимся к богословской полемике. Святитель Филарет нашел в сочинениях много опасных недочетов, нечеткость определений, неполноту11 12. Протоиерей Герасим говорил, что он не собирался дублировать «Катехизис», но пытался приспособить догматическое учение к детскому сознанию, при взрослении которого будет пополняться и догматическое знание11. Именно так он понимал «жизненность» богословия, его доступность и близость. Но святитель возражал: неполнота и нечеткость в догматическом научении, тем более ребенка, грозит ущербным сознанием, искажением мировоззрения, религиозного видения. А ущербные взгляды в богословской области нередко приводили в истории Церкви к ересям. Для протоиерея Герасима это окончилось удалением от Двора.
В 1844 г. графом Протасовым были посланы святителю
11 Сборник императорского Русского исторического общества. Т. 113. 1902. С. 138; Никольский Н. К. Вступительная статья к изданию «Христианского учения в краткой системе» протоиерея. Г. П. Павского. СПб., 1909. С. 115.
12 Например: протоиерей Герасим определял «человека благочестивого, религиозного, богобоязненного» как «человека, одушевленного чувствами веры, надежды и любви и показывающего стремление к святости». Святитель возражал: тогда раскольники, сжигающие себя, — именно такие благочестивые и богобоязненные. О. Герасим относил к числу «язычников» «все... народы, непросвещенные свыше». Святитель возражал: не все, магометане — не язычники. Более веские обвинения — в неполноте изложения христианского учения. Про Иисуса Христа «не сказано, что Он Искупитель и Спаситель грешных», про пророков — что они «предвещали о рождении Иисуса Христа от Девы и о Его спасительных страданиях». Не дано определенного учения о грехопадении. Упомянуто лишь «одно имя таинств», но ничего не сказано ни об одном из них. См.: Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. II. С. 350-358.
« Цит. по: Барсов. Указ. соч. / / PC. 1880. Т. XXVII. Кн. 2. С. 707.
3 6 5
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Ф иларету «конспекты» по догматическому богословию бакалавра СПбДА иеромонаха Макария (Булгакова). Святитель не одобрил ни структуру курса, ни терминологию44. Было отмечено и латинское влияние — например, в настойчивом разделении «формы» и «материи» в таинствах. Но иеромонах Макарий был из упорных «ревнителей». После критики он основательно перестроил свой курс, стараясь довести его до возможного совершенства. В 1847 г. он издал свои лекции по этому курсу под заглавием «Введение в православное богословие», за которые получил степень доктора богословия.
В 1830-е гг. Синод неоднократно возлагал на СПбДА и МДА поручения по переводу святоотеческих творений и пересмотру имеющихся переводов. В процессе работы в МДА оформилась мысль об издании непрерывной серии «Творений святых отцов в русском переводе», и в 1835 г. проект был представлен сятителю Филарету. Однако около шести лет святитель не давал одобрительного ответа: «Печатать переводы святых отцов дело весьма хорошее, полезное и достойное всякого поощрения. Но искрошить каждого святого отца на части, потом смешать всех и таким образом печатать — не знаю, похвалите ли это и вы, хотя таков почти весь ваш проект». Наконец, переработанный проект был представлен в Синод, в начале 1841 г. было разрешено начать подготовку, и с 1843 г. издание серии началось с выпуска трудов святителя Григория Богослова. Не менее интересно было новое начинание своими «Прибавлениями», в которых печатались оригинальные труды академических преподавателей научно-богословского характера45.
44 В петербургском курсе на первом месте, например, стоял раздел «О святой вере и Церкви вообще», а свт. Филарет считал наилучшим и самым естественным порядок Символа веры, ибо «Вселенский символ есть не иное что, как сокращенная система догматического богословия», «система вселенских отцов», «апостольского предания», а не западной школы с ее поздним мудрованием. Кроме того, как можно читать о Церкви Христовой, не изложив сперва учение о Христе Боге.
45 Корсунский И. К истории изучения греческого языка и его словесности в Московской Духовной Академии. Сергиев Посад, 1894.
3 6 6
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух, школа XIX в.: новизна и традиция
Столь же строго относился святитель Филарет и к прочим изданиям: академическим переводам творений святых отцов, магистерским сочинениям, представляемым в Синод, любым другим научным и учебным сочинениям, поданным ему на отзыв46. Плоды академической науки, предъявляемые на суд общества, должны быть, по возможности, безупречны. Это необходимо и для доброй славы академий, и для сохранения общества от соблазнов. Так же критически святитель Филарет относился и к своим сочинениям, охотно представляя их на суд других. «Катехизис», к которому были предъявлены претензии — не только в русском языке библейских цитат, но и в недостаточном внимании к важности Предания — святитель дважды переделывал. Но эту строгость святителя Филарета неоднократно считали одной из причин того, что мало публикуется научных статей и монографий преподавателей и студентов МДА. Иногда — проявлением той общей сдерживающей силы, которая не дает русскому богословию ни свободно развиваться, идти на смелые эксперименты и исследования, ни стать популярным в обществе47.
См. также: Смирнов С. История Московской Духовной Академии, М., 1870 (далее: Смирнов. История МДА). С. 116-120.
Результативность этого начинания побудила ректора СПбДА с 1847 г., архимандрита Евсевия (Орлинского), бывшего перед тем ректором МДА, преобразовать старейший академический журнал «Христианское чтение» по примеру московского, то есть печатать там переводы творений святых отцов и церковных писателей не отрывками, а в цельном виде. См.: Чистович И. А. Санкт-Петербургская духовная академия за последние тридцать лет. 1858-1888. СПб., 1889. С. 68-69.
46 С 1828 г. (VI курс) в МДА были предприняты «опыты» печатания — по решению КДУ и под ответственностью академической Конференции — лучших проповедей и рассуждений богословского и церковно-исторического характера студентов.
47 Барсов Н. И. К биографии Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического (Отношения к Иннокентию митрополита Московского Филарета). / / ХЧ. 1884. Ч. I . № 1-2. С. 188-194; Знаменский П. В. Печальное двадцатипятилетие (со времени смерти о. Феодора) / / ПС. 1896. Т. I. С. 555-562; Сергей Михайлович Соловьев.
3 6 7
Н. Ю . Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
1
О днако мало кто ревновал о русском богословии так, как святи тель Ф иларет. Так, по благословению святителя Филарета, профессор МДА А. В. Горский и ее выпускник К. И. Не- в о с тр у ев осущ естви ли в 1849-1862 гг. научное описание С инодальной библиотеки, давшее направление новым исследованиям , особенно в славянской библеистике. К описанию рукописей Синодальной библиотеки собирались приступить В. М. Ундольский и М. П. Погодин. Но святитель Филарет считал, что описанием церковных памятников и их исследованием полезнее заниматься людям, сведущим «в церковных догматах и законоположениях», «под ближайшим надзором духовного начальства», иначе «употребление древних рукописей, относящ ихся до церковных догматов, церковного законодательства, учения и церковной истории может произвести соблазн и дать пищ у лж еучениям». Церковный же взгляд откроет и внесет новые черты, полезные как для церковной учености, так и для науки в целом48.
Действительно, отношение святителя к научно-богословскому творчеству было не столь просто, и обусловлено это было самой ситуацией, в которой находилась русская богословская наука. С одной стороны, желание быстро поднять богословскую науку на современный европейский уровень делало неизбежным использование западных научных методов и иноконфес-
Н есколько слов для его характеристики / / BE. 1896. № 6. (полный вариант: Записки С. М. Соловьева / / Там же. 1907. № 3-6; См. также: Флоринский Н. И. Филарет, митрополит Московский, и «Записки» о нем С. С о л о в ь е в а // ДЧ. 1896. Ч. 3. С. 582-589; Лебедев А. П. В защиту Ф иларета, митрополита Московского, от нападок историка С. М. Соловьева / / Лебедев А. П. «Великий в малом». Исследования по истории Русской Церкви. СПб., 2005. С. 151-184. Даже почитатель святителя Ф иларета С. К. Смирнов (будущий протоиерей и ректор МДА), перечисляя сочинения преподавателей и студентов МДА, так и не изданны е вследствие критических замечаний митрополита, говорит об этом с печалью. См.: Смирнов. История МДА. С. 216-229.
'ш С обрание мнений. Дополнительный том. С. 277-285. См. также: Горский А. В„ прот. Дневник. С. 78.
368
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух, школа XIX в.: новизна и традиция
сиональных богословских сочинений. С другой стороны, не хватало опыта, чтобы четко отделять конфессиональные особенности, которые могут быть опасны или просто неприемлемы для православного богословия. Не была описана и введена в научный оборот православная источниковая база, славянские и русские источники. Не был разработан самостоятельный богословский понятийный аппарат, терминология. Поэтому попытки отмежеваться от протестантских влияний приводили порой к использованию схем и тенденций католических, и наоборот. Объявленная борьба с влиянием западной схоластики теоретически подразумевала возврат к святоотеческому богословию и введение в оборот святоотеческого наследия. Однако введение святоотеческих текстов в научно-богословский оборот и, тем более, построение самостоятельных богословских теорий в духе святоотеческого предания и православного понимания требовали значительного времени и трудов не одного поколения отечественных богословов.
3. Отношение святителя Филарета к реформам духовной школы. Эпоха преобразований конца 1850-1860-х гг. не могла оставить в стороне и духовно-учебную систему. Новые веяния, охватившие общество, в том числе и церковное, побуждали к пересмотру требований, предъявляемых к духовной школе извне. Научный подъем, охвативший все стороны знания, требовал изменения самих форм его организации — и этот порыв не мог не захватить и богословскую науку. Наконец, сам научноучебный процесс в высшей духовной школе обнаружил весьма серьезные изъяны и поставил проблемы, которые также требовали обсуждения и решения. Было очевидно, что нужны какие- то изменения во всех сторонах духовно-академической жизни, но вставал вопрос о степени их радикальности. Должны ли эти изменения носить характер кардинальной реформы, подобной реформе 1808-1814 гг., или же разумнее было совершенствовать процесс в рамках действующего Устава, подвергнув его допустимой коррекции. Необходимо было каждое реформаторское предложение рассматривать особо, оценивая не только предполагаемую пользу, но и возможную опасность. По мнению
3 6 9
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
святителя Филарета, для изменения духовно-учебных уставов нужны были очень серьезные основания, причем не внешние, а внутренние49. Были ли они?
Все представители духовно-учебной системы были согласны в формулировке главных проблем. Преподаватели и студенты изнемогали под тяжестью многопредметности. В богословской науке отсутствовали серьезные научные исследования практически по всем областям богословия, что приводило к печальному выводу об отсутствии в русской богословской науке и самих специалистов. Многозадачность высшей духовной школы не позволяла ей сосредоточиться на решении своих внутренних учебных и научных проблем, а сильная зависимость от центральных органов и бюрократические проволочки сковывали любые действия. Как решать эти проблемы, прежде всего было предложено высказаться архиереям столичных городов.
В 1857 г. Санкт-Петербургским митрополитом Григорием (Постниковым) была составлена записка о необходимых, на его взгляд, изменениях в духовном образовании. Митрополит Григорий передал свой проект на рассмотрение в Конференцию СПбДА, затем — святителю Филарету, с просьбой сообщить
49 Еще в 1837 г. в проекте министра Н ародного просвещения С. С. Уварова о соединении приходских и уездных духовных училищ со светскими было замечено, что духовные школы являются единственными учреждениями, не испытавшими такое долгое время (с реформы 1 8 0 8 -1 8 1 4 гг.) никаких преобразований, и духовно-учебные уставы обвинены в неподвижности и стереотипности. Святитель Филарет (Д роздов) в своем мнении по поводу предлагаемого проекта высказал сомнение в необходимости частого изменения учебного устава для успеха наук, особенно духовных: «религия вечная, особенно взятая не в приготовительном состоянии, в каком она была во времена Ветхого Завета, но в совершенном раскрытии, в каком она является в Новом Завете, Церковь, основанная на неподвижном камени веры, догмат неизменяемый, не могут ли безвинным образом дать духовному учению и духовно-учебному устройству более постоянства, нежели сколько находит позволительным светский взгляд?» (Собрание мнений. Т. II. С. 388).
3 7 0
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
свое мнение. Московский святитель на некоторые вопросы смотрел иначе, чем его бывший ученик, и составил спой проект. Митрополит Григорий, совместив оба проекта, представил результат 4 марта 1858 г. на рассмотрение Святейшего Синода'1".
Святитель Филарет был против резких преобразований, ибо они надолго выбивали любой процесс, тем более учебный, из рабочего состояния. Он считал, что в организационном отношении достаточно усилить власть епархиальных архиереев на духовно-учебные заведения и уничтожить нововведения, исказившие Устав 1814 г., провести частичную децентрализа- цию, а это не требует глобальной реформы.
В учебной части достаточно: 1) внести некоторые изменения в порядок преподавания наук в академиях, 2) определенным образом подкорректировать содержание и методику преподавания отдельных предметов, 3) придать светским наукам в академиях вид, соответствующий их положению в духовной школе, т.е. привести в соответствие с богословской направленностью образования, 4) усовершенствовать саму академическую систему обучения, как высшею образования, 5) наконец, самое главное, — организовать систему, ведущую к обладанию воспитанниками духовных академий «специальной учено стью», но при этом не приносить в жертву полноценное всестп роннее богословское образование. Как это привести в исполне ние? Многие замечания Святителя повторяли его же указания 1814 г. Это показывало, что задачи, поставленные реформой 1814 г., выполнены не до конца, и есть резерв, который можно использовать и без кардинальных изменений'*2. 50 51 52
50 ГАРФ. Ф . 1099. Оп. 1. Д. 676. Л. 1 14.51 П исьм о митрополита Григория к святителю Филарету от
31.05.1860 / / Прибавления к творениям святых отцов в русском переводе. 1885. Т. I. С. 198.
52 Несмотря на все усилия ( делать богословие «деятельным», оставалась проблема его отвлеченности и теоретичности, в то время как необходимо указывать практические решения ситуаций, «которые могут смущать христиан и затруднять пастырей». Церковному законоведению необходим более пракп/чсский характер. В церковной
371
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
А
Определенную новизну несут предложения по развитию «богословской учености». Преосвященный Григорий предлагал ввести «специализацию» самостоятельных домашних практических занятий студентов — позволить выполнять упражнения и писать сочинения по одному или двум предметам, «к каким больше имеют склонности». Однако святитель Филарет относился к такому предложению более осторожно. Специальные занятия избранными науками можно дозволять лишь избранным, для которых такое углубление имеет смысл, и под строгим контролем преподавателей, иначе это может грозить упадком знания в прочих науках. Более надежным путем к приобретению специальных знаний святитель Филарет считал побуждение наставников академий и семинарий разрабатывать преподаваемые науки в научном и учебном отношении и предоставлении для этой деятельности максимальных возможностей. Именно научное и учебно-методическое совершенствование преподавательской корпорации, специализация профессоров, по мнению святителя, могла привести к положительным сдвигам в академическом образовании и в богословской науке. Научная специализация — удел зрелого ума, сформировавше-
истории необходимо написать хороший учебник по истинным источникам. В философском классе наук надо изменить состав: если при введении Устава 1814 г. предлагалось более внимания уделять истории философии, нежели систематическому ее изложению, то теперь необходимо вновь ввести в академические программы метафизику, ибо «история новейших философских систем не безопасна для молодых умов, если не будут предохранены систематическим изложением твердых начал здравой философии». Замечания о характере преподавания в академиях не несут ничего принципиально нового: все было высказано в той или иной степени в документах 1808-1814 гг. Но реальность отрезвляла: вновь надо было говорить о вреде буквального изучения предметов, о необходимости более полагаться не на память студентов, а на разумение, о том, что упор надо делать не на количество заученного, а на творческое саморазвитие. Такой методики, по мнению святителя Филарета, академиям так и не удалось выработать в должном виде. См.: ГАРФ. Ф. 1099. On. 1. Д. 676. Л. 15,16,21; РГИА. Ф. 1661. On. 1. Д. 705. Л. 4 -5 .
J 372
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
гося в полноценном богословском познании, способного охватить единство богословия как науки и оценить специфику каждой его области, разработать методы научного исследования. Хорошо было бы сделать из корпораций общества «ученых мужей». Но как? «Монашествующих долго не держат при Академиях» (ибо замещают ими ректорские места и епископские кафедры), «светские же занимаются наукою, пока не женятся». Святитель предлагал систему формирования сословия «ученого монашества», но действительно как ученого, а не как кадров для архиерейства: «академические кафедры замещать монашествующими, и те из них, которые окажутся способными и опытом засвидетельствуют свою ревность в науке и духовной учености, оставлять при академии навсегда для трудов ученых»'’1.
Кардинальные же изменения духовно-учебных уставов не могут существенно повысить успешность духовных школ: «...Недостаток не столько в Уставе училищ, сколько в исполнителях. Ректоры слабо смотрят за учением и поведением, а архиереи недовольно ревностны, от которых первый еемь аз... Мне кажется, нужнее поощрять и наставлять людей, нежели переписывать уставы. ..»53 54.
Оценивая реальную ситуацию, святитель Филарет сформулировал несколько причин не ломать безоглядно то, что существует, и пойти по пути усовершенствования.
53 ГАРФ. Ф. 1099. On. 1. Д. 676. Л. 29-30.54 Письмо святителя Филарета к архимандриту Антонию от
09.03.1859 / / Собрание мнений. Т. IV. С. 171. Интересно, что этот отзыв в целом созвучен отзыву митрополита Платона (Левшина), в свое время — в 1806 г. — так же настороженно отнесшегося к разрабатываемой в те годы духовно-учебной реформе. Хотя и митрополита Платона трудно было обвинить и в недостатке ревности к духовному образованию, и в нежелании применять все допустимые методы для его совершенствования. Возможно, архипастырский опыт убеждал Московских святителей в том, что резкое введение новых идей, не подкрепленное достойными кадрами, пониманием этих идей и готовностью их осуществлять со стороны практиков-преподавателей, не может принести полного успеха.
3 7 3
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
1) Реальные достижения академий показали жизненность системы духовного образования 1814 г., она была задумана и построена как усовершенствуемая в соответствии с современными запросами общества и науки; совершенствование же методов преподавания, корректировка учебных планов и программ не подразумевает радикального преобразования.
2) Негативные явления в духовной школе и богословской науке — многопредметность, отсутствие специальных научных исследований — являются не выявлением порочности Устава, но следствием его неполной реализации и непродуманных изменений, и их разумная гармонизация с положениями Устава может привести к существенным улучшениям.
3) Духовная школа, по своей сущности и предмету занятий, имеет особые основания сохранять стабильность; при этом она должна оставаться школой, дающей полноценное образование, под постоянным контролем за успехами и направлением мыслей; и школой духовной, с единством учебно-воспитательного процесса, в православно-церковном духе.
4) Специализация в конкретных областях богословия должна совершаться в пост-школьный период, зрелым умом, способным к самостоятельному мышлению и оценкам.
5) Единственный путь повышения уровня высшего духовного образования и развития богословской науки — в создании условий для научной и педагогической богословской специализации академических преподавателей и их совершенствования в этом направлении.
Насущной проблемой всех духовных школ, в том числе и академий, оставалась проблема финансовая. В 1865 г., по инициативе святителя Филарета, было проведено некоторое повышение окладов служащих в духовно-учебных заведениях, в частности, в академиях, из местных средств55.
Эпоха бурных изменений побуждала искать новые формы
55 Святитель Ф иларет выделил из сумм Московской кафедры 7.795 руб. в год для МДА. Вслед за этим были повышены до таких же размеров оклады наставникам других академий.
3 7 4
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
просветительской деятельности академий, богословствования вне школьных стен. Однако расширение вне-академической просветительской деятельности, как преподавателей, так и студентов, святитель Филарет не всегда признавал полезным. В 1859 г. студенты МДА, под влиянием широкого обсуждения вопроса о значении воскресных школ в нравственном и духовном воспитании народа, хотели открыть при академии такую школу для мещанских детей Сергиева Посада. Святитель Филарет воспротивился этому: не отрицая значения школ для народа, он считал, что заниматься этим должны приходские священники, но никак не студенты академий. Студенты не имеют для того времени, ибо лучше употребить его «для усиления своего знания латинской и греческой словесности»™1. В том же году СПбДА выразила желание открыть у себя публичные лекции. Это было ответом на воскресные проповеди монаха-домини- канца Сойара, которые новизной тем и талантливым словом привлекали массу публики, в том числе образованной. Предусматривалось два варианта: либо сделать обычные академические лекции открытыми для всех желающих, либо проводить в Академии силами профессорско-преподавательской корпорации особые публичные лекции. Однако ни один из этих вариантов не был одобрен святителем Филаретом, мнение которого запросил обер-прокурор граф А. П. Толстой. Допускать посторонних на ординарные академические лекции — неприлично для академии и даже вредно, ибо будет отвлекать внимание наставников и студентов, особые же лекции для публики будут отнимать у них время, нанося ущерб существенным их обязанностям. Святитель приводит и более вескую причину опасности подобной формы апологетики для духовных академий. Церковная школа, принимая на себя чужую форму дискуссии — публичное опровержение лжеучений «из природы» — рискует быть неуспешной на чужом поприще «мирских» аргументов, «от природы». Убедить же неверующих одними свидетельствами Священного Писания невозможно, ибо от него они 56
56 Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. IV. С. 575.
3 7 5
Н. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
отказались. У богословской науки есть «своя кафедра» для обращения к миру — в церкви, «на что переносить к себе чужую кафедру»? Академию же следует беречь57.
Это противление, казалось, не отвечало общему настрою тех лет: сломать замкнутость духовной школы, вывести богословскую науку из затвора, дать ответ на богословские вопроша- ния общества, продемонстрировать светской науке достойный уровень науки богословской, наконец, побороть многолетнюю застенчивость и молчаливость преподавателей и выпускников духовной школы, их отстраненность от образованного общества. В это же время святитель Филарет благожелательно отнесся к учреждению в 1863 г. Общества любителей духовного просвещения, среди инициаторов которого было московское духовенство — выпускники МДА и других академий. Святитель нашел это дело «полезным и благопотребным» и ходатайствовал пред Святейшим Синодом58.
Как можно объяснить эти ситуации? На это, видимо, было две причины. Первое: академии, по мнению святителя Филарета, особое богатство Церкви — они призваны решать богословские проблемы, встающие в церковной жизни. Духовное образование было наиважнейшим служением Церкви и учащих, и учащихся, и не терпело никакого отвлечения. Для этого служения должно жить углубленно и сосредоточенно, под пристальным наблюдением священноначалия, не допуская внутрь себя светский дух и пагубную дерзость. Лишь в таком случае академии смогут служить опорой в решении насущных церковных проблем — организации миссии, просвещения народа, приходской жизни. К любым попыткам расширить задачи академий, изменить строй академической деятельности, внести новые идеи надо относиться с большой осторожностью. И второе: русская богословская наука в середине XIX в. была молода и неопытна. Прежде, чем выходить с миссией, пытаться искать пути распространения и популяризации богословского знания,
57 РГИА. Ф. 832. On. 1. Д. 91. Л. 3 -5 об.м Филарет (Дроздов), сет. Собрание мнений. Т. V. Ч. 1. С. 438-440.
376
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух. школа XIX в.: новизна и традиция
она должна была накопить потенциал, усвоить и переработать православным сознанием лучшие достижения западного богословия, устояться в своих основных положениях, разработать методы, выработать свой язык.
Таким образом, деятельность святителя Филарета составила в истории духовных академий эпоху, которая оказалась основополагающей и для русского высшего духовного образования, и для русской богословской науки. В эти годы сформировался особый тип высшей школы, учебные планы которой сочетали богословское и классически-гуманитарное образование, основанное на чтении и толковании Священного Писания, с особой ролью философских наук и древних языков и исторической направленностью. При этом была выстроена иерархия наук, в которой богословие, являясь венчающим и структурообразующим, не подавляет, но придает внутреннюю осмысленность и верные ориентиры всем остальным наукам. Были заложены основные принципы высшего духовного образования, определено главное его предназначение — духовное служение и богословская образованность. Были поставлены ближайшие задачи русского богословия: усваивая и перерабатывая лучшие достижения западного богословия, развивать самостоятельные богословские исследования, в духе святоотеческого предания и православного понимания; осваивая научные методы разных школ и направлений, разработать православно-богословскую методологию, выработать русский понятийный аппарат и богословский язык; делать богословское учение ближе к употреблению в жизни, но не в смысле популяризации, а в смысле компетентного ответа на вопросы, которые ставит Русская Церковь перед своей высшей школой и готовности выпускников духовной школы к деятельному просвещенному церковному служению. При этом святитель Филарет показал и пути практического решения этих задач: создать все возможные условия, с одной стороны, для научной и педагогической богословской специализации академических преподавателей и их совершенствования в этом направлении, с другой стороны, для стабильного, правильно построенного учебно-воспитательного процесса.
377
Я. Ю. Сухова. ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ
Встает вопрос о новизне идей святителя Филарета и их соотношении с прежней традицией, прежде всего, заложенной митрополитом Московским Платоном, через чью школу прошел святитель Филарет. Известна оценка сотворчества — духовно-учебного и богословского — двух святителей их общего биографа В. Виноградова: «..Попробуйте разобрать по составным элементам нашу наличную богословскую науку, наличный строй духовной школы, наличный церковный строй, и вы откроете, что то идет от Платона, а то от Филарета. Наследие Платона и Филарета здесь усложнено новыми элементами, то положительными, то отрицательными, конструировано по-новому, но и в этой новой, более сложной конструкции, дело Платона-Филарета лежит всюду краеугольным камнем»59. Он же говорил, что «это два одинаковых солнца, или лучше даже одно и то же великое солнце»60. Может быть, следует несколько скорректировать эти слова. Все же новизна, внесенная святителем Филаретом и в отечественное богословие, и в духовную школу, несомненна. Митрополит Платон заготавливал формы — святитель Филарет стремился наполнить и наполнял их содержанием. Митрополит Платон создавал, оттачивал орудия духовной учености — святитель Филарет их применил, блестяще и творчески. И это не умаляет значимости митрополита Платона и созданной им духовной школы. Во-первых, это и есть истинное преемство, когда последователь превосходит предшественника, а ученик учителя. Но и более того. Откровение оправдывает предшествующую прикровенную эпоху, указывает ее истинное значение, которое, в свою очередь, не умаляет высоты вершин и ценности самого откровения. Митрополит Платон мучительно искал главный критерий, которым должны определяться и общий настрой духовной школы, и тематика богословских исследований, и включение того или иного предмета или образовательного элемента в учебные планы духовной
59 Виноградов В. Платон и Филарет, митрополиты Московские / / БВ. 1913. № 1. С. 14.
60 Там же.
3 7 8
Сет. Филарет (Дроздов) и высшая дух, школа XIX в.: новизна и традиция
школы, и методы преподавания. Что-то удавалось, что-то так и осталось не до конца определенным. Святитель Филарет, как представляется, нашел этот главный критерий — церковность. Традиция поверяется Преданием, а Церковь — хранительница и творительница Предания, «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3: 15).
Не менее важно понять значение идей святителя Филарета для дальнейшего пути высшей духовной школы и богословской науки. Как показал опыт последующих реформ, осуществленных в высшем духовном образовании (1869,1884,1910 гг.), те перспективы, которые видел для духовной школы святитель Филарет, в основном осуществились, а определенные им принципы развития духовного образования оказались верными. Построением системы педагогической и научной специализации академических преподавателей во второй половине XIX - начале XX в. удалось во многом реализовать замыслы Устава 1814 г. о создании Академий духовных наук. Недоучет же специфики духовной школы и богословия, как предмета научных занятий, вносил в жизнь духовных школ диссонанс, а в начале XX в. привел к кризисным явлениям.
Святитель Филарет задал камертон процессу развития духовной школы, сохраняющий свою актуальность доныне. Процесс богословского образования сложен и ответственен, и сам по себе таит много опасностей. Это требует полной отдачи сил, полного внимания и духовной настроенности академического начальства, всей корпорации, каждого студента. Лишь в этом случае высшая духовная школа сможет стать для Русской Церкви тем «вертоградом наук духовных», становлению которого всеми силами содействовал святитель Филарет.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Сокращения названий изданий:
БВ — Богословский вестник (журнал МДА)БТ — Богословские труды ВА — Вестник архивиста BE — Вестник ЕвропыВестник ПСТГУ — Вестник Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университетаВестник РСХД — Вестник Русского Студенческого Христианского
Движения ВиР — Вера и разум ВиЦ — Вера и Церковь ВМУ — Вестник Московского университета ДБ — Духовная беседа ДЧт — Душеполезное чтение ЕВ — Епархиальные ведомостиЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения ЖМП — Журнал Московской Патриархии ЖЗС — Журналы заседаний Совета (академии);ЖСС — Журналы собраний Совета (академии);ИА — Исторический архив ИВ — Исторический вестник ИЗ — Исторические запискиИРАИК — Известия Русского археологического института в Кон
стантинополе
3 8 0
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИРАН — Известия Российской академии наукМС — Морской сборникОА — Отечественные архивы0 3 — Отечественные запискиПБЭ — Православная богословская энциклопедияПЗС — Протоколы заседаний совета (Академии);ПО — Православное обозрениеППС — Православный Палестинский сборникПС — Православный собеседник (журнал КазДА)ПСС — Протоколы собраний совета (Академии);ПТСО — Приложение к Изданию творения святых отцов в рус_
ском переводе РА — Русский архив РВ — Русский вестник РИБ — Русская историческая библиотека РИЖ — Русский исторический журнал РМ — Русская мысль РО — Русское обозрение PC — Русская старина РШ — Русская школаСИРИО — Сборник Императорского Русского исторического об
ществаСП — Северная почта Стр. — СтранникТКДА — Труды Киевской духовной академии (журнал КДА)УЗ АН — Ученые записки Академии наук ХЧ — Христианское чтение (журнал СПбДА)ЦВед — Церковные ведомостиЦВ — Церковный вестникЦГ — Церковный голосЦИВ — Церковно-исторический вестникЦиВ — Церковь и времяЦОВ — Церковно-общественный вестникЧ О И ДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских ЧОЛДП — Чтения в Обществе любителей духовного просвещения
библиотеки
3 8 1
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Сокращ ения библиографических названий:
Извлечение из отчета Извлечение из Всеподданнейшего отче- обер-прокурора з а ... г. та обер-прокурора Святейшего Синода
по ведомству православного исповедания за []. СПб., [].
Отчет обер-прокурора Всеподданнейший отчет обер-прокурора за .... Святейшего Синода по ведомству право
славного исповедания за [] • СПб., [].
ПСЗ Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. СПб., 1826—1830.
2 ПСЗ Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. СПб., 1830—1884.
зпсз Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье СПб., 1884—1916.
Сокращения названий научных и учебных заведений:
ДС — духовная семинария.ДУ — духовное училищеЕЖУ — епархиальное женское училищеКазДА — Казанская духовная академия;КДА — Киевская духовная академия,МДА — Московская духовная академия,ПгДА — Петроградская духовная академия (с 1914 г.)РАИК — Русский археологический институт в Константинополе СПбДА — Санкт-Петербургская духовная академия (до 1914 г.)
3 8 2
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Сокращения названий архивов:
ГАРФ — Государственный архив Российской ФедерацииИР НБУВ — Институт рукописей Национальной библиотеки
Украины им. В.И. ВернадскогоНА РТ — Национальный архив Республики ТатарстанОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной биб
лиотекиОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной биб
лиотекиРГИА — Российский государственный исторический архивЦГИА СПб — Центральный государственный исторический
архив г. Санкт-ПетербургаЦГИАУ — Центральный государственный историчес кий архив
Украины в г. КиевеЦИАМ — Центральный исторический архив г. Москвы.
СОДЕРЖ АНИЕ
П редисловие........................................................................................5
Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг.и становление высшей духовной школы в России ........15
Реформа духовных академий 1869 г.и развитие богословской науки в Р о с с и и ......................... 53
Богословское образование в России в начале XX в. — полемика, анализ, с и н тез ........................................................ 99
Научно-богословские исследования в России —проблемы и поиск (XIX — начало XX в . ) ....................... 143
Научные командировки российских богослововза границу и их значение для российского духовногообразования и богословской науки(вторая половина XIX - начало XX в . ) ...........................172
Русский археологический институт в Константинополе и участие высшей духовной школы в его деятельности (1894-1914 гг .)........................................................................ 217
Практическое богословие в российских духовных академиях — проблема понимания и сложности развития (XIX — начало XX в . ) .........................................244
Студенты высшей духовной школы в России — научный поиск и церковный порыв (1890-1900-е г г .) ....................................................................275
Ученое монашество в России: научно-богословскаядеятельность и проблема консолидации........................ 304
Богословские науки в российских университетах —традиция и перспективы..................................................... 326
Святитель Филарет (Дроздов) и высшая духовнаяшкола XIX века: новизна и традиция..............................345
Список сокращений...................................................................380
Сухова Наталия Юрьевнародилась в 1963 г., окончила Механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В 2003 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени магистра богословия на тему «Уставы Духовных: Академий 1869 и 1884 гг. и их значение для высшего богословского образования в России». В настоящее время является доцентом кафедры Истории Русской Православной Церкви богословского факультета ПСТГУ.
Сборник статей Н. Ю. Суховой «Вертоград наук духовный» посвящен истории становления и развития высшего богословского образования в России, проблемам, возникающим в этом нелегком процессе и путям их решения. Данная тема в настоящее время является чрезвычайно актуальной, ибо преобразования, проводимые в последние годы в российской духовной школе, а также поиск новых форм богословского образования требуют осмысления традиции отечественного духовного образования и богословской науки и принципов богословского познания в целом. На основании обширного комплекса опубликованных и неопубликованных источников автором проведено объективное исследование нелегкого пути отечественной высшей духовной школы и ответить на ряд вопросов, связанных с реформами высшей духовной школы, развитием научно-богословских исследований, жизнью и деятельностью преподавательских и студенческих духовно-академических корпораций.В сборнике нашли отражение также проблемы церковно-практического применения научно-богословских исследований, деятельности ученого монашества и богословских кафедр в российских университетах. Сборник рассчитан как на специалистов, так и на широкий круг всех, интересующихся историей Русской Церкви, историей образования и богословской науки.
На обложке:
ак магистра богословия православных духовных академий