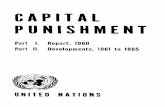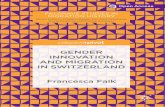The comparative characteristic of personages of novels "FM" by Boris Akunin and "Crime and...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of The comparative characteristic of personages of novels "FM" by Boris Akunin and "Crime and...
Сравнительная характеристика персонажей романов
«Ф.М.» Б. Акунина и «Преступление и наказание»
Ф.М. ДостоевскогоThe comparative characteristic of personages of novels
"FM" by Boris Akunin and "Crime and Punishment" by Fyodor
Dostoevsky
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ.......................................................3
ГЛАВА 1. ИДЕИ И ОБРАЗЫ РОМАНОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ТВОРЧЕСТВЕ Б.
АКУНИНА........................................................6
1.1. Философские идеи Ф.М. Достоевского, его взгляды на человеческую природу в творчестве Б. Акунина..................61.2. Стилистические сходства и различия «Теорийки» Акунина и «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского.................14
ГЛАВА 2. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНАХ Ф.М.
ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И Б. АКУНИНА «Ф.М.». . .19
2.1. Образ Родиона Раскольникова у Достоевского и Акунина....202.1.1. Образ Раскольникова у Достоевского..................202.1.2. Роль Раскольникова в «Теорийке» Акунина.............242.1.3. Двойники Раскольникова в «современных» главах романа «Ф.М.».....................................................26
2.2. Порфирий Петрович в интерпретациях Достоевского и Акунина.............................................................302.2.1. Образ сыщика в «Преступлении и наказании»...........302.2.2. Порфирий Петрович как главный герой «Теорийки»......332.2.3. Николас Фандорин – современный Порфирий Петрович....38
2.3. Свидригайлов и Олег – философствующие преступники.......402.3.1. Преступление и наказание Свидригайлова у Достоевского...........................................................402.3.2. Свидригайлов – «идейный» убийца у Акунина...........422.3.3. Отец и сын Сивуха – раздвоение Свидригайлова........44
2
2.4. Трансформации второстепенных персонажей «Преступления и наказания» в «современных» главах романа Акунина.............472.4.1. Саша Морозова – «вечная Сонечка»....................472.4.2. Мармеладов и Морозов – воплощение мысли Достоевского одвойственности человеческой природы........................482.4.3. Жертвы в романах Достоевского и Акунина.............49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................52
БИБЛИОГРАФИЯ..................................................57
3
ВВЕДЕНИЕ
В современной литературе очень популярны
произведения, построенные в виде диалога с текстами
классиков: литературные мистификации, пародии, ремейки,
продолжения. Прием использования персонажей и сюжетов
известных произведений очень характерен для творчества
современного русского писателя, автора множества
бестселлеров Бориса Акунина.
Его романы вызывают самые разные оценки у критиков,
от полного восторга до полного неприятия. С одной
стороны, об Акунине говорят как о талантливом
литераторе, гении детективного жанра, создателе новой
литературной традиции, мастера интригующего сюжета, с
прекрасным знанием деталей и подробными описаниями
исторической эпохи – России второй половины XIX –
начала ХХ вв. Критики Акунина упрекают его детективы в
«одноразовости», дурном вкусе, следовании стандартам
низкопробной массовой литературы, а также в искажении
российской истории и отсутствии идеологии. Лев
Аннинский отмечает, что «Георгий Чхартишвили (Борис
Акунин) артистично имитирует Лескова, Тургенева, кого
угодно. Это та же самая обслуга литературная, имеющая
свой участок и задачу. Это не милицейская хроника, а
программа активного интеллектуального отдыха плюс
“остаточный вкус” от классики». [28]
4
Однако творчество Б. Акунина – больше чем
«литературная обслуга», для многих молодых читателей
это «путь к классике». Стилизуя свои романы в духе
писателей-классиков, Б. Акунин пробуждает интерес к
серьезному чтению, помогая читателю преодолевать
«пороги культуры». И это определяет актуальность
исследования.
В романе «Ф.М.», который вышел в 2006 г. в серии
«Приключения магистра», Б. Акунин переосмысливает
великий роман Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание». Эти два романа, в первую очередь,
объединяет их жанровая принадлежность, оба они являются
детективами.
«Преступление и наказание» – это один из самых
сложных и противоречивых романов великого писателя, его
визитная карточка. Нравственные, социальные и
философские проблемы, которые поднимает Достоевский в
«Преступлении и наказании», уже второе столетие волнуют
читателей всего мира. До него такого проблемного,
«идеологического» романа еще не писал никто. И в то же
время, это один из первых детективов в русской
литературе. Особенно актуален роман Достоевского тем,
что многие его герои существуют видоизмененными в нашем
обществе.
5
«Ф.М.» Акунина – это роман в романе, где детек-
тивные приключения нашего современника Николаса
Фандорина чередуются с фрагментами пропавшей рукописи
Достоевского «Теорийка» – одна из черновых редакций
«Преступления и наказания». Сам автор считает
Достоевского «живее любых писателей современности» и с
большим удовольствием «поместил классика русской
литературы в свой игровой контекст». [29]
Сравнение персонажей романов «Ф.М.» Акунина и
«Преступления и наказания» Достоевского является
актуальным, т.к. переписывая широко известную историю
Родиона Раскольникова, Акунин вступает в творческий
диалог с писателем-классиком, переосмысливая привычные
стереотипы и вдыхая новую жизнь в созданные им образы,
давая возможность для нового прочтения одного из
наиболее изученных произведений русской классической
литературы. На сегодняшний день, несмотря на
популярность Б. Акунина, не существует цельных
исследований, посвященных анализу его творчества.
Исследование также актуально и с точки зрения выявления
в романе Б. Акунина особенностей создаваемой им «новой
беллетристики», ведь его романы парадоксально относятся
одновременно и к серьезной, и к массовой литературе.
6
Объект исследования – системы персонажей романов
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского и «Ф.М.»
Б. Акунина.
Предмет исследования – средства и способы
переосмысления образов романа Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание» в романе-«проекте» Б.
Акунина «Ф.М.».
Цель работы: выявить общее и отличия в системах
персонажей романов Б. Акунина «Ф.М.» и Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание», найти
характерные черты современной эпохи через выявленные
связи.
Поставленная цель предполагает решение следующих
задач:
1) изучить особенности использования символов
философских идей Достоевского в творчестве Б. Акунина;
2) выявить стилистические сходства и различия
«Теорийки» Акунина и «Преступления и наказания»
Ф.М. Достоевского;
3) исследовать интерпретации образов главных героев
Достоевского в романе Акунина;
4) выявить особенности трансформации персонажей
«Преступления и наказания» в «современных» главах
романа Акунина «Ф.М.».
7
Основным материалом для дипломной работы послужили
тексты романов Б. Акунина «Ф.М.» и Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание».
Дипломная работа состоит из Введения, двух глав,
Заключения и Библиографического списка.
8
ГЛАВА 1. ИДЕИ И ОБРАЗЫ РОМАНОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В ТВОРЧЕСТВЕ Б. АКУНИНА
1.1. Философские идеи Ф.М. Достоевского, его
взгляды на человеческую природу в творчестве Б. Акунина
Ф.М. Достоевский работал над «Преступлением и
наказанием» во второй половине 1860-х гг., но основные
идеи романа у писателя появились еще со времен каторги.
Они касаются двух болевых точек: моральный упадок в
обществе и наступление социалистическо-атеистических
идей. Россия вступила в переломную эпоху, торжествовала
социальная несправедливость, отмена крепостного права
только усилила обиды и страдания «униженных и
оскорбленных», малоимущие оказались еще в более
горестном положении. Тонко чувствующий настроения
общества, Достоевский стремился так изобразить
окружающий мир, чтобы возбудить сострадание к
погибающим и отвращение к процветающим. Эту цель можно
увидеть и в последующих фундаментальных произведениях
великого русского классика: романах «Идиот», «Бесы»,
«Братья Карамазовы».
Представления Достоевского о природе современного
ему революционного движения, высказанные в «Бесах», по-
своему интерпретируются героями Акунина в романе
«Азазель». Так, статский советник Иван Францевич
Бриллинг, пытаясь внушить Фандорину ложную мысль об
9
«Азазеле» как о радикальной террористической
организации, замечает: «Если опухоль в самом зародыше
не прооперировать, эти романтики нам лет через
тридцать, а то и ранее такой революсьон закатят, что
французская гильотина милой шалостью покажется. Не
дадут нам с вами спокойно состариться, помяните мое
слово. Читали роман “Бесы” господина Достоевского? Зря.
Там красноречиво спрогнозировано». [5] И действительно,
спустя примерно тридцать лет Эраст Фандорин, тоже в
чине статского советника, будет искать неуловимого
мстителя из Боевой группы террористов. К тому же, сама
«Азазель», хотя и не стремится к революции, а ставит
своей целью сеять в мире разумное, доброе, вечное,
является тайной организацией и оправдывает убийства на
почве идеологии.
Хитросплетение заговоров и интриг в романах о
Пелагии также вызывает в памяти антинигилистические
идеи «Бесов» Достоевского. Однако если отрицательные
герои у Достоевского – в первую очередь, нигилисты, то
в «Пелагии и красном петухе» Акунин отводит роль
«сатаны» обер-прокурору Синода Победину (его явный
прототип – К.П. Победоносцев), которого окружают «бесы»
помельче. Победин – светский глава Церкви, не верящий в
Бога, но готовый террором оберегать православие. В этом
10
персонаже также можно увидеть отражение Великого
Инквизитора из «Братьев Карамазовых».
Идея Достоевского «Красота спасет мир» по-своему
преломляется у Акунина. Так, в «Азазеле» Амалия
Бежецкая, у которой очень много общего с Настасьей
Филипповной, в образе призрака говорит Фандорину: «Я
была молода и красива, я была несчастна и одинока. Меня
запутали в сети, меня обманули и совратили. <...> Ты
совершил страшный грех, Эраст, ты убил красоту, а ведь
красота – это чудо Господне. Ты растоптал чудо
Господне». [5] О красоте с большой буквы рассуждает
герой «Декоратора» Джек-Потрошитель Соцкий: «Я вижу
Красоту под вшивыми одеждами, под коростой немытого
тела. <...> Как могут они гнушаться Божьим даром –
собственным телом! Мой долг и мое призвание – понемногу
приучать их к Красоте. Я делаю красивыми тех, кто
безобразен».
Многие идеи Достоевского получили отклик в романе
Акунина «Ф.М.». Так, в письме редактору журнала
«Русский вестник» М.Н. Каткову писатель сообщает о
своем новом замысле романа о нищем студенте, который
убивает отвратительную старуху, чтобы освободить от
унижений нищеты мать и сестру, закончить университет и
потом жить всю жизнь честно, быть «твердым, неуклонным
в исполнении "гуманного долга к человечеству", чем уже,
11
конечно, "загладится" преступление...» [2, 336-337]
Однако убийцу ждет полная катастрофа, хотя он вне
подозрений и сделал все чисто. Потому что, по слова
Достоевского, «тут-то и развертывается весь
психологический процесс преступления. Неразрешимые
вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и
неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда,
земной закон берет свое, и он кончает тем, что
принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя
погибнуть на каторге, но примкнуть опять к людям;
чувство разомкнутости и разъединенности с
человечеством, которое он ощутил тотчас же по
совершении преступления, замучило его. Закон правды и
человеческая природа взяли свое... Преступник сам
решает принять муки, чтобы искупить свое дело...» [2,
337]
Одна из ключевых мыслей романа: счастье и гармонию
человек получает ценой страданий и мук. Достоевский,
как глубоко верующий человек, не просто проповедует
религиозные представления о постижении добра и зла.
Через весь роман красной нитью проходит заповедь «Не
убий», а мысли автора о христианском смирении воплощает
Сонечка Мармеладова.
В своей главной идее Достоевский спорит с романом
Чернышевского «Что делать?», стремясь развенчать
12
тупиковую и аморальную социалистическую теорию,
показывая ее в самом крайнем варианте, в самом крайнем
развитии, дальше которого уже идти некуда. Причем
вредным идеям Чернышевского-Раскольникова Достоевский
хочет противопоставить православную христианскую идею
как выход к свету из мрака тупиковой теории главного
героя.
Таким образом, в романе «Преступление и наказание»
Достоевский развивает основные идеи, противопоставляя
мир «бедных людей» с его реальными трагедиями,
реальными страданиями миру надуманной «теории»,
оторванной от реальной жизни, нравственности и морали,
от «божеского» в человеке. Эта теория, созданная в
«расколе» с православной церковью и с народом, о чем
свидетельствует говорящая фамилия Раскольников. Она
потому чрезвычайно опасная, что там, где нет ни
божеского, ни человеческого – там правит бал
сатанинское.
Процентщица – это символ бесполезного, вредного
существования, и если «проба» (убийство) удастся,
думает Раскольников, он способен на «настоящие» дела,
такие как устранение настоящего зла, роскоши,
грабительства. Но на практике его хорошо продуманная
теория рушится с самого начала. Вместо задуманного
благородного преступления получается ужасное
13
преступление, а деньги, взятые у старухи на «тысячи
добрых дел» никому не приносят счастья.
Основа теории Раскольникова – условное деление всех
людей на «обыкновенных» и «необыкновенных». И здесь
тоже Достоевский показывает идейный крах героя. Ведь ни
к одним, ни к другим нельзя отнести Сонечку
Мармеладову, Дуню, Разумихина, которые, по
представлениям Раскольникова, не являются
необыкновенными, но добры, отзывчивы и, самое главное,
дороги ему. Да и свое будущее он связывает с помощью
именно тем людям, которых называет «тварями дрожащими».
В этом и роль Лизаветы, через случайную смерть которой
Достоевский показывает недопустимость именно первого,
идейного убийства. «Кровь по совести» порождает цепную
реакцию насилия, которое множит само себя, независимо
от поставленных им перед собой задач. Про Лизавету
Раскольников почти не вспоминает и сам с удивлением
ловит себя на этом – про старуху же думает мучительно,
неотступно и, на первый взгляд, парадоксально: «О, ни
за что, ни за что не прощу старушонке!». [1, 191]
Лизавета, несмотря на закономерность ее гибели под
«взбесившимся топором», – случайная жертва, убитая уже
не по теории, а по роковому стечению обстоятельств и не
идеологом Раскольниковым, а потерявшим себя от крови и
страха, ведомым исключительно инстинктом самосохранения
14
уголовным преступником. Именно убийство старухи
призвано было оправдать «кровь по совести», но показало
невозможность такого оправдания, отсюда – «никогда не
прощу старушонке».
Таким образом, в реальности теория Раскольникова не
оправдывает своего существования, она неприменима к
жизни. Достоевский осуждает «кровь по совести» и
наглядно доказывает в романе свою правоту. Заставляя
героя разувериться в теории, он проводит Раскольникова
через огромные душевные муки, зная, что в этом мире
счастье покупается только страданием. Это находит
отражение и в композиции романа: о преступлении
рассказывается в одной части, а о наказании – в пяти.
Измотанный страхом разоблачения и чувствами,
разрываясь между своей идей и любовью к людям,
Раскольников еще не может признать ее
несостоятельность. Он пересматривает лишь свое место в
ней: «… и как смел я, зная себя, предчувствуя себя,
брать топор и кровавиться…». Он уже осознает, что в
отличие от своего кумира Наполеона, спокойно
жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, он не в
состоянии справиться со своими чувствами после убийства
одной «гаденькой старушонки». Раскольников чувствует,
что его преступление, в отличие от кровавых деяний
Наполеона, – «стыдное», неэстетичное. Позднее, в романе
15
«Бесы», Достоевский развил тему «некрасивого
преступления» – там его совершает Ставрогин, персонаж,
в котором очень много общего со Свидригайловым.
Возможно, неслучайно у Акунина в романе «Ф.М.» главным
героем, убийцей с собственной теорией «крови по
совести», становится именно Свидригайлов.
Евангельская идея воскресения через смерть лежит в
основе романа Достоевского. Раскольников духовно погиб,
преступив заповедь «не убий», но благодаря Сонечке он
вступает на путь покаяния и получает возможность
воскресения. Убийца в «Теорийке» – Свидригайлов –
совершает покаяние, убивая. Он тоже лишает людей жизни
сознательно, на основе своей теории: «Теория моя,
видите ли, состоит в том, что я себя, злобное животное,
перед отъездом в Новый Свет, должен в нуль вывести.
Чтоб в вояж отправиться чистым, как младенец. Так
сказать, новорожденным человеком». [4, 191] Загубив
три «живые души», он рассчитывает искупить свой грех,
избавив мир от трех нечестивцев «с душою мертвой,
гниющей», которые «заражают своими гнилыми миазмами ат-
мосферу, губят и вытравливают вкруг себя всё и вся».
Свидригайлов хотел убийство Лужина «себе в кредит
вписать, как будущую индульгенцию», но его планы нару-
шает письмоводитель Заметов, чья смерть сводит
положительный баланс к нулю. Однако Свидригайлов не
16
сильно огорчен, тем, что его расчеты нарушены:
«...Жалко мальчишка, помощник ваш, припутался. Ничего,
это квит на квит пойдет. Таким образом на сей момент я
полностию чист ... Сколько напакостил, столько за собою
и прибрал». [4, 197]
Как и у Достоевского, в акунинском романе
отвлеченной теории, рожденной при помощи рассудка,
противостоит жизнь, с ее главными движущими силами –
любовью, милосердием и добротой. Однако тема
«добродетели без Христа», главная у Достоевская, у
Акунина практически не слышна. Общественное благо, по
мысли классика, должно основываться на заветах Христа,
иначе оно превращается в злобу и вражду, во
вседозволенность. Акунинские герои более приземленные,
для них важнее не христианские идеи, а здравый расчет,
научное обоснование гармонии.
Эти несовпадения объясняются, что герои обоих
романов – это герои своего времени. Современное
состояние изоляции, равнодушия людей друг к другу, их
отход от одной национальной религии к разным
идеологическим течениям и к атеизму, предсказал в своем
романе Достоевский. В эпилоге «Преступления и
наказания» Раскольников видит сон, где мир заражен
смертельной болезнью: «Все должны были погибнуть, кроме
некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-
17
то новые трихины, существа микроскопические,
вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи,
одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя,
становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими... Но
никогда, никогда люди не считали себя так умными и
непоколебимыми в истине, как считали зараженные.
Никогда не считали непоколебимее своих приговоров,
своих научных выводов, своих нравственных убеждений и
верований...» [1, 554] Достоевский описывает следующий
этап болезни, когда теория о «тварях дрожащих»
внедряется в жизнь: «Целые селения, целые города и
народы заражались и сумасшедствовали. Все были в
тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в
нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на
других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки...».
Причина описываемой социальной катастрофы – в том, что
люди перестали быть одним народом, потеряли общие
нравственные принципы, забыли божьи заповеди: «Не
знали, кого и как судить, не могли согласиться, что
считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого
оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то
бессмысленной злобе...». [1, 554-555]
Идея Раскольникова неизбежно приводит к страшным
последствиям. Но еще более страшно, что революция не
знает «своих» и «чужих», когда позволено убийство,
18
гибнут все, в том числе и дети «сверхчеловеков». Так и
в романе Акунина сын Сивухи погибает, когда он стал
хладнокровным расчетливым убийцей, защищая своего отца.
Как и детектив Достоевского, роман Акунина нарушает
законы классического детектива, где разум побеждает
злую натуру. Оба писателя ставят чувства, интуицию,
духовность выше разума, подчеркивая несостоятельность
любых попыток рационального осмысления действитель-
ности. Разум порождает иллюзии всесильности и
всемогущества, сводя все варианты, предлагаемые жизнью,
к простой прямолинейной модели, и одержимый рассудочной
идеей человек уже не видит несостыковки, видит свою
идею единственно возможной. Акунин демонстрирует
относительность любой возможной точки отсчета. Как
пишут современные исследователи С.А. Демченков и М.С.
Грудинина, «Преступление и наказание» – роман о том,
как «в страдании яснеет истина», «как постепенно
развеиваются химеры, владевшие сознанием главного
героя. «Ф.М.» – книга химер, и одновременно – книга-
химера (роман о никогда не существовавшем в
действительности романе)». [20, 271]
В связи с этой особенностью сюжета «Ф.М.» надо еще
отметить значимость идеи двойственности, темы двойников
для Достоевского и Акунина. Так, у одного из двойников
старухи-процентщицы – эксперта по рукописям
19
Достоевского Элеоноры Ивановны Моргуновой, тоже есть
сестра – невинная жертва, и под видом этой сестры-
близнеца к эксперту приходит убийца. Акунин
подчеркивает идею двойника, вкладывая в уста гостя
Моргуновой те же слова, с которыми черт обращался к
герою Достоевского Ивану Карамазову в его кошмаре:
«Послушай, ты извини…», а далее еще одна прямая цитата:
«Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на ты». [3,
88] А требование достоевсковеда Морозова к посетителям
рассказать самую постыдную сексуальную историю из своей
жизни прямо отсылает нас к сцене из романа Достоевского
«Идиот», где Фердыщенко на дне рождения Настасьи
Филипповны затеял игру в откровенный рассказ о своем
самом дурном поступке.
В основе детективного сюжета у Акунина лежит не
психология и философия, а занимательность, приключения.
Поэтому философский подтекст романа «Ф.М.» очень
приблизительный, читатель получает только отзвуки идей
Достоевского. И в «Теорийке», и в современных главах
романа двигатель сюжета – поиск серийного убийцы. В
современном мире, где время мчится значительно быстрее,
чем во времена Достоевского, тем более в Москве, в
которой скорости событий значительно выше, чем в
остальной России, молодежи некогда размышлять о
«тварях» и «наполеонах», о способах сделать
20
человечество счастливым. Еще более некогда
сочувствовать ближнему. Это даже непринято и считается
слабостью. Показывать, что тебе плохо, воспринимается
окружающими как дурной тон. Поэтому герои Акунина мало
размышляют, а больше действуют. Размышлениям же в
основном предаются сыщики, Порфирий Петрович и Николас
Фандорин.
1.2. Стилистические сходства и различия «Теорийки»
Акунина и «Преступления и наказания» Ф.М. Достоевского
«Ф.М.» Акунина – это роман в романе, где детек-
тивные приключения нашего современника Николаса
Фандорина чередуются с фрагментами пропавшей рукописи
Достоевского «Теорийка» – одной из черновых редакций
«Преступления и наказания», выдуманной Акуниным. Истоки
«Теорийки» как наброска к роману Достоевского
«Преступление и наказание» имеют фактическое
обоснование. В середине 1865 г. писатель сообщил
издателю А. Краевскому о замысле нового романа под
названием «Пьяненькие». Здесь можно увидеть сходство в
стилистике названий, где уменьшительно-ласкательные
суффиксы придают оттенок жалостливости, сострадания к
героям, «малым сим».
Достоевский планировал вывести историю
«сверхчеловека»-социалиста на почве уродливой
действительности, в которой живут члены семьи
21
Мармеладовых и их окружение. Они должны были стать
реалистическим фоном и убедительным объяснением дел и
помыслов главного героя – преступника. Пьянство,
бессознательное проживание жизни, нелепая смерть – в
этом мире вырастает философия вседозволенности «сильной
личности». Но тема «Пьяненьких» для такого масштаба
идей оказалась слишком узкой, лишенной философской
остроты.
Главными героями «Преступления и наказания»
Достоевский не случайно сделал «убийцу и блудницу». Так
частная драма одного человека получает масштаб.
Петербург становится полноправным действующим лицом
романа. Герои проходят через мучительные исповеди,
символические сновидения, ведут напряженные философские
диспуты-дуэли, и нередко в череде случайных и
неслучайных совпадений им, как и читателю, трудно
отличить бред от реальности.
«Теорийка. Петербургская повесть» – это набросок,
поэтому, как и «Пьяненькие», он не отличается глубиной
идей. В акунинской мистификации автор полностью
придумал и фабулу, и некоторых героев, и сочинил
стилизованный под Достоевского текст. Однако неслучайно
Акунин использовал также обширные фрагменты из романа
«Преступление и наказание». Это и игра с читателем,
который с удовольствием проверяет свое знание
22
классического текста, и игра с классиком, чьи
философские глубины подменяются стилевыми характерными
приметами и цитатами-«виньетками».
Повторяются описания предметов одежды,
встречающиеся в «Преступлении и наказании». Иногда
вставлены фрагменты из «Преступления и наказания».
Например, полностью перенесены портреты Раскольникова,
Дуни, Порфирия Петровича, основные характерные детали
внешности Разумихина, Свидригайлова, Лужина,
Лебезятникова. Позаимствовано с небольшими сокращениями
длинное письмо матери Раскольникова, так измучившее
героя. Повторены некоторые ключевые сцены, например,
обморок Раскольникова.
В «Теорийке» Акунин стремится тщательно копировать
речевую манеру Достоевского: его типичные обороты,
словосочетания, часто встречающиеся слова: «по
недостатку средств временно вышел из университета»,
«жительствует», «в противуположность»,
«сладострастник», «речений», «надобно», «кофей»,
«агентов по кабакам нарядить», «злодеяние»,
«окрыленность мыслей», «ажитированность». Речевая
характеристика героев усиливает связи «Теорийки» и
«Преступления и наказания». Порфирий, как и у
Достоевского, постоянно использует «словоерсы».
Популярные в устах автора и героев слова с
23
уменьшительно-ласкательными суффиксами можно отметить и
в «Теорийке»: «совпаденьице», «прибавить уютца»,
«сестрица» и т.п. Часто герои образованные выражаются
по-французски или по-латыни: mille pardons, intuitio, alibi, nihil
humanum. Плебс – дворники, мастеровые, торговцы и Сенной
площади – говорят грубо, и здесь Акунин даже
перестарался. В текстах Достоевского нет такого
количества бранной и губой лексики.
В авторских описаниях, Акунин, как и Достоевский,
отдельные слова выделяет курсивом, тем самым
подчеркивая мысль или наблюдение.
М. Золотоносов отмечает, что «точно переписаны
письма Достоевского барону Врангелю и И. С. Тургеневу,
напечатанные в томе 28, письмо адвокату В. И. Губину
из тома 29». [23] Но Акунин не ограничивается
подлинными текстами переписки классика, дополняя ее
мистификацией. Он вводит выдуманное письмо Стелловского
Достоевскому с точными указаниями, как надо написать
роман, обращает его внимание на судебный процесс
Герасима Чистова, убившего двух старух. Контракт между
Стелловским и Достоевским – тоже мистификация на основе
фрагментов писем и документов Достоевского. М.
Золотоносов характеризует акунинский метод создания
романа-игрушки: «Все собирается, как из деталей детского
24
конструктора, а в поисках деталей довольно полистать
ПСС». [23]
Это стилизация под роман Достоевского, причем
стилизация именно его детективной, не идеологической
линии. Но и детективный сюжет служит разным целям в
романах Достоевского и Акунина. У русского классика XIX
в., который один из первых в России разрабатывал этот
популярный современный жанр, детектив служит
привлечению внимания читателя к идее, это основа
психологического триллера, замешанного «на крови». Мы
сразу, с первых страниц знаем, кто убийца, и главный
интерес – в переживаниях и рассуждениях убийцы и его
преследователя. Роман Акунина более легкий и полностью
соответствует стандартам классического детектива, где
есть злодей, благородный сыщик и его помощник,
простоватый, но честный и преданный.
Особенность «Теорийки» – многое из того, что
читателю кажется абсолютно ясным, представляется таким
истинным и несомненным, по мере развития сюжета
оказывается иллюзией. Так, главный герой романа
Достоевского не Раскольников, а сыщик Порфирий
Петрович. Убийца – тоже неожиданный герой, не
Раскольников, а Свидригайлов. За первой жертвой вместо
ожидаемой психологической борьбы следователя с
подозреваемым следуют новые убийства. Вместо прозрения
25
и раскаяния преступник верен своей теории и продолжает
убивать. Орудие убийства – не топор, а трость с
набалдашником в виде сфинкса. На таких моментах
разрушения иллюзий построен весь роман Акунина:
золотоволосый юноша оказывается матерым убийцей,
невинная робкая Саша Морозова играет в паре с Сивухой,
благородный джентльмен, коллекционирующий старинные
рукописи и автографы, оказывается хапугой и
извращенцем-педофилом, коллекционером «пикантного»
видео.
В «Теорийке» сюжет строится по принципу «квеста» –
серии последовательных загадок, которые герои вроде бы
разгадывают, но не часто правда совсем иная. У
Достоевского сюжет обоснован идеей, и движется ею. У
Акунина правит игра случая, непредсказуемое стечение
обстоятельств и случайностей, часто нелепых и смешных.
Эта особенность свойственна популярному в наши дни
жанровому подвиду – ироническому детективу.
Обе фабулы – «Теорийки» и романа Достоевского – в
главном похожи: в обоих случаях ищут «идейного» убийцу.
Имя убийцы Достоевский демонстративно назвал в начале
романа – тем самым показав, что жанр авантюрного романа
он намеренно переворачивает, заходя к нему в тыл.
Стелловский в своем письме (это тоже мистификация
Акунина) просит Достоевского, чтобы преступник не был
26
известен до самого конца. Завет издателя исполняет
Акунин, именно так он поступил и со Свидригайловым,
и с Олегом. К тому же в обоих случаях убийца серийный:
сегодня одно убийство не впечатляет, выглядит
случайностью. Серьезность и значимость преступника
доказывает только серия злодейств. Подчеркнутая
бульварность и китч являются частью игры
Неслучайно в конце своего расследования герои
«Теорийки» приходят к сфинксу: круг замкнулся; роман
начинается с тайны и заканчивается указанием на тайну.
Как такового конца романа нет, его последние строки –
авторская запись, указывающая на то, что он недоволен
наброском романа: «Мочи нет! Всё чушь! Надо не так, не
про то! И начать по-другому!». И последние строки
романа «Ф.М.» – это первые строки «Преступления и
наказания»: «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время,
под вечер, один молодой человек вышел из своей
каморки...». [4, 200]
27
ГЛАВА 2. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ В СИСТЕМЕ ПЕРСОНАЖЕЙ
В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ» И Б. АКУНИНА «Ф.М.»
Система персонажей в романе Акунина в целом
повторяет систему персонажей у Достоевского, но
множество общих черт и ситуаций только подчеркивает
новаторские приемы современного детективщика. По словам
А. Латыниной, в романе «Ф. М.» «игра становится
самоцельной». [27, 147]
Игра с читателем начинается с первых строк «Ф.М.».
В современной линии романа также можно найти прямые
цитаты и перекличку с Достоевским. Автор «Ф.М.»
недоволен началом повествования и после абзаца, полного
жаргонной лексикой, обрывает себя: «Стоп. Неправильно
начал. Дубль два. Поехали». [3, 6] И далее текст
практически повторяет первую фразу романа Достоевского:
«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер,
один молодой человек вышел из своей каморки, которую
нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно,
как бы в нерешимости, направился к К-ну мосту». [1, 41]
Акунин зашифрованные петербургские топонимы
Достоевского накладывает на карту Москвы – ведь
действие обоих романов происходит в столице России,
только в разные времена столицы разные: «Какого-то июля
(конкретные числа Рулет в последнее время догонял
28
смутно) выполз он из своей съемной хаты в Саввинском
переулке совсем мертвый… Выполз, значит, и пошел себе в
сторону Краснолужского моста». [3, 6] Так начинается
акунинская игра с читателем и с классическим текстом.
Игра идет на уровне оглавления: события из XIX в.
вставлены в роман по мере появления папок с частью
рукописи, и каждая такая часть получает название по
цвету папки: зеленая папка, красная папка, синяя папка.
Каждая из глав, повествующих о современных событиях,
называется двумя словами, начинающимися с «Ф» и «М»:
«Фигли-мигли», «Фланговый маневр», «Фа-минор». Но «Ф.
М.» – это еще и инициалы Достоевского, а также Филиппа
Морозова, видного специалиста по творчеству писателя.
Действие раздваивается, происходит в двух временных
пластах. Если в повести «Теорийка» в центре сюжета –
поиск убийцы, то в современных главах главная интрига –
поиск рукописи. Автор дает читателю все, что способно
пощекотать нервы: много трупов, эксклюзивных
заболеваний, фантастических событий и гротескных
характеров. Элементы игры закодированы на всех уровнях
и окончательно «пазл» складывается в описании финальной
битвы героя и злодея – Фандорина и Олега, в которой
по законам сказки отрицательный герой погибает,
а положительный – побеждает. И более того сказочная
условность подкрепляется символической «наградой» героя
29
в виде «красной девицы». Николас в течение всего романа
думал, что жена его планирует уйти к другому, но
оказалось, что она его любит и счастливой семейной
сценой роман заканчивается.
Множество действующих лиц, несколько главных
героев, поглощенных своими идеями, двойники и пародии,
широкий охват событий, чередование иронии, гротеска с
трагическими сценами подчеркивают моральные парадоксы
нашего времени, упадок нравственности и законности в
современной России.
2.1. Образ Родиона Раскольникова у Достоевского и
Акунина
Сравнительный анализ показывает, что место образа
Родиона Раскольникова совсем не равнозначно в
рассматриваемых произведениях. Это центральный образ в
романе Достоевского, один из главных героев – в
«Теорийке» и второстепенный, проходной, сугубо
схематический Рулет – в современной части «Ф.М.».
Отмеченная неравнозначность объясняется силой
идеологической, философской нагрузки, которую несет
герой в каждом из сюжетов.2.1.1. Образ Раскольникова у Достоевского
В центре каждого большого романа Достоевского стоит
какая-нибудь одна необыкновенная, значительная,
загадочная человеческая личность, и все остальные герои
30
так или иначе стремятся к разгадке тайны этого
человека. В «Идиоте» это князь Мышкин, в «Бесах» –
Ставрогин, в «Подростке» – Версилов, в «Братьях
Карамазовых» – Иван Карамазов. В «Преступлении и
наказании» центральным является образ Раскольникова.
Все лица и события располагаются вокруг него, все
насыщено страстным к нему отношением, человеческим
притяжением и отталкиванием от него. Раскольников и его
душевные переживания – вот центр всего романа, вокруг
которого вращаются все остальные сюжетные линии.
В образ Раскольникова Достоевский вложил немало
автобиографических деталей. Начиная с крайней бедности,
состраданием к униженным и оскорбленным, жизнью в
трущобах Петербурга, и до эпилога, действие которого
происходит на каторге. Опираясь на свой личный опыт,
автор изобразил достоверную и точную картину жизни
каторжан. Современники писателя замечали, что речь
главного героя «Преступления и наказания» очень
напоминает речь самого Достоевского: схожий ритм, слог,
речевые обороты.
Но все же в Раскольникове больше типических черт
студента-разночинца 1860-х годов. Герой беден, живет в
углу, напоминающем темный, сырой гроб, голодает, плохо
одет. Его внешность привлекательна и романтична: «…он
был замечательно хорош собою, с прекрасными темными
31
глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и
строен». [1, 42] Портрет «преступника» располагает
читателя к нему и передает авторское отношение.
Как человек думающий, Раскольников полон сомнений и
колебаний, различных противоречий. В нем сочетаются
гордость, озлобленность, холодность и мягкость,
доброта, отзывчивость. Он совестлив и легко раним, его
глубоко трогают чужие несчастья, которые он видит перед
собой каждый день. Этот нищий ободранный студент,
который живет из милости, т.к. хозяйке не платит за
комнату, а кормит его служанка, отличается крайним
бескорыстием. Он легко расстается с деньгами, чтобы
помочь тем, кому еще хуже, будь то семейство умирающего
Мармеладова, проститутка у кабака или юная беззащитная
пьяная девочка на бульваре.
Еще одна характерная черта Раскольникова –
искренность в сочетании с сильной интуицией,
проницательностью в отношении людей и ситуаций. Он сам
искренен и с первого взгляда угадывает лжецов и
подлецов, открыто выражает свои чувства, прямо называет
вещи своими именами.
Герой болен нервными припадками во многом оттого,
что повсюду перед ним картины нищеты, бесправия,
угнетения, подавления человеческого достоинства. На
каждом шагу ему встречаются отверженные и гонимые люди,
32
которым некуда деться, некуда пойти. «Ведь надобно же,
чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было
пойти… – с болью говорит ему задавленный судьбой и
жизненными обстоятельствами чиновник Мармеладов, – ведь
надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно
такое место, где бы его пожалели!.. Понимаете ли,
понимаете ли вы… что значит, когда уже некуда больше
идти?…» Раскольников понимает, ему самому уже некуда
идти, жизнь предстает перед ним как клубок неразрешимых
противоречий. Сама атмосфера петербургских кварталов,
улиц, грязных площадей, тесных квартир-гробов
подавляет, приносит мрачные мысли.
Он чувствует себя подлецом, понимая, что под
угрозой оказывается судьба его матери и сестры. Ему
ненавистна сама мысль о том, что Дуня выйдет замуж за
отвратительного Лужина, тем самым принеся себя в
жертву.
Пытаясь понять, почему так бесчеловечно устроен
этот мир, где господствуют неправедная власть,
жестокость и корыстолюбие, где все молчат, но не
протестуют, покорно неся бремя нищеты и бесправия,
Раскольников выстраивает свою теорию о «разрядах»
человечества, о людях «обыкновенных» и
«необыкновенных». Первые, «господин настоящего», –
безмолвная масса – должны подчиняться существующим
33
законам, они «сохраняют мир и преумножают его
численно». [1, 283] Вторым же, немногочисленным,
позволено все, т.к. они двигают человечество вперед.
Это «господин будущего», которому позволено ради своей
идеи совершать любые преступления.
Показательно, что в беседе с Порфирием Петровичем,
когда Раскольников излагает свою теорию, возникает и
вопрос христианской веры. Раскольников твердо отвечает
«Верую» на прямой вопрос следователя, причем уточняет:
«Буквально».
На протяжении всего романа Достоевский показывает,
как мысль о праве на убийство живого существа и вера в
Христа соединяются в теории Раскольникова, и как вера
оказывается сильнее рассудка, сухих умственных
построений. Не эгоизм и безнравственность всему
причиной, а доведенная до крайней степени боль за
других. Ощущение нравственного тупика, одиночества,
жгучего желания что-то делать, а не сидеть сложа руки,
не надеяться на чудо доводят Раскольникова до отчаяния.
В своей исповеди Раскольников говорит Соне: «Потом я
узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то
слишком уж долго будет.… Потом я еще узнал, что никогда
этого не будет, что не переменятся люди и не переделать
их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это
их закон!.. И я теперь знаю, Соня, что, кто крепок и
34
силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много
посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может
плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех
может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и
так всегда будет!». [1, 433]
Не нужда толкает Раскольникова на преступление, а
идея. Он мог бы заработать на жизнь уроками,
переводами. Ценой одной человеческой жизни улучшить
существование многих людей – вот то, для чего
Раскольников убивает. Вторая причина преступления –
желание проверить себя, узнать, к какому разряду
человечества он принадлежит: «тварь я дрожащая или
право имею». Так что не просто ради человечества идет
на этот грех Раскольников, а ради себя, ради своей
идеи. Позже он скажет: «Старуха была только болезнь… я
переступить поскорее захотел… я не человека убил, я
принцип убил!». Но оказалось все гораздо страшнее:
«Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не
старушонку!» [1, 435]
Но любовь к людям не исчезла в нем вместе с
переходом за грань дозволенного, а голос совести не
удается заглушить уверенностью в правильности теории.
Громадные душевные муки, которые испытывает
Раскольников, несравненно страшнее любого иного
35
наказания, в них и заключается весь ужас положения
Раскольникова.
Роман кончается оптимистично, духовное
«воскрешение» героя совершается через веру, а не на
путях рациональной логики. Достоевский подчеркивает,
что даже Соня не говорила с Раскольниковым о религии,
он пришел к Христу сам.
Итак, у Достоевского герой сначала отрекается от
христианских заповедей, потом совершает преступление, –
сначала признается в убийстве, а потом духовно
очищается и возвращается к жизни.
Раскольников заслуживает для себя счастье –
взаимную любовь и обретение гармонии с окружающим миром
– непомерными страданиями и муками. В этом заключается
еще одна ключевая мысль романа.2.1.2. Роль Раскольникова в «Теорийке» Акунина
Герои «Теорийки» лишены той серьезности, трагизма и
философской нагрузки, которая свойственна персонажам
«Преступления и наказания». Они значительно проще и
площе (от слова «плоский»), могут быть смешными
и жизнерадостными, даже нелепыми. В «Теорийке» Родион
Раскольников как внешне, так и внутренне,
психологически, повторяет своего двойника из
классического романа. Но его теория не приводит к
преступлению. Убийцей оказывается совсем другой
36
персонаж, действительно отрицательный герой, и потому
читателю его совсем не жаль.
Вообще, в акунинской версии «Преступления и
наказания» читателю никого не может быть жаль, ведь это
роман-игрушка. Потому и жертвы (которых в «Теорийке»
намного больше, чем в оригинале Достоевского)
не вызывают жалости – они очень условные, как фигуры в
компьютерной игре.
Родион Раскольников в «Теорийке» уже не главный
герой. Он и появляется в повествовании, когда произошло
первое убийство, идет расследование, сюжет развернулся,
на стр. 58. Причем сначала мы узнаем его инициалы
«Р.Р.Р.», а потом уже, вспомнив заинтересовавшую его
статью, имя Раскольникова называет Порфирий Петрович.
Тут же читатель узнает о герое, что он крайне беден, и
хозяйка квартиры жаловалась в полицию, что студент
денег не платит за жилье.
Автор прослеживает духовную эволюцию другого
персонажа – Порфирия Петровича, а нищему студенту
отводится роль «приманки», которая отвлекает внимание
следователя и читателя от истинного убийцы. Поэтому
здесь нет подробных описаний, монологов, герой крайне
схематичен, как схематична и его теория. Об этом
говорит акунинский Свидригайлов: «Какой из Родион
Романовича убийца? Убийство – дело серьезное, а у него
37
фантазии одни. Главное же, сердце у него жалостивое, не
то что у меня… Для убийства нужен человек грубый,
человек действия, арифметический человек. Так что с
Родионом Романовичем вы обмишурились». [4, 189]
Действительно, у Акунина Раскольников – человек
теории, не перешагнувший пропасть между теорией и
практикой. А без личности «сверхчеловека» перед нами
просто нервный нищий болезненно гордый молодой человек,
который готов пасть в ноги Лужину, по его собственному
признанию, чтобы молить за Соню. Трудно представить
также героя Достоевского, который бы сердечно
благодарил Свидригайлова за обустройство судьбы
Мармеладовых. Своей силой образ Раскольникова был
обязан именно дикому контрасту человеколюбия и
ненависти, готовности отдать последнее и убить.
C потерей силы и значимости образа Раскольникова
уходят на второй план и даже едва упоминаются другие
важнейшие персонажи Достоевского, такие как Соня.2.1.3. Двойники Раскольникова в «современных» главах романа
«Ф.М.»
Начало романа «Ф.М.» зеркально отражает начало
«Преступления и наказания». Также на сцене появляется
герой, которому суждено стать убийцей. Однако используя
в первом абзаце бранную и жаргонную лексику, Акунин
подчеркивает контраст между героями, выполняющими
38
сходные функции в обоих романах. Общего у наркомана по
кличке Рулет со студентом Родионом Раскольниковым
довольно много, но все это поверхностное сходство,
которое усиливает мотив игры с читателем. Вроде бы все
ожидания читателя подкрепляются, но неожиданно действие
романа уходит совсем в другом направлении.
Персонажи имеют одинаковые инициалы Р. Р. Р.:
Родион Романович Раскольников и Руслан Рудольфович
Рульников. Акунин наделяет Рулета приятной внешностью,
буквально повторяя описание Достоевского: «Он показался
Фандорину симпатичным: высокий, стройный, с красивыми
темными глазами». [3, 18] Так же, как и Родион,
акунинский герой находится в полнейшей нищете, так же
снимает маленькую комнатушку, похожую на шкаф или на
гроб, и должен квартирной хозяйке. Оба живут на деньги,
которые присылает мать, не обедают уже несколько дней и
не замечают этого.
И тот и другой – будущие юристы. Но если студент
Раскольников вынужден был оставить университет
вследствие «невозможности содержать себя», то бывший
студент Рулет забросил институт, подсев на наркотики. С
первых же сцен авторы обращают внимание читателя на
необычайно нервное состояние своих героев, однако
причины болезни разные, симптоматичные. Причина болезни
Рулета – не напряжение мысли и страстные переживания,
39
думы о глобальных общечеловеческих проблемах, а
банальная абстиненция.
Каждый из героев думает о самоубийстве, не в силах
выносить такую тяжелую и безнадежную жизнь. Так, для
Рулета лучшим выходом кажется – загнать полный шприц
воздуха, «от этого сердце на куски лопается». [3, 9]
Показательно также место в столице, которое
посещает герой. Сенная площадь в Санкт-Петербурге
второй половины XIX в. – это символ порока, место, где
обитают самые несчастные, нищие, и в то же время, где
собираются криминальные деятели, проститутки, где полно
дешевых «нумеров» и кабаков. Отправляя Рулета на Плешку
(Площадь трех вокзалов в Москве), Акунин проводит
параллель с Сенной позапрошлого века. Действительно,
это место в наши дни имеет самую дурную славу, там
собираются жулики, бандиты, бродяги и другие
криминальные элементы.
Наркотическая зависимость у столичной молодежи –
такая же примета нашего времени, как одержимость
Раскольникова общечеловеческой значимости идеями –
характерная примета настроений молодых нигилистов конца
XIX в. И каждого из персонажей-двойников пагубная
страсть приводит к насилию, причем даже способ убийства
– бить жертву по голове, исступленно и нерасчетливо –
одинаковый. Однако Раскольников идет на преступление,
40
чтобы проверить теорию и себя, в то время как Рулет
совершает банальный разбой, разбивает голову
литературоведу Морозову. Причем, Акунин подчеркивает,
что Рулет не хотел убивать, показывая страх героя: «За-
мо-чил, за-мо-чил, стучало в висках у Рулета. Всё.
Теперь всё. Сгорел как в танке!» [3, 10] Возможно,
Акунин не доводит своего героя до убийства, тем более
до двойного убийства с невинной жертвой Лизаветой, как
это случилось с Раскольниковым, потому что страдания
наркомана менее разрушительны для общества, чем
одержимость умного человека теорией, разрешающей «кровь
по совести».
Сходство жизненных обстоятельств Раскольникова и
Рулета – элемент игры, пародия, и в целом, трудно не
согласиться с А. Латыниной, что «Рулет – даже не
сниженный Раскольников, он вообще никакой не
Раскольников, и не потому, что живет в другом веке, а
потому, что его ленивая мысль лишена всякого
метафизического напряжения, а душа пуста. Он не идейный
преступник, не трагический герой, а просто городская
шваль». [27, 149]
В отличие от главной роли Раскольникова, роль
Рулета эпизодическая, проходная, и автор быстро от него
избавляется, причем убивает его другой герой, в котором
тоже можно обнаружить сходство с Раскольников, но уже
41
идеологического характера – «урод-супермен-пес-демон
Олег Сивуха, в котором раскольниковские
сверхчеловеческие амбиции втиснуты в скроенную из
расхожих масскультовых элементов пеструю мертвенную
оболочку». [33]
Двойники Раскольникова присутствуют по всему тексту
романа «Ф.М.», его современной сюжетной линии. Цельная
фигура этого центрального персонажа «Преступления и
наказания» раскололась у Акунина на галерею двойников.
Самый очевидный и ясный из них Рулет, хотя несчастный
наркоман получил только сходные внешние обстоятельства.
Идеологическую нагрузку «сверхчеловека» несут несколько
персонажей, каждый из которых так же страстно к чему-то
стремится, как Раскольников – к утверждению своей идеи
и себя как «права имеющего».
Так, если Рулет хочет всего лишь наркотиков, то
стремления Олега Сивухи уже более глобальные – ему
нужна полная компенсация своей физической
неполноценности, прямо скажем, уродства, в виде полной
власти над людьми. Он – тот самый хладнокровный убийца,
и на его счету жертвы, которые вполне по мерзости могут
сравниться с «гадкой старушонкой». Олег – в полной мере
дитя своего времени, и автор не жалеет ужасных
красочных подробностей для его преступлений. Тут и
педофилия, и педерастия – когда он в первый раз убил,
42
чтоб защитить отца. И обольщение наивной дочки
садовника, через которую он попал в дом другого врага
отца и подготовил его убийство. Причем жертвы Олега не
вызывают сочувствия, поскольку сами являются монстрами,
как например, любитель домашнего порно алчный
коллекционер Лузгаев или старуха-эксперт Элеонора
Ивановна Моргунова со страшным преступлением против
своей сестры полвека назад.
От Раскольникова Олегу досталась тема христианской
веры, но автор делает ее утрированно внешней, на уровне
символов. Эту тенденцию озвучивает Акунин во внутреннем
монологе Николаса Фандорина: «Что за времена такие,
всякий шустрила непременно воображает себя избранником
Провидения». [3, 213] Так, принадлежностью дома крутого
бандита (чиновника, депутата) является домашняя часовня
с богатым убранством. После чудесного избавления от
угрозы жизни отец Олега построил часовню, причем
подчеркивает ее безвкусицу.
Олег как тонкий психолог играет на слабостях и
страхах людей, и один из самых сильных страхов
преступников, которых он наказывает, – это страх перед
Богом. Так ему удалось «перевоспитать» беспощадного
киллера Игоря, который после явления «ангела» зарекся
на всю жизнь убивать, еще один покушавшийся на отца
партнер-бизнесмен-чиновник был убит стараниями Олега в
43
собственной часовне пафосным массивным малахитовым
распятием в темечко.
Гениальный карлик действительно возомнил себя
богом, имеющим право карать любого. Неслучайно Сивуха-
старший восклицает «У нас все наоборот, понимаете? В
Библии Бог – отец, а у меня Бог – Сын». [3, 162] Это
звучит примерно так же, как раскольниковское «Ежели
Бога нет, то все позволено». Если бог ложный – это то
же, что его нет.
Отец Олега – депутат-бизнесмен Аркадий Сергеевич
Сивуха также одержим своей страстью, он жаждет оставить
свое неблагозвучное имя в вечности, при этом мания
величия вполне сопоставима с идеей Раскольникова о
величии избранных. Так, рассуждая о своем фри-масонстве
и связанном с ним предназначении, Сивуха говорит об
окружающих людях: «Они кто? Жуки навозные, а я вольный
каменщик. Вот выбьюсь в мастера – такого понастрою,
весь мир ахнет». [3, 213]
Мания величия свойственна еще одному герою –
доктору Зиц-Коровину, который жаждет власти над умами
людей. Ему также свойственно пренебрежение к
человеческой жизни, ради научного эксперимента он готов
пожертвовать всем.
2.2. Порфирий Петрович в интерпретациях
Достоевского и Акунина
44
Следователь Порфирий Петрович является своеобразным
двойником и в то же время антиподом Раскольникова, его
роль в романах Достоевского и Акунина выходит за рамки
образа сыщика в традиционном детективе. Только
благодаря абсолютно точному пониманию психологии
преступника, мотивов убийства он сумел раскрыть
преступление.
2.2.1. Образ сыщика в «Преступлении и наказании»
В романе Достоевского Порфирий Петрович, пристав
следственных дел и дальний родственник Разумихина, в
первую очередь, умный и тонкий психолог. Сильно
развитая интуиция, глубокое понимание человеческой души
позволяет назвать его двойником Раскольникова. Как
юрист и настоящий профессионал, он смог оценить статью
студента о природе преступления, и сразу связал
нетипичное убийство процентщицы и ее сестры с автором
теории о сверхчеловеке.
Достоевский дает портрет Порфирия Петровича,
невысокого мужчины лет 35-ти, особо выделяя, с одной
стороны, его невзрачный вид – он круглый, пухлый, в
фигуре «даже что-то бабье», – а с другой стороны
подчеркивает его ум и проницательность, описывая
выражение глаз «с каким-то жидким водянистым блеском,
прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая
кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не
45
гармонировал со всею фигурой…». [1, 273] В глазах
Порфирия было «нечто гораздо более серьезное», чем
следовало ожидать.
Поэтому Раскольникова он читает как открытую книгу.
Например, сразу понимает причину наигранной веселости и
игривости, с которой студент вваливается в его квартиру
для первого знакомства.
Порфирий видит рациональное зерно в статье
Раскольникова, но свою точку зрения высказывает через
вопрос, верует ли Раскольников в бога, в воскресение
Лазаря. И неслучайно следователь относится к нему с
уважением – как к заблуждающемуся, но значительному по
своим мыслям человеку.
В беседах следователь играет с Раскольниковым, как
кошка с мышью, запутывая его, вызывая на откровенность,
кидая намеки и ослабляя хватку. И он добивается своего,
Раскольников сам приходит на вторую встречу, хотя
«всего ужаснее было для него встретиться с этим
человеком опять: он ненавидел его без меры, бесконечно,
и даже боялся своей ненавистью как-нибудь обнаружить
себя». [1, 351] В беседе Порфирий Петрович дает
совершенно прозрачные намеки Раскольникову о своих
подозрениях, раскрывает свои методы и приемы следствия
и заявляет, что так может прижать преступника, что тот
«не по этому одному не убежит от меня, что некуда
46
убежать: он у меня психологически не убежит, хе-хе!».
[1, 359] Достоевский в речи Порфирия не случайно
выделяет курсивом слово «психологически» – это основа
всего метода, и это центр интереса писателя.
Следователь очень точно угадывает состояние
Раскольникова: «Видали бабочку перед свечкой? Ну, так
вот он все будет, все будет около меня, как около
свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет
задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает,
как в сетях, затревожит себя насмерть!» [1, 359]
Следователь сбрасывает маску только в последний
момент, когда приходит к Раскольникову на квартиру. При
всей своей симпатии к незадачливому убийце, он в первую
очередь, выполняет свои обязанности: заставляет
преступника признаться в содеянном. Он снова запутывает
студента своими намеками, шутками, откровениями, причем
где шутка, а где прозрачный намек, Раскольников уже не
в силах разобраться. Порфирий Петрович призван
принизить идею в глазах Раскольникова, прозаически
развенчать ее. Насмешки следователя превращают
сверхчеловека Раскольникова в нелепого шута: «Тут
книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце»,
– и далее Порфирий иронически описывает, как убийца «на
преступление-то словно не своими ногами пришел», и
перечисляет его ошибки, указывающие на то, что перед
47
нами совсем не сверхчеловек. [1, 468] Он описывает
каждый шаг просто с ужасающей точностью, до мельчайших
подробностей. И только победив в этом глубоком
философском споре, следователь получает признание
преступника.
С необычайным искусством Достоевский показывает
диалог между Раскольниковым и Порфирием, который
ведется как бы в двух аспектах: во-первых, каждая
реплика следователя приближает признание Раскольникова;
а во-вторых, весь разговор резкими скачками развивает
философское положение, изложенное героем в его статье.
Постепенно проницательный следователь, не имеющий ни
одной улики, доводит подозреваемого до нервного срыва и
фактического признания.
Кроме высокоразвитого интеллекта, свободного
мышления, интуиции, Порфирий Петрович и Раскольников
сходны своим гуманизмом, сильно развитым состраданием к
ближнему. Порфирий видит муки преступника, искренне ему
сочувствует и уважает за готовность жертвовать собой из
принципа. Получив признание, следователь не только по-
христиански ободряет его: «Ищите и обрящете. Вас,
может, бог на этом и ждал». Он высказывает ему свое
искренне уважение и поддержку: «Вышло-то подло, это
правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем
не такой подлец! … Я вас почитаю за одного из таких,
48
которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с
улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль
бога найдет». [1, 472]
Но кроме гуманизма и сострадания, Порфирию
свойствен также жесткий прагматизм. После того как
получил признание, он прощается с Раскольниковым, дает
ему «погулять немножко», но предупреждает, что если тот
вздумает покончить с собой, чтобы оставил
«обстоятельную записочку». Т.е. не забывает и о своем
деле, своей карьере – преступление в любом случае не
должно остаться нераскрытым, и за Раскольникова не
должен страдать оговоривший себя Николка.2.2.2. Порфирий Петрович как главный герой «Теорийки»
«Не люблю Раскольникова, зеваю от Сони
Мармеладовой, а вот следователь Порфирий Петрович мне
безумно интересен. Достоевский про него мало сообщил,
хочется больше, и Порфирий у меня главный герой», –
искренне признается Б. Акунин. [13, 16]
Следователь Порфирий Петрович, как мы показали
выше, и у Достоевского выполняет очень важную функцию в
романе, трезво анализируя его теорию, выставляя всю ее
слабость и при этом ободряя преступника, вселяя в него
надежду на новую жизнь.
В «исторических» главах романа «Ф.М.» Порфирий
Петрович становится главным действующим лицом. Не
49
случайно «Теорийка» начинается с описания его хлопот по
обустройству новой квартиры, вокруг него закручиваются
все нити повествования, и автор посвящает истории
Порфирия, начиная с детских лет, целую главу.
Если в «Преступлении и наказании» следователь –
двойник и отражение Раскольникова, то в «Ф.М.» он
двойник сквозного акунинского героя Фандорина, чьи
приключения описаны в десятках романов Акунина. По
времени жизни он связан с Эрастом Фандориным, а в
анализируемом романе – служит двойником Николаса
Фандорина, потомка Эраста, нашего современника. Акунин
прозрачно намекает, что надворный советник Порфирий
Петрович Федорин также происходит из рода Фандориных,
хотя фамилия его и видоизменилась на созвучную Федорин.
Описание внешности персонажа практически совпадает
с портретом, который дает Достоевский, однако за
внешним сходством мы видим, насколько непохожи
персонажи внутренне. Раскольников и Порфирий Петрович
словно бы меняются местами. Автор прослеживает духовную
эволюцию сыщика, а не преступника. Психологическая
анатомия преступления, гениально выполненная
Достоевским, под пером Акунина превращается в свою
противоположность – анатомию наказания. Чтобы
установить, под воздействием каких внешних и внутренних
факторов формируется характер Порфирия Петровича,
50
писатель наделяет его прошлым и вводит в роман спе-
циальную главу, посвященную его детским и юношеским
годам. Акунин рассказывает подробно историю рода
Федориных, повествует о рождении и детстве героя,
приводит характеризующие его случаи из жизни
Первым ключом к внутреннему миру героя становится
эпизод в училище: чтобы завоевать уважение одноклассни-
ков, Порфирию нужно было провести ночь в старой
конюшне, где по преданию, истязали «провинных», многих
до смерти засекали. Одноклассники переоделись в
привидения, и когда пробила полночь, начали завывать и
пугать новенького. Порфирий потерял сознание, но
начальству гимназии никого не выдал, взяв всю вину на
себя: «Из этой маленькой истории видно, как уже с
раннего возраста в нем сочетались чрезвычайная
впечатлительность и столь же необыкновенная твердость
характера. Первое из этих качеств с возрастом отнюдь не
исчезло, лишь внешне стало менее приметным. Второе же,
пожалуй, только усилилось». [3, 48]
Следующим ключом к характеру Порфирия Петровича
является его первое служебное задание, в котором
следователь проявил «неостановимую дотошность и редкую
неустрашимость». Молодой следователь сталкивается с
загадкой, которая содержит в себе и нравственный выбор:
внезапно умирает честный ревизор, нашедший немало
51
компромата на местных чиновников, в том числе и на
«лихоимца»-губернатора. В поднявшейся после смерти
ревизора суматохе исчезает портфель с компроматом.
Чтобы замять дело, его поручают неопытному Порфирию.
Однако молодой следователь выводит местных казнокрадов
на чистую воду и раскрывает их злой умысел. В этой
ситуации Порфирий проявляет свои лучшие черты: логику,
предусмотрительность, способность решать
интеллектуальные задачи.
Его сильный логический ум позволяет заочно
определить цели, которыми руководствует преступник:
«Нечто ужасно возвышенное и благородное-с, претендующее
не менее как на осчастливливанье человечества. Что-
нибудь настолько прекрасное, что ради этакой красоты
вполне извинительно вредную вошь вроде какой-нибудь
Алены Ивановны или Дарьи Францевны топором-с по
макушке». [4, 55]
Он предугадывает следующий шаг преступника –
убийство Лужина следователь тоже очень точно
квалифицирует: «…Здесь кроме общественной пользы,
избавить человечество от подлеца, еще и личный мотивец
присутствует, а необыкновенные люди к своему личному
интересу всегда очень неравнодушны-с». [4, 56] Эта
особенность – личная выгода от убийства – характерна и
52
для теории Раскольникова у Достоевского, и ее
проницательно замечает акунинский Порфирий.
Однако в отличие от персонажа Достоевского,
акунинский Порфирий приобретает черты типичного сыщика
из классических детективов сродни Эркюлю Пуаро Агаты
Кристи или Шерлоку Холмсу Конан-Дойля. Это неординарный
мыслитель, который распутывает интригу в ходе бесед с
участниками событий, постигая их психологию и
психологию самого преступления. Любитель логических
загадок, он в равной степени превосходно владеет и
дедуктивным методом, и навыками практического сыска,
предпринимает и активные, оперативные, даже авантюрные
шаги.
Так, с первой главы «Теорийки» мы видим Порфирия в
деле, узнав об убийстве процентщицы Шелудяковой Алены
Ивановны, он сразу предпринимает нужные шаги, а потом
несколько суток не спит, проверяя свои догадки. Акунин
при этом наделяет Порфирия и простыми человеческими
чертами, как новый сотрудник, он стремится проявить
себя в лучшем виде, озабочен «не опростоволоситься бы»,
и в самодовольном желании проявить себя наилучшим
образом, вызвать восторг в новом коллективе поддается
иллюзии: «Русский убийца простодушен и потому легко
изобличаем». Поэтому акунинский Порфирий Петрович
настроился расследовать «не европейское, а русское
53
преступление, на авось», и даже уже ощутил «азартное
щекотание в носу» от гарантированного успеха: «очень
недурно выйдет и для формулярного списка, и в смысле
репутации».
Если у Достоевского проницательный сыщик
торжествует, то акунинский Порфирий Петрович посрамлен
в своих идеологических построениях и карьерных
надеждах, а финальный «русский разговор» с холодным и
расчетливым убийцей Свидригайловым совершенно
опровергнет его умозрительную веру в особую широту души
и благородную бесшабашность русского преступника. Автор
оставляет открытый финал, обрывая повествование на
моменте, когда убийца забирает оружие следователя,
поэтому возможно, что и Порфирий Петрович пополнил
«арифметику» Свидригайлова.
При этом, как отмечает Г. Ребель, «акунинский
Порфирий Петрович не умален относительно героя
Достоевского, но несколько снижен, приземлен, одернут
(буквально – ударом по руке), чтоб не особенно
зарывался и ни на минуту не забывал, что жизнь сложнее
любых расчетов и не укладывается даже в самую
изощренную следовательскую логику». [33]
Акунин также наделяет своего героя силой и
ловкостью. Так, в засаде под дверью Лужина он
показывает Заметову приемы борьбы, а оказавшись
54
безоружным рядом с убийцей, он не теряется и хитростью
практически добрался до своего пистолета.
По законам детективного жанра главному герою
необходим преданный, горящий энтузиазмом, но обладающий
вполне заурядными умственными способностями помощник,
чьи промахи и ошибочные теории контрастно оттеняют
безупречные умозаключения сыщика-гения. В «Ф.М.» таким
верным помощником, по-юношески «влюбленным» в своего
начальника-наставника, является письмоводитель Заметов.
Преступление представляет собой прежде всего
психологическую загадку, расследование – загадку
интеллектуальную, поэтому в романе Акунина акцент с
внутреннего действия перемещается на внешнее и про-
порционально росту значимости Порфирия Петровича
ослабевает сюжетная роль Раскольникова. Он важен
Акунину лишь как одна из «пружинок» фабульного
механизма; его внутренний мир практически не прори-
сован.
Лидирующая роль Порфирия Петровича подчеркивается с
первых же страниц «потерянной рукописи». О
совершившемся преступлении мы узнаем от Заметова,
который прибегает на квартиру к надворному советнику с
новостью из участка. Порфирий Петрович незамедлительно
приступает к расследованию. На первый взгляд, задача
облегчается тем, что у него имеется свидетель: Лизавета
55
была лишь оглушена ударом топора, но не убита. Однако
эта «ниточка» быстро обрывается: потерпевшая не в
состоянии сообщить ничего существенного, так как из-за
своей робости она даже повернуться и посмотреть на
обидчика не смогла, очнулась лишь в больнице. Таким
образом, пытаясь восстановить ход событий, приведших к
трагедии, и найти ее виновника, Порфирий Петрович
должен опираться только на логику и интуицию. Как и в
романе-прототипе, статья Раскольникова еще до убийства
привлекла его внимание, однако ввиду отсутствия прямых
улик арестовать главного подозреваемого он не может.
Охота Порфирия на Раскольникова становится частью
игры с читателем, который ждет соответствия сюжету
«Преступления и наказания». Ожидания читателя обмануты,
Раскольников оказывается ни при чем, но это не важно –
сыщик все равно схватил преступника.
Определенная авторская ирония проявляется в том,
что сложнейший решающий психологический поединок
Порфирия Петровича и Раскольникова заменен физической
борьбой следователя со Свидригайловым. Порфирий
получает от убийцы удары набалдашником трости в виде
сфинкса, одновременно прозревая таким образом, кто же
является настоящим убийцей. Эта подмена вполне
соответствует главной тенденции массовой культуры:
упрощение, адаптация сложных вещей для широких масс
56
потребителей произведения искусства, картинка
становится важнее текста. Поэтому драка – это более
зрелищно и понятно простому читателю, чем витиеватые
разговоры.
2.2.3. Николас Фандорин – современный Порфирий Петрович
Главный герой «современной» линии романа «Ф.М.» –
Николас Фэндорайн, англичанин российского происхождения,
магистр истории, внук героя другой серии романов
Акунина – Эраста Петровича Фандорина. Потомок
знаменитого сыщика, поселившийся в Москве и сменивший
имя на Николай Александрович Фандорин, также как и его
предок, отличающийся умом и проницательностью, открыл
собственное консалтинговое агентство «Страна советов»,
которое берется за различные случаи, требующие
неординарного мышления. Причем клиенты получают не
просто готовые решения, но и что-то вроде психотерапии,
что является приметой нашего времени, когда священника
заменяет психоаналитик. В то же время эта деталь
символически отсылает и к идее Достоевского о том, что
беды человеческие идут от больной души.
Возраст Николаса Фандорина – такой же, как и
Порфирия Петровича, около 35 лет. У них общие корни, но
в отличие от невзрачной внешности героя Достоевского,
акунинский герой хорош собой, выглядит как благородный
джентльмен, водит экстравагантный автомобиль и т.п. Это
57
уже не кабинетный мыслитель, но деятельный активный
человек, который успевает сразу во много мест.
Делая из Фандорина современного героя детективного
романа, Акунин наделяет его образ эффектными деталями.
В сопровождении эффектной ассистентки Вали, воплощения
порока, и милой юной Саши, воплощения невинности,
Николас носится по Москве то на лондонском «метрокэбе»,
то на розовой «альфа-ромео», то на «бентли». Они бывают
и «на дне» общества, в квартире наркомана Рулета и
алкоголички-хозяйки квартиры (логово Валета), и на
Рублевке, наблюдая быт и нравы современной элиты.
Вместо секретаря Заметова его сопровождает
красотка-трансвестит Валя Глен, которая более
материально состоятельна, чем ее патрон. Заметов не
умел даже скрутить руку преступнику при задержании, в
то время как Валя владеет боевыми искусствами, однако в
обеих сюжетных линиях «Ф.М.» они терпят поражение от
убийцы. В «Преступлении и наказании» помощник
следователя не имеет такой роли, он просто выполняет
указания, ассистирует Порфирию Петровичу.
Порфирий хладнокровно преследует убийцу, и Николасу
также свойственна английская невозмутимость в сложных и
опасных ситуациях. Но если герой Достоевского полон
философских мыслей, и его борьба, в первую очередь,
идеологическая, психологическая, то Фандорин – человек
58
действия, и в его размышлениях над шарадами решающую
роль играет случай в виде монеты-талисмана – потертого
дублона.
Акунин не акцентирует внимание на психологической
мотивировке поступков героев, не придает значения
логическим противоречиям. Это можно объяснить
особенностью жанра – роман-игрушка, компьютерный квест.
Поэтому Николас Фандорин – это просто функция сюжета,
бегущая фигурка на экране. И остальные персонажи
принимают участие в игре, помогая или мешая герою
пройти новый уровень, замедляя или ускоряя действие,
выступая в роли союзника или злодея. Отсюда – множество
переодеваний героев, смена масок. Так, скромную Сашу
переодевают в вызывающе сексуальную одежду, чтобы
придать ей сходство с «лялькой», т.е. юной содержанкой.
Помощница Николаса Валя то изображает лесбиянку, то
говорит на жаргоне с наркоманом, то надевает костюм
ниндзя, чтобы проникнуть в закрытую клинику. Но
«чемпион» по смене масок – Олег.
Николас с головой погружается в невероятные
и опасные приключения, связанные с поисками неизвестной
до сих пор рукописи Достоевского, предположительно,
наброска знаменитого романа «Преступление и наказание».
Акунин пишет роман-квест, компьютерную игрушку, отсюда
и поиск «артефакта» (рукописи) в центре сюжета, вокруг
59
которого разворачиваются истории всех героев романа, и
образ главного героя-супермена, построенный на
английской сдержанности и невозмутимости с элементами
восточного аскетизма.
Также в отличие от Порфирия, Николас – семейный
человек, муж красавицы-бизнесвумен Алтын и отец двух
детей. То, что Николас – такой же обычный человек,
Акунин подчеркивает, заставляя героя страдать от
воображаемой измены жены. Эти муки ревности преследуют
его на протяжении всего романа. Вообще, Николаса
нетрудно ввести в заблуждение, играя на его добрых
чувствах и порядочности. Так поступает Саша Морозова,
используют его втемную отец и сын Сивуха, даже наркоман
Рулет кажется Николасу милым парнем с очаровательной
улыбкой.
Несмотря на все свое простодушие, сыщик применяет
дедуктивные способности и с помощью удачного стечения
обстоятельств, банального везения он разгадывает одну
шараду за другой, вычисляя местонахождение разрозненной
рукописи.
2.3. Свидригайлов и Олег – философствующие
преступники
«Между нами есть какая-то точка общая», – говорит
герой романа «Преступление и наказание» Свидригайлов в
разговоре с Раскольниковым. [1, 307] И далее в беседе
60
восклицает: «Ну, не правду я сказал, что мы одного поля
ягоды?» [1, 310] Несмотря на многие противоречия и
различия, между ними есть определенная связь, и это
общность их идей в различных интерпретациях.
Идеологические союзники и оппоненты Раскольникова
представляют разные версии его идеи, и эту тему
продолжает Акунин в своем романе. Образ Свидригайлова
как одного из двойников Раскольникова в «Преступлении и
наказании» у Акунина раздваивается и заостряется. В
«Теорийке» он отводит Свидригайлову роль убийцы со
своей теорией, а в современных главах «Ф.М.» его
функции берет на себя Олег Сивуха.
2.3.1. Преступление и наказание Свидригайлова у
Достоевского
В красивом лице Свидригайлова, подчеркивает
Достоевский, было что-то «ужасно неприятное», и этот
моложавый развратный барин осознанно играет роль
«пошляка»: «…а отчего же не побывать пошляком, когда
это платье в нашем климате так удобно носить и … и
особенно, если к тому и натурально склонность имеешь».
[1, 304]
Как и в портретах других персонажей, у Достоевского
большую роль в характеристике героя играет описание его
глаз. Говоря о Свидригайлове, писатель подчеркивает
деталь: «его глаза смотрели холодно, пристально и
61
вдумчиво». За маской пошляка и циника скрывается
думающий, ищущий человек, но для Свидригайлова нет
ничего святого, ему все позволено, а вместо страшного
суда он представляет вечность в виде «закоптелой бани с
пауками».
Истоки теории Раскольникова – в отрицании
существующего несправедливо устроенного мира, полного
страданий, но и обосновывая право на убийство, главный
герой сохраняет веру в идеал, христианские идеи ему
близки. Свидригайлов же носит в себе трагическое и
циническое отчаяние, его восприятие мира безысходное,
бесперспективное и лишенное всяких надежд и веры.
Свидригайлов не только на словах, но и на деле
пренебрегает человеком, всеми и каждым, не ценит
никого, стремясь использовать людей для своих прихотей.
В его образе идея Раскольникова воплощается как бы на
более низком уровне, лишенная гуманизма и сострадания к
людям. И Раскольников понимает эту степень «родства»
между ними, общее в отношении к жизни, к нравственным,
духовным ценностям, поэтому и ужасается, понимая, что в
Свидригайлове «таится какая-то власть над ним».
Они присматриваются друг к другу, и Свидригайлов
чувствует, что Раскольников личность более
неординарная, стремится исследовать его как «любопытный
субъект для наблюдения». И Раскольникову тоже нелегко
62
разгадать Свидригайлова: «Признаюсь, – говорит он
сестре, – ничего хорошего не понимаю. Предлагает десять
тысяч, а сам говорил, что не богат. Объявляет, что
хочет куда-то ехать, и через десять минут забывает, что
об этом говорил… Вообще он странным мне показался и…
даже с признаками помешательства. Но я мог и
ошибиться…». [1, 329]
Раскольников старается понять Свидригайлова, и чем
больше размышляет об этой личности, тем яснее ему
становится, что они все-таки не «одного поля ягоды», он
разочарован пустотой, которая скрывается за словами.
Непреодолимая черта между ними в том, что Раскольников
не может оправдать «распущенности и нравственной
опустошенности Свидригайлова». Свидригайлов также
считает, что все дозволено, что наши действия не
подлежат нравственной оценке, но Раскольников видит не
общность идей, а уловку шулера, «сладострастного
развратника и подлеца». Свидригайлов – нравственный
нигилист в первоначальном и точном значении слова, а
Раскольников руководствуется понятиями добра и зла даже
после того, как убил, вот это Свидригайлову понять не
дано. Окончательную итоговую характеристику героя
Достоевский вкладывает в уста Раскольникова: «В
Свидригайлове он убедился как в самом пустейшем и
ничтожнейшем злодее мира». [1, 499]
63
Раскольников хочет жить, он верит в искупление и
возможность переустройства жизни. Свидригайлов же
издевательски циничен, насквозь пронизан иронией
безнадежности. Он признает свое бессилие перед миром и
перед собственными страстями, у него нет выхода и нет
идеи. Так Достоевский показывает, что все-таки
Свидригайлов – это не двойник Раскольникова, а
отражение его идеи. Именно благодаря его образу,
циничному и безыдейному, раскрывается суть идеи
Раскольникова. По словам В. Шкловский писал:
«Свидригайлов, став тенью Раскольникова, снизил
бунтаря. Свидригайлов – это освобождение от запретов
нравственности, данное злодею, не знающему ничего,
кроме своих желаний, и приходящему к смерти». [41, 490]
2.3.2. Свидригайлов – «идейный» убийца у Акунина
В «Теорийке» Акунина Свидригайлов также выступает в
роли двойника Раскольникова, причем не только
идеологического, подозрения в совершенных им убийствах
на протяжении всей повести падают на студента.
Как и Достоевский, Акунин описывает героя
щеголевато одетого мужчину «лет пятидесяти, росту
повыше среднего», отмечает его светлые вьющиеся волосы
и густую бороду. В целом, портрет указывает, что перед
нами человек, полный жизни: голубые глаза и алые губы.
В отличие от измученного сырым пасмурным Петербургом
64
Раскольникова, Свидригайлов имеет «цвет лица свежий,
непетербургский». Акунин несколько утрирует и упрощает
портрет, но в описании взгляда персонажа дословно
цитирует Достоевского: «смотрели холодно-пристально и
вдумчиво».[4, 13-14]
Акунин дает этому персонажу стройную теорию, это
уже не просто пошляк и циник, развратный барин, но
именно идейный преступник. Этот идейный серийный
убийца, сам себя «выводящий в нуль», за каждую свою
невинную жертву уничтожая существо, по его мнению,
«вредоносное», – вполне логичная и закономерная
вариация на тему Раскольникова: если ради абстрактной
благой цели убивать дозволено, то уж убийство во
искупление реально причиненного зла вроде бы должно
восприниматься как положительное дело. Рассудочный
подход в проблеме нравственности и морали выражается в
«арифметике», придуманная Свидригайловым формула по
существу является упрощенной версией сложной
теоретической конструкции Раскольникова.
Играя с романом Достоевского и с читателем, Акунин
евангельскую идею «воскресения через смерть»,
воплощенную в образе Раскольникова, примеряет на
убийцу-Свидригайлова. Если убийство для Раскольникова –
тес на свою принадлежность к сильным или общей массе,
65
то для акунинского Свидригайлова преступление
становится способом покаяния.
Как и главный герой «Преступления и наказания», он
совершает убийство из идейных соображений: «Да. Теория
моя, видите ли, состоит в том, что я себя, злобное
животное, перед отъездом в Новый Свет, должен в нуль
вывести. Чтоб в вояж отправиться чистым, как младенец.
Так сказать, новорожденным человеком». [4, 191] Загубив
три «живые души», он рассчитывает искупить свой грех,
избавив мир от трех нечестивцев «с душою мертвой,
гниющей», которые «заражают своими гнилыми миазмами ат-
мосферу, губят и вытравливают вкруг себя всё и
вся». [4, 194] Свое последнее преступление, убийство
Лужина, Свидригайлов воспринимает как «кредит» и
«будущую индульгенцию», но положительный баланс, из-за
случайно попавшегося под руку Заметова, опять сводится
к нулю.
Акунин почеркивает бездушие своего героя, его
ослепленность воображаемой силой рассудка. О невинной
жертве – молодом письмоводителе – помещик-теоретик не
сожалеет, а воспринимает его смерть как новую величину
в формуле: «...жалко мальчишка, помощник ваш,
припутался. Ничего, это квит на квит пойдет. Таким
образом на сей момент я полностию чист и выведен в нуль
66
целых, нуль десятых... Сколько напакостил, столько за
собою и прибрал». [4, 197]
На примере судьбы Свидригайлова, Акунин, как и
Достоевский, показывает, что какими бы замысловатыми и
убедительными причинами ни обосновывалось право на
кровь, все они низводятся к элементарному уголовному
преступлению. Поэтому, как справедливо замечает
акунинский Порфирий Петрович, «про цель и средства
старо не бывает-с». [3, 65]
Но все-таки образ Свидригайлова, как и всех
остальных героев романа «Ф.М.» Акунин сильно упростил.
Он объясняет действия обоих злодеев – и Свидригайлова,
и Олега, его двойника в современной линии романа –
мотивом помешательства, изображает их маньяками,
потерявшим чувство реальности. Эта схематичность
упрощает задачу и позволяет снять все несостыковки.
2.3.3. Отец и сын Сивуха – раздвоение Свидригайлова
В современных главах «Ф.М.» образ Свидригайлова
отражается сразу в двух персонажах – отце и сыне
Сивухе. Об обоих можно сказать, что они душевно больны,
оба одержимы манией. Однако именно теория есть у отца –
эта идея о фримасонстве и «фримасонском боге». Думая,
что он находится под покровительством этого бога,
старший Сивуха считает себя избранным, особенным и
потому существом, которому многое дозволено.
67
Он хочет обладать рукописью Достоевского как
законный наследник Стелловского, что позволит получать
большие деньги за публикацию этого сенсационного текста
в течение ближайших 50 лет. Так Сивуха надеется
прославить свою фамилию и обеспечить материально сына.
Для этого депутат-бизнесмен манипулирует всеми героями
романа, от Фандорина до доктора Зиц-Коровина.
Однако теоретизирования Сивухи не делают его
убийцей. У Акунина в современных главах «Ф.М.» убийства
совершает его сын Олег. Так же, как в компьютерной
игре-квесте, в романе есть главный злодей, жуткий
маньяк, страдающий от болезни или уродства. Вследствие
особой болезни (гипопитуитаризм, синдром Симмондса,
снижение и выпадение функции передней доли гипофиза)
Олег обладает колоссальной физической силой и мозгом
гения. Убивая всех подряд, он помогает отцу, который
думает, что ему покровительствует ангел («просто
существует некая Сила, и она на моей стороне»).
Двойственность – главный мотив образа Олега,
которого можно отнести к андрогинам, т.к. признаки пола
у него из-за болезни не проявляются. Андрогинность,
двойственность – вот главное свойство, которое
определяет образ Олега. Тут же можно увидеть и
перекличку с Японией, столь любимой Акуниным. Японские
мотивы всегда занимали значительное место в его
68
романах, и «Ф.М.» японская культура оказывает огромное
влияние на главного героя-злодея, который одевается как
пес-призрак, напевает японскую песню, а в финале
побеждает в битве черного ниндзя и пса-призрака, в
образе последнего.
Николасу противостоит соперник, предстающий в самых
различных обличьях: Спайдермен, чёрт, ангел, медсестра,
проститутка, Красная Шапочка, персонаж аниме «InuYasha»
и др. А главная его иллюзия – хрупкий светловолосый
подросток.
Олег – это одновременно двойник Раскольникова из
«Преступления и наказания» и Свидригайлова из
«Теорийки». В этом персонаже Акунин сводит главных
убийц-теоретиков, показывая все ничтожество их
умопостроений, лишенных психологического,
нравственного, морального обоснования. Он не
сомневается в своем праве на убийство, не выстраивает
логических цепочек оправданий, не задумывается над
своими действиями, а убийством реагирует на вызовы
реальности. Его девизом можно считать «Нет человека –
нет проблемы».
Здесь уже совсем нет места христианским нормам,
евангельскому страданию и преступлению и наказанию в
том смысле, который вкладывал в эти слова Достоевский.
Божий суд подменяется судом озлобленного страданиями
69
человека, взявшего на себя функции бога, поэтому Акунин
не видит для него и путей искупления, просто убивает
его, как и остальных героев-злодеев. У Достоевского
наказание – это нравственные мучения, а у Акунина
наказанием является смерть.
Но Акунин дает читателю маленькую деталь, которая
говорит о том, что убийца имеет свои представления о
справедливости. Если его отец преследует меркантильные
цели (получив рукопись, он получает поток гонораров за
публикацию), то Олег убивает реальных негодяев:
наркомана Рулета, который сам готов убить за дозу;
алчную старуху-эксперта Моргунову; хищную литагентшу
«акулу» Марфу Захер, которая промышляет контрабандой
произведений искусства и другими темными делами;
любителя нимфеток Лузгаева, промышляющего скупкой
антиквариата, плута и выжигу. Но при этом Олег
отказывается от убийства, если человек проявляет
честность и порядочность. Так, он не тронул издателя
Валеру Расстригина, который честно сказал, что никаких
авансов за рукопись не давал и просто готов ее отдать
владельцу.
В финале Акунин доводит ситуацию до абсурда, ведь
детектив иронический. Как насмешку над мифологией
комиксов и бульварных детективов с могущественными и
неуловимыми гениальными злодеями вроде Фантомаса,
70
Акунин создает своего гения зла: чудовище с лицом
ангела, выглядящего как подросток.
2.4. Трансформации второстепенных персонажей
«Преступления и наказания» в «современных» главах
романа Акунина
Современные главы «Ф.М.» представляют галерею
нелепых чудаковатых персонажей, которые, с одной
стороны, являются активными и реалистическими
действующими лицами из нашей современности (эксперт,
исследователь творчества Достоевского, издатели,
депутаты с охранниками, наркоман-убийца, мальчик-
инвалид, главврач клиники), а с другой – больше
напоминают виртуальных персонажей, взятых из комиксов,
кино- и мультфильмов, рекламных роликов (транссексуал,
сексуальный маньяк, акула-лесбиянка, киллер с мертвыми
глазами, маньяк в наморднике, прикованный кожаными
ремнями к кровати, фанат «фримасонского бога»,
секретарь-каратистка, пес-демон, спайдермен и т.п.
участники ролевых игр).
И у большинства образов в этой галерее есть свой
отдаленный двойник среди героев «Преступления
и наказания». Акунин намеренно указывает и подчеркивает
сходства деталей. Рассмотрим самые очевидные параллели.
71
2.4.1. Саша Морозова – «вечная Сонечка»
В системе персонажей обоих романов важное место
принадлежит женским образам: порочная и добрая,
необыкновенная и несчастная Сонечка Мармеладова в
«Преступлении и наказании» и юная Саша Морозова в
«Ф.М.». Они ровесницы, очень похожи внешне, и каждая
идет похожим путем, несмотря на то что их разделяют
полтора века. Общий мотив, связанный с ними: жертва,
которая добровольно идет на позор и муки, чтобы спасти
свою семью, своих родных.
Мотив жертвы переосмыслен в романе Акунина в
соответствии с духом эпохи. Чтобы помочь обнищавшей
семье, вернуть отца и спасти от смерти братика, Саша не
просто жертвует собой, она еще и служит марионеткой для
хитрого монстра Сивухи. Так же, как и Сонечка, она
сносит те же упреки мачехи, продает свою девственность,
так же искренне верует во Христа, так же искренне
считает себя грешницей. Уже в первой же беседе с
Николасом Фандориным Саша говорит буквально словами
Сонечки: «… я ужасная грешница, самая скверная, какие
только бывают». [3, 99]
Она перекрестила Фандорина перед решающей битвой в
клинике, говорит со смирением и часто поминает Бога.
«Когда она говорила о Господе или ангелах, брови у нее
72
приподнимались, а в глазах появлялся мечтательный
блеск». [3, 113]
Ее мачеха – точный портрет Катерины Ивановны
Мармеладовой. Выходила за уважаемого человека, доктора
наук с приличной зарплатой, а оказалась женой нищего
чудака, с больным сыном на руках. И к падчерице она так
же относится: когда Саша, устроившись ухаживать за
богатым больным, убегает от приставаний его сына,
Антонина Васильевна буквально повторяет реплику
Катерины Ивановны: «Подумаешь, не убыло бы», а потом
просит прощения у Саши. 2.4.2. Мармеладов и Морозов – воплощение мысли Достоевского
о двойственности человеческой природы
Образу спившегося стареющего чиновника Мармеладова
из романа «Преступление и наказание» у Акунина
полностью соответствует образ сумасшедшего достоеведа
Морозова, который по признанию его дочери Саши «про
Федора Михайловича знает всё-превсё, а про остальное
почти ничего…».
У Мармеладова происходит распад личности из-за
болезни – алкоголизма, у нашего же современника – более
сложное заболевание, синдром Кусоямы, симптомы которого
– «гиперагрессивность плюс гиперсексуальность».
[3, 119]
73
Речь Морозова вначале копирует стиль Мармеладова,
он притворяется смиренным и несчастным, но очень быстро
проявляет хамство и агрессию, сыплет непристойностями.
Акунин показывает две стороны личности несчастного
героя. Можно сказать, Морозов – это проявленный
«негатив» несчастного пьяницы, поскольку несмотря на
все жалостливые слова, сетования на судьбу и
высокопарный слог, Мармеладов в сущности такой же
монстр, который приносит несчастье своей семье, мучает
жену и дочь. Но в отличие от смирения и самобичевания
героя Достоевского, Морозову свойственно богоборчество,
отрицание всего святого, морали и нравственности.
Мармеладов делает зло, но говорит о божественном.
Морозов не скрывает своих злобных намерений и речь его
шокирующее бесстыдна. Это тоже своего рода вариант
«сверхчеловека».
В своей случайной исповеди спившийся чиновник
вызывает у Раскольникова вначале презрение и мысль о
том, что человек – подлец: «…коли действительно не
подлец человек, весь вообще, весь род то есть
человеческий, то значит, что остальное все –
предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет
никаких преград, и так тому и следует быть!..». [1, 64]
Сам же Мармеладов, мечтая, как на Страшный суд призовет
Господ таких как он, говорит о себе слова, которые
74
полностью применимы и к Морозову: «Свиньи вы! Образа
звериного и печати его». [1, 60] Вот этот образ
звериный и раскрывает Акунин на примере Морозова,
скромного литературоведа, который превратился в
агрессивного монстра.2.4.3. Жертвы в романах Достоевского и Акунина
При всей кажущейся легкости, ироничности,
искусственности роман Б. Акунина оказывается куда более
кровавым, чем роман Достоевского. У Федора Михайлович
крови гораздо меньше. Да еще и бессмысленной крови,
нарочито обильной, как в дешевом боевике.
У Достоевского Раскольников убивает «вредную»
старушонку как символ бесполезного, вредного
существования. Это была проба, репетиция настоящих дел
– устранения всемирной несправедливости, зла, роскоши,
грабительства и унижения людей. Забитая и обиженная
Лизавета, никому не причинившая вреда, – это символ тех
случайных жертв, ценой которых наступает прозрение
убийцы-теоретика. Именно случайная жертва становится
одной из причин краха теории, нравственных страданий
Раскольникова. «Я не старуху убил, я себя убил», –
признается он Соне Мармеладовой.
В акунинской «Теорийке» убийства уже серийные, и
внешний антураж здесь важнее, чем принципы и идеи.
Убийства служат элементом занимательности, двигателя
75
сюжета и в современной части романа. Преступником
движет не принцип, а меркантильные цели. Однако жертвы
в романе «Ф.М.» намеренно, подчеркнуто схожи со
старухой-процентщицей из «Преступления и наказания».
В «Теорийке» убийство старухи-процентщицы
практически повторяет соответствующие главы романа
Достоевского. Но оно оказывается не последним в цепи
преступлений. Все жертвы здесь – люди, о которых можно
сказать, что их жизнь не имеет пользы для людей, они
напротив, несут порок и зло, имеют много врагов. На
следующий день зарублен топором стряпчий Чебаров, также
алчный и бессердечный, выкупавший долговые расписки,
чтобы загнать в угол очередного несчастного. Третий
день – новое убийство тем же твердым предметом. Жертвой
вновь становится женщина – Дарья Зигель, сводня,
погубившая множество невинных девиц. Последняя,
несостоявшаяся жертва – Петр Петрович Лужин, лживый и
подлый, который успел обидеть и Дуню, и Сонечку. Для
него тоже не существует моральных принципов, а только
выгода и мелкая месть, желание потешить свое самолюбие.
В современных главах романа «Ф.М.» жертвы зеркально
отражают убитых персонажей из «Теорийки». Двойником
Алены Ивановны является жадная старуха-эксперт Элеонора
Ивановна Моргунова. Она и живет в похожих условиях, и
подозрительна очень, разговаривает с посетителями через
76
цепочку. Также у нее была сестра, такая же невинная
жертва, как и Лизавета. Коллекционер старинных
автографов Лузгаев – это наш современный меркантильный
Лужин, который гонится за выгодой, при этом не брезгует
«клубничкой». Как и Петр Петрович, он респектабельно
выглядит, высокопарно выражается, но душа его так же
черна. Не менее отвратителен образ светской львицы
Марфы Захер, которая промышляет контрабандой
произведений искусства и другими темными делами.
Есть в романе и несостоявшаяся жертва, но если в
«Теорийке» Лужин избежал смерти благодаря вмешательству
Порфирия Петровича и Заметова, то издателя Валерия
Расстригина убийца милует сам, поскольку оценил его
жизнерадостность и бескорыстие.
77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роман Бориса Акунина «Ф.М.» построен в виде диалога
с текстом классика – романом Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание». Переписывая широко
известную историю Родиона Раскольникова, Акунин
вступает в творческий диалог с писателем-классиком,
переосмысливая привычные стереотипы и вдыхая новую
жизнь в созданные им образы, давая возможность для
нового прочтения одного из наиболее изученных
произведений русской классической литературы.
Тема, вокруг которой движется вся мысль
Достоевского в романе «Преступление и наказание»: в чем
истинное величие человеческой личности, какова роль
морали и права в жизни человека. Эта же проблема
человека не потеряла актуальности и сейчас, и ее по-
своему рассматривает Акунин в облегченной форме
иронического детектива, романа-игрушки, построенного по
принципу компьютерной игры-квеста.
В своем романе Акунин не ограничивается простой
«перелицовкой» популярного сюжета и ироническим
обыгрыванием литературных штампов. В «Ф.М.»
присутствует и достаточно глубокий философский
подтекст, в нем отражаются психологизм и духовные
поиски героев Достоевского. Но если у Достоевского все
причины – в психологии, в поисках истины, то у Акунина
78
все объясняется физиологией. Если у Достоевского основа
детективного сюжета идеологическая, психологическая, то
у Акунина детектив приближается к классическому
американскому, где главное не идеи, а действия.
Особенность акунинского детектива также в его игровой
основе, ироническом оттенке повествования.
В процессе исследования были выявлены множество
соответствий в системах персонажей романа Ф.
Достоевского «Преступление и наказание» и Б. Акунина
«Ф.М.».
Как и у Достоевского, в акунинском романе
отвлеченной теории, рожденной при помощи рассудка,
противостоит жизнь, с ее главными движущими силами –
любовью, милосердием и добротой. Однако тема
«добродетели без Христа», главная у Достоевская, у
Акунина практически не слышна. Общественное благо, по
мысли классика, должно основываться на заветах Христа,
иначе оно превращается в злобу и вражду, во
вседозволенность. Акунинские герои более приземленные,
для них важнее не христианские идеи, а здравый расчет,
научное обоснование гармонии. Они мало размышляют, а
больше действуют. Размышлениям же в основном предаются
сыщики, Порфирий Петрович и Николас Фандорин.
Повторяются описания предметов одежды,
встречающиеся в «Преступлении и наказании». Иногда
79
вставлены фрагменты из «Преступления и наказания».
Например, полностью перенесены портреты Раскольникова,
Дуни, Порфирия Петровича, основные характерные детали
внешности Разумихина, Свидригайлова, Лужина,
Лебезятникова.
Место образа Родиона Раскольникова совсем не
равнозначно в рассматриваемых произведениях. Это
центральный образ в романе Достоевского, один из
главных героев – в «Теорийке» и второстепенный,
проходной, сугубо схематический Рулет – в современной
части «Ф.М.». В «Теорийке» Родион Раскольников как
внешне, так и внутренне, психологически, повторяет
своего двойника из классического романа. Но его теория
не приводит к преступлению. Убийцей оказывается совсем
другой персонаж, действительно отрицательный герой,
и потому читателю его совсем не жаль.
C потерей силы и значимости образа Раскольникова
уходят на второй план и даже едва упоминаются другие
важнейшие персонажи Достоевского, такие как Соня.
Следователь Порфирий Петрович является своеобразным
двойником и в то же время антиподом Раскольникова. В
романе Достоевского следователь Порфирий Петрович
выполняет очень важную функцию, трезво анализируя
теорию Раскольникова, выставляя всю ее слабость и при
этом ободряя преступника, вселяя в него надежду на
80
новую жизнь. В «Теорийке» Порфирий Петрович становится
главным действующим лицом и в то же время – двойник
современного сыщика Фандорина. Акунинский Порфирий
приобретает черты типичного сыщика из классических
детективов, он в равной степени превосходно владеет и
дедуктивным методом, и навыками практического сыска,
предпринимает и активные, оперативные, даже авантюрные
шаги.
Главный герой «современной» линии романа «Ф.М.» –
Николас Фэндорин. Это уже не кабинетный мыслитель, но
деятельный активный человек, который успевает сразу во
много мест. Порфирий хладнокровно преследует убийцу, и
Николасу также свойственна английская невозмутимость в
сложных и опасных ситуациях. Но если герой Достоевского
полон философских мыслей, и его борьба, в первую
очередь, идеологическая, психологическая, то Фандорин –
человек действия, и в его размышлениях над шарадами
решающую роль играет случай в виде монеты-талисмана –
потертого дублона.
Образ Свидригайлова как одного из двойников
Раскольникова в «Преступлении и наказании» у Акунина
раздваивается и заостряется. В «Теорийке» он отводит
Свидригайлову роль убийцы со своей теорией, а в
современных главах «Ф.М.» его функции берет на себя
Олег Сивуха. Образ Свидригайлова, как и всех остальных
81
героев романа «Ф.М.» Акунин сильно упростил. Он
объясняет действия обоих злодеев – и Свидригайлова, и
Олега, его двойника в современной линии романа –
мотивом помешательства, изображает их маньяками,
потерявшим чувство реальности.
Двойственность – главный мотив образа Олега,
которого можно отнести к андрогинам, т.к. признаки пола
у него из-за болезни не проявляются. Николасу
противостоит соперник, предстающий в самых различных
обличьях: Спайдермен, чёрт, ангел, медсестра,
проститутка, Красная Шапочка, персонаж аниме «InuYasha»
и др. А главная его иллюзия – хрупкий светловолосый
подросток. Он не сомневается в своем праве на убийство,
не выстраивает логических цепочек оправданий, не
задумывается над своими действиями, а убийством
реагирует на вызовы реальности. Его девиз: «Нет
человека – нет проблемы».
Современные главы «Ф.М.» представляют галерею
нелепых чудаковатых персонажей, которые, с одной
стороны, являются активными и реалистическими
действующими лицами из нашей современности (эксперт,
исследователь творчества Достоевского, издатели,
депутаты с охранниками, наркоман-убийца, мальчик-
инвалид, главврач клиники), а с другой – больше
напоминают виртуальных персонажей, взятых из комиксов,
82
кино- и мультфильмов, рекламных роликов (транссексуал,
сексуальный маньяк, акула-лесбиянка, киллер с мертвыми
глазами, маньяк в наморднике, прикованный кожаными
ремнями к кровати, фанат «фримасонского бога»,
секретарь-каратистка, пес-демон, спайдермен и т.п.
участники ролевых игр).
И у большинства образов в этой галерее есть свой
отдаленный двойник среди героев «Преступления
и наказания». Несчастную Сонечку Мармеладову в
«Преступлении и наказании» и юную Сашу Морозову в
«Ф.М.» объединяет общий мотив: жертва, которая
добровольно идет на позор и муки, чтобы спасти свою
семью, своих родных.
Образу спившегося стареющего чиновника Мармеладова
из романа «Преступление и наказание» у Акунина
полностью соответствует образ сумасшедшего достоеведа
Морозова. Но у Мармеладова происходит распад личности
из-за болезни – алкоголизма, у нашего же современника –
более сложное заболевание, синдром Кусоямы, который
превратил его в агрессивного монстра. Они оба приносят
несчастье своей семье, мучают жену и дочь.
Жертвы преступника в романе «Ф.М.» намеренно,
подчеркнуто схожи со старухой-процентщицей из
«Преступления и наказания» и полностью повторяют
личности жертв в «Теорийке». Двойником Алены Ивановны
83
является жадная старуха-эксперт Элеонора Ивановна
Моргунова. Коллекционер старинных автографов Лузгаев –
это современный Лужин. Образ светской львицы Марфы
Захер имеет общие черты со сводней Дарьей Зигель.
Современные герои словно вышли из комиксов,
мультфильмов и рекламных роликов. Это потому, что время
Достоевского отличается от времени Акунина. Тогда люди
могли позволить себе делать все долго и тщательно,
докапываться до сути вещей, кружить вокруг одной точки,
относиться ко всему с чрезмерной серьезностью, быть
трудными и сложными. Сегодня многое изменилось. Сегодня
мы умеем иронизировать над всем вокруг и, что намного
важнее, – иронизировать над собой. Сегодня все
стремительнее, динамичнее и мобильнее, составлено
из многих наслоений, сделано из сверхлегких сплавов,
цитат, интертекстуальностей и ссылок.
Большинство действующих лиц романа «Ф.М.»,
несколько главных героев, поглощенных своими идеями,
двойники и пародии, широкий охват событий, чередование
иронии, гротеска с трагическими сценами подчеркивают
моральные парадоксы нашего времени, упадок
нравственности и законности в современной России.
Произведения Достоевского и сегодня остаются
остросовременными, потому что писатель мыслил и творил
в свете тысячелетий истории. Он был способен воспринять
84
каждый факт, каждое явление жизни и мысли как новое
звено в тысячелетней цепи бытия и сознания. Используя
персонажей, идеи, элементы сюжета и цитируя целые
фрагменты знаменитого текста, Б. Акунин пробуждает
интерес к серьезному чтению, помогая читателю
преодолевать сложный язык и не всегда понятные идеи
гения. Для многих молодых читателей это «путь к
классике».
85
БИБЛИОГРАФИЯ
1.Достоевский Ф.М. Преступление и наказание. – М.:
Худ. лит., 1970. – 558 с.
2.Достоевский Ф.М. Письмо М.Н. Каткову // Ф.М.
Достоевский. О русской литературе. – М.:
Современник, 1987. – С. 336-337.
3.Акунин Б. Ф.М. Т. 1. – М.: Олма Медиа Групп, 2012.
– 288 с.
4.Акунин Б. Ф.М. Т. 2. – М.: Олма Медиа Групп, 2012.
– 256 с.
5.Акунин Б. Азазель. –
http://www.akunin.ru/knigi/fandorin/erast/azazel/
6.Акунин Б. Любовник Смерти. – М.: Астрель, 2001.
7.Акунин Б. Пелагия и белый бульдог. – М.: Астрель,
2001.
8.Абельтин Э.А., Литвинова В.И. «Преступление и
наказание» Ф.М. Достоевского в контексте
современного изучения классики. – Абакан,1999. –
160 с.
9.Акунин Б. Россия – страна, выдуманная
литераторами // ОГОНЁК. – 2005. – №8. – с. 25-27
10. Акунин Б. Я отношусь к типу «носорог» // Новое
время. – 2005. – №8. – с. 42-44
86
11. Басинский П. Чучело "Чайки". // Литературная
газета. – 2000. – №11.
12. Басинский П. Штиль в стакане воды //
Литературная газета. – 2001. – №21 (5834). – 23–29
мая. – С. 10.
13. Борис Акунин: Больше всего люблю играть :
Интервью Леониду Парфенову // Русский Newsweek. –
2006. – №19. – С. 15-18.
14. Буйда Ю. Акунина с Фандориным с базара
понесли // Новое время.-2000. – №52. – С. 44-45
15. Буйда Ю. Пришествие Фандорина // Деловой
вторник. – 2001. – №13. – С. 4.
16. Вербиева А. Акунин умер. Да здравствует Акунин!
// Независимая газета. 2000. 18 мая.
http://erastomania.narod.ru/critics.htm
17. Вербиева Анна. Борис Акунин: «Так веселее мне и
интереснее взыскательному читателю…» Грандиозный
проект новой русской беллетристики // Независимая
газета, 1999, 23 декабря.
18. Давыдова М. Обманутый обманщик //Коммерсант.
2001. 21 апреля.
19. Данилкин Л. Убит по собственному желанию //
Акунин Б. Особые поручения. – М.: Захаров, 2003.
20. Демченков С.А., Грудинина М.С.
Постмодернистский детектив: («Преступление и
87
наказание» Ф.М. Достоевского и «Ф.М.» Б.
Акунина) // Святоотеческие традиции в русской
литературе. – Омск, 2010. – С. 267-274.
21. Дьякова Е. Борис Акунин как успешная отрасль
российской промышленности // Новая газета, 2001, 2
– 4 июля. С. 23.
22. Загидуллина М.В. Русская классика в современном
интеллектуальном пространстве (романы Б. Акунина
"FM" и В. Пелевина "Т") // Знак. – Челябинск, 2010.
– №1 (5). – С. 81-85.
23. Золотоносов М. Игра в классики. Римейк как
феномен новейшей литературы // Московские новости.
– 2002. – № 33. – 27 августа.
24. Кириллова, И.В. Б. Акунин и Ф.М. Достоевский: к
проблеме интертекстуальности в романе "Азазель" //
Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и
практики. – Тольятти, 2004.
25. Книгин И.А. Словарь литературоведческих
терминов. – Саратов: Лицей, 2006. – 270 с.
26. Кравченко, Ю.Д. Б. Акунин и роман "Ф.М.": игра
в Достоевского // Текст и языковая личность. –
Томск, 2007. – С. 165-170.
27. Латынина А. «Когда Достоевский был раненный и
убитый ножом на мосту» // Новый мир. – 2006. – №
10. – С. 146-153.
88
28. Литература и общество. Куда делись «властители
дум» и «инженеры человеческих душ»? // Клуб
«Свободное слово» 15 мая 2002 г. –
http://www.netda.ru/slovo/0502kss.htm
29. Новая книга Бориса Акунина поступит в продажу в
день его 50-летнего юбилея // news.com 12 мая 2006.
–
http://www.newsru.com/cinema/12may2006/akunin.html
30. Пестерев В.А. Постмодернизм и поэтика романа:
историко-литературные и теоретические аспекты:
Учебно-методическое пособие. – Волгоград:
Издательство Волгоградского государственного
университета, 2001. – 40 с.
31. Поддубная Р.Н. Образ Порфирия Петровича в
художественной структуре романа Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание» // Вопросы русской
литературы. – 1971. – Вып. 1/16.
32. Ранчин А. Романы Б. Акунина и классическая
традиция // НЛО. – 2004. – № 67. – С. 260. -
http://magazines.russ.ru/nlo/2004/67/ran14.html
33. Ребель Г. Зачем Акунину «Бесы»? (Художественная
апология либерализма в романе Б. Акунина «Пелагия и
белый бульдог») // Интернет-журнал «Филолог» 2004,
вып. 5. –
89
http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_5_9
2
34. Ребель Г. Зачем Акунину Ф.М., а Достоевскому –
Акунин? // Дружба Народов. – 2007. – №2 –
http://magazines.russ.ru/druzhba/2007/2/re10-
pr.html
35. Ремизова М. Пьеса Б. Акунина "Чайка" //
Независимая газета. 2000. №8.
36. Савельева В.В. "Чайка" Б.Акунина – "чисто
английское убийство" // Русская речь. 2002. №6.
37. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Словарь
литературоведческих терминов. – М.: Просвещение,
1974. – 312 с.
38. Тух Б. Алгоритм преступления (Б. Акунин) //
Первая десятка современной русской литературы: [сб.
очерков]. – М.: Оникс 21 век, 2002. – С. 5-39
39. Черняк М.А. Феномен массовой литературы XX в. –
СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.
40. Чхартишвили Г.Ш. Но нет Востока, и Запада нет
(О новом андрогине в мировой революции) //
Иностранная литература. – 1996. – №9. – С. 254-264
41. Шкловский В.Б. «Преступление и наказание» //
Избранное в 2-х т. Т. 1. Повести о прозе.
Размышления и разборы. – М.: Художественная
литература, 1983. – С. 442- 490
90