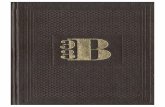Современный иврит // Языки мира. Семитские языки...
Transcript of Современный иврит // Языки мира. Семитские языки...
Л.М. Дрейер. Современный иврит 375
И з д а н и я т е к с т о в
Elliger K., Rudolph W. Biblia Hebraica Stutt-
gartensia. Stuttgart, 1997.
Renz J., Röllig W. Handbuch der althebräi-
schen Epigraphik. Teil 1. Die althebräischen In-
schriften. Darmstadt, 1995.
С о к р а щ е н и я н а з в а н и й и с -
т о ч н и к о в
Названия книг Ветхого Завета даются по-
латински в соответствии с общепринятым на-
учным изданием Biblia Hebraica Stuttgartensia
(в скобках приводятся русские соответствия в
Синодальном переводе):
Gn — Genesis (Бытие)
Ex — Exodus (Исход)
Lv — Leviticus (Левит)
Nu — Numeri (Числа)
Deut — Deuteronomium (Второзаконие)
Jos — Josua (Иисус Навин)
Jdc — Judices (Судьи)
1 S — Samuel 1 (1-я Царств)
2 S — Samuel 2 (2-я Царств)
1 R — Regum 1 (3-я Царств)
2 R — Regum 2 (4-я Царств)
Jes — Jesaia (Исаия)
Jer — Jeremia (Иеремия)
Ez — Ezechiel (Иезекииль)
Am — Amos (Амос)
Jon — Jona (Иона)
Mi — Micha (Михей)
Na — Nahum (Наум)
Hab — Habakuk (Аввакум)
Hag — Haggai (Аггей)
Ps — Psalmi (Псалмы)
Ru — Ruth (Руфь)
Cant — Canticum (Песнь Песней)
Thr — Threni (Плач Иеремии)
Da — Daniel (Даниил)
Ne — Nehemia (Неемия)
2 C — Chronica 2 (2-я Хроник)
Л.М. Дрейер
СОВРЕМЕННЫЙ ИВРИТ
1.1.0. Общие сведения. Современный иврит (С.и.) является возрожденной формой древнееврейского язы-
ка. Особое место С.и. среди семитских языков обусловлено его уникальной историей. 1.1.1. Название ivrit < âiḇrīu является формой женского рода прилагательного âiḇrī
‛еврейский’. Применительно к языку термин âiḇrī встречается в постбиблейской ли-тературе, причем это название могло, по-видимому, распространяться как на древне-еврейский, так и на арамейский язык, а иногда и на еврейское письмо.
Варианты названия: (язык) иврит, современный иврит, современный еврейский язык (последний термин страдает некоторой неопределенностью, поскольку так же в русскоязычной литературе иногда называют идиш). Самоназвание ha-safa ha-ivrit ‛еврейский язык, язык иврит’, ivrit ‛иврит’, ivrit xadaša ‛новый иврит’, ivrit modérnit, ivrit bat zmanénu ‛современный иврит’, ivrit yisreelit ‛израильский иврит’. Англ. Mod-
ern Hebrew, Contemporary Hebrew, Israeli Hebrew, нем. das %euhebräische, фр. l’hébreu
moderne, l’hébreu israëlien. 1.1.2. С.и. относится к ханаанейской подгруппе северо-западной группы семитских
языков (более подробно см. в статье «Древнееврейский язык» в наст. издании). 1.1.3. С.и. распространен на территории Государства Израиль. В настоящее время
на нем говорят прежде всего в Израиле (общая численность населения Израиля, по пе-реписи 2008 г., составляет 7282 тыс. чел., из них евреев 75,5%, т. е. 5499 тыс. чел.). С.и. является родным языком прежде всего евреев, чьи родители родились в Израиле (около 35% еврейского населения, около 1,9 млн. чел.). Дети иммигрантов (32% евре-
Ханаанейские языки 376
ев, около 1,8 млн. чел.), родившиеся в Израиле, если и сохраняют язык своих родите-лей, как правило, очень рано овладевают С.и. Таким образом, С.и. является родным или одним из родных языков примерно для 3,7 млн. чел. в Израиле. Остальная часть еврей-ского населения Израиля, а именно еврейские иммигранты из разных стран (1,8 млн. чел.), а также арабы — граждане Израиля (1,46 млн. чел.), друзы (120 тыс. чел.) и др. (свыше 200 тыс. чел.), владеют С.и. как вторым языком (всего около 3,6 млн. чел.).
Частично распространен также среди евреев в других странах. Так, согласно пере-писи США 2000 г., 195 тыс. чел. (около 4% евреев США) назвали иврит языком до-машнего общения, в Канаде таковых оказалось 15 645 чел. (также 4% от евреев Ка-нады, перепись 2001 г.).
1.2.0. Лингвогеографические сведения. 1.2.1. Диалектов как таковых в С.и. нет. В то же время, в еврейских общинах диас-
поры под воздействием языкового окружения сформировались различные традиции чтения древнееврейских текстов. Внутри одной произносительной традиции также существовали различия при чтении библейских текстов и произведений постбиблей-ской литературы. Например, чтение слова קרח qrḥ ‛лысый’ у йеменских евреев имеет вид qeréaḥ в библейских текстах, в то время как в тексте Мишны это слово читается как qereḥ. Это явление связано с тем, что чтение библейского текста было основано на письменно зафиксированной системе огласовки, а чтение неогласованного текста Мишны следовало местной устной традиции. Выделяются три большие группы про-износительных традиций: йеменская (центральное, северное, восточное, юго-западное и аденское произношение), сефардская (к которой относится собственно сефардское произношение, принятое в общинах стран Средиземноморья и Балкан, а также про-износительные традиции евреев Ирака, Ирана, Грузии, Восточного Кавказа и Средней Азии) и ашкеназская (центральное, северо-восточное и юго-восточное произношение). Особняком стоит самаритянская произносительная традиция. Различия между произ-носительными традициями лежат в сфере консонантизма, вокализма и акцентуации.
Израильские иммигранты в богослужении обычно следуют произносительным традициям, принятым в их общинах, но в повседневной практике различия в произ-ношении постепенно сглаживаются благодаря все более тесным контактам между общинами, а отчасти и под влиянием сформировавшегося общеизраильского фоне-тического койне.
1.3.0. Социолингвистические сведения. 1.3.1. С.и. впервые приобрел статус официального языка в 1922 г., когда Велико-
британия получила мандат Лиги Наций на управление Палестиной, и С.и. стал офи-циальными языком подмандатной территории наряду с английским и арабским язы-ками. После провозглашения Государства Израиль 14 мая 1948 г. С.и. стал одним из двух его официальных языков (второй официальный язык — литературный арабский).
1.3.2. В период своего становления С.и. основывался на многовековой еврейской книжной традиции, поэтому для него характерна высокая степень стандартизации письменной формы языка при отсутствии строгой орфоэпической нормы.
Работу по нормированию языка в период возрождения С.и. начал проводить учре-жденный в 1889 г. Комитет языка иврит, который возглавил Э. Бен-Йехуда. Важным направлением деятельности Комитета стало пополнение словарного фонда языка пу-тем создания новых слов, преимущественно на основе древнееврейских и арамейских корней. После образования Государства Израиль Комитет был преобразован в Ака-демию языка иврит (1953), которая является высшим органом языкового планирова-
Л.М. Дрейер. Современный иврит 377
ния. Решения Академии по вопросам грамматики, орфографии и терминологии носят обязательный характер, им должны следовать в государственных и правительствен-ных учреждениях, в образовательных и научных центрах, а также в средствах массо-вой информации (на радио и телевидении). Однако на практике предписания Акаде-мии часто не выполняются (особенно в массовой прессе).
Одна из проблем, с которой в конце XIX в. столкнулись лидеры движения за воз-рождение языка, заключалась в выработке стандартного произношения. Выбор стоял между сефардской и ашкеназской традициями (йеменская традиция, бытовавшая только в местных общинах и почти неизвестная тогда в Европе и Палестине, в расчет не принималась). Сефардскому произношению, которое считалось более близким к древнему, нежели ашкеназское (ассоциировавшееся с образом жизни в диаспоре), было отдано предпочтение, и именно сефардская традиция стала основой стандарт-ного произношения С.и. Тем не менее, сформировавшееся на этой основе общеизра-ильское фонетическое койне вобрало в себя также и некоторые черты традиционного ашкеназского произношения (утрата â, падение редуцированного ə, в ряде случаев дифтонгизация исторического ē > ey и перемещение ударения на предпоследний слог), а также ашкеназское интонирование.
Помимо общеизраильского койне, существуют «восточный» фонетический стиль, распространенный среди выходцев из сефардских и восточных общин, и так назы-ваемый «старый иерусалимский» стиль, характерный для интеллигенции сефардско-го и восточного происхождения. Первый не является престижным и ассоциируется с низким социальным и культурным статусом, в то время как последний наиболее бли-зок к дикторской норме, сценическому и певческому произношению.
Несмотря на то, что в 1923 г. Комитет языка иврит предпринял попытку ввести стандартное произношение, близкое к «восточному» и предусматривающее различе-ние простых и геминированных согласных, [à] и [â], [v] (< [ḇ]) и [w], [x] (< [ḵ]) и [ḥ], [ṭ] и [t], [q] и [k], а также аллофонов [t] и [u], оно не стало общепринятым. Согласно более поздним правилам Академии языка иврит (1964), следовало произносить [â], [ḥ] и геминированные согласные, но и эти правила не соблюдались даже в диктор-ской речи.
Функциональная стратификация С.и. определяется оппозицией литературного и разговорного языка, различия между которыми прослеживаются на всех языковых уровнях.
В дикторской норме, которая отличается от общеизраильского фонетического койне, еще долгое время сохранялись /à/ и /h/ во всех позициях, кроме конечной, предусматривалась переднеязычная артикуляция /r/. Дикторское произношение так-же сохраняет ударение на последнем слоге во многих случаях, когда в неформальной речи общеупотребительным является ударение на предпоследнем (например, в име-нах собственных).
В морфологии и синтаксисе также отмечаются расхождения (порой значительные) между письменной и устной нормой. На письме, особенно в высоких регистрах, со-храняются некоторые архаичные глагольные формы, вышедшие из употребления в разговорном языке. Лексика разговорного языка характеризуется гораздо более ши-роким использованием заимствований.
В настоящее время в деятельности Академии намечается отход от пуристских по-зиций и стремление приблизить литературную норму к устной практике.
1.3.3. В Израиле С.и. обслуживает все сферы письменного и устного общения и используется в средствах массовой информации любого типа. Он является предме-
Ханаанейские языки 378
том изучения и языком обучения на всех образовательных уровнях. Обучение на С.и. ведется в начальных и средних школах, входящих в систему государственного обра-зования (государственные и государственные религиозные школы), а также в боль-шинстве независимых религиозных школ. С.и. — практически единственный язык преподавания в университетах Израиля. Для более успешной интеграции в израиль-ское общество большого числа иммигрантов в стране действует широкая сеть спе-циализированных языковых курсов — ульпанов. Подобные языковые курсы дейст-вуют также во многих странах за пределами Израиля.
Важнейшим учреждением, в котором ведутся исследования в области С.и., являет-ся Академия языка иврит. Основные научные центры по изучению С.и. в Израиле: Еврейский университет в Иерусалиме (основан в 1925 г.) — первый университет, где С.и. стал языком обучения, Университет им. М. Бар-Илана (г. Рамат-Ган), Тель-Авивский университет, Хайфский университет, Университет им. Д. Бен-Гуриона в Негеве (г. Беэр-Шева). С.и. также изучают во многих университетах стран Европы, Америки и др., а также в России (основные центры в Москве и Санкт-Петербурге).
1.4.0. Тексты на С.и. записываются древнееврейским алфавитом (так называемый «еврейский квадратный шрифт»), дополненным тремя буквами с диакритическими знаками для передачи звуков, отсутствовавших в древнееврейском языке, но встре-чающихся в заимствованиях: 'ג ǯ, 'ז ž, 'צ č (конечная форма 'ץ). В отдельных случаях (как правило, в некоторых именах собственных) для передачи этих звуков применя-ют также комбинации графем טש ,זש ,דזש. В качестве общепринятой скорописи ис-пользуется ашкеназский курсив. Ограниченно применяется также раввинское полу-курсивное письмо, так называемый «шрифт Раши» (аббревиатура имени крупнейше-го библейского и талмудического экзегета рабби Шломо Ицхаки, 1040–1105). Это письмо используется, в основном, в религиозной литературе, где шрифтом Раши на-бираются некоторые комментарии.
Орфография в С.и. является исторической и не передает последовательно фоноло-гическую систему языка. Фактически сосуществуют два вида письма — огласован-ное и неогласованное. Огласованное письмо, где для передачи гласных звуков ис-пользуются диакритические знаки тивериадской системы огласовки (подробнее см. статью «Древнееврейский язык» в наст. издании), подчиняется всем правилам орфо-графии древнееврейского языка и применяется только в текстах религиозного содер-жания (издания Библии, молитвенников и др.), в поэзии, а также в детской, учебной литературе и в словарях. Неогласованное письмо, наиболее распространенное в по-вседневной практике, отличается от огласованного не только отсутствием диакрити-ческих знаков для гласных, но также орфографией. Неогласованная орфография (так называемое «полное написание», ktiv male) предполагает более широкое использова-ние в качестве matres lectionis некоторых согласных букв еврейского алфавита (ה ,י ,ו, для передачи гласных звуков, в том числе исторически кратких. В неогласованном (אписьме буквы ו (для о, и), י (для e, i), а иногда א (для передачи а в словах интернацио-нальной лексики) используются, в частности, в тех случаях, когда в огласованном письме они не выписываются, например, קודש vs. שדק kódeš ‛cвятость’, קיבוץ vs. בוץק kibuc ‛кибуц’, רביס vs. סרב serev ‛отказываться’, אינפלאציה, равно как היצלפאנ inflácya ‛инфляция’. В то же время в некоторых позициях matres lectionis в неогласованном тексте не используются (так, в словах исконной лексики в неогласованном письме i в безударном закрытом слоге не обозначается буквой מכתב :י, равно как בתמכ mixtav ‛письмо’). Для различения употребления графем ו и י в функции matres lectionis от их
Л.М. Дрейер. Современный иврит 379
употребления для передачи согласных v и y в последнем случае используется графи-ческое удвоение согласных (встречается уже в мишнаитском иврите). Таким образом, орф. וו — v vs. орф. ו — o, u; орф. יי — y vs. орф. י — e, i. Еврейские имена соб-ственные и некоторые другие слова, однако, пишутся по правилам традиционной ор-фографии, независимо от того, появляются они в огласованном или неогласованном тексте: משה moše ‛Моше’, דוד david ‛Давид’.
Многочисленные сокращения и аббревиатуры обозначаются следующим образом. При сокращении одного слова пишется одна или несколько букв и ставится знак gereš ( ׳ רמספ > מס׳ ,’rabi ‛рабби רבי > ר׳ :( mispar ‛номер’. Если сокращаются несколько слов, то пишут по одной или несколько букв каждого слова, а перед последним зна-ком ставят два штриха geršáim (״ ״בארה ,’tel aviv ‛Тель-Авив תל אביב > ת״א :( ארצות > cáhal < cva hagana צבא הגנה לישראל > צה״ל ,’arcot ha-brit ‛Соединенные Штаты הבריתle-yisrael ‛Армия Обороны Израиля’.
Каждая буква еврейского алфавита имеет цифровое значение, но в настоящее вре-мя применение еврейских букв в качестве цифр ограничивается написанием дат по еврейскому календарю, пагинацией в некоторых изданиях, названием классов в шко-ле, нумерацией этажей в зданиях и т. п., а также в некоторых устойчивых сочетаниях (be-dálet amot ‛поблизости’, букв. ‛в четырех локтях’). Комбинация букв в числовом значении построена как аббревиатура. Числа, состоящие из одной цифры, обычно сопровождаются диакритическим знаком gereš ( ׳ ,сорок’. В числах‛ מ׳ ,’четыре‛ ד׳ :(представляющих комбинацию цифр, два штриха geršáim (״ ) ставятся перед послед-ним знаком: קמ״ב ‘cто сорок два’.
В настоящей статье примеры приводятся в фонологической транскрипции. 1.5.0. Древнееврейский язык окончательно вышел из употребления как разговор-
ный, вероятно, в III в. н. э., но продолжал широко использоваться в качестве культо-вого и книжного языка среди еврейского населения как на территории Палестины, так и в диаспоре. В быту евреи пользовались местными языками, на базе которых формировались еврейские этноконфессиональные варианты этих языков («еврейские языки»): идиш (еврейско-немецкий) в ашкеназских общинах (< àaškənaz — так сред-невековые еврейские источники называли Германию), сефардский (еврейско-испанский) в сефардских общинах (< səfāraḏ, средневековое еврейское название Ис-пании) и ряд других.
Началом формирования С.и. можно считать эпоху еврейского Просвещения — движения Гаскала (haskala), зародившегося в Германии в конце XVIII в. и в первой половине следующего столетия распространившегося в странах Центральной и Вос-точной Европы. Как и в предшествующие периоды, в условиях полиглоссии иврит сохранял свою функцию культового и книжного языка, но именно с этого времени сфера его бытования стала неуклонно расширяться. На фоне постепенной эмансипа-ции евреев в странах Европы появляется художественная литература современных жанров и современной тематики, критика, публицистика и др. Писатели Гаскалы ориентировались на библейский язык и стремились очистить «исконный» язык от более поздних (в частности, средневековых) напластований, ассоциировавшихся с традиционным укладом гетто. Однако при попытке отражения новых реалий средст-вами библейского языка стала очевидной ограниченность его лексических возможно-стей (так, для передачи тех или иных понятий нередко приходилось прибегать к весьма громоздким описательным оборотам). В результате сформировался так назы-ваемый «высокопарный стиль» (melica, signon melici), иногда трудный для понима-
Ханаанейские языки 380
ния. Другие авторы использовали также наследие мишнаитского и средневекового языка, создавали неологизмы, которые частично сохранились в С.и. Существенное влияние на формирование С.и. оказало творчество Менделе Мойхер Сфорима (1836–1917), объединившего лексику библейского, мишнаитского, средневекового и совре-менного ему языка раввинистической литературы и создавшего простой, но в то же время многоплановый стиль с использованием широких языковых ресурсов.
Период возрождения (1881–1922) характеризуется внедрением иврита в повсе-дневную жизнь еврейских иммигрантов в Палестине. Кульминацией этого процесса стало превращение иврита в разговорный язык еврейского населения страны (ишува). Это беспрецедентное в истории языков событие связано с деятельностью Э. Бен-Йехуды (Л. Перельмана; 1858–1922) и его сподвижников, пропагандировавших ис-пользование иврита в качестве разговорного языка. В доме самого Бен-Йехуды, пере-селившегося в Палестину в 1881 г., говорили исключительно на иврите, а его стар-ший сын стал первым ребенком, для которого иврит был родным языком. В это вре-мя в еврейских поселениях появились школы с обучением на иврите, воспитанники которых говорили на нем и после завершения обучения. Бен-Йехуда возглавил соз-данный в 1889 г. Комитет языка иврит, который стал проводить интенсивную работу по пополнению словарного фонда иврита (в основном используя древнееврейские корни и словообразовательные модели) и по нормированию языка.
Несмотря на трудности, которыми сопровождалось внедрение иврита в сферу высшей школы, где в 1910-е гг. его конкурентом выступил немецкий язык (так назы-ваемая «Война языков»), к концу данного периода иврит утвердился в качестве ос-новного языка общения и обучения среди евреев Палестины.
В период британского мандата (1922–1948) С.и. уже являлся одним из официаль-ных языков Палестины, и его позиции продолжали укрепляться. Событием большой важности стало основание в 1925 г. Еврейского университета в Иерусалиме. В 1929 г. Комитетом языка иврит была начата орфографическая реформа, в рамках которой было принято решение об использовании полного написания.
После образования Государства Израиль (1948) С.и. стал доминирующим языком в стране. Им начали овладевать прибывающие (теперь в гораздо большем числе) им-мигранты, а также граждане Израиля нееврейского происхождения.
1.6.0. Больше половины носителей С.и. составляли (и составляют) билингвы, для которых он является вторым языком, вследствие чего на протяжении всего времени своего существования он на разных уровнях испытывал влияние других языков, об-разующих сложный субстрат.
На фонетическом уровне существенное воздействие на С.и. оказал идиш. В консо-нантизме влиянием идиша объясняются следующие явления.
— Утрата гортанных: /â/ переходит в /à/ в позиции после согласного и в 0 в ос-тальных позициях, /ḥ/ переходит в /x/, /h/ в конечной позиции переходит в 0; кроме того, наблюдается тенденция к падению /à/ во всех позициях (кроме позиции после согласного) и /h/ в начальной позиции.
— Утрата противопоставления простых смычных и эмфатических согласных (/q/ > /k/, /ṭ/ > /t/).
— Реализация дрожащего сонанта как увулярного [R]. С влиянием идиша (и ашкеназской произносительной традиции) на вокализм С.и.
связывают дифтонгизацию исторического /ē/ > /ey/, а также падение редуцированно-го /ə/ в начальной позиции. Идиш оказал влияние и на просодию С.и., что выразилось
Л.М. Дрейер. Современный иврит 381
в перемещении ударения на предпоследний слог в некоторых словах и именах собст-венных (включая географические названия) в разговорном языке: búba ‛кукла’, sára ‛Сара (имя собственное)’, rexóvot ‛Реховот (название города)’.
На морфологическом уровне воздействие идиша сказалось в распространении в разговорном языке заимствованных через идиш славянских суффиксов -nik (kibúcnik ‛член кибуца’), -čik (katánčik ‛малыш’ < katan ‛маленький’). Непосредственно из иди-ша заимствован уменьшительный суффикс -le (ímale ‛мамочка’ < íma ‛мама’). Из се-фардского (еврейско-испанского) языка заимствован суффикс -íko (xaveríko ‛прия-тель’ < xaver ‛друг’).
В синтаксисе под влиянием субстратных европейских языков происходит вытес-нение сочинительных конструкций подчинительными. Влияние идиша (а также дру-гих европейских языков) проявилось в распространении конструкций со связкой ме-жду субъектом и предикатом (а не после предиката): ha-ir hi yafa ‛(этот) город кра-сив’ (вм. ha-ir yafa hi). Другим примером интерференции с европейскими языками служит употребление не характерных для древнееврейского предлогов при косвен-ном дополнении (histakel al... вм. histakel be-... ‛(он) смотрел на...’ или использование предлога im ‛с’ вместо предлога be- в инструментальном значении), а также употреб-ление инфинитива для выражения просьбы или требования.
Распространенное в С.и. словосложение также свидетельствует о воздействии на него европейских языков (прежде всего идиша, немецкого и русского).
Оформление слов интернациональной лексики (например opozícya ‛оппозиция’, in-flácya ‛инфляция’) с помощью суффикса -cya свидетельствует о влиянии славянских языков.
2.0.0. Лингвистическая характеристика. 2.1.0. Фонологические сведения. 2.1.1. Фонемный состав.
С о г л а с н ы е
По месту образования
По способу
образования
Лаб
иал
ьны
е
Лаб
ио
-д
ента
льн
ые
Ден
тальн
ые
Ал
ьвео
па-
лат
альн
ые
Пал
атал
ь-
ны
е
Вел
яр
ны
е
Уву
ляр
ны
е
Лар
ин
гал
ь-
ны
е
Гл. p t k (à) Смычные
Зв. b d g
Гл. f s š x Щелевые
Зв. v z ž* (h)
Гл. c č*
Шу
мн
ые
Аффрикаты Зв. ǯ*
Носовые m n
Неносовые w* l y
Со
нан
ты
Дрожащие R П р и м е ч а н и е: Фонемы, отмеченные знаком *, встречаются только в заимствованных
словах.
Ханаанейские языки 382
В отличие от древнееврейского языка, в С.и. отсутствует оппозиция простых и ге-минированных согласных (хотя знак геминации «дагеш сильный» по традиции при-меняется в огласованном письме).
Древнееврейские фонемы группы /b/, /g/, /d/, /k/, /p/, /t/, имевшие спирантные ал-лофоны [ḇ], [ḡ], [ď], [ḵ], [p], [u] в поствокальной позиции, претерпели следующие из-менения. Фонемы /g/, /d/, и /t/ утратили спирантные аллофоны и реализуются во всех позициях как смычные. Спирантные аллофоны древнееврейских фонем /b/, /k/, /p/ в С.и. приобрели статус фонем и реализуются как фрикативные [v], [x], [f]. При этом [v] < [ḇ] (графема ב) совпал с [v] < [w] (графема ו), а [x] < [ḵ] (графема ך/כ ) совпал с [x] < [ḥ] (графема ח).
Утрачена оппозиция между /t/ и /ṭ/, которые в общеизраильском койне реализуют-ся как [t], а также противопоставление /k/ и /q/, которые реализуются как [k].
Не различаются /s/ < /s/ (графема ס) и /s/ < /ś/ (графема ש). У большинства носителей /r/ реализуется как увулярный [R]. До последнего вре-
мени дикторской нормой считалось произношение денто-альвеолярного [r]. Сейчас в средствах массовой информации, причем не только на телевидении, но и на радио, наблюдается тенденция к вытеснению старой нормы.
В общеизраильском койне практически исчезли фарингальный /â/ и ларингальный /à/. В позиции абсолютного начала слова, а также в интервокальной позиции они обычно реализуются как нуль звука. Противопоставление /à/ и /â/ утрачено, /à/ (< /à/, /â/) сохраняется лишь в позиции после согласного (liràot ‛видеть’ vs. lirot ‛стрелять’), однако некоторые носители произносят /à/ также в интервокальной позиции перед ударным гласным (meod/meàod) ‛очень’.
Согласно норме, /h/ должен произноситься во всех позициях, однако в разговор-ном языке произошло его падение в конечной позиции (отмечаемой в огласованном письме как ה — буква ה со знаком «маппик»). Так, вместо nógah ‛сияние’ произносят nóga, вместо darkah ‛ее путь’ — darka. Кроме того, наблюдается тенденция к паде-нию /h/ также в начальной позиции (haxlata/axlata ‛решение’).
Для произношения представителей восточных общин (преимущественно выходцев из арабских стран) характерно сохранение ларингальных /à/ и /h/, фарингальных /ḥ/ и /â/, а также противопоставление велярного /x/ и фарингального /ḥ/, /v/ и /w/, простых смычных /k/ и /t/ эмфатическим /q/ и /ṭ/, простого сибилянта /s/ эмфатическому /ṣ/.
Г л а с н ы е
Ряд Подъем
Передний Средний Задний
Верхний i u
Средний e o
Нижний a
Развитие вокализма в С.и. в историческом плане может быть представлено сле-
дующим образом: a, å, ǎ > a; ä, Ã, e, ə > e; o, ǒ > o; u > u; i > i. Вокализм С.и. характеризуется отсутствием противопоставления гласных по дол-
готе. Распространена дифтонгизация исторически долгого ē в ey. Как правило, этот процесс затрагивает *ē, восходящий к *ay и передающийся в огласованном письме знаком «цере» и буквой «йод» в качестве mater lectionis. Это явление объясняется
Л.М. Дрейер. Современный иврит 383
влиянием ашкеназской произносительной традиции, где любой ē произносился как дифтонг. Поскольку переход e > ey более последовательно реализуется в случаях, ко-гда на письме используется mater lectionis, можно предположить, что он в значитель-ной мере обусловлен орфографией. В то же время, у части носителей ашкеназского происхождения дифтонгизация возможна и в иных случаях, если e < ē находится в открытом ударном слоге. Можно отметить смыслоразличительное значение дифтон-гизации в некоторых словах, где она позволяет избежать омофонии, например в омо-графах bet ‛бет’ (название буквы еврейского алфавита) — beyt ‛дом’ (st. constr.).
Для С.и. характерно падение древнееврейского редуцированного ə (шва подвиж-ного), который сохраняется как е лишь в следующих условиях.
— На стыке морфем в предлогах-префиксах be-, le-, ke-, в союзе ve-, в префиксе именного и глагольного словообразования me-, показателях будущего времени ne-, te-, ye-: be-roš ‛в голове’ (vs. broš ‛кипарис’), le-derex ‛к дороге’, ke-tayar ‛как турист’, ve-ganav ‛и (он) украл’, nedaber ‛мы будем говорить’, tevaker ‛ты посетишь’, yetapel ‛он будет ухаживать’.
— При втором согласном начального кластера — ларингальном h: kehila ‛община’. — При первом согласном начального кластера — сонорном: medida ‛измерение’,
necigim ‛представители’, yeladim ‛дети’, rexov ‛улица’. — Перед выпавшим ларингалом: zeev ‛волк’, ceira ‛молодая’, beaya/baaya ‛проблема’. — При обоих согласных начального кластера — сибилянтах: šezifim ‛сливы’. — При одинаковых согласных кластера: nodedim ‛кочевники’. — При звонком первом и глухом втором согласном кластера: betixut ‛надежность’. — После второго согласного при скоплении трех согласных в середине слова: tar-
negol ‛петух’, tixtevu ‛вы напишете’. В остальных случаях исторический ə реализуется как нуль звука (katva < kāuəḇā,
dibra < dibbərā, gdola < gədōlā), вследствие чего снимается различие между šəwā mo-bile (шва подвижный) и šəwā quiescens (шва покоящийся).
Носители — выходцы из сефардских и восточных общин в начальной позиции обыч-но всегда произносят е, избегая двухсогласного кластера (gevéret ‛госпожа’ вм. gvéret).
Варианты древнееврейского ə (ǎ, Ã, ǒ) в С.и. совпали с гласными полного образо-вания а, е, о. Иногда отмечается их падение, если они следуют за х < ḥ (характерно для неартикулированной речи, например raxman ‛милостивый’ вм. raxaman, moxratáim ‛послезавтра’ вм. moxoratáyim).
Сочетания ay, oy, uy обычно рассматриваются как нисходящие дифтонги (наряду с описанным выше дифтонгом ey).
Дифтонгоидные сочетания éa, ía, όa, úa представляют собой позиционные вариан-ты гласных e, i, o, u перед конечным х < ḥ или выпавшими гортанными h, â (saméаx < ŝāmē aḥ ‛радостный’, yadúа < yādū а â ‛известный’, gavόа < gāḇōah ‛высокий’).
2.1.2. Ударение в С.и. силовое, экспираторное. Ударный гласный реализуется как более долгий. Ударение может быть смыслоразличительным: bόker ‛утро’ vs. bokér ‛скотовод’. Другие примеры минимальных пар: ráca ‛она бежала’ — racá ‛он хотел’, bánu ‛в нас’ — banú ‛они построили’.
В большинстве именных словоформ ударение падает на последний слог (в насто-ящем очерке не маркируется). В сеголатных именах (С1éС2еС3/С1όС2еС3, С1éС2аС3/ C1όC2aC3, С1áС2аС3, C1áyiC3), а также в так называемых «псевдосеголатных словах», где последние слоги повторяют структуру сеголатного имени (yošévet ‛сидящая’, zaméret ‛певица’, mišláxat ‛делегация’), ударный слог предпоследний.
Ханаанейские языки 384
В глаголах ударение обычно падает на последний гласный основы. В ряде глаголь-ных форм (3-е лицо единственного числа женского рода и 3-е лицо множественного числа прошедшего времени, 2-е лицо единственного числа женского рода, 2-е и 3-е лицо множественного числа будущего времени) ударение падает на суффикс. В этих же формах глаголы породы hifâil (за исключением глаголов со слабым третьим корне-вым), а также глаголы породы qal со слабым вторым корневым или одинаковыми вто-рым и третьим корневыми сохраняют ударение на последнем гласном основы. В лите-ратурном языке ударными являются также суффиксы 2-го лица множественного числа прошедшего времени -tem, -ten. В разговорном языке эти суффиксы стали безударными (разг. gártem vs. лит. gartém ‛(вы) жили’, разг. katávtem vs. лит. ktavtém ‛(вы) писали’).
В ряде случаев можно отметить тенденцию к передвижению ударения на предпо-следний слог. Основной причиной этого явления называют влияние ашкеназского произношения.
В словах исконной лексики сдвиг ударения происходит в женских личных именах на -а как в литературном, так и в разговорном языке (dvóra, rívka, sára), а также в не-которых мужских личных именах (только в разговорном языке): yícxak, menáxem, šlómo. При этом имена библейских персонажей сохраняют ударение на последнем слоге. Дериваты личных имен обычно несут ударение на предпоследнем слоге: dáni (< daniyel, dan), béni (< binyamin), rúti (< rut). На предпоследний слог ставится ударе-ние и в фамилиях, образованнных как относительные прилагательные от исконных имен: káspi, yarkóni.
Ударение переносится в названиях населенных пунктов, оканчивающихся на глас-ный: dimóna, metúla, keysárya (в литературном и разговорном языке), yáfo, áko, me-gído, netánya/natánya (в разговорном языке). Для разговорного языка характерно употребление названий первых еврейских поселений с ударением на предпоследнем слоге: pétax-tíkva, rexóvot.
Некоторые нарицательные имена, оканчивающиеся на -a, употребляются в разго-ворном языке с ударением на предпоследнем слоге (écba ‛палец’, búba ‛кукла’, kóva ‛шапка’).
В старых заимствованиях из арамейского языка, оканчивающихся на -а (< -ā(à), -ā) ударение обычно на предпоследнем слоге ába ‛отец’, maškánta ‛ипотечный кредит’.
В современных заимствованиях ударение часто сохраняется на том слоге, на кото-ром оно ставилось в языке-источнике. При этом в производных формах ударение ос-тается на основе и не передвигается на суффиксы, если слово или его основа оканчи-вается на согласный: student ‛студент’ — studéntit ‛студентка’ — studéntim ‛студен-ты’ — studéntiyot ‛студентки’, fantásti ‘фантастический’, klási ‘классический’, normatívi ‘нормативный’, relevánti ‛релевантный’. Иногда нормативными считаются формы с ударением на суффиксе: studentím в дикторской речи. В аналогичных производных формах исконных слов те же суффиксы являются ударными (melcarít ‛официантка’, safraním ‛библиотекари’, dimyoní ‛воображаемый’). Если же слово оканчивается на гласный (который сохраняется в производных формах), ударение передвигается на суффикс: univérsita ‛университет’ — universitaót ‛университеты’ — universitaí ‛уни-верситетский’.
Предпоследний слог оказывается ударным во многих возникших в новое время словах, образованных как относительные прилагательные и обозначающих народы, языки, жителей городов и т. п., если их основа оканчивается на согласный. При этом ударение остается на основе при присоединении суффиксов -i, -it (tel-avívi ‛тель-
Л.М. Дрейер. Современный иврит 385
авивский, тель-авивец’, síni ‛китайский, китаец’), или же передвигается на первый гласный суффикса -ái: parizái ‛парижанин’.
Часто сдвиг ударения становится смыслоразличительным, образуются новые ми-нимальные пары, например bulím ‛почтовые марки’ — búlim ‛коллекция марок’, birá ‛столица’ — bíra ‛пиво’, turkiyá ‛турчанка’ — túrkiya ‛Турция’.
При образовании имени собственного от нарицательного ударение также может передвигаться. Ср. rexovót ‛улицы’ — rexóvot ‛Реховот (название города)’, dvorá ‛пче-ла’ — dvóra ‛Двора (женское имя)’, xayím ‛жизнь’ — xáyim ‛Хаим (мужское имя)’.
Передвижение ударения на предпоследний слог характерно и для детской речи (ср. например, порядковые числительные ríšon ‛первый’, šéni ‛второй’, šlíši ‛третий’ в считалках).
2.1.3. Фонологической долготы в С.и. нет, однако ударные гласные произносятся более протяженно, чем безударные.
Фонема /а/ реализуется как закрытый напряженный [a] под ударением или нена-пряженный [ʌ] в безударной позиции. Некоторые носители произносят более откры-тый [ɑ] перед a < âa или перед -С- < -âC- (taám [tɑám] ‛он пробовал’, mayan [mɑyan] ‛родник’, natáti [nʌtɑtɪ] ‛я сажал’). Фонема /о/ представлена закрытым [o] в ударной позиции и открытым [ɔ] в безударной. Фонема /u/ реализуется как ненапряженный открытый [u] во всех позициях. Фонема /i/ имеет два аллофона — закрытый [i] в ударном открытом слоге и открытый [ɪ] в безударной позиции или в ударном закры-том слоге. Фонема /е/ обычно реализуется как открытый [ε]. Носители восточного происхождения произносят /e/ как более закрытый [e]. Безударный e < др.-евр. ə мо-жет также реализоваться как [ə], а иногда, если за ним следует a < âa — как [ʌ], на-пример в слове beaya [bʌʌya] ‛проблема’. У некоторых носителей на качество гласно-го /e/ может влиять предшествовавший ему выпавший /â/; в этом случае /e/ реализу-ется как [aε]: ес [aεc] ‛дерево’.
Довольно часто отмечаемое явление — падение y перед гласным /i/, в результате чего сочетание уi реализуется как [i].
Иногда отмечается частичная ассимиляция сибилянтов: озвончение /š/ перед звон-ким ([xežbon] ‛счет’) и оглушение /z/ перед глухим ([yiskoR] ‛(он) будет помнить’).
2.1.4. Слог в С.и. претерпел изменения по сравнению с древнееврейским языком. Основные типы структуры слога следующие: CV — ударные и безударные (dé-rex ‛путь’, mo-ré ‛учитель’); CVC — ударные и безударные (mix-táv ‛письмо’); CCV — ударные и безударные (kla-vím ‛собаки’, šma ‛слушай’); CCVC — ударные и безудар-ные (zman ‛время’, klav-láv ‛щенок’); CVCC — ударные (samt ‛ты положила’, ša-márt ‛ты хранила’); V — ударные и безударные (ro-é ‛видит’, e-góz ‛орех’); VC — ударные и безударные (ni-ša-ér ‛останемся’, el-mád ‛буду учиться’, má-im ‛вода’); VCC — ударные (niš-árt ‛ты осталась’, hif-ált ‛ты привела в действие’).
Слоги структуры CCV, V, VC, VCC гораздо реже встречаются в речи носителей, придерживающихся «восточного произношения», поскольку последние избегают на-чального двухсогласного кластера и могут сохранять в произношении гортанные à и â.
Конечный двухсогласный кластер появляется только в глагольной форме 2-го лица единственного числа женского рода прошедшего времени и в заимствованной лексике.
Комбинации звуков oy, uy могут находиться только в позиции абсолютного исхода слова. Дифтонгоидные сочетания éa, óa, úa, ía возможны лишь в исходе слова или перед конечным х < /ḥ/.
2.2.0. Морфонологические сведения. 2.2.1. Слоговое и морфемное деление в С.и. не связаны между собой.
Ханаанейские языки 386
По количеству корневых согласных слова исконной лексики С.и. не отличается от древнееврейского языка и включают двух-, трех-, четырехконсонантные, и редко пя-тиконсонантные имена (см. статью «Древнееврейский язык» в наст. издании).
Из-за утраты ряда древних вокалических противопоставлений и геминации со-гласных фонетический облик некоторых именных типов может совпадать, однако различие между типами проявляется в производных формах. Так, лексемы davar ‛слово’ (< dāḇār, модель *katal-), ganav ‛вор’ (< gannāḇ, модель *kattāl-) и paraš ‛всад-ник’ (< pārāš, модель *kattāl- с компенсаторным удлинением гласной перед r), не от-личаясь друг от друга по структуре в словарной форме, различаются в формах мно-жественного числа (dvarim, но parašim и ganavim).
Примеры наиболее типичных структурных типов первичных именных основ: kal (sak ‛мешок’); kol (kof ‛обезьяна’, xok ‛закон’); kul (cur ‛скала’); kil (gil ‛возраст’); kel (šem ‛имя’, xec ‛стрела’); ktal (zman ‛время’, krax ‛мегаполис’); ktol (dror ‛воробей’); ktul (txum ‛сфера, область’, kluv ‛клетка’); ktil (kfir ‛молодой лев’, snif ‛филиал, отде-ление’); kétel (dérex ‛путь’, séfer ‛книга’); kótel (bóker ‛утро’); kitol (kinor ‛скрипка’); kital (sinar ‛фартук’); katal (zaxar ‛самец’, paraš ‛всадник’); katil (lapid ‛факел’, sakin ‛нож’); katul (kadur ‛шар’); katel (namel ‛гавань’, šaked ‛миндаль’, katef ‛плечо’); katol (aton ‛ослица’, pašoš ‛славка (зоол.)’); kotal (goral ‛жребий’); kutal (sugar ‛намордник’, ukaf ‛седло’); ketel (tevel ‛вселенная’).
Глагольные корни, производные от заимствованных слов (как правило, имен) мо-гут иметь до пяти согласных (√tlgrf: tilgref ‛(он) телеграфировал’ < telegraf ‛телеграф’).
2.2.2. В состав корня могут входить любые согласные, тогда как исконные аффик-сальные морфемы могут включать только согласные à, h, v, y, x, m, n, t. На заимство-ванные аффиксы это правило не распространяется.
2.2.3. По сравнению с древнееврейским языком, характер чередований согласных в С.и. изменился вследствие утраты оппозиции простых и геминированных согласных, а также исчезновения спирантных аллофонов [g], [ď], [u] и обретения фонологическо-го статуса спирантными аллофонами [ḇ], [ḵ], [p] (> /v/, /x/, /f/). Древнееврейские ге-минированные согласные группы b, g, d, k, p, t в С.и. реализуются в интервокальной позиции как простые смычные. Переход b > v, k > x, p > f в поствокальной позиции в С.и. является не автоматическим (или полуавтоматическим) чередованием (как в древнееврейском языке), а чисто исторической альтернацией, причем не всегда по-следовательной, особенно в разговорном языке. Так, наблюдается тенденция к закре-плению либо смычной, либо фрикативной фонемы во всех формах одного и того же слова: kita ‛класс’ — be-kita ‛в классе’ (вм. нормативного be-xita), le-kaxev ‛быть звез-дой (сцены и т. п.)’ (вм. нормативного, но неупотребительного le-xakev) < koxav < kōḵāḇ ‛звезда’, hitàafes ‛был сведен к нулю’ (вм. hitàapes) < éfes ‛нуль’. Эта тенденция приводит к образованию новых минимальных пар: hitxaber ‛(он) соединился’ — hitxaver ‛(он) подружился’ < xaver ‛друг’ (в рамках нормативной грамматики оба гла-гола должны были бы иметь вид hitxaber < hiuḥabbēr).
Перераспределение древних аллофонов привело к тому, что некоторые согласные фонемы С.и. расщепляются на две морфонемы с различными правилами дистрибу-ции и чередования.
— Фонема /v/: морфонема v1 восходит к ḇ, не встречается в начальной позиции, чередуется с /b/ (šavar ‛(он) сломал’ — šiber ‛(он) изломал’); морфонема v2 восходит к w, редко встречается в начальной и конечной позициях, чередуется с y и гласными o, u (mávet ‛смерть’ (st. abs.) — mot ‛смерть’ (st. constr.) — namut ‛мы умрем’).
Л.М. Дрейер. Современный иврит 387
— Фонема /k/: морфонема k1 восходит к k, не встречается в конечной позиции, че-редуется с /x/ (aruka ‛длинная’ — arox ‛длинный’); морфонема k2 восходит к q, встре-чается во всех позициях, в чередованиях не участвует (amuka ‛глубокая’ — amok ‛глубокий’, xélek ‛часть’ — xelki ‛частичный’).
— Фонема /x/: морфонема x1 восходит к ḵ, не встречается в начальной позиции, чередуется с /k/ (mélex ‛царь, король’ — malka ‛царица, королева’); морфонема x2 вос-ходит к /ḥ/, в конечной позиции встречается только после /a/ или сочетаний /ea/, /oa/, /ua/, /ia/, в чередованиях не участвует (cémax ‛растение’ — cimxi ‛растительный’ — coméax ‛произрастающий’).
Диахроническими причинами объясняются также позиционные ограничения для фонем /b/ и /p/ (в конечной позиции встречаются только в заимствованиях) и /f/ (не встречается в начальной позиции в словах исконной лексики).
В С.и. в результате утраты h в конечной позиции появилось новое чередование h ~ 0 (govho ‛его рост’ — góva ‛рост’).
В словах с первым корневым y и с первым корневым n происходит чередование первого корневого согласного с нулем звука (yarad ‛(он) спустился’ — red ‛спус-тись’, nasa ‛ (он) ездил’ — sa ‛(по)езжай’).
В основах с первым слабым n древнее чередование n ~ C сменилось в С.и. чере-дованием n ~ 0 из-за утраты консонантной геминации, например natan ‛(он) дал’ — yiten ‛(он) даст’, nisgar ‛(он) закрывается’ — yisager ‛(он) закроется’.
С.и. унаследовал большую часть исторических чередований в области вокализма, присущих древнееврейскому языку. В то же время, для некоторых фонем инвентарь морфонем расширился из-за утраты некоторых древних вокалических оппозиций (a, ā > a и e, ä, ə > e).
— Фонема /a/. Морфонема a1 не участвует в чередованиях. Ее диахроническая природа гетерогенна. Важнейшими источниками являются древнееврейское ā, по различным причинам не подвергавшееся редукции, а также древнееврейское а, не изменявшее своего качества (главным образом перед удвоенным согласным): paraš ‛всадник’ — мн. ч. parašim, šavua ‛неделя’ — мн. ч. šavuot, am ‛народ’ — ameyxem ‛ваши народы’, gamal ‛верблюд’ — мн. ч. gmalim — gmaley ha-bédwi ‛верблюды бе-дуина’. Морфонема а2 восходит к древнееврейскому a, участвует в разнообразных чередованиях: a ~ 0 (malka ‛царица’ — мн. ч. mlaxot), a ~ e (mélex ‛царь’ — malki ‛мой царь’, zaken ‛он состарился’ — zakánti ‛я состарился’), a ~ i (mas ‛налог’ — мн. ч. misim). Морфонема a3 восходит к древнееврейскому ā, в именных основах katal чере-дуется при первом сдвиге ударения с нулем, а при дальнейшем переносе ударения — с i: davar ‛слово’ — мн. ч. dvarim — divrey ha-more ‛слова учителя’. В именных осно-вах katel чередуется с нулем (šaked ‛миндаль, миндалина’ — мн. ч. škedim — škedey ha-yéled ‛миндалины мальчика’), а также с i (namel ‛порт’ — мн. ч. nimley teufa ‛аэро-порты’) и с е (gader ‛забор’ — мн. ч. gderot — géder táil ‛проволочное ограждение’). В глагольных основах прошедшего времени обычно чередуется с нулем (katav ‛он написал’ — ktavtem ‛вы написали’), в глагольных основах будущего времени — с е (tizkan ‛ты состаришься’ — tizkenu ‛вы состаритесь’);
— Фонема /e/. Морфонема e1 не участвует в чередованиях и восходит к древнеев-рейскому e, которое по различным диахроническим причинам оставалось стабиль-ным при словоизменении: met ‛мертвец’ — мн. ч. metim — meteyxem ‛ваши мертве-цы’, he(y)xal ‛дворец’ — мн. ч. he(y)xalim. Разновидностью морфонемы e1 можно счи-тать е(y), чередующееся с сочетанием a(y)i, но остающееся стабильным при сдвиге
Ханаанейские языки 388
ударения: yáin ‛вино’ — st. constr. yeyn — мн. ч. yeynot — мн. ч. с мест. суф. yey-noteyxem. Морфонема e2 восходит к древнееврейскому e, в именных основах череду-ется с нулем и i (séfer ‛книга’ — мн. ч. sfarim — sifro ‛его книга’, cémax ‛растение’ — мн. ч. cmaxim — cimxi ‛растительный’, xec ‛стрела’ — мн. ч. xicim), в глагольных формах чередуется с нулем, а, i (gidel ‛он вырастил’ — gidla ‛она вырастила’ — gi-dálti ‛я вырастил’, hakšev ‛внимай’ — hakšívu ‛внимайте’ и др.). Морфонема e3 восхо-дит к древнееврейскому ä и чередуется с a, i и нулем: mélex ‛царь’ — мн. ч. mlaxim — malxeyhem ‛их цари’, séret ‛лента’ — мн. ч. sratim — sirteyhem ‛их ленты’. Морфоне-ма e4 восходит к древнееврейскому ə, чередуется с a и o (чаще в глагольных формах): tixtov ‛ты напишешь’ — tixtevu ‛вы напишете’, tilmad ‛ты будешь изучать’ — tilmedu ‛вы будете изучать’.
— Фонема /i/. Морфонема i1 восходит к устойчивому древнееврейскому i (как пра-вило, либо исторически долгому, либо исторически краткому перед удвоенным со-гласным) и в чередованиях обычно не участвует: kacin ‛офицер’ — мн. ч. kcinim, tiroš ‛молодое вино’ — tirošo ‛его молодое вино’, kinor ‛скрипка’ — kinorotéynu ‛наши скрип-ки’. Морфонема i2 восходит к древнееврейскому i, чередуется с a, e и нулем: simla ‛платье’ — мн. ч. smalot, lev ‛сердце’ — libi ‛мое сердце’, bat ‛дочь’ — biti ‛моя дочь’.
— Фонема /о/. Морфонема о1 не участвует в чередованиях: kotev ‛он пишет’ — kotvim ‛они пишут’, olam ‛мир’ — мн. ч. olamot/olamim — мн. ч. st. constr. olmey, šot ‛кнут’ — мн. ч. šotim — мн. ч. st. const. šotey, con ‛мелкий рогатый скот’ — cono ‛его мелкий скот’, xor ‛отверстие’ — мн. ч. xorim — st. constr. xorey. Морфонема о1 восхо-дит к древнееврейскому стабильному o различного происхождения. Морфонема о2
чередуется c e (yixtov ‛он напишет’ — yixtevu ‛они напишут’) и u (xok ‛закон’ — мн. ч. xukim). Морфонема o3 чередуется с v: šor ‛бык’ — мн. ч. švarim ‛быки’, st. abs. mávet ‛смерть’ — st. constr. mot.
— Фонема /u/. Морфонема u1 не участвует в чередованиях: gvul ‛граница’ — gvulxem ‛ваша граница’, šual ‛лисица’ — мн. ч. šualim . Морфонема u1 восходит к ста-бильному u в древнееврейском (как правило, из прасем. *ū). Морфонема u2, как пра-вило, чередуется только с o: amok ‛глубокий’ — ж. р. amuka, takum ‛ты встанешь’ — takómna ‛они (ж. р.) встанут’. Морфонема u3 чередуется с v (встречается редко): šuk ‛рынок’ — мн. ч. švakim.
Дифтонгические сочетания éa, ía, уa, úa, чередуются с гласным, являющимся пер-вым компонентом дифтонга (saméax ‛радостный’ — smexa ‛радостная’, hivtíax ‛он обещал’ — hivtíxa ‛она обещала’, patúax ‛открытый’ — ptuxim ‛открытые’) или с гласным а (šoléax ‛посылающий’ — šoláxat ‛посылающая’).
2.3.0. Семантико-грамматические сведения. С.и. — флективный язык, синтетический строй которого включает элементы ана-
литизма. По сравнению с древнееврейским языком в С.и. можно отметить больше аналитических черт (например вытеснение пассивных спрягаемых форм глагола ана-литическими конструкциями).
2.3.1. В С.и. выделяются знаменательные части речи (существительные, прилага-тельные, числительные, местоимение, глагол, наречие), служебные (союзы, предлоги, частицы, артикль) и междометия.
Морфологическими парадигмами обладают глагол и имя. Имена существительные различают мужской и женский род, изменяются по числам (см. 2.3.3.) и состояниям (абсолютное и сопряженное), могут находиться в определенной или неопределенной форме. Прилагательные, употребляясь атрибутивно, согласуются с существительными
Л.М. Дрейер. Современный иврит 389
в роде, числе и определенности (см. 2.3.1.). О грамматических значениях числитель-ных см. 2.3.3. Спрягаемые формы глагола морфологически выражают грамматиче-ские значения времени, лица, числа, рода, залога и наклонения. Глагольное словооб-разование представлено исходной основой (основной породой) и ее модификация-ми — производными породами. Производные породы выражают преимущественно значения залога и переходности (см. 2.3.5.).
В систему глагола С.и. также входят неличные формы — причастия и инфинитивы. Так называемый абсолютный инфинитив (infinitivus absolutus) в С.и. почти вышел
из употребления, но может использоваться в литературном языке в составе figura etymologica.
Так называемый сопряженный инфинитив (infinitivus constructus, еврейское обозна-чение šem ha-póal ‛имя действия’) с десемантизированным префиксом l- (le-/li-/la-) яв-ляется основной формой инфинтива в литературном языке и единственной — в раз-говорном. В литературном языке может употребляться инфинитив с префиксами b-, k-, m-, иногда в сочетании с местоименными суффиксами. Сопряженного инфинитива нет в породах puâal и hufâal/hofâal.
В литературном языке употребляется форма сопряженного инфинитива с префик-сом b- в функции обстоятельства времени.
2.3.2. Категория р о д а присуща существительным (классифицирующий род), а также прилагательным, числительным, личным, притяжательным и указательным местоимениям, глаголам (согласовательный род). В С.и. два грамматических рода — мужской и женский. Маркированным является женский род. Основные суффиксаль-ные показатели женского рода существительных: -a, -et, -it, -ut, -iyut.
Показатели женского рода -a, -et, -it используются, в частности, для образования названий существ женского пола от названий существ мужского пола: dod ‛дядя’ — doda (лит.)/dóda (разг.) ‛тетя’, xatul ‛кот’ — xatula ‛кошка’, pakid ‛служащий’ — pkida ‛служащая’, xayal ‛солдат’ — xayélet ‛женщина-солдат’, melcar ‛официант’ — melcarit ‛официантка’. Показатели -ut и -iyut могут служить для образования абстрактных имен женского рода: savlanut ‛терпение’, enošut ‛человечество’, enošiyut ‛человечность’.
Ряд существительных относятся к женскому роду, но при этом не содержат соот-ветствующего формального показателя. Таковы, в частности, имена, обозначающие существа женского пола: ez ‛коза’, aton ‛ослица’. Согласования в женском роде тре-буют парные или существующие в четном количестве, а также некоторые непарные органы и части тела (за исключением naxir ‛ноздря’, šad ‛женская грудь’): ózen ‛ухо’, yad ‛рука’, šen ‛зуб’, ecba/écba ‛палец’, écem ‛кость’, béten ‛живот’. Названия стран и городов — женского рода (в соответствии с родом имен érec ‛страна, земля’ и ir ‛город’); напротив, названия рек — мужского рода, поскольку родовое имя nahar ‛река’ — мужского рода.
У некоторых имен в древнееврейском языке и средневековом иврите отмечались колебания в роде (например dérex ‛дорога, путь’, lašon ‛язык’, rúax ‛ветер, дух’, šémeš ‛солнце’). В С.и. эти слова употребляются, как правило, в женском роде.
В отличие от существительных, прилагательные женского рода обязательно имеют согласовательный показатель рода -a, -t или безударный -et.
Существительные и прилагательные могут находиться в одном из трех с о с т о -я н и й (с т а т у с о в): абсолютном (status absolutus), сопряженном (status construc-tus) или местоименно-притяжательном: šalom ‛мир, здоровье’ — šlom axi ‛здоровье моего брата’ — šlomi ‛мое здоровье’, šlomxa ‛твое (м. р.) здоровье’, šlomex ‛твое
Ханаанейские языки 390
(ж. р.) здоровье’, šlomo ‛его здоровье’, šloma ‛ее здоровье’, šloménu ‛наше здоровье’, šlomxem ‛ваше (м. р.) здоровье’, šlomxen ‛ваше (ж. р.) здоровье’, šlomam ‛их (м. р.) здоровье’, šloman ‛их (ж. р.) здоровье’.
Имя находится в status constructus, если непосредственно за ним следует несогла-сованное определение-существительное, образующее с первым «сопряженное соче-тание» (традиционное еврейское обозначение smixut). Сопряженное сочетание служит, в частности, для выражения посессивности (2.3.4.). Сопряженное сочетание пред-ставляет собой единую акцентную группу с безударным (или несущим второстепен-ное ударение) первым компонентом. Удаленностью от главного ударения обусловле-ны фонетические изменения в ряде имен в status constructus, в частности редукция и падение гласных: šalom — šlom axi. В именах женского рода, оканчивающихся в status absolutus на -а, в status constructus появляется показатель -t, представленный ал-ломорфами -at и -et: šana ‛год’ — šnat limud ‛год обучения’, memšala ‛правитель-ство’ — mеmšélet yisrael ‛правительство Израиля’. О формах множественного числа имен в status constructus см. 2.3.3.
Категория о д у ш е в л е н н о с т и проявляется в употреблении разных во-просительных местоимений для одушевленных и неодушевленных предметов (mi ‛кто?’, ma ‛что?’). Кроме того, с неодушевленными прямыми объектами возможно употребление как личных местоимений, так и указательных местоимений-существительных (oto ‛его’, ota ‛ее’; et ze ‛этот, это’, et zot ‛эту’), а с одушевленны-ми — только личных (oto ‛его’, ota ‛ее’), например hu lakax oto ‛он взял его (мальчи-ка/книгу)’, но hu lakax et ze ‛он взял это (книгу)’.
2.3.3. Категория ч и с л а присуща именам существительным, прилагательным, глаголам, личным и указательным местоимениям. В С.и. выделяются единственное, множественное и двойственное число.
Единственное число существительных и прилагательных немаркировано. Большинство имен мужского рода имеет показатель множественного числа -im в
status absolutus и -ey в status constructus, например: argaz ‛ящик’ — мн. ч. st. abs. argazim ‛ящики’ — мн. ч. st. constr. argezey tapuxim ‛ящики с яблоками’.
Показатель множественного числа женского рода как в status absolutus, так и в status constructus имеет вид -ot: xoma ‛стена’ — мн. ч. st. abs. xomot ‛стены’ — мн. ч. st. constr. xomot ha-ir ‛стены города’. Посредством суффикса -ot образуется также множественное число имен женского рода без формального показателя рода или со-держащих показатель -а или -et: rúax ‛ветер’ — мн. ч. ruxot, miflaga ‛партия’ — мн. ч. miflagot, soféret ‛писательница’ — мн. ч. sofrot, bikóret ‛критика’ — мн. ч. bikorot. Большинство имен женского рода с суффиксами единственного числа -it, -ut или -ot во множественном числе имеют показатели -yot, -uyot, -ayot (st. constr. -yot), как, на-пример, kapit ‛ложка’ — мн. ч. kapiyot, zexut ‛право’ — мн. ч. zexuyot, axot ‛сестра’ — мн. ч. axayot (st. constr. axyot).
Регулярность в распределении показателей множественного числа существитель-ных в ряде случаев нарушается. Так, многие существительные мужского рода обра-зуют множественное число с суффиксом -ot. Среди них можно выделить следующие основные типы.
— Большинство имен на -on, в том числе имена, образованные по моделям kitalon и kitlon, например: racon ‛желание’ — мн. ч. reconot, armon ‛дворец’ — мн. ч. armonot, vilon ‛занавес’ — мн. ч. vilonot, zikaron ‛память’ — мн. ч. zixronot, yitron ‛преиму-щество’ — мн. ч. yitronot (исключения, имеющие показатель -im, — имена с димину-
Л.М. Дрейер. Современный иврит 391
тивным суффиксом -on, такие как yaldon ‛детка’ — мн. ч. yaldonim, dubon ‛медве-жонок’ — мн. ч. dubonim, а также неологизмы типа aviron ‛аэроплан’ и др.).
— Многие другие имена с гласным -о- (или сочетанием -óa-) в последнем слоге: bor ‛яма’ — мн. ч. borot, kóax ‛сила’ — мн. ч. koxot, xalom ‛сон, мечта’ — мн. ч. xalo-mot, yesod ‛основание’ — мн. ч. yesodot, lakóax ‛клиент’ — мн. ч. lakoxot; сюда отно-сятся также имена с префиксом m-, такие как makom ‛место’ — мн. ч. mekomot, mikcóa ‛профессия’ — mikcoàot (однако некоторые неологизмы выпадают из этого ряда, ср. matos ‛самолет’ — мн. ч. metosim, masof ‛терминал’ — мн. ч. mesofim и др.).
— Имена на -an: ilan ‛дерево’ — мн. ч. ilanot, šulxan ‛стол’ — мн. ч. šulxanot (но inyan ‛интерес’ — мн. ч. inyanim, binyan ‛здание’ — мн. ч. binyanim).
— Большинство имен на -е от корней с третьим корневым y: mikve ‛бассейн для омовений’ — мн. ч. mikvaot, maške ‛напиток’ — мн. ч. maškaot, sade ‛поле’ — мн. ч. sadot (но mivne ‛структура’ — мн. ч. mivnim, mikre ‛случай’ — мн. ч. mikrim).
— Некоторые другие имена, различные по структуре, например av ‛отец’ — мн. ч. avot, zug ‛пара’ — мн. ч. zugot, lúax ‛доска’ — мн. ч. luxot, ocar ‛казна’ — мн. ч. ocarot, maftéax ‛ключ’ — мн. ч. maftexot, mazleg ‛вилка’ — мн. ч. mazlegot, yáar ‛лес’ — мн. ч. yearot, nahar ‛река’ — мн. ч. neharot. У слова yom ‛день’ (мн. ч. st. abs. yamim) в st. constr. наряду с формой yemey в некоторых устойчивых выражениях употребляется форма yemot: yemot ha-gšamim ‛сезон дождей’, букв. ‛дни дождей’.
Ряд существительных женского рода имеют показатель множественного числа -im, причем почти половина из их числа — имена без формального показателя женского рода в единственном числе: ir ‛город’ — мн. ч. arim, éven ‛камень’ — мн. ч. avanim. Данный способ образования множественного числа характерен для названий расте-ний и животных, имеющих в единственном числе суффикс женского рода: afuna ‛горох’ — мн. ч. afunim (в С.и. появилась также форма ед. ч. м. р. afun), botna ‛фисташковое дерево’ — мн. ч. botnim, yona ‛голубь’ — мн. ч. yonim, dvora ‛пчела’ — мн. ч. dvorim. Сюда относятся и некоторые другие имена: beyca ‛яйцо’ — мн. ч. beycim, gaxélet ‛уголь’ — мн. ч. gexalim (st. constr. gaxaley), mila ‛слово’ — мн. ч. milim (st. constr. milot), šana ‛год’ — мн. ч. šanim (st. constr. šnot).
В отличие от существительных, показатели множественного числа у прилагатель-ных строго соотнесены с родом существительного в единственном числе: šulxan gadol ‛большой стол’ (м. р. ед. ч.) — šulxanot gdolim ‛большие столы’ (м. р. мн. ч.), éven yekara ‛драгоценный камень’ (ж. р. ед. ч.) — avanim yekarot ‛драгоценные камни’ (ж. р. мн. ч.).
Некоторые существительные, которые в древнееврейском употреблялись как со-бирательные, в С.и. имеют форму множественного числа: of ‛птица’ — мн. ч. ofot.
Присоединением суффикса множественного числа и сдвигом ударения обусловле-ны разнообразные вокалические чередования в основах имен (см. 2.2.3.).
Как и в древнееврейском языке, двойственное число в С.и. употребляется весь-ма ограниченно. Показателем двойственного числа в обоих родах является суф-фикс -áim, присоединяемый к основе единственного числа. Имена в двойственном числе существуют только в абсолютном состоянии (для status constructus исполь-зуются формы множественного числа). Показателем двойственного числа маркиру-ются названия двух временных отрезков. Лишь у этого небольшого круга существи-тельных формы двойственного числа противопоставляются формам множественно-го числа: šeatáim/šaatáim ‛два часа’ vs. šaot ‛часы’, yomáim ‛два дня’ vs. yamim ‛дни’, švuáim ‛две недели’ vs. šavuot ‛недели’, xodšáim ‛два месяца’ vs. xodašim ‛месяцы’,
Ханаанейские языки 392
šnatáim ‛два года’ vs. šanim ‛годы’, а также paamáim ‛дважды’ vs. peamim ‛много раз’ и т. п.
У некоторых существительных показатель -áim в status absolutus следует считать не самостоятельной морфемой, а алломорфом показателя множественного числа. В отличие от «подлинного» двойственного числа, не предусматривающего употребле-ния иного числительного при исчисляемом предмете, эта форма может дополняться числительным, в то время как особых форм множественного числа у таких имен нет. К этой группе относятся существительные, обозначающие парные (или существу-ющие в четном количестве) части тела, парные или состоящие из двух частей пред-меты: eynáim ‛глаза (два или более)’, sfatáim ‛губы’, šináim ‛зубы’, garbáim ‛носки’, misparáim ‛ножницы’.
С помощью суффикса двойственного числа могут образовываться некоторые не-ологизмы, особенно технические термины: ofanáim ‛велосипед’, букв. ‛два колеса’.
Система счета десятеричная.
К о л и ч е с т в е н н ы е ч и с л и т е л ь н ы е
Мужской род Женский род
status absolutus status constructus status absolutus status constructus
‛один’ exad axad axat axat
‛два’ šnáim šney štáim štey
‛три’ šloša šlóšet šaloš šloš
‛четыре’ arbaàa arbáat arba, árba (разг.) arba
‛пять’ xamiša xaméšet xameš xameš
‛шесть’ šiša šéšet šeš šeš
‛семь’ šivàa šivàat šéva šva
‛восемь’ šmona šmonat šmone, šmóne (разг.) šmone
‛девять’ tišàa tišàat téša tša
‛десять’ asara aséret éser éser
Немаркированной формой ч и с л и т е л ь н ы х является форма женского рода,
используемая при абстрактном счете. Числительное «один» в морфологическом и синтаксическом отношении является
прилагательным. Числительные от двух до десяти представлены формами мужского и женского ро-
да, у них противопоставляются status absolutus и status constructus. Числительное «два» вне связи с существительным употребляется в status absolutus, а перед сущест-вительным — в status constructus. Перед именами с определенным артиклем, а также в некоторых устойчивых сочетаниях (например перед словом alafim ‛тысячи’) числи-тельные от трех до десяти мужского рода употребляются только в status constructus: milxemet šéšet ha-yamim ‛Шестидневная война’, šlóšet alafim ‛три тысячи’. Числитель-ные женского рода в status constructus употребляются в устойчивых сочетаниях (на-пример в названиях сотен: šloš meot ‛триста’).
Сочетания числительных с местоименными суффиксами сохранились фактически лишь у числительных ‛два’ и ‛три’: šnéynu ‛мы вдвоем’ (м. р.), štéynu ‛мы вдвоем’ (ж. р.), šneyxem ‛вы двое’ (м. р.), šteyxen ‛вы обе’ (ж. р.), šneyhem ‛они двое’ (м. р.),
Л.М. Дрейер. Современный иврит 393
šteyhen ‛они вдвоем’ (ж. р.), šlošténu ‛мы втроем’, šloštexem ‛вы трое’ (м. р.), šloštan ‛они втроем’ (ж. р.).
Числительные от одиннадцати до девятнадцати образуются с помощью названий единиц в status absolutus (для мужского рода) или status constructus (для женского ро-да) в сочетании с формантом asar (для мужского рода) либо esre (для женского рода): šlošá-asar ‛тринадцать’ (м. р.) — šlóš-esre ‛тринадцать’ (ж. р.). В то же время для чис-лительного «одиннадцать» в мужском роде употребляется форма status constructus: axád-asar. У числительного «двенадцать» для обоих родов используется видоизме-ненная форма «двойки» в status constructus с сохранением мимации: šnéym-asar (м. р.) — štéym-esre (ж. р.). Заимствованное из арамейского языка числительное treysar ‛двенадцать’ имеет в С.и. значение «дюжина».
Названия десятков образуются от основ названий единиц мужского рода с помо-щью суффикса -im (šlošim ‛тридцать’, xamišim ‛пятьдесят’, šmonim ‛восемьдесят’, tišàim ‛девяносто’), за исключением числительного esrim ‛двадцать’, образованного от основы числительного «десять». Форма названий круглых десятков неизменяемая. Некруглые числа от двадцати одного до девяноста девяти образуются присоединени-ем единиц к десяткам с помощью союза ve-: esrim ve-exad ‛двадцать один’ (м. р.), ar-baim ve-šaloš ‛сорок три’ (ж. р.), šmonim ve-šiša ‛восемьдесят шесть’ (м. р.). В состав-ных числительных компонент šnáim/štáim употребляется в status absolutus и перед исчисляемым существительным: esrim u-šnáim sfarim ‛двадцать две книги’, arbaim u-štáim baxurot ‛сорок две девушки’.
В названиях сотен и тысяч используются существительные mea ‛сто’ и élef ‛тысяча’ в сочетании с числительными от трех до десяти в status constructus: šloš meot ‛триста’, aséret alafim ‛десять тысяч’. Числительные «двести» и «две тысячи» обра-зуются формами двойственного числа matáim и alpáim. Лексема revava (ribo) в зна-чении «десять тысяч» почти вышла из употребления, сохранив значение «тьма, мно-жество» (во множественном числе revavot ‛мириады’).
В настоящее время наблюдается тенденция к нейтрализации противопоставления числительных мужского и женского рода в сторону вытеснения маркированных форм.
Некоторые исчисляемые с суффиксом множественного числа -im (в частности, от-резки времени, а также слово élef ‛тысяча’), если они стоят в неопределенной форме и не сопровождаются каким-либо определением, могут употребляться с числитель-ными от одиннадцати (и больше) в форме единственного числа. Если же числитель-ное оканчивается на суффиксы множественного числа -im, -ot или двойственного числа -áim (т. е. круглые десятки и сотни), такое употребление является обязатель-ным (в единственном числе употребляется также слово élef в числах свыше одинна-дцати тысяч): šloša-asar yom/yamim ‛тринадцать дней’, esrim u-šloša xódeš/xodašim ‛двадцать три месяца’, esrim ve-arbaa élef ‛двадцать четыре тысячи’, arbaim yom ‛сорок дней’, šeš meot šana ‛шестьсот лет’, alpáim šana ‛две тысячи лет’, но arbaim dakot ‛сорок минут’, esrim škalim xadašim ‛сорок новых шекелей’, esrim yemey milx-ama ‛двадцать дней войны’, šlošim hašanim ‛(эти) тридцать лет’.
Такие исчисляемые, как названия денежных единиц, единицы измерения, слова milyon, milyard, axuz ‛процент’ и т. п., могут употребляться в единственном числе со всеми числительными (особенно в разговорном языке).
Особые формы порядковых числительных есть только у чисел первого десятка: rišon/rišona ‛первый(-ая)’, šeni/šniya ‛второй(-ая)’; числительные от трех до десяти
Ханаанейские языки 394
образуются посредством суффикса -i (м. р.)/-it (ж. р.): šliši, reviài, xamiši, šiši, šviài, šmini, tšiài, asiri. Порядковые числительные от одиннадцати образуются присоедине-нием артикля ha- к количественному числительному: ha-axad-asar ‛одиннадцатый’, ha-arbaim ve-ševa ‛сорок седьмая’. В грамматическом отношении порядковые числи-тельные являются прилагательными.
Дроби со знаменателями от трех до десяти образуются с помощью форм женского рода порядковых числительных для обозначения знаменателя: šlišit, reviàit, xamišit, šišit, šviit, šminit, tšiàit, asirit. Параллельно используются лексемы xéci (st. abs.)/xaci (st. constr.), mexeca (st. abs.)/mexecat (st. constr.), maxacit ‛половина’, šliš ‛треть’, reva, rova, revía ‛четверть’, xomeš ‛пятая часть’, maàaser, isaron (st. abs.)/esron (st. constr.) ‛десятая часть’. Дроби со знаменателями от одиннадцати образуются посредством лексемы xélek ‛часть’ и порядковых числительных в мужском роде или количест-венных в женском роде: xélek ha-àarbaàa-asar/xélek arba-esre ‛одна четырнадцатая’, arbaàa xelkey ha-xamiša-asar/arbaàa xelkey xameš-esre ‛четыре пятнадцатых’. Другой способ образования таких дробей — с помощью предлога mi-/me ‛из, от’ и количест-венного числительного в мужском роде: exad me-àarbaàa-asar ‛одна четырнадцатая’, букв. ‛один из четырнадцати’, šiša mi-šiša-asar ‛шесть шестнадцатых’, букв. ‛шесть из шестнадцати’. «Одна сотая» — meàit (exad mi-meàa), «одна тысячная» — alpit, «одна десятитысячная» — revavit, «одна стотысячная» — ha-xélek ha-meàa élef, «одна миллионная» — milyónit. Если числитель больше единицы, то знаменатель от трех до десяти, сто, тысяча, десять тысяч, миллион стоит во множественном числе: šney šlišim ‛две трети’, arba asiriyot ‛четыре десятых’.
Кратность выражается сочетанием pi и числительным мужского рода: pi šloša ‛в три раза’.
2.3.4. П а д е ж н ы е отношения выражаются аналитически. Употребляется (хотя и весьма ограниченно) сохранившийся в древнееврейском языке терминатив, вводи-мый безударным суффиксом -a: ha-báyta ‛домой’, yamína ‛направо’, daróma ‛на юг’, árca ‛в Израиль’ (букв. ‛в страну’) и т. п.
У существительных падежные отношения выражаются с помощью предлогов и порядка слов. Значение косвенных падежей у местоимений передается сочетанием предлогов с местоименными суффиксами.
Подлежащее в именном и глагольном предложении, а также именное сказуемое не маркируются.
Прямое дополнение, как правило, не маркируется, если оно неопределенное: ani mexapes séfer ‛я ищу книгу’. Если дополнение выражено именем в определенной форме или местоимением, оно маркируется особым предлогом (nota accusativi) et: ani mexapes et ha-séfer ‛я ищу (эту) книгу’. Вариант nota accusativi в сочетании с место-именными суффиксами имеет вид ot-: oti ‛меня’, otxa ‛тебя (м. р.)’, otax ‛тебя (ж. р.)’, oto ‛его’, ota ‛ее’, otánu ‛нас’, etxem (разг. otxem) ‛вас (м. р.)’, etxen ‛вас (ж. р.)’, otam ‛их (м. р.)’, otan ‛их (ж. р.)’. В разговорном языке появился также новый показатель аккузатива при определенном имени ta- (< et ha-): ani roe ta-séfer ‛я вижу (эту) книгу’. Древнееврейские объектные местоименные энклитики (-ni, -xa и т. д.) могут изредка употребляться лишь в формальной письменной речи (hodatíxa ‛я известил тебя’).
П о с е с с и в н ы е отношения оформляются либо сопряженной конструкцией (beyt ha-nasi ‛дом президента’, misrad ha-xinux ‛министерство просвещения’, pirxey sade ‛полевые цветы’, madrix kvucat yeladim ‛руководитель детской группы’), либо с помощью nota genitivi šel (ha-more šel mixael ‛учитель Михаэля’, ha-báyit šel
Л.М. Дрейер. Современный иврит 395
ha-mehandes ‛дом инженера’, yerušaláim šel zahav ‛золотой Иерусалим’). Последний способ является наиболее распространенным в разговорном языке. Возможно про-лептическое употребление местоименного суффикса в сочетании с šel: beyto šel david ‛дом Давида’, yecirotav šel agnon ‛произведения Агнона’. В сопряженном сочетании иногда возможно присоединение к первому имени-определяемому, находящемся в status constructus, нескольких имен-определений (maxlakat ha-tarbut ve-ha-sport ‛отдел культуры и спорта’). Если в роли зависимого имени выступает личное местоимение, принадлежность может выражаться местоименным суффиксом (beyti ‛мой дом’) или посредством nota genitivi šel в сочетании с местоименным суффиксом (ha-more šeli/šelo ‛мой/его учитель’). В литературном языке возможно употребление арамей-ской nota genitivi de-/di-: axaron de-pésax ‛последний (день) пасхи’.
П р о с т р а н с т в е н н ы е отношения выражаются предлогами, указывающи-ми на местоположение (be- ‛в’, al, al pney ‛на, над’, me-al le- ‛над’, táxat, mi-táxat le- ‛под’, be-tox ‛внутри’, le-yad, al-yad ‛около’, be-kérev ‛среди’, lifney ‛перед’, mul ‛напротив’, axarey, me-axаrey ‛позади’, me-éver ‛со стороны’, beyn ‛между’) и направ-ление движения (le-, el ‛к’, min/mi-/me-, mi-beyn ‛из, от’, mi-tox ‛изнутри’, ad ‛до’). Некоторые из них используются также в темпоральном значении. Другие обстоя-тельственные падежные отношения также выражаются предлогами (bead ‛за’, avur, ba-avur ‛для, ради’, le-máan, le-šem, bišvil ‛ради, для’, tmurat ‛взамен’, biglal ‛из-за’, be-šel ‛из-за, благодаря’, ékev, be-ikvot ‛вследствие’, me-et ‛от’, écel ‛у, при’, axar, le-axar, axarey ‛после’, bi-mkom ‛вместо’, xuc min, zulat ‛кроме’, mi-lvad ‛кроме, наря-ду’, le-cad ‛наряду’, dérex ‛через’, néged ‛против’, le-gabey, li-ngóa, al odot ‛отно-сительно’, ke-fi, le-fi ‛согласно, по’, klapey ‛по отношению’, tox, tox k-dey ‛в течение’, li-krat ‛навстречу’, bli, be-lo, le-lo ‛без’). Инструменталис передается предлогом be- или сложными предлогами bi-dey, букв. ‛руками, в руках’ (< be- + yad ‛рука’ в форме множественного числа, status constructus) или al-yedey. В разговорном языке в этом значении иногда употребляется союз im ‛с’.
В некоторых случаях для выражения обстоятельственного значения используются особые адвербиальные формы имен, образованные посредством суффикса -am: yomam ‛днем’ (< yom ‛день’), xinam, be-xinam ‛даром’ (< xen ‛милость’), dumam ‛молча’ (< dam ‛молчать’).
Сравнение выражается с помощью предлога kmo ‛подобно’ или его проклитиче-ской формы ke- (с позиционными вариантами ki-, ka-), а также ke-gon.
2.3.5. Cистема глагольных п о р о д в основном соответствует системе пород древ-нееврейского языка (cм. статью «Древнееврейский язык» в наст. издании). Принятые условные названия пород образованы от формы 3-го лица единственного числа муж-ского рода прошедшего времени глагола √pâl ‛делать’. Гебраистическая традиция выделяет следующие породы: qal (или paâal) — основная порода; nifâal — пассив-рефлексив; piâel — интенсивная порода, использующаяся также для образования отыменных глаголов; puâal — пассив от интенсивной породы; hifâil — каузативная порода; hufâal/hofâal — пассив от породы hifâil; hitpaâel — рефлексив-реципрок.
Из мишнаитского иврита унаследована порода nitpaâel со значением пассивности. Этот вариант породы hitpaâel отличается только формой префикса породы в про-шедшем времени.
Разновидностью породы piâel часто считают глаголы с вторичным четырехконсо-нантным корнем, в частности с префиксальным формантом š-, имеющим в С.и. зна-чение заново совершаемого действия (šixtev ‛переписать’ < katav ‛писать’). В то же
Ханаанейские языки 396
время, префиксом š- могут оформляться глаголы с каузативным значением, что по-зволяет постулировать особую породу šifâel с ограниченной сферой употребления (ср. синонимичные глаголы hixlil и šixlel ‛совершенствовать’).
Для глаголов со вторым слабым корневым согласным и «удвоенных» глаголов (т. е. с составом корня C1wC2, C1yC2 и C1C2C2) алломорфами пород piâel, puâal, hitpaâel являются polel, polal, hitpolel.
Формальные особенности глаголов со слабыми корневыми согласными такие же, как в древнееврейском языке (см. статью «Древнееврейский язык» в наст. издании).
В породе qal различаются активные и инактивные глаголы. Особенности парадиг-мы инактивного глагола те же, что и в древнееврейском языке (в прошедшем време-ни форма 3-го лица единственного числа мужского рода с типовым гласным е вместо а у активных глаголов, все формы будущего времени с типовым а, формы настояще-го времени katel, k(e)tela, k(e)telim, k(e)telot). В детской речи и просторечии формы инактивного глагола могут выравниваться по парадигме активного (hi yošénet ‛она спит’ вм. лит. hi yešena).
Система н а к л о н е н и й в С.и. по сравнению с древнееврейским языком пре-терпела значительные изменения. Древнееврейский когортатив вышел из употребле-ния, сохранившись лишь в поэзии как архаизм (в основном для глаголов со вторым слабым корневым в породе qal и глаголов в породе hifâil): nagíla ‛будем же веселить-ся’, ašúva ‛да вернусь’, natxíla ‛давайте начнем’. Юссив, уже в древнееврейском язы-ке формально совпадавший у большинства глаголов с имперфектом, в С.и. также вышел из употребления и сохранился лишь в формах yexi ‛да здравствует’, букв. ‛да живет’, yehi ‛да будет’, yavo ‛войдите’, букв. ‛пусть войдет’ (в последнем случае форма юссива совпадает с формой 3-го лица единственного числа будущего време-ни). В разговорном языке постепенно выходит из употребления древнееврейский им-ператив (форма единственного числа мужского рода целых глаголов в основной по-роде используется редко, а соответствующие формы женского рода и множественно-го числа практически исчезли). В устной речи сохраняются формы старого императива у глаголов со слабым первым или вторым корневым согласным в породе qal и отдельных глаголов в породе hitpaâel. Императив отдельных глаголов в породах nifâal, piâel, hifâil употребляется лишь в высоких регистрах речи. В породах puâal и hufâal императива нет.
Таким образом, в С.и. можно выделить следующие наклонения: — индикатив, представлен формами прошедшего, настоящего и будущего времени; — старый императив, употребляющийся преимущественно в литературном языке
(в разговорном языке является формой категоричного повеления). В запретительных конструкциях используются формы будущего времени (al tisgor ‛не закрывай’);
— новый императив, совпадающий с формами 2-го лица единственного и множе-ственного числа будущего времени; сосуществует со старым императивом, но более распространен в разговорном языке. Эта форма считается более вежливой, менее ка-тегоричной по сравнению со старым императивом;
— субъюнктив, образующийся сочетанием вспомогательного глагола haya ‛быть’ в прошедшем времени и причастия смыслового глагола (hayíta mesaper ‛ты бы рас-сказал’);
— кондиционал I, используемый в придаточном ирреальном условном предложе-нии и совпадающий с формой прошедшего времени индикатива (lu/ilu zaxárti ‛если бы я помнил’);
Л.М. Дрейер. Современный иврит 397
— кондиционал II, также используемый в придаточном ирреальном условном предложении и совпадающий с формой субъюнктива (lu/ilu hayíti zoxer ‛если бы я помнил’).
Заслуживают упоминания некоторые другие модальные средства. Просьба может выражаться конструкцией «na + инфинитив»: na lašévet ‛(прошу)
садиться’. Для выражения косвенного повеления в 3-м лице обоих чисел используется конст-
рукция še- + будущее время: še-yavo ‛пусть он придет’, še-yixtevu ‛пусть они напи-шут’.
Призыв к действию в 1-м лице единственного и множественного числа (функцио-нально соответствует древнееврейскому когортативу) образуется сочетанием форм императива глагола √bwà ‘приходить’ (ед. ч. м. р. bo, ед. ч. ж. р. bói, мн. ч. bóu) и смыслового глагола в 1-м лице множественного числа будущего времени: bo nelex ‛давай пойдем’, bóu nixtov ‛давайте напишем’. В качестве вспомогательного глагола может также использоваться застывшая форма древнееврейского расширенного им-ператива háva: háva našir ‛давай(те) споем’.
2.3.6. Категория л и ц а представлена у личных местоимений (см. 2.3.7.) и фи-нитных форм глагола.
В С.и. существует сложившаяся в мишнаитском языке система из трех глагольных в р е м е н. Форма прошедшего времени восходит к древнееврейскому перфекту (суффиксальное спряжение), будущего времени — к имперфекту (префиксальное спряжение), а настоящего времени — к причастию. Лично-числовые аффиксы описа-ны в 2.4.0.
Для выражения повторяющегося действия в прошлом используется конструкция, состоящая из вспомогательного глагола haya ‛быть’ в прошедшем времени и причас-тия смыслового глагола: hi hayta oméret kol páam ‛она говорила всякий раз’.
Для описания намерения совершить действие используется конструкция «amad + инфинитив»: ha-xevra omédet laazov et ha-arec ha-zot ‛Компания собирается покинуть эту страну’.
В С.и. существует категория о п р е д е л е н н о с т и, присущая именам и указа-тельным местоимениям. Неопределенная форма является немаркированной. Опреде-ленность выражается префиксальным артиклем ha-: šulxan ‛стол’ — ha-šulxan ‛(этот) стол’. Определенными по своему значению являются указательные местоимения (как с показателем ha-, так и без него) и имена собственные. Форма имен в status pronomi-nalis (с притяжательным местоименным суффиксом) также является определенной. В сопряженном сочетании показатель определенности ставится при зависимом имени: beyt séfer ‛школа’ (букв. ‛дом книги’) — beyt ha-séfer ‛(эта) школа’. Древнееврейский артикль сопровождался геминацией первого корневого консонанта, поэтому в С.и. слова, начинающиеся на b-, k-, p-, в определенной форме сохраняют смычное произ-ношение первого корневого. Древнееврейские позиционные варианты артикля для случаев, когда первый корневой являлся гортанным или r, которые не были подвер-жены геминации и вызывали компенсаторное изменение предшествующего гласного, употребительны в С.и. лишь в литературном языке и последовательно передаются в огласованном письме (в произношении отражен лишь алломорф he-). При присоеди-нении предлогов b-, k-, l- к имени, определенному артиклем, согласный h- выпадает, а предлог получает огласовку артикля: ha-báyit ‛(этот) дом’ — ba-báyit ‛в (этом) до-ме’, ha-kita ‛(этот) класс’ — la-kita ‛(этому) классу’.
Ханаанейские языки 398
Основные функции артикля — идентифицирующая и обобщающая. В идентифи-цирующей функции артикль соотносит имя либо с ранее упомянутым предметом, ли-бо с предметом, наличие которого подразумевается в данной ситуации. Артикль употребляется также при упоминании уникальных объектов и в случаях, когда имя определено прилагательным в превосходной степени. В обобщающей функции ар-тикль соотносит имя с классом тождественных предметов.
Д е й к с и с (ближний/дальний) выражается наречиями po, kan (< арам.) ‛здесь’, šam ‛там’. Направление выражается посредством предлогов, присоединяемых к этим наречиям, или формами направительного падежа (šáma ‛туда’, héna ‛сюда’).
Ближний/дальний дейксис различают также указательные местоимения-прилага-тельные, подробнее см. 2.3.7., парадигму см. в 2.4.0.
Указание осуществляется с помощью указательных местоимений (см. 2.3.7., 2.4.0.). В анафорической функции для отсылки к одушевленному предмету используются личные местоимения, к неодушевленному — либо личные, либо указательные.
О т р и ц а н и е выражается с помощью отрицательных частиц. Наиболее час-тотной является частица lo, которая употребляется при именах и глаголах (hu lo talmid ‛он не ученик’, ani lo lomed ‛я не учусь’). В литературном языке при глаголах в форме настоящего времени употребляется частица eyn, часто с местоименными суф-фиксами, обозначающими субъект действия (eyneni roce ‛я не хочу’). Для выражения запрета употребляется частица al с глаголами в форме будущего времени (al tedaber štuyot ‛не говори глупостей’), а также частицы lo и eyn с глаголами в инфинитиве (lo lašévet ‛не садиться’, eyn leašen ‛не курить’). При прилагательных используется час-тица lo, а также частица bilti (преимущественно в литературном языке): lo tivài ‛не-натуральный’, bilti xuki ‛незаконный’. С существительными используются частицы bli, lelo ‛без’ (kafe bli sukar ‛кофе без сахара’, lelo havxana ‛без разбору’). Отсутст-вующее качество или отрицательная характеристика предмета описывается словами xasux (st. constr.) ‛лишенный’, xasar (st. constr.) < xaser ‛недостающий’ в сочетании с существительным (xasux banim ‛бездетный’, xasux marpe ‛неизлечимый’, xasar lev ‛бессердечный’, xasar xašivut ‛незначительный’). Для образования «отрицательных имен» служат слова xóser или i (xóser bitaxon ‛неуверенность’, xóser miškal ‛невесо-мость’, xóser raxamim ‛безжалостность’, i-séder ‛беспорядок’, i-yexólet ‛неспособность’).
Имя с у щ е с т в и т е л ь н о е характеризуется категориями рода (мужской, женский), числа (единственное, двойственное, множественное), определенности/не-определенности, состояния (status absolutus, status constructus, status pronominalis). Ка-тегория рода у существительных имеет классифицирующий характер. Падежные от-ношения выражаются с помощью предлогов (за исключением некоторых случаев употребления терминатива). В предложении существительные выполняют функции подлежащего, именного сказуемого, прямого и косвенного дополнения, приложения, определения (в сопряженных сочетаниях). В сочетании с предлогами существитель-ные могут выступать как обстоятельства.
П р и л а г а т е л ь н ы м присущи категории рода (мужской, женский), числа (единственное и множественное), определенности/неопределенности и состояния (status absolutus и status constructus). Категория рода у прилагательных имеет согласо-вательный характер. Прилагательное в атрибутивной функции согласуется с опреде-ляемым именем в роде, числе и определенности (éven gdola ‛большой камень’, ha-éven ha-gdola ‛(этот) большой камень’), а в предикативной — лишь в роде и числе. Прила-гательное в роли предиката почти всегда употребляется в неопределенной форме
Л.М. Дрейер. Современный иврит 399
(ha-éven gdola ‛(этот) камень велик’). Степени сравнения образуются аналитически. Сравнительная степень в литературном языке выражается посредством конструкции «прилагательное + предлог mi- (me-)» или же «прилагательное + yoter + mi- (me-)»: david xaxam (yoter) mi-moše ‛Давид умнее, чем Моше’. В разговорном языке наречие yoter может стоять перед прилагательным: hu yoter xazak ‛он сильнее’. Превосходная степень образуется с помощью артикля и предлогов в следующих конструкциях: 1) определенное прилагательное + be-yoter, или определенное прилагательное + (še-)be-: ha-binyan ha-gadol be-yoter ‛самое большое здание’, ha-tov (še-)be-talmidim ‛самый лучший из учеников’; 2) наречие yoter с артиклем + прилагательное: ha-yoter tov ‛самый лучший’; 3) частица haxi ‛самый’ + прилагательное: ha-báyit haxi tov ‛са-мый лучший дом’. Последняя конструкция чаще встречается в разговорном языке.
Качественные прилагательные (особенно восходящие к причастиям инактивных глаголов) могут субстантивироваться и выступать в функции подлежащего, прямого или косвенного дополнения.
Прилагательные в status constructus используются ограниченно в выражениях типа šxor eynáim ‛черноглазый’, букв. ‛черный глазами’, yefat maràe ‛(особа) красивой на-ружности’, букв. ‛красивая видом’.
Г л а г о л характеризуется категориями времени и наклонения. Глагольный пре-дикат согласуется с подлежащим в роде, лице и числе. Любая глагольная форма от-носится к одной из пород. Глагол представлен также именными формами — причас-тиями (активным и пассивным для породы qal и по одному, с соответствующим зна-чением, для остальных пород) и инфинитивом. В основной породе активное причастие kotel (ж. р. kotélet, в литературном языке редко kotla, мн. ч. м. р. kotlim, ж. р. kotlot); пассивное katul (ж. р. ktula, мн. ч. м. р. ktulim, ж. р. ktulot). У инактивных глаголов форма причастия мужского рода может совпадать с формой прошедшего времени (yašen ‛спящий’/‛он спал’). Формы причастия производных пород: nipâal — niktal (ж. р. niktélet, мн. ч. м. р. niktalim, ж. р. niktalot); piâel — mekatel (mekatélet, mekatlim, mekatlot); puâal — mekutal (mekutélet, mekutalim, mekutalot); hifâil — maktil (maktila/maktélet, maktilim, maktilot); hufâal — muktal (muktélet, muktalim, muktalot); hitpaâel — mitkatel (mitkatélet, mitkatlim, mitkatlot).
Особые п р е д и к а т и в н ы е лексемы, выражающие существование, наличие, присутствие — утвердительная yeš и отрицательная eyn (реже áyin) — могут изме-няться по роду, числу и лицу (преимущественно в литературном языке и официаль-ной речи: yešnan medinot... ‛существуют государства...’, hu eyno sofer ‛он не писа-тель’): yešni ‛я есть’, yešxa ‛ты есть (м. р.)’, yešnex ‛ты есть (ж. р.)’, yešno ‛он есть’, yešna ‛она есть’, yešnénu ‛мы есть’, yešxem/yišxem ‛вы есть (м. р.)’, yešxen/yišxen ‛вы есть (ж. р.)’, yešnam ‛они есть (м. р.)’, yešnan ‛они есть (ж. р.)’; eyni/eynéni ‛я не...’, eynxa ‛ты не... (м. р.)’, eynex ‛ты не... (ж. р.)’, eyno/eynénu ‛он не...’, eyna/eynéna ‛она не...’, eynénu ‛мы не...’, eynxem ‛вы не... (м. р.)’, eynxen ‛вы не... (ж. р.)’, eynam/eynemo ‛они не... (м. р.)’, eynan ‛они не... (ж. р.)’.
Количественные ч и с л и т е л ь н ы е характеризуются родом и состоянием, по-рядковые (от одного до десяти) — родом и определенностью (cм. 2.3.3.).
Личные м е с т о и м е н и я могут быть независимыми и суффиксальными. Па-радигму личных местоимений см. в 2.4.0.
Независимые местоимения изменяются по лицу, роду и числу. Личные местоимения 3-го лица употребляются также как связки в именных пред-
ложениях.
Ханаанейские языки 400
Значения косвенных падежей личных местоимений выражаются соединением предлогов и местоименных суффиксов, см. 2.4.0.
Притяжательные местоимения образуются с помощью nota genitivi šel и соответст-вующих местоименных суффиксов. Форма притяжательного местоимения не зависит от грамматического рода обладаемого, но зависит от рода обладателя: ha-séfer šelxa ‛твоя (м. р.) книга’, ha-krova šelxa ‛твоя (м. р.) родственница’, ha-báyit šelax ‛твой (ж. р.) дом’.
Указательные местоимения представлены местоимениями-прилагательными и ме-стоимениями-существительными. Местоимение-прилагательное служит определени-ем к существительному и согласуется с ним в роде, числе и определенности. При этом местоимения дальнего дейксиса имеют только определенные формы с артик-лем: hahu ‛тот’, hahi ‛та’, hahem ‛те (м. р.)’, hahen ‛те (ж. р.)’ (см. парадигму в 2.4.0.).
В качестве местоимений-прилагательных дальнего дейксиса употребляются также формы nota accusativi et с суффиксами: oto ‛тот’, ota ‛та’, otam ‛те (м. р.)’, otan ‛те (ж. р.)’, которые ставятся перед определяемым словом. Эти местоимения приобрета-ют также значение ‛тот же самый’ (oto iš ‛тот человек’, oto davar ‛то же самое’, букв. ‛та же вещь’).
Местоимения-существительные: ze ‛этот’, zot ‛эта’, éle ‛эти’. Указательные местоимения ze/zot (наряду с формами zéhu/zóhi < ze + hu/zo + hi), éle
могут выполнять функцию подлежащего (одушевленного и неодушевленного) в именном предложении. Конструкции ze leze/zo lezo, ze et ze/zo et zo и т. п. имеют так-же взаимное значение (‛друг другу’, ‛друг друга’). Абстрактное местоимение пред-ставлено формами zot и ze. Противопоставления ближнего и дальнего дейксиса у ука-зательных местоимений-существительных нет.
Вопросительные местоимения-существительные: mi ‛кто?’, ma ‛что?’. Если mi яв-ляется прямым дополнением, то оно употребляется с nota accusativi et: et mi raíta? ‛Кого ты увидел?’. Вопросительные местоимения-прилагательные, изменяющиеся по роду и числу, образуются соединением вопросительной частицы ey- и указательного местоимения: éyze ‛какой?’, éyzo ‛какая?’, éylu ‛какие?’. В устной речи форма éyze практически полностью вытесняет остальные: éyze ptakim? ‛Какие записки?’.
Неопределенные местоимения образуются присоединением к вопросительным ме-стоимениям форманта -šehu для мужского рода или -šehi для женского рода (< še + местоимение hu, hi): míšehu ‛кто-то, кто-нибудь’, mášehu ‛что-то, что-нибудь’, éyzešehu, éyzošehi ‛какой-то, какая-то’, éyxšehu ‛как-нибудь’ и т. п. К этому разряду также мож-но отнести формы местоимения-прилагательного kólšehu (ед. ч. м. р.), kólšehi (ед. ч. ж. р.), kólšehem (мн. ч. м. р.), kólšehen (мн. ч. ж. р.) ‛некоторый, какой-либо, некий’. Местоимение-существительное kólšehu употребляется в значении ‛что-либо’.
Употребительно также местоимение ma, следующее за существительным в status constructus, в значении ‛некоторый’: dvar-ma ‛что-то’, zman-ma ‛некоторое время’.
Лексемы ploni (м. р.)/plonit (ж. р.), almoni (м. р.)/almonit (ж. р.) используются в зна-чении ‛некто’.
В качестве неопределенных местоимений в отрицании употребляются конструк-ции af + имя, šum + имя, а также лексема klum ‛нечто’ в сочетании с отрицательными частицами. В разговорном языке эти неопределенные местоимения фактически пре-вратились в отрицательные местоимения: ma ata ose? — klum (šum davar) ‛Что ты де-лаешь? — Ничего’.
Возвратные местоимения образуются соединением имени écem (часто в сочетании с предлогами) и притяжательных местоименных суффиксов: ata xošev rak al acmexa
Л.М. Дрейер. Современный иврит 401
‛Ты думаешь только о себе’, ani acmi roce lehavin oto ‛Я сам хочу понять его’. В со-ставе фразеологизмов в возвратном значении используются также лексемы yad ‛рука’, néfeš ‛душа’, roš ‛голова’.
П р е д л о г и и с о ю з ы описываются в 2.3.4. и 2.5.4. соответственно. В С.и. представлены следующие разряды ч а с т и ц: отрицательные (lo, al, eyn,
lelo, bilti, i ‛нет, не’), презентативные (hine ‛вот’), вопросительные (haim, ha- ‛разве, ли’), ограничительные (rak ‛только’), побудительные (na ‛-ка’, выражение просьбы или побуждения, nu ‛ну’).
М е ж д о м е т и я: heydad ‛ура’, oy ‛ой, увы’, oy va-avoy ‛увы и ах’. В последнее время широкое распространение получили заимствованные из английского междоме-тия wau, ups.
2.4.0. Образцы парадигм.
М е с т о и м е н и я
Личные
Мужской род Женский род
1-е л. ani
2-е л. ata at Ед. ч.
3-е л. hu hi
1-е л. anáxnu, anu (лит.)
2-е л. atem aten Мн. ч.
3-е л. hem hen
Независимые притяжательные
Мужской род Женский род
1-е л. šeli
2-е л. šelxa šelax Ед. ч.
3-е л. šelo šela
1-е л. šelánu
2-е л. šelaxem šelaxen Мн. ч.
3-е л. šelahem šelahen
Притяжательные местоименные суффиксы при имени в status pronominalis
Ед. число имени Мн. число имени
Мужской род Женский род Мужской род Женский род
1-е л. -i -ay
2-е л. -xa -ex -éxa -áyix Ед. ч.
3-е л. -o -a -av -éha
1-е л. -énu -éynu
2-е л. -xem -xen -eyxem (-exem) -eyxen (-exen) Мн. ч.
3-е л. -am, -hem -an, -hen -eyhem (-ehem) -eyhen (-ehen)
Ханаанейские языки 402
Местоимения-прилагательные
Ближний дейксис
с артиклем без артикля Дальний дейксис
м. р. haze, halaz, halaze, hala ze hahu, halaz, halaze, hala Ед. ч.
ж. р. hazot, halaz, halézu zot, zo, zu hahi, halaz, halézu
м. р. hahem, halálu Мн. ч.
ж. р. haàéle, haàélu, halálu éle, élu
hahen, halálu
Местоименные суффиксы при предлогах
Мужской род Женский род
1-е л. -i, -ay
2-е л. -xa, -exa, -éxa -ax, -ex, -áyix Ед. ч.
3-е л. -o, -av -a, -éha
1-е л. -ánu, -énu, -éynu
2-е л. -xem, -axem, -eyxem (-exem) -xen, -axen, -eyxen (-exen) Мн. ч.
3-е л. -am, -ahem, -eyhem (-ehem) -an, -ahen, -eyhen (-ehen)
Г л а г о л
Целый глагол, порода qal
Прош. вр. Буд. вр. Повел. накл.
м. р. katal yi-ktol 3-е л.
ж. р. katl-a ti-ktol
м. р. katál-ta ti-ktol [ktol] 2-е л.
ж. р. katál-t ti-ktel-i [kitl-i]
Ед. ч.
1-е л. katál-ti e-ktol
м. р. yi-ktel-u 3-е л.
ж. р.katl-u
[ti-któl-na]
м. р. katál-tem [ktal-tem]
ti-ktel-u [kitl-u] 2-е л.
ж. р. [ktal-ten] [ti-któl-na] [któl-na]
Мн. ч.
1-е л. katál-nu ni-ktol
П р и м е ч а н и е: В настоящем времени глагол не изменяется по лицам. Основные формы
настоящего времени имеют вид: ед. ч. м. р. kotel, ж. р. kotélet, мн. ч. м. р. kotlim, ж. р. kotlot.
Глаголы пород piâel, hitpaâel, образованные от корней с третьим гортанным, могут
спрягаться по древнееврейской парадигме (gilax ‛он брил’, hitgalax ‛он брился’, agalax ‛я буду брить’, etgalax ‛я буду бриться’). Однако более распространены (и уже считаются нормативными) формы giléax, hitgaléax, agaléax, etgaléax.
Л.М. Дрейер. Современный иврит 403
Глагол со слабым вторым корневым, порода hifâil (на примере глагола lehakim ‛ставить’)
Прош. вр. Буд. вр. Повел. накл.
м. р. hekim ya-kim 3-е л.
ж. р. hekím-a ta-kim
м. р. hekám-ta ta-kim hakem 2-е л.
ж. р. hekám-t ta-kím-i ha-kím-i
Ед. ч.
1-е л. hekám-ti a-kim
м. р. ya-kím-u 3-е л.
ж. р. hekím-u
[ta-kém-na]
м. р.hekám-tem [hakam-tem]
ta-kím-u ha-kím-u 2-е л.
ж. р. [hakam-ten] [ta-kém-na] [ha-kém-na]
Мн. ч.
1-е л. hekám-nu na-kim
П р и м е ч а н и е: Формы настоящего времени имеют вид ед. ч. м. р. mekim, ед. ч. ж. р. me-
kima, мн. ч. м. р. mekimim, мн. ч. ж. р. mekimot. В литературном языке такие глаголы могут спрягаться также по древнееврейской парадигме
(hakimóti, hakimóta и т. д.); см. статью «Древнееврейский язык» в наст. издании.
2.5.0. Морфосинтаксические сведения. 2.5.1. Как и в древнееврейском языке, в С.и. структура глагольной словоформы
определяется породой (см. 2.3.5. и статью «Древнееврейский язык» в наст. издании). Основа именной словоформы (словообразовательная модель) может представлять собой сочетание корневых консонантов с трансфиксальными элементами. В состав именных основ с префиксами и суффиксами входят также характерные для каждой производной основы трансфиксы.
2.5.2. При именном словообразовании в С.и. используются как способы и модели, известные в древнееврейском языке (см. статью «Древнееврейский язык» в наст. из-дании), так и новые модели, главным образом субстантивные аффиксальные.
Наряду с формами инфинитива существуют следующие регулярные модели отгла-гольных имен действия от активных пород: qal — ktila, piâel — kitul, kitólet, katala, hifâil — haktala, aktala. От пород nifâal и hitpaâel имена образуются с помощью суф-фикса -ut по моделям hikatlut и hitkatlut соответственно. Для именного словообразо-вания служат также модели причастий от всех глагольных пород.
Суффикс -ut служит также для образования абстрактных и собирательных имен от существительных и прилагательных: efšarut ‛возможность’ < efšar ‛возможно’, enošut ‛человечество’ < enoš ‛человек’.
Для образования имен деятеля используются суффиксы -an, -ay, а также -nik (в разговорном языке) и интернациональный суффикс -ist (в заимствованиях): rakdan ‛танцор, танцовщик’, handasay ‛техник’, likúdnik ‛член партии Ликуд’, trempist ‛чело-век, путешествующий автостопом’.
Суффикс -on используется для наименования печатных изданий и некоторых пред-метов: milon ‛словарь’ (< mila ‛слово’), iton ‛газета’ (< et ‛время’), šaon ‛часы’ (< šaa ‛час’).
С помощью суффикса -iya образуются имена места: sifriya ‛библиотека’ (< séfer ‛книга’), iriya ‛муниципалитет’ (< ir ‛город’).
Ханаанейские языки 404
В качестве диминутивных суффиксов используются -on (от имен мужского рода), -it, -ónet (от имен женского рода), -čik: šulxanon ‛столик’, kapit ‛ложечка’, yaldónet ‛малышка’, baxúrčik ‛парнишка’.
Безударные суффиксы -i, -ik образуют дериваты от некоторых имен собственных: dáni < dan, daniyel ‛Дан, Даниэль’, árik < ari, arye, ariel ‛Ари, Арье, Ариэль’.
Словообразовательные модели с внутренними аффиксами, представленные в С.и., совпадают с древнееврейскими, поэтому здесь они специально не рассматриваются (см. статью «Древнееврейский язык» в наст. издании).
Примеры моделей именных основ с внешними аффиксами: kitalon — используется для образования имен, описывающих состояние; абстракт-
ных понятий; названий болезней (šikaron ‛опьянение’, nikayon ‛чистота’, zikaron ‛па-мять’, higayon ‛логика’, šigaron ‛ревматизм’);
kitlon — pitron ‛решение’, yitron ‛преимущество’; k(e)tala — используется для образования абстрактных имен и названий издаваемых
звуков (braxa ‛благословение’, cvaxa ‛крик, вопль’, yevava ‛рыдание, вой’, nehama ‛рык, крик’);
ktélet — gvéret ‛госпожа’, knéset ‛собрание’; któlet — któvet ‛адрес’; katélet — как правило, служит для образования названий болезней (kalévet ‛бешен-
ство’, adémet ‛краснуха’, nazélet ‛насморк’, xazéret ‛свинка’), а также имен деятеля, являясь формой женского рода для katal (zaméret ‛певица’, dayélet ‛стюардесса’, ganévet ‛воровка’), систем или групп, состоящих из определенных элементов (gamélet ‛караван верблюдов’, xaméret ‛караван ослов’, rakévet ‛поезд, состав’, šayéret ‛колон-на, караван’, nayédet ‛патруль’), некоторых инструментов (kaséfet ‛сейф’), типов ко-раблей и судов (kaméret ‛траулер’, sayéret ‛крейсер’, naxétet ‛десантный корабль’), а также звуков (yalélet ‛рыдание’);
miktol — служит для обозначения места (mistor ‛тайник, убежище’), а также инст-румента (mikxol/mixxol ‛кисть’);
miktal — mimšal ‛власть’, mixtav ‛письмо’, minhag ‛обычай’; miktala — служит для образования имен со значением места (mivdaka ‛лаборатория
для испытаний’, mivraka ‛телеграф’, midraxa ‛тротуар’, midraša ‛семинария’), группы (miflaga ‛партия’, mišpaxa ‛семья’), других имен (mizvada ‛чемодан’, mizraka ‛фонтан’, migbala ‛ограничение’, mignana ‛оборонительная тактика’);
miktélet — mivréšet ‛щетка’, misgéret ‛рамка’, miktéret ‛трубка (курительная)’, mirpéset ‛балкон’;
miktólet — ограниченно используется для обозначения приспособлений (mixmóret ‛сеть’);
maktol — maxàov ‛боль, страдание’, maškof ‛притолока’; maktólet — абстрактные имена (matkónet ‛размер, пропорция, форма’), а также ин-
вентарь (malkódet ‛капкан, западня’); maktel — часто используется для образования названий приборов и приспособле-
ний (mazleg ‛вилка’, mazrek ‛шприц’, maxšev ‛компьютер’); maktela — используется для образования названий устройств и орудий производ-
ства (maclema ‛фотоаппарат’, mavxena ‛пробирка’, mazreàa ‛сеялка’); maktélet — madpéset ‛принтер’; tkula — имена от глаголов породы hifâil со вторым корневым слабым (tšuva
‛возвращение, ответ’, tmura ‛замена’);
Л.М. Дрейер. Современный иврит 405
tkila — имена от глаголов породы hifâil с одинаковым вторым и третьим корневым (tfila ‛молитва’, txila ‛начало’);
tiktala — tišbaxa ‛хвала’; tiktólet — tismónet ‛синдром’, tizmóret ‛оркестр’, tixtóvet ‛корреспонденция’; taktil — обозначения действий, связанных с систематизацией чего-либо (tafkid
‛роль, функция’, tamxir ‛расценка, калькуляция’, takdim ‛прецедент’), названия сис-тем или групп элементов (tafrit ‛меню’, takciv ‛бюджет’, takcir ‛конспект’), термины для инструментов или утвари (taklit ‛грампластинка’, tarmil ‛рюкзак’);
taktul — tafnuk ‛баловство’; taktula — используется для обозначения системы (taxbura ‛транспорт’), системати-
зации (taxbula ‛уловка, комбинация’), совокупности (tax(a)luàa ‛заболеваемость’, tafšuàa ‛преступность’);
aktula, aktólet (редкие модели) — ašmura, ašmóret ‛ночная стража, вахта’. Примеры редуплицированных основ: ktaltélet — обозначает ослабленное качество (kxalxélet ‛синеватость’); ktaltólet — šmanmónet ‛толстушка’; kalkal — galgal ‛колесо’; kalkul — bakbuk ‛бутылка’; kilkul — sixsux ‛конфликт’; kulkólet — gulgólet ‛череп’; kilkélet (редкая модель) — cincénet ‛банка’; kalkélet — parpéret ‛десерт’; ktotélet — šfoféret ‛телефонная трубка’. В отличие от древнееврейского языка, в С.и. большое распространение получило
словосложение. Сложные слова могут образовываться из сочетания отыменных и от-глагольных основ: madxom ‛термометр’ (< √mdd ‛измерять’ + xom ‛температура’), karnaf ‛носорог’ (< kéren ‛рог’ + af ‛нос’), kolnóa ‛кино’ (< kol ‛голос’ + nóa ‛двигаться’), rakével ‛фуникулёр’ (< rakévet ‛поезд’ + kével ‛канат’). Часто первым компонентом являются количественные слова: xad- ‛одно-’ (xad-yomi ‛однодневный’), du- ‛дву-, двух-’ (du-šnati ‛двухлетний’), tlat- ‛трех-’ (tlat-lešoni ‛трехъязычный’), rav- ‛много-’ (rav-memadi ‛многомерный’). В качестве первого члена могут выступать также частицы и предло-ги: al-, i- ‛без-’ (al-mávet ‛бессмертие’), al- ‛сверх-’ (al-tivài ‛сверхъестественный’), tat- ‛под-’ (tat-karkaài ‛подземный’), beyn- ‛между-’ (beyn-leumi ‛международный’).
Употребительны также заимствованные приставки, главным образом интернацио-нальные, как, например, anti-, ultra-, mikro- и т. п., которые могут сочетаться с искон-ными словами: mikrogal ‛микроволновая печь’ < gal ‛волна’.
Возможно образование новых слов от аббревиатур: tanaxi ‛библейский’ < tanax ‛Библия’ < tora neviàim ktuvim ‛Закон, Пророки, Писания’, divax/divéax ‛он доклады-вал’ < dúax ‛доклад, отчет’ < din ve-xešbon ‛отчет’.
Один из способов пополнения словарного фонда в С.и. — образование слов произ-водных основ от вторичных корней. Это касается, прежде всего, построенных по аф-фиксальным моделям отглагольных имен с изначально слабыми корнями. Так, древ-нееврейское отглагольное существительное tərūmā ‛пожертвование’, образованное от глагола hērīm ‛жертвовать священнику’, букв. ‛поднимать’ (hifâil от √rwm), в талму-дическую эпоху породило вторичные глаголы tāram (qal < √trm) и hiurīm (hifâil < √trm) с тем же значением (префикс t- переосмыслялся как первый корневой). В С.и. значение глагола hitrim — ‛побудить кого-л. сделать пожертвование’.
Ханаанейские языки 406
2.5.3. Синтаксические связи между компонентами п р о с т о г о предложения могут выражаться с помощью согласования, управления и примыкания. Постпозитив-ное определение-прилагательное согласуется с определяемым в роде, числе и опреде-ленности: talmid tov ‛(некий) хороший ученик’ — ha-talmidim ha-tovim ‛(эти) хорошие ученики’. Сказуемое согласуется с подлежащим в роде и числе (глагольное сказуемое в форме прошедшего и будущего времени — также в лице). Существительное в двой-ственном числе требует согласования с прилагательным во множественном числе.
С помощью управления осуществляется связь сказуемого с дополнением. Неопре-деленное прямое дополнение не маркируется, определенное прямое дополнение мар-кируется nota accusativi et.
Примыканием устанавливается связь с неизменяемым словом. В литературном языке определяющее наречие ставится после определяемого (глагола или прилага-тельного). В устной неформальной речи возможна препозиция наречия: meod xazak ‛очень сильный’.
В атрибутивной именной синтагме определение, выраженное существительным (в сопряженной конструкции), прилагательным, указательным местоимением, порядко-вым числительным следует за определяемым. Существительное-приложение может находиться как в препозиции, так и в постпозиции к определяемому. Некоторые ука-зательные местоимения (oto ‛тот’ и др.) или неопределенные (éyzešehu ‛какой-то’) предшествуют определению.
Определение-существительное может быть компонентом сопряженного сочетания либо аналитической конструкции с предлогом šel. При более тесной смысловой связи используется сопряженная конструкция: bigdey našim ‛женская одежда’ vs. bgadim šel našim ‛одежда женщин’. В случаях, когда совместно употребляются несколько раз-ных определений, определение-существительное (компонент сопряженной конструк-ции) непосредственно следует за определяемым, прилагательное ставится после со-пряженного сочетания, а на последнем месте оказывается определение с предлогом šel. В сопряженной конструкции первый компонент (имя в status constructus) не при-нимает артикля; когда же второй компонент принимает показатель определенности (артикль или местоименный суффикс), то вся конструкция становится определенной (gan ha-yeladim he-xadaš ‛новый детский сад’). Иногда в просторечии сопряженное сочетание, образующее новое понятие, воспринимается как одно слово, и тогда ар-тикль ставится перед ним: ha-beytséfer вм. нормативного beyt ha-séfer ‛школа’ (букв. ‛дом книги’), ha-yomulédet вм. yom ha-hulédet ‛день рождения’.
Группа глагольного сказуемого может состоять из глагола (простой или сложной глагольной формы), а также из глагола в сочетании с именными формами и частями речи. Иногда для усиления употребляется унаследованная из древнееврейского языка figura etymologica — сочетание абсолютного инфинитива со спрягаемой формой гла-гола (hayo hayu lifney šanim ‛жили-были (много) лет назад’). Возможно употребление конструкций, состоящих из двух однородных глаголов, причем первый из них, теряя свое лексическое значение, характеризует действие, выражаемое вторым глаголом: macav ha-xole halax ve-hištaper ‛Состояние больного все улучшалось’, букв. ‛...шло и улуч-шалось’, hu xazar ve-hidgiš ‛он еще раз подчеркнул’, букв. ‛...вернулся и подчеркнул’.
П о р я д о к с л о в в простом предложении с глагольным предикатом относи-тельно свободный и в основном отражает тема-рематическое членение высказыва-ния. Обычная схема нейтрального глагольного предложения — SVO: ha-inyan1 ha-ze2 asa3 alay4 róšem5 aval6 gam7 hirgiz8 oti9 kcat10 ‛Это2 дело1 произвело3 на меня4 впечат-
Л.М. Дрейер. Современный иврит 407
ление5, но6 также7 немного10 меня9 рассердило8’, cáxi1 zaxar2 et ha-zaken3 ha-muzar4 tov5 meàod6 ‛Цахи1 помнил2 этого странного4 старика3 очень5 хорошо6’, ron1 xašav2 rak3 aleyhem4 ‛Рон1 думал2 только3 о них4’. При этом подлежащее, выраженное ме-стоимением 1-го или 2-го лица, как правило, опускается, если сказуемое — глагол в форме прошедшего или будущего времени, поскольку в этих случаях лицо отражено в глагольной флексии: bikarti be-sin ba-šana še-avra ‛Я посетил Китай в прошлом го-ду’, tiknu et ze maxar ‛Вы купите это завтра’.
Сказуемое выносится в начало предложения или в позицию перед подлежащим, когда на него падает логическое ударение, или при рематическом подлежащем: be-vaday1 kara2 eyze mikre3 ‛Несомненно1 что-то3 произошло2’. В предложениях, на-чинающих повествование, сказуемое также находится в начальной позиции: xay1 páam2 iš3 ‛Жил1 когда-то2 человек3’. Если предложение начинается с обстоятельства, то сказуемое, выраженное глаголом в прошедшем или будущем времени, ставится перед подлежащим (сказуемое в настоящем времени может следовать за подлежа-щим): ba-xacer1 omédet2 zkena3 u-maxzika4 be-yadéha5 šeon6 kir7 ‛На дворе1 стоит2 ста-руха3 и держит4 в руках5 стенные6 часы7’, ba-xuc1 yarad2 šéleg3 lavan4 ve-dak5 ‛На ули-це1 шел2 снег3, белый4 и мелкий5’, páam axat1 halax2 iš3 exad4 la-avoda5 ‛Однажды1 один4 человек3 пошел2 на службу5’, at at1 hitraxva2 tel aviv3 ve-hitpatxa4 ‛Очень мед-ленно1 Тель-Авив3 расширялся2 и развивался4’, ba-érev1 lo2 nišàar3 yoram4 ba-báyit5 ‛Вечером1 Иорам4 не2 остался3 дома5’. Такая схема более последовательно реализует-ся в литературном языке, тогда как в разговорном языке возможен порядок ba-érev yoram lo nišàar ba-báyit.
Косвенное дополнение обычно следует за прямым (etmol1 lifnot2 érev3 lakxu4 oti5 le-sade6 ‛Вчера1 под2 вечер3 меня5 взяли4 в поле6’), но если прямое дополнение отно-сится к реме, то оно может ставиться после косвенного (hu1 natan2 le-yósi3 asara4 ška-lim5 ‛Он1 дал2 Йоси3 десять4 шекелей5’). Обстоятельства находятся обычно в финаль-ной позиции, но могут предшествовать рематическому прямому дополнению или выноситься в начало предложения: ha-ir1 ha-xadaša2 hitpatxa3 bi-mhirut4 ‛Новый2 го-род1 развивался3 быстро4’, hu1 lo2 yiškax3 le-olam4 et ha-knisa5 li-nmal6 xeyfa7 ‛Он1 ни-когда4 не2 забудет3 вход5 в порт6 Хайфы7’, rak1 meuxar yoter2 káma3 naxalat binyamin4 ‛Лишь1 позднее2 возник3 (квартал) Нахалат-Биньямин4’.
В предложении с именным предикатом порядок слов относительно свободный и зависит, главным образом, от актуального членения. Подлежащее в качестве темы обычно находится в определенном состоянии, тогда как сказуемое — в неопределен-ном. Указательные предложения вводятся указательными местоимениями (ze, zo, zot, éle ‛ это’ в предикативном значении) или наречиями (например hine ‛вот’). Часто ме-стоимения ze и zo соединяются со связками: zóhi kvucat ha-tayarim ‛Это группа тури-стов’. Предложения существования вводятся показателем yeš ‛есть, имеется’, кото-рый обычно предшествует подлежащему, находящемуся в неопределенном состоя-нии. Посессивные предложения, если обладатель выражен существительным, строятся по схеме «le-[обладатель] + (yeš) + [обладаемое]», а в случае, когда облада-тель выражен местоимением, yeš выносится в начало предложения. В таких предло-жениях обладаемое является подлежащим. Однако в разговорном языке это подле-жащее переосмысляется как прямое дополнение (поскольку занимает обычную пози-цию прямого дополнения после сказуемого) и, если оно определенное, маркируется nota accusativi et. Так, часто встречается конструкция yeš li et ha-séfer, отличающаяся от нормативной yeš li ha-séfer ‛У меня есть (эта) книга’ (ср. yeš li séfer ‛У меня есть
Ханаанейские языки 408
книга’). Опущение yeš — признак архаизующего стиля. В именных предложениях могут использоваться связки, функцию которых выполняют личные местоимения 3-го лица или указательные местоимения: ha-iša ha-zot hi axoti ‛Эта женщина — моя сестра’, avoda tova ze xašuv ‛Хорошая работа — это важно’.
Топикализация в С.и. предусматривает вынесение тематического подлежащего или дополнения с местоименной репризой: axoti1 gam2 hi3 yexola4 lavo5 ‛Моя сестра1 — она3 тоже2 может4 прийти5’, sába1 šeli2 hayta3 lo4 mišpaxa5 gdola6 ‛Мой2 дед1 — у него4 была3 большая6 семья5’.
Общие вопросительные предложения не противопоставлены повествовательным предложениям по порядку слов и отличаются, в основном, интонацией. В литератур-ном языке общие вопросы могут вводиться частицей ha-/haàim: haàim yeš teatron ba-ir? ‛Есть ли в городе театр?’.
Специальные вопросы вводятся вопросительными местоимениями и наречиями, которые, как правило, находятся в начальной позиции. При топикализации они могут следовать за вынесенным членом: ha-baxur1 ha-ze2 ma3 hu4 omer5? ‛Этот2 парень1, что3 он4 говорит5?’.
2.5.4. С л о ж н о с о ч и н е н н ы е предложения образуются с помощью соеди-нительных, противительных и разделительных союзов. Возможно также бессоюзное сочинение. Порядок слов такой же, как в простых предложениях: ha-yeladim1 samxu2 ve-gam3 ha-mevugarim4 hayu5 merucim6 ‛Дети1 радовались2, и3 взрослые4 также3 были5 довольны6’; ata1 tišaer2 kan3 ve-hu4 yelex5 la-kniyot6 ‛Ты1 останешься2 здесь3, а он4 пой-дет5 за покупками6’.
В синтаксисе С.и., по сравнению с древнееврейским языком, возросла роль подчи-нительных конструкций (и, соответственно, уменьшилась роль сочинительных).
Наиболее распространенные в С.и. с л о ж н о п о д ч и н е н н ы е предложения с придаточным относительным образуются с помощью слов še- и ašer ‛что’. Эти слова непосредственно следуют за членом предложения, подвергающимся релятиви-зации, и не согласуются с ним, а в придаточном предложении присутствует ретро-спективный местоименный суффикс при соответствующем предлоге: ha-safa ašer eynam medabrim ba ‛язык, на котором не говорят’, букв. ‛язык, что не говорят на нем’. Если придаточное эквивалентно прямому дополнению, местоименная реприза может отсутствовать: ha-iš še-ani makir (oto) ‛человек, которого я знаю’, букв. ‛человек, что я знаю (его)’.
В предложениях с местоименным субъектом используются сочетания mi še- ‛тот, кто’, ma še- ‛то, что’: mi še-halax šáma lo yaxazor be-karov ‛Тот, кто ушел туда, не вер-нется скоро’.
С глаголом в настоящем времени, кроме придаточных предложений, могут упот-ребляться причастные обороты, которые вводятся артиклем ha-: kol student ha-lomed ba-univérsita yuxal limco avoda lefi mikcoào ‛Каждый студент, обучающийся в (этом) университете, сможет найти работу по своей специальности’.
Встречаются также придаточные относительные без подчинительных слов. В этом случае местоименная реприза выносится в начало придаточного предложения: ze hizkir li et ha-bayit bo nišàárti li-zman arox ‛Это напомнило мне дом, в котором (букв. ‛в нем’) я остался надолго’.
Придаточное изъяснительное может вводиться союзами še- или ki: hi amra li ki axšav kvar i-efšar lehitkašer elav ‛Она сказала мне, что сейчас уже невозможно связаться с ним’.
Л.М. Дрейер. Современный иврит 409
Придаточные причины образуются также с помощью союзов še- (и производных от него mipney še-, mike(y)van še- ‛потому что’) или ki ‛потому что’: hifsáknu et ha-avoda ki lo hisbíru (или ...mipney še-lo hisbíru) lánu ma aléynu laàasot ‛Мы прекрати-ли работу, потому что нам не объяснили, что мы должны делать’.
Придаточные цели вводятся союзом kdey ‛чтобы’ при глаголе в инфинитиве или kdey še- при спрягаемой форме: hem nasàu šáma kdey leharvíax kama škalim ‛Они по-ехали туда, чтобы заработать несколько шекелей’, maxarnu dvar-ma kdey še-yamšix lilmod ‛Мы продали кое-что, чтобы он продолжал учиться’.
Придаточные времени вводятся союзом kaašer (или kše-): kaašer (kše-) higanu lamakom, kvar haya xóšex ‛Когда мы прибыли на место, уже было темно’.
Придаточные уступки вводятся сложным союзом af al pi še- ‛хотя’: hem hexlítu laazor li af al pi šelo haya lahem zman ‛Они решили помочь мне, хотя у них не было времени’.
Условное реальное предложение вводится союзом im ‛если’: im tavo maxar, tihye lexa hizdamnut lifgoš et ha-more ‛Если придешь завтра, у тебя будет возможность встретить учителя’.
Условное ирреальное предложение образуется с помощью союзов lu, ílu ‛если бы’. Отрицательные ирреальные условия вводятся союзами lule, ilule, ilmale ‛если бы не’. При этом обязательно употребление в придаточном предложении глагола в сослага-тельном наклонении или в кондиционале I (совпадающем с формой прошедшего вре-мени), а в главном предложении — в сослагательном наклонении: ílu siper lo al ze míšehu axer, hu lo haya maamin ‛Если бы ему рассказал кто-нибудь другой, он бы не поверил’.
Косвенные общие вопросы вводятся посредством частицы im ‛ли’: hem šaalu oti im šamáti et ha-xadašot ‛Они спросили меня, слышал ли я новости’.
2.6.0. Сравнительная гетерогенность л е к с и к и С.и. в значительной степени обусловлена спецификой его становления и развития. Особенностью формирования словарного фонда С.и. является обилие лексических инноваций, появившихся в ре-зультате целенаправленной деятельности отдельных авторов — писателей, журнали-стов и ученых, а также институтов — органов языкового строительства (Комитета, впоследствии Академии языка иврит). В этом смысле пополнение словарного состава С.и. периода становления во многом сходно с процессом формирования лексики ис-кусственных языков.
Большинство авторов из числа последователей Гаскалы (maskilim) в Центральной и Восточной Европе ориентировались, прежде всего, на лексику, зафиксированную в библейских текстах, отвергая слова мишнаитского и средневекового языка. Однако вскоре стала очевидна недостаточность лексических ресурсов еврейского языка Биб-лии для передачи новых понятий и реалий. Некоторые лакуны заполнялись путем расширения и изменения значений слов и выражений библейского языка (xašmal ‛электричество’ < ‛вид драгоценного камня (по некоторым традиционным интерпре-тациям — янтарь)’, totax ‛пушка’ < ‛дубина, булава’, sofer ‛писатель’ < ‛писец’, soxen ‛агент’ < ‛управляющий’, tarbut ‛культура’ < ‛прибавление, выводок’, tapúax zahav ‛апельсин’ < ‛золотое яблоко’. В то же время, некоторые из деятелей еврейского Про-свещения иногда вводили в обиход слова из мишнаитского (xazit ‛фасад’) и средневе-кового иврита (hitpatxut ‛развитие’, sifrut ‛литература’), но эта тенденция получила раз-витие только со времени Менделе Мойхер-Сфорима, который наряду с библейской широко использовал лексику мишнаитского и средневекового иврита (а также ара-
Ханаанейские языки 410
мейского языка). Кроме того, М. Мойхер-Сфорим стал автором некоторых неологиз-мов (например gafrur ‛спичка’).
Возрождение иврита как разговорного языка в Палестине вновь со всей остротой поставило проблему пополнения словарного фонда. Для ее решения Комитет языка выработал политику, направленную на адаптацию лексики всех пластов языка — библейского, мишнаитского и средневекового иврита. Пробелы заполнялись путем образования большого количества неологизмов от еврейских корней. В случае необ-ходимости прибегали также к использованию арамейских и арабских корней. Кроме того, Комитет счел возможным включать в состав языка получившие международное распространение слова из других языков (в частности индоевропейских). Среди лек-сических инноваций встречаются также звукоподражательные слова (например, предложенное Х.-Н. Бяликом rišreš ‛шуршал’ > rišruš ‛шорох’).
Таким образом, лексика С.и. складывается из слов, унаследованных от древнеев-рейского языка (библейского, мишнаитского и средневекового иврита, включая древние заимствования), неологизмов, образованных преимущественно от еврейских, арамейских и арабских корней, прямых заимствований из различных языков и каль-кированных форм.
Важнейшим источником лексики С.и. стал е в р е й с к и й я з ы к Б и б л и и, словарный фонд которого оказался почти полностью включенным в состав С.и. При этом иногда наблюдаются отдельные изменения в семантике (др.-евр. rāṣōn ‛удовольствие’ > racon ‛желание’). Некоторые слова библейского происхождения, в своем основном значении вытесненные словами из других источников, приобретают в С.и. совершенно новое значение (àäqdāḥ ‛берилл’ > ekdax ‛пистолет’, ср. beril ‛берилл’).
Различной оказалась судьба некоторых древних синонимов. В ряде случаев один из элементов древнееврейской синонимичной пары приобретает в С.и. специфиче-ское значение (šama ‛слышал, слушал’ — heezin ‛слушал радио’, asa ‛делал’ — paàal ‛действовал’, šofet ‛судья’ — dayan ‛судья раввинского суда’).
При наличии пары синонимов, один из которых присущ библейскому языку, а другой мишнаитскому, предпочтение отдается, как правило, библейской лексеме, ко-торая оказывается более употребительной. Одним из факторов, влияющих на выбор той или иной лексемы в качестве основной, стало стремление избежать омонимии (в том числе омофонии, возникшей из-за исчезновения некоторых старых фонем). Так, в паре šémeš — xama ‛солнце’ более употребительной является первая (библейская), поскольку существует омоним xama ‛теплая’. Аналогично в паре mávet — mita ‛смерть’ предпочтение отдано библейской, так как последняя омонимична слову mita < miṭṭā ‛кровать’. В некоторых случаях по этой же причине оказываются более употребительными лексемы мишнаитского языка (например, мишн. axšav, а не библ. ata < âattā ‛сейчас’, из-за созвучия с ata < àattā ‛ты (м. р.)’). В то же время, многие библейско-мишнаитские пары полностью сохраняются (например po — kan ‛здесь’).
Слово nikba ‛туннель’ включено в состав С.и. из древнееврейской эпиграфики (рекон-струировано из консонантной формы nqbh, зафиксированной в Силоамской надписи).
М и ш н а и т с к и й и в р и т, наряду с библейским, стал весьма важным ком-понентом словарного фонда С.и. В ряде случаев значение мишнаитских терминов претерпевает определенные изменения (manuy ‛абонент’ < ‛сосчитанный, зачислен-ный’, snif ‛отделение (банка, почтовое и т. п.), филиал’ < ‛прикрепленный; клин’). Получившие распространение в мишнаитском языке формы, образованные от вто-ричных корней (развившихся из слабых и воспринимаемых как целые трехконсо-нантные), весьма употребительны в С.и. и могут быть более частотными, чем исход-
Л.М. Дрейер. Современный иврит 411
ные библейские формы (мишн. hitxil — библ. hexel ‛начал’). Включение в состав лек-сики С.и. слов мишнаитского языка могло происходить опосредованно, через другие памятники раввинистической средневековой письменности, такие как комментарий Раши к Пятикнижию, пасхальная Агада, сборники молитв и т. п., лучше знакомые широким кругам еврейского населения, нежели сами тексты Мишны. Например, гла-гол xasal в значении ‛закончил’ (арамеизм) вошел в С.и. через пасхальную Агаду (он употребителен также в значении ‛уничтожил’, что отражает библейский узус в книге Второзаконие 28:38).
Ряд слов и выражений С.и. восходит к средневековой еврейской письменности (ixel ‛пожелал (кому-л. что-л.)’, mérec ‛энергия, энергичность’, tfuca ‛рассеяние’, asir ciyon ‛узник Сиона’).
Распространенный способ пополнения словарного фонда в средневековый пери-од — калькирование, в частности с арабского языка. Некоторые такие кальки про-никли и в С.и. (например слова, образованные от корня šll, — глагол šalal ‛грабил’ > ‛отрицал’ и прилагательное šlili ‛отрицательный’, — вероятно, развились под влия-нием семантики арабского корня slb: salaba ‛грабил’, но также ‛отрицал’, sālib-, salbiyy- ‛отрицательный’).
Заимствованную лексику в С.и. можно разделить на заимствования, унаследован-ные через лексику языка предшествующих эпох, и слова, непосредственно заимство-ванные в С.и.
От библейского языка С.и. унаследовал слова египетского (šošana ‛лилия’, parào ‛фараон’), аккадского (séfer ‛книга’), шумерского (kise ‛стул’), древнеперсидского (dat ‛религия’, gizbar ‛казначей, кассир’, ganzax ‛государственный архив’) происхож-дения. Подробнее см. в статье «Древнееврейский язык» в наст. издании.
Через мишнаитский иврит С.и. адаптировал слова из арамейского, персидского, греческого и латинского языков.
Заметную роль в формировании лексики С.и. сыграли а р а м е и з м ы. После древнееврейского, арамейский язык является важнейшим источником пополнения словарного фонда С.и. Помимо арамейских заимствований в мишнаитский иврит, С.и. унаследовал также элементы арамейской лексики Вавилонского Талмуда. В период после кодификации Талмуда арамейский язык (наряду с древнееврейским) имел ста-тус языка религии, что обусловило его прочное место в системе традиционного ев-рейского образования. В С.и. слова и идиомы арамейского происхождения широко употребительны во всех сферах и регистрах (ába ‛папа’, íma ‛мама’, maškánta ‛ипотека’, girsa ‛версия’, dilàel ‛вышеупомянутый’, me-xad gisa... me-idax gisa ‛ с од-ной стороны... с другой стороны’). Часто в С.и. арамейские выражения маркируют высокий, «ученый» стиль речи.
Арамейский язык дал также обширный материал для лексических инноваций, как формальных, так и семантических. Например, от существительного àǎtar ‛место’ > совр. ивр. atar ‛место, (археологический) раскоп; интернет-сайт’ образован глагол iter ‛локализовал’; от глагола šaddar ‛посылал’ > совр. ивр. šider ‛передавал (по ра-дио, телевидению)’, образовано существительное šidur ‛радио-, телепередача’. Ис-пользование арамейских словообразовательных моделей, диахронически тождествен-ных древнееврейским, но отличающихся от них формальными чертами, обогатило словарь С.и. парами близких по смыслу лексем, отличающихся семантическими ню-ансами (havtala ‛локаут’ — avtala ‛безработица’, hazàaka ‛(срочный) вызов’ — azàaka ‛сигнал тревоги’).
Ханаанейские языки 412
Через арамейскую лексику, заимствованную в постбиблейский период, в С.и. во-шли некоторые иранизмы (gušpánka ‛печать’ < арам. gušpanqā с тем же значением, ср. ср.-иран. *anguš(t)-pānak ‛наперсток’).
В С.и. употребительны слова г р е ч е с к о г о происхождения, которые также заимствовались в большом количестве в постбиблейскую эпоху (androlomúsya ‛сума-тоха’ < греч. ἀνδροληψία ‛захват людей’ (альтернативная этимология ἀνδρολοιμός ‛чума, эпидемия’), kategor ‛прокурор’ < греч. κατήγορος ‛обвинитель’, parcuf ‛лицо, физиономия’ < греч. πρόσωπον ‛лицо’, praklit ‛адвокат’ < греч. παράκλητος ‛защит-ник’, pulmus ‛война, полемика’ < греч. πόλεμος ‛война’, teatron ‛театр’ < греч. θέατρον ‛театр’), а также сравнительно немногочисленные унаследованные л а т и н и з м ы (например mapa ‛скатерть’ < лат. mappa ‛кусок полотна’, safsal ‛скамья’ < лат. subsel-lium ‛скамья’, traklin ‛зал, салон’ < лат. triclinium ‛триклиний’).
Из а р а б с к о г о языка в период средневековья заимствуются научные и фило-софские термины, ставшие исходным материалом для современных неологизмов (от существительного merkaz ‛центр’ < араб. markaz- образован глагол rikez ‛сосредоточил’, от которого, в свою очередь, произошло существительное rikuz ‛концентрация’). Через арабский язык в средневековый иврит проникают также слова греческого происхож-дения, сохраняющиеся в лексике С.и. (aklim ‛климат’ < араб. àiqlīm- < греч. κλίμα).
Арабский язык стал также источником непосредственных заимствований в С.и. Э. Бен-Йехуда использовал арабские корни (√hğr > higer ‛переселился, эмигрировал’, hagira ‛эмиграция’) и слова (taarix ‛дата’). Позднее С.и. обогатился арабской лекси-кой, отражающей ближневосточные реалии (faláfel ‛фалафель, блюдо из толченого гороха со специями’, finǯan ‛кофейник, джезва’ < араб. finǯān ‛чашка’). Высок удель-ный вес арабизмов в сленге. Некоторые слова и выражения (и их производные геб-раизированные формы), выйдя за пределы сленга, стали весьма употребительными в нейтральной устной речи (keyf ‛удовольствие, кайф’ > kiyef ‛получил удовольствие’, mabsut ‛довольный’, áhlan! ‛привет!’, xabíbi ‛дружище’).
Изредка в С.и. используется лексический материал из других древних языков (та-ково, например, предложенное Э. Бен-Йехудой cлово arad ‘бронза’, восходящее к шумерскому URUDU ‛медь’).
Заимствования из и д и ш а большей частью бытуют в сленге, но некоторые идишизмы могут использоваться и в нейтральной речи (kumzic ‛пирушка’, alte zaxen ‛старье’). Через идиш в С.и. вошли также слова и выражения, восходящие к древне-еврейскому языку. Часто они используются в С.и. в значении, характерном для их узуса в идише, и сохраняют то же фонетическое оформление (xévre ‛братва’ < xevra ‛группа’, klézmer ‛клезмер, музыкант, исполняющий народную ашкеназскую музы-ку’ < kley zémer ‛музыкальные инструменты’). Некоторые распространенные в С.и. выражения представляют собой кальки с идиша: la-asot xayim ‛хорошо проводить время’, букв. ‛делать жизнь’ (< maxn dos lebn), lo holex ‛не годится’, букв. ‛не идет’ (< es gejt nit). Возможны также сложные слова, где один из компонентов восходит к ивриту, а другой к идишу (xévre-man ‛славный малый’). Кроме того, через идиш в С.и. проникали заимствования из славянских языков (núdnik ‛зануда’, породившее глагол nidned ‛донимал’, омоним к уже существовавшему глаголу ‛раскачивался’).
В С.и. есть некоторое количество заимствований из с е ф а р д с к о г о (еврей-ско-испанского) языка, которые представлены преимущественно в разговорном язы-ке (sponǯa ‛швабра’) и сленге (куда также попали отдельные слова турецкого проис-хождения).
Л.М. Дрейер. Современный иврит 413
Со времени превращения С.и. в разговорный язык возросло количество заимство-ваний из е в р о п е й с к и х я з ы к о в, прежде всего за счет интернациональной лексики греческого и латинского происхождения. Основными непосредственными источниками заимствований в начале XX в. были немецкий и русский языки, что опре-делило фонетическое оформление заимствований, характерное именно для этих язы-ков. Такое оформление сохраняется и позднее, вплоть до наших дней, несмотря на то, что основным источником интернациональной лексики сейчас стал английский язык.
Во многих случаях в литературном языке параллельно с интернациональными сло-вами (например informácya ‛информация’, kaséta ‛кассета’) имеются их соответствия, образованные от семитских корней (meyda, kalétet). Употребление последних счита-ется предпочтительным, особенно в формальных регистрах. Одно из направлений деятельности Академии языка иврит — разработка и внедрение таких слов-эквива-лентов. Однако в разговорном языке иностранные слова используются гораздо шире.
Заимствования часто подвергаются гебраизации. Это, как правило, глагольные формы (и производные от них), образованные от заимствованных имен: tilpen (разг. tilfen) ‛(он) говорил по телефону’ < telefon, mehapnet ‛гипнотизирующий’ < hipnóza ‛гипноз’, meduplam ‛дипломированный’ < diplóma ‛диплом’. Заимствованные пере-ходные глаголы оформляются как глаголы породы piâel, непереходные — hitpaâel (hitpančer ‛прокололся’ < pánčer ‛прокол’ < англ. puncture).
Некоторые общеупотребительные слова и обороты являются кальками с европей-ских языков: natan tšuva ‛ответил’, букв. ‛дал ответ’ (cр. нем. Antwort geben). Резуль-татом калькирования стало появление ряда неологизмов (ofna ‛мода’ < ófen ‛способ’, под влиянием фр. mode).
2.7.0. Учитывая особенности становления и развития С.и., ориентированного на книжную норму, говорить о диалектах не приходится. Отклонения от общеизраиль-ского койне, не обусловленные определенной произносительной традицией (в зави-симости от страны исхода) или же языком-субстратом, весьма редки. Можно отме-тить специфическое «иерусалимское» произношение maàatáim ‛двести’ (общеизра-ильское matáim).
Иногда отмечаются некоторые особенности синтаксиса в устной речи выходцев из восточных общин, например: àavo maḥar? ‛Я приду завтра?’ вм. lavo maxar? ‛Прийти завтра?’.
ЛИТЕРАТУРА
Айхенвальд А.Ю. Современный иврит. М.,
1990.
Долгопольский А. Иврит язык // Краткая ев-
рейская энциклопедия. Иерусалим, 1982, т. 2.
Шифман И.Ш. Современный иврит // Язы-
ки Азии и Африки, т. IV (1). М., 1991.
Berman R.A. Modern Hebrew // The Semitic
Languages / Ed. by R. Hetzron. London, 1997.
Eitan E., Ornan U. Hebrew Language. Modern
Period // Encyclopedia Judaica. Jerusalem, 1971,
vol. 16.
Even-Shoshan A. Hamilon Haàivri Hameru-
kaz. Jerusalem, 1998.
Glinert L. Grammar of Modern Hebrew. Cam-
bridge, 1989.
Kutscher E.Y. A History of the Hebrew Lan-
guage. Jerusalem; Leiden, 1982.
Morag Sh. The Hebrew Language. Tradition
of the Yemenite Jews. Jerusalem, 1963 [на ив-
рите].
Morag Sh. Pronunciations of Hebrew // Ency-
clopedia Judaica. Jerusalem, 1971, vol. 13.
Ornan U. Hebrew Grammar // Encyclopedia
Judaica. Jerusalem, 1971, vol. 8.
Sáenz-Badillos A. A History of the Hebrew
Language. Cambridge, 1993.