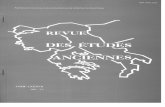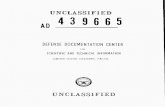RBPAB, v. 03, n. 07, 327 p., jan./abr. 2018 ISSN ... - revistas.uneb.br
КТО ТАКОЙ «СИБИРЯК»: ЧТО ТАКОЕ СИБИРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ...
Transcript of КТО ТАКОЙ «СИБИРЯК»: ЧТО ТАКОЕ СИБИРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ...
316 Вестник Российской нации. 2014. № 6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
_____________________________________________________________
Мария Васеха
КТО ТАКОЙ «СИБИРЯК»: ЧТО ТАКОЕ СИБИРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ1
Аннотация: В статье рассматривается история формиро-вания сибирской идентичности и множественность оттенков ее трактовки, а также отражаются изменения понятия «сибиряк» в исторической ретроспективе.
Ключевые слова: Сибирь, сибирская идентичность, регио-нальная идентичность, сибирская политическая нация, областни-чество.
Summary: The article examines the history of the formation of Siberian identity and multiplicity of it’s interpretation, and also reflects the changes in the concept of “Siberian” in historical perspective.
Key words: Siberia, Siberian identity, regional identity, Siberian political nation, “oblastnichestvo”.
Васеха Мария Владимировна – аспирант Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
1 Работа поддержана грантом РНФ № 14-18-03090 «Измерение рисков межэтниче-ских отношений в регионах Российской Федерации. Разработка теории и междисци-плинарного подхода».
317Вестник Российской нации. 2014. № 6.
Пожалуй, впервые вопрос о существовании сибирской общно-сти был поднят в середине XIX в. в связи с появлением такого явле-ния, как сибирское областничество. Идеологи течения – Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, сибирские интеллигенты, на чье мировоззрение оказа-ли серьезное влияние ссыльные декабристы, петрашевцы, вожди рево-люционной демократии 1850 – 1860-х гг. Они впервые дали трактовку Сибири как колонии Российской империи и на начальной стадии даже выступали с сепаратистскими лозунгами, но позднее отказались от них в пользу регионализма и федерализма.
Областники основательно разрабатывали вопрос о специфике сибир-ского региона, что привело к обоснованию вывода о складывании здесь особого историко-этнографического типа русских, сформировав шегося в результате взаимодействия с аборигенами, колонизации и природно-климатических условий. На основании этого регион выделялся в от-дельную область, авто номия которой «есть необходимое, логическое следствие конституционного строя».
Несмотря на увлечение идеями «сибирской нации» со стороны лишь узкой группки интеллектуалов, российское правительство весьма чутко реагировало на проявления вольных сибирских настроений. Так, напри-мер, донесение из Томска о проявлениях «местного патриотизма» пов- лияло на решение об открытии университета в Томске. А основанием для этого послужило письмо «Из Томска», автор которого скрылся за псевдонимом «Я. Т. О.», опубликованное 25 января 1886 г. в газете «Мо-сковские ведомости». Томский корреспондент выражал озабоченность проявлениями «сибирского патриотизма», который, по его словам, «про-поведуют в Петербурге «Восточное обозрение», в Иркутске «Сибирь», а в Томске «Сибирская газета»». Томич отмечал: «Тенденции их везде одни и те же: самобытное развитие страны, возможная независимость колонии от метрополии, которая так безжалостно эксплуатирует богатый край и т.п. <…> Газеты эти финансируют сибирские купцы, а за ними прячутся ссыльные поляки, нигилисты и социалисты, которым попусти-тельствуют местные чиновники». А ведь именно с появлением поляков, утверждал анонимный автор, началась в Сибири проповедь местного патриотизма, именно они посеяли зерна «сибирской национальности». Тогда же, напоминая о деле «сибирских сепаратистов» 1865 г., появи-лись первые статьи «о самобытном и независимом от метрополии раз-витии Сибири». В 1870-е гг. им на смену явились ссыльные нигилисты и социалисты. В этих условиях, предупреждал журналист, открываемый в Томске университет неизбежно станет своего рода штабом для социали-
Мария ВасехаКто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность
318 Вестник Российской нации. 2014. № 6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
стов2. В итоге Томский университет открыли только с одним факульте-том – медицинским вместо четырех запланированных изначально.
В период революции 1905–1907 гг. областники пре тендовали на роль надпартийного образования, выражавшего интересы всего населения Сибири. Их идеал автономии воплотился в проект создания Сибирской областной думы. Эта идея нашла воплощение в «Основных положени-ях “Сибир ского областного союза”», принятых на его съезде в 1905 г. в Томске. В 1917–1918 гг. областничество и его лозунги стали основой для создания в Сибири политического блока вместе с эсерами против власти большевиков, за свержение советской власти, а затем возглавившего в лице своих представите лей антибольшевистское государственное об-разование на востоке России. Соответственно, приобретшая антисовет-ский характер идеология областников на долгие годы развивалась ис-ключительно в эмиграции (например, в Праге, Харбине и др.)3.
В конце ХХ (начиная с 1980 гг.) – начале XXI вв. идеи областни-ков были реанимированы в виде проектов частичной автономизации Сибири. Эти идеи актуализировались как в общественной среде, так и среди локальных правящих элит. Например, «Марксистский рабочий союз» (середина 1980-х гг., Иркутск), предлагал пересмотреть устрой-ство СССР, создав на территории Сибири одну или несколько союзных республик, автономий в составе Союза. Примерно того же курса при-держивались еще ряд общественных движений Восточной Сибири: «Социалистический клуб», «Байкальский анархический союз», «Бай-кальский Народный Фронт» (впервые образован в июне 1988 г.) и др. В 1990-е – начале 2000-х гг. возникало множество движений с близки-ми по содержанию курсами на автономизацию сибирских земель. Не-которые из них поддерживались региональными отделениями партий «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, НБП, ЛДПР и др. Основной аргумент в пользу автономии Сибири – эмоционально-экономический: «Хватит кормить Москву!». Ярким примером может служить фильм «Нефть в обмен на ничего», снятый группой активистов в 2011 г. и при-влекший внимание жителей Сибири и центральных властей к ряду си-бирских проблем4. Низкое качество жизни, по сравнению со столицей,
2 Ремнев А.В. Михаил Никифорович Катков в поисках «сибирского сепаратиз- ма» // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск: ИД Сова, 2007. С. 64–80.
3 Аблажей Н.Н., Шиловский М.В. Сибирское областничество // Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. Новосибирск: Издательский Дом Историческое наследие Сибири, 2010. C. 90–92.
4 Документальный фильм «Нефть в обмен на ничего», 45 мин., реж. Д. Марголин и А. Лоскутов, 2011. Официальный сайт фильма: www.oil-for-nothing.ru.
319Вестник Российской нации. 2014. № 6.
Мария ВасехаКто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность
несправедливое перераспределение налогов, выплачиваемых богатыми природными ресурсами сибирскими регионами – вот основные козыри всех проектов современных сибирских движений за автономию.
Таким образом, проекты сибирской автономизации представляют собой в «облегченном» виде варианты экономической самостоятельно-сти Сибири в составе РФ, а в «крайнем» – тот или иной вариант сепара-ции территории Зауралья от «метрополии» Москвы.
На уровне правящих элит идея сибирской интеграции выразилась в создании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодей-ствия «Сибирское соглашение»5. Соглашение «Об основных принципах экономического сотрудничества местных Советов народных депутатов Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Ом-ской, Томской, Тюменской областей и Хакасской автономной области» было подписано их руководителями 2 октября 1990 г. в Кемерово. Под-черкивалось, что причины, заставившие руководителей Сибирского региона искать новые формы взаимодействия, лежат исключительно в социально-экономической плоскости и не преследуют никаких полити-ческих интересов.
Сегодня в связи с новой волной так называемого «сибирского сепа-ратизма», попытками проведения марша за «федерализацию Сибири» (будто бы вслед за Крымом) тема сибирской гражданской и этниче-ской идентичности представляется весьма актуальной. В связи с этим важно разобраться с содержанием понятия «сибирская идентичность». Несмотря на размытость термина «сибиряки», ряд исследователей (А.В. Ремнев, М.А. Жигунова) продолжают фиксировать рост сибирско-го регионального самосознания и устойчивые отличия русских Сибири от русских Европейской России6. Проявления этнического сепаратизма со стороны представителей коренных малочисленных народов Сибири требуют отдельного анализа и не будут рассмотрены в рамках данной работы. Заметим, что большинство населения Сибири составляют люди, считающие себя русскими, и речь в данной статье пойдет по большей части именно об этом населении.
Понятие «сибиряки» вошло в оборот уже в XVII в., однако, по мне-нию некоторых исследователей, использовалось не самими жителями
5 См.: http://www.sibacc.ru/mass.6 Ремнев А.В. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и историче-
ский конструктивизм XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 109; Жигунова М.А. Этни-ческая самоидентификация русского населения Западной Сибири вначале XXI века // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных террито-рий. 2008. Т. XIV. № 1. С. 314.
320 Вестник Российской нации. 2014. № 6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
Зауралья, а в основном чиновниками и публицистами. До начала мас-сового переселения сибирские старожилы не считали необходимым от-делять себя от новоселов, исключение составляли ссыльно-каторжные. Даже в 1860-е гг. слово «сибиряк» не было широко употребляемым сре-ди местных жителей7.
В современной полевой практике сибирские этнографы в интервью с представителями старшего поколения часто сталкиваются с таким яв-лением, как идентификация разных частей населенных пунктов (улиц, районов) в соответствии с этнокультурной принадлежностью жителей этой местности. Так, например, в одном сибирском селе обычно сосед-ствовали «край хохлов» (по сути дела, все «столыпинские» переселенцы, имеющие в произношении аффрикативное «г»), «российские» (порефор-менные и «столыпинские» переселенцы из Европейской части России) и противопоставлявшие себя всем переселенцам «сибиряки». В данном случае под «сибиряками» подразумевалась старожильческая этнокуль-турная общность русских, которые, в свою очередь, подразделялись на «чалдонов», «кержаков», «двоеданов» и пр. Именно поэтому некоторые сибирские этнографы рассматривают термин «сибиряки», скорее, как этнотопоним, считая объектами изучения этнические единицы в виде культурных (конфессиональных) групп: «чалдоны», «кержаки» и пр.8 Безусловно, подобные этнотерриториальные маркеры были характерны для сельской местности и не актуальны для сибирских городов.
В ходе глубинных интервью с респондентами-жителями сибирских сел, родившимися до коллективизации сельского хозяйства, часто под-черкивалось, что сибиряки в начале ХХ в. четко противопоставляли себя новым, прибывающим массам переселенцев9. Хозяйственная уко-рененность на сибирской земле, экономическая стабильность старо-жильческих хозяйств, сложившийся уклад жизни, приспособленный к природно-климатическим условиям Сибири, создавали образ самодо-статочного и успешного сибиряка. Переселенцам приходилось долго адаптироваться к новым условиям жизни, испытывать нужду, что не-редко заставляло их наниматься в батраки к сибирским старожилам. Именно поэтому в конце XIX – начале XX вв. породниться с сибиря-ками считалось престижным для переселенцев. Сибиряки же, в свою
7 Бережнова М.Л. Загадка чалдонов: история формирования и особенности культу-ры старожильческого населения Сибири. Омск, 2007. С. 147.
8 Фурсова Е.Ф. Этнокультурные группы россиян Приобья: старожилы и переселен-цы // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. Ч. III. Этнография и изучение культурных процессов и явлений. СПб., 1993. С. 35–40.
9 Архив ИАЭТ СО РАН. Дневник № 12. Л. 50. 1983 г. Л. 67, 72 об. и др.
321Вестник Российской нации. 2014. № 6.
очередь, старались сохранить свою этнокультурную и экономическую обособленность, и в основном заключали браки в своей среде. Только в 1920-е гг., когда «революция чувств» накрыла и сибирскую глубинку, широкое распространение получили браки «убегом», особенно между девушкой-сибирячкой и женихом-переселенцем10. Таким образом, с раз-мыванием этнокультурной группы «сибиряков» вследствие смешанных браков с переселенцами, название «сибиряк» постепенно распространи-лось на прочие этнокультурные группы Сибири.
Омская исследовательница М.А. Жигунова описывает изменения этнического самосознания своих респондентов в ходе этнографиче-ских экспедиций в районах Западной Сибири и Северного Казахста-на11. Согласно ее данным, в 1986–1989 гг. примерно 98% опрошенных называли себя прежде всего русскими. При панельных исследованиях 1994 г. возросла вариативность ответов. Опросы 2000–2008 гг. показали, что заметная часть респондентов затруднились четко определить свою этническую принадлежность: «не знаю», «никакой», «космополит», «землянин», «метис», «многонациональная / полиэтничная», «русский, наверное», «я не знаю, кто я, по паспорту – русская», «русский, но по паспорту – немец», «смешанная русско-украинская», «русско-немецко-белорусско-финская», «русская с немецкой помесью» и др. Среди вари-антов этнической самоидентификации исследовательница также зафик-сировала: «русская хохлушка/украинка», «русская полячка», «русский татарин», «русский немец», «русский казах», «русская француженка», «русский мусульманин», и наряду с этим распространено «обыкновен-ный русский», «исконный русский», «чисто русский», «просто русский», «великоросс»12.
В ходе полевых исследований Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН впервые в научный оборот была введена эт-нокультурная группа «чалдонов/челдонов». Народная его интерпрета-ция сводится к нескольким вариантам, из которых наиболее часто встре-
10 Васеха М.В. «Меня милой разлюбил»: становление новых отношений в среде молодежи (по материалам Сибири 1920-х гг.) // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен. Материалы Пятой Международной научной конференции РАИЖИ. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 160–164.
11 Жигунова М.А. Некоторые проблемы сибирской идентичности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. XXII. № 2-2. С. 92–95.
12 Жигунова М.А. Этническая самоидентификация русского населения Западной Сибири вначале XXI века // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2008. Т. XIV. № 1. С. 314.
Мария ВасехаКто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность
322 Вестник Российской нации. 2014. № 6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
чается мнение, что «это люди, пришедшие /сосланные с Чала и Дона или реки Чалды». Также бытует мнение, что чалдоны – это «первые русские, приплывшие в Сибирь на челнах», «потомки донских казаков». Чалдо-ны действительно связывают свое появление в Зауралье с походом Ер-мака и донским казачеством13. Что интересно, в современных опросах часть респондентов (3%) также определили себя этнокультурной груп-пой «чалдоны», объясняя этот термин как «вечные, исконные, коренные сибиряки», «русские коренные жители Сибири», «здешние уроженцы», «испокон веку здесь живущие». Этот термин встречается при определе-нии личной этнической принадлежности и этнической принадлежности родителей, а чаще – бабушек и дедушек.
В 2000-е гг. среди вариантов этнической самоидентификации в этносоциологических исследованиях были выявлены такие, как «си-биряк» и «русский сибиряк». По мнению исследователей, это свиде-тельствует о росте регионального самосознания, постепенном пре-вращении понятия «сибиряк» в этноним14. Сделанное предположение о возможности перерастания топонима «сибиряк» в этноним нашло отражение на практике в официальных материалах Всероссийской переписи населения 2010 г. Глава Федеральной службы государствен-ной статистики А. Суринов, подводя промежуточные итоги Всерос-сийской переписи населения, заявил, что был выделен ряд несуще-ствующих в официальном перечне национальностей России этниче-ских образований. В качестве примера он привел «сибиряков». В этой связи необходимо напомнить, что в преддверии переписи населения прошла локальная кампания в социальных сетях «Я – сибиряк!» с призывом определить свою национальную принадлежность при пере-писи населения, как «сибиряк».
Несмотря на фиксирование роста самосознания жителей Зауралья в объединяющем формате «сибиряк», необходимо разобраться с этим многозначным понятием. Этнологи М.А. Жигунова и Е.Ф. Фурсова в «Исторической энциклопедии Сибири» выявляют пять основных спо-собов трактовки определения «сибиряки»: территориальное (сибиря- ки – это этнотопоним); региональное (люди, родившиеся и долго живу-щие в Сибири); «культурно-историческое» (коренные жители Сибири – аборигены); психологическое (особый тип людей с характерными черта-
13 Фурсова Е.Ф. Этнокультурные группы россиян Приобья: старожилы и переселен-цы // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. Ч. III. Этнография и изучение культурных процессов и явлений. СПб., 1993. С. 35–40.
14 Жигунова М.А. Указ. соч. С. 316.
323Вестник Российской нации. 2014. № 6.
ми: крепкие, здоровые, с хорошими адаптационными способностями и т.д.); этническое («смешанный этнос», сложившийся на основе русских, с вкраплениями черт казахского, татарского, украинского и представи-телей многих других народов). В качестве предпосылок формирования региональной общности сибиряков авторы называют географическую отдаленность и некоторую замкнутость Сибири от Европейской России, обширность территории, определенную свободу в жизнедеятельности и относи тельно мирное сосуществование пришлого и аборигенного на-селения (обусловленные обилием земель и угодий), особые природно-климатические и этнокультурные условия, межэтнические и межрели-гиозные контакты15.
Новосибирский историк В.Н. Курилов рассматривал сибиряков как региональный субэтнос в составе русского (великорусского) этноса. Процесс развития русского сибирского субэтноса, по мнению Курило-ва, не получил своего логического завершения, поскольку был пере-крыт синхронным процессом формирования русской нации16. Мысль о невозможности формирования отдельного сибирского этноса на базе русских переселенцев высказывалась рядом исследователей (например, В.А. Липинская, А.А. Люцидарская, Е.Ф. Фурсова и др.), чаще всего это связывалось с поддержанием постоянных взаимоотношений с центром на протяжении всей истории освоения Сибири русскими17.
В то же время омский историк А.В. Ремнев, всесторонне изучавший феномен сибирских патриотических настроений, писал: «Патриотиче-ски настроенные русофилы, охваченные фобией “сибирского сепаратиз-ма”, забили тревогу о “дроблении” русской нации, а некоторые ученые поспешили вынести вердикт, что никакой “сибирской нации” нет и быть не может и речь идет лишь о “творческом сумасбродстве” или “провока-ции”. Между тем, несмотря на размытость самого понятия “сибиряки”, этносоциологи продолжают фиксировать рост сибирского регионально-го самосознания»18.
15 Жигунова М.А., Фурсова Е.Ф. Сибиряки // Историческая энциклопедия Сибири. Т. 3. Новосибирск: Издательский Дом Историческое наследие Сибири, 2010. C. 101–102.
16 Курилов В.Н. Русский субэтнос Западной Сибири в середине XIX в.: расселение и топонимии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исто-рических наук. Новосибирск, 2002. С. 12.
17 Сибирь и Русский Север. Проблемы миграций и этнокультурных взаимодействий (XVII – начало XXI вв.). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2014. С. 249.
18 Ремнев А.В. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и историчес- кий конструктивизм XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 109.
Мария ВасехаКто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность
324 Вестник Российской нации. 2014. № 6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
В связи с политизацией вопроса о сибирской общности, весьма лю-бопытен проект новосибирских социологов А. Ечевской и О. Анисимо-вой «Сибиряк: составляющие образ особенности идентичности». Ис-следовательницы изначально встали на позиции конструктивистского подхода и сделали попытку отразить современный срез идентичности сибиряков (жителей трех крупных сибирских городов – Иркутска, Но-восибирска, Омска). Несмотря на некоторую ограниченность исследо-вания, в рамках данного проекта был задан новый ракурс вопросов, а именно: о причинах и механизмах актуализации сибирской идентично-сти и вызвавших ее социальных процессах, а также что является осно-вой для консолидации жителей Сибири19.
Интервью с современными жителями сибирских мегаполисов по-казали, что основой сибирской общности является территория. Однако, как отмечают авторы, здесь важен именно аспект взаимодействия инди-вида и пространства: жизнь в особых природно-климатических услови-ях, освоение масштабной сибирской земли, «дух свободы» как важная особенность жизни в Сибири и т.д.
Одним из весьма интересных в ходе исследования стал вопрос: си-биряком рождаются или становятся? Ечевская и Анисимова пришли к выводу о деятельной природе сибирской идентичности. Факт рожде-ния далеко за пределами Сибири не является принципиальным, гораздо важнее долговременное пребывание и активная деятельность на ее тер-ритории. Это может быть участие в комсомольских стройках прошлого века и перекрытии Енисея или просто создание семьи и открытие лич-ного дела в конце 2000-х гг. «Оставишь что-нибудь для потомков – тогда станешь сибиряком», – отвечали респонденты социологам. Таким обра-зом, все-таки основой самоидентификации сибиряка является террито-рия: живешь в Сибири – значит, сибиряк. Это самая простая и доступная характеристика, не требующая каких-либо доказательств.
Еще один вывод исследования состоял в том, что сибиряк – это не-кое внутреннее качество, состояние человека. Типичный пример мифа о сибирском характере – мифологизация сюжета Великой Отечествен-ной войны о выступлении сибирских дивизий, когда «сибиряки Москву спасли», породившее представление о непобедимости и стойкости си-биряков. Преодоление сложных природно-климатических условий, при-способление к непростой сибирской среде обитания сформировали осо-бые этнопсихологические характеристики жителей Сибири. По мнению
19 Анисимова А., Ечевская О. «Сибиряк»: общность, национальность или «состоя-ние души»? // Laboratorium. 2012. № 4. С. 11–41.
325Вестник Российской нации. 2014. № 6.
авторов проекта, сибирская региональная идентичность является «зон-тичной» для сотен этносов, населяющих регион, причем, как показали опросы новосибирских социологов, для того, чтобы стать сибиряком, достаточно пожить какое-то время в Зауралье, закалив свой характер до состояния «сибирского». Исследовательницы также зафиксировали слу-чаи, когда идентичность «сибиряк» выступала как замещающая в том случае, когда информант являлся выходцем из многонациональной се-мьи и не мог определиться с выбором одной национальности, представ-ленной в семейной истории.
В ходе исследования четко прозвучала тема отдаленности, оторванно-сти, заброшенности сибирской земли. Как только сибиряк получает воз-можность сравнить свой уровень жизни с не-сибирским, оно часто про-исходит не в пользу Сибири. Ученые отметили, что родной город Ново-сибирск часто воспринимается сибиряками как отсталый, депрессивный, в целом не слишком привлекательный для жизни. Помимо сравнительно низкого уровня жизни в Сибири, в исследовании также прозвучала тема снижения символического статуса сибирских городов и интенсификации иммиграционных процессов квалифицированной молодежи из Сибири. Зачастую отъезд из региона является основным способом решения ло-кальных социально-экономических проблем молодых сибиряков.
Именно тема отдаленности Сибири, возможности надеяться только на самих себя и не ждать помощи из Центра порождает вывод о сибирской идентичности как о форме политического высказывания. В данном слу-чае имеется ввиду протестная форма самоидентификации, продолжение идеи о том, что Сибирь до сих пор является колонией европейской части России и Москвы в частности. Данная позиция, как и в конце XIX в., от-мечают исследователи, является мнением исключительно меньшинства. Принадлежит протестная идентификация в основном людям с высоким уровнем образования и активной гражданской позицией – гуманитарной интеллигенции, журналистам, блогерам, предпринимателям.
По мнению Ечевской и Анисимовой, процесс формирования сибир-ской идентичности «снизу» как политической нации является способом обращения жителей региона к центральным властям для привлечения внимания к проблемам Сибири и платформой для консолидации жителей региона для самостоятельного совместного решения вопросов. Именно наличие специфических нерешенных проблем региона, отдаленность от центра порождают сибирский активизм, дают старт коллективной моби-лизации. Однако, по мнению авторов проекта, данная сторона сибирской идентичности пока не обладает достаточной консолидирующей силой
Мария ВасехаКто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность
326 Вестник Российской нации. 2014. № 6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫИ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ
для того, чтобы объединить жителей региона или хотя бы города. Со-лидаризация на платформе сибирской идентичности происходит в узких группах гражданских и политических активистов, для подавляющего большинства же жителей Сибири идентичность в форме сибирской по-литической нации не является актуальной.
* * *
Согласно этнографическим материалам, название/самоназвание «сибиряк» в своем развитии прошло несколько этапов: от обозначения русской старожильческой группы населения Сибири до названия регио-нальной макрообщности.
Идентичность «сибиряк» является только одной из форм идентич-ности жителей Сибири и не подразумевает отказа от собственно этниче-ской, что выражается в таких формах самоопределения, как «сибирский татарин», «сибирский немец», «закорененный сибиряк» и др. Исключе-нием являются представители коренных народов Сибири, для которых идентификация «сибиряк» не столь актуальна в сравнении с этнической принадлежностью. Как показали исследования последних лет, сибирская идентичность может проявлять себя как форма политического заявления, привлечения внимания к локальным проблемам региона. Недовольство политикой Москвы может придавать региональной идентичности сиби-ряков некоторый политический оттенок, однако, вряд ли представляет сколько-нибудь значимую угрозу национального единства.
Для нас весьма важен вывод этносоциологов о том, что начиная с 1990-х гг. значительная часть современного русского населения Западной Сибири испытывает определенные трудности при четком определении своей этнической принадлежности. Среди основных критериев этниче-ской идентичности чаще всего указываются родители и родственники, язык и культура, территория проживания, а также личные ощущения. Если этнический ренессанс, в особенности коренных малочисленных народов Сибири объясняется сопутствующими преференциями и льго-тами в отношении этих этнических групп, то этническая идентичность современного русского населения Сибири может быть охарактеризована как кризисная, поскольку отличается сложностью и противоречивостью, множественностью и многомерностью определений. Вероятно, именно поэтому этническая идентичность подменяется региональной, конфес-сиональной, гражданской, сословно-групповой и пр.
327Вестник Российской нации. 2014. № 6.
Сегодня вопрос формирования макрообщности сибиряков все еще является дискуссионным, поскольку сибирская идентичность находится в состоянии постоянного изменения, в том числе и под влиянием различ-ных общественно-политических сил, новых социально-экономических, политических вызовов. Эти изменения сибирской идентичности явля-ются объектом постоянного интереса со стороны ученых разных специ-альностей как в нашей стране, так и за рубежом.
Список литературы:
Анисимова А., Ечевская О.1. «Сибиряк»: общность, национальность или «состояние души»? // Laboratorium. 2012. № 4 (3). С. 11–41.Бережнова М.Л.2. Загадка чалдонов: история формирования и особен-ности культуры старожильческого населения Сибири. Омск, 2007.Васеха М.В. 3. «Меня милой разлюбил»: становление новых отноше-ний в среде молодежи (по материалам Сибири 1920-х гг.) // Женщи-ны и мужчины в контексте исторических перемен. Материалы Пя-той Международной научной конференции РАИЖИ. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 160–164.Жигунова М.А.4. Некоторые проблемы сибирской идентичности // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-дельных территорий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2006. Т. XXII. № 2-2. С. 92–95.Историческая 5. энциклопедия Сибири: в 3 т. / Гл. ред. В.А. Ламин. Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2009. Курилов В.Н.6. Русский субэтнос Западной Сибири в середине 19 в.: расселение и топонимии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Новосибирск, 2002. Ремнев А.В.7. Михаил Никифорович Катков в поисках «сибирского се-паратизма» // Личность в истории Сибири XVIII–XX веков. Сборник биографических очерков. Новосибирск: ИД Сова, 2007. С. 64–80.Ремнев А.В.8. Национальность «сибиряк»: региональная идентичность и исторический конструктивизм XIX в. // Полития. 2011. № 3 (62). С. 109–128. Сибирь и Русский Север. Проблемы миграций и этнокультурных 9. взаимодействий (XVII – начало XXI вв.). Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2014. Фурсова Е.Ф.10. Этнокультурные группы россиян Приобья: старожи-лы и переселенцы // Проблемы культурогенеза и культурное насле-дие. Ч. III. Этнография и изучение культурных процессов и явлений. СПб., 1993. С. 35–40.
Мария ВасехаКто такой «сибиряк»: что такое сибирская идентичность



















![Microsoft Word - \256]\255}\277o\275\327\244\345final](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6334cc342532592417003b0e/microsoft-word-256255277o275327244345final.jpg)