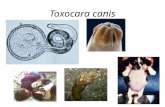The Last Gasps of VY Canis Majoris: Aperture Synthesis and Adaptive Optics Imagery
К проблеме двух собак в классическом китайском языке:...
Transcript of К проблеме двух собак в классическом китайском языке:...
Г.С. Старостин
К проблеме двух собак в классическом китайском языке:canis comestibilis vs. canis venaticus?
Как в ранних эпиграфических формах, так и в древнейших литератур-ных памят никах китайского языка общее значение ʽсобакаʼ имеет лишь один бес спор ный иероглифический эквивалент: , соотносимый с современным (ман да ринским) чтением quǎn и раннесреднекитайским khwíen (согласно фоне ти че ской ин тер прета ции среднекитайской фонологической системы, пред ло жен ной С. А. Старостиным (1989) и в целом несущественно отличаю-щейся от альтер нативных моделей Э. Пуллиблэнка, У. Бэкстера и др.).
Графический вариант эпохи Шан-Инь (XIII–XI вв. до н. э.)
Графический вариант эпохи Ранняя Чжоу (XI–VIII вв. до н. э.)
Графический вариант в стиле «малая печать» (III в. до н. э.)
Современное на-чертание
На уровне раннедревнекитайской фонологии среднекитайское khwíen, со гласно реконструкции С. А. Старостина, должно было иметь вид *khʷiːnʔ, с ла би овелярной инициалью, долгим гласным и пост-терминальной гортан-ной смыч кой (давшей восходящий тон в среднекитайском); в структурном плане эта реконструкция практически неоспорима и поддерживается боль-шинством спе циалистов по истории китайского языка, хотя конкретные де-тали фонетической интерпретации могут отличаться; так, в новейшей опу-бликованной версии ДК ре конструкции У. Бэкстера и Л. Сагара (Baxter & Sagart n. d.) это слово запи сы вается как *kʷʰˤenʔ, где «долготе гласного» С. А. Старостина соответствует «фарингализация» ˤ.
Нет никаких оснований сомневаться в том, что именно *khʷiːnʔ – древней ший, «исконный» родовой термин для обозначения ʽсобакиʼ. Ие-роглиф, запи сывающий это слово, входит в категорию простейших пикто-грамм, которыми уже в эпоху Шан-Инь обозначались названия домашних и диких животных пер востепенной важности (ʽсобакаʼ, ʽлошадьʼ, ʽбуйволʼ, ʽовцаʼ, ʽтигрʼ и т. п.), а само слово *khʷiːnʔ имеет надежные этимологические
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову270
параллели в тибето-бир манских языках: ср. тибетск. khyi, бирм. khwiyh, ка-чинск. gui, лушеи ui, чепанг kuyʔ и мн. др. (Peiros & Starostin 1996: V, 169; Schuessler 2007: 437). Правда, для того, чтобы эта этимологизация была без-упречной, требуется согласие с гипо те зой П. Бенедикта, согласно которой терминаль *-n в ДК реконструкции отра жа ет застывший суффикс, первона-чально выражавший зна чение собиратель ности; но наличие таких дополни-тельных корреляций, как ДК *mi-n ʽнародʼ : ти бет. mi ʽчеловекʼ, ДК
*suː-n ʽвнук/и/ʼ : димаса su, качинск. šu ʽвнукʼ и др. придают этой гипотезе чрез вычайно убедительный ха рак тер (Benedict 1972: 158). Одновременно с этим разложение китайской формы на корень *khʷiː/-ʔ/ и суф фикс *-n ли-шает элегантности старую гипотезу Э. Пуллиблэн ка о воз мож ных связях между ДК *khʷiːnʔ и праиндоевропейской основой *k̂wen- ~ *k̂won- ʽсобакаʼ (Pulleyblank 1995: 179–180).
Начиная с отдельных памятников «классического» периода развития древ некитай ского языка (V–III вв. до н. э.), в текстах, наряду со старым тер-мином *khʷiːnʔ, появляется новое слово, конкурирующее со старым в значе-нии ʽсоба каʼ – (современное чтение gǒu, ДК реконструкция «по умолча-нию» – *koːʔ, но см. ниже о возможности фонетической альтернативы). Уже в памятниках, от носящихся к периоду правления династий Ранняя и Поздняя Хань, gǒu по частотности употребления становится сопоставимым с quǎn; так, в «Исто рических записках» Сыма Цяня (I в. до н. э.) на 55 встре-чаемостей quǎn (вклю ча ющих не только оригинальный авторский текст, но и цитаты из более арха ич ных па мят ни ков) приходится 60 встречаемостей gǒu.
Точно определить момент, когда gǒu окончательно вытесняет quǎn из сфе ры живого разговорного языка, вряд ли возможно – этому препятствует и почти полное отсутствие позднедревнекитайских и среднекитайских па-мятников, на писанных на «чистом» разговорном языке (при этом как лекси-ческий архаизм quǎn продолжает активно употребляться в литературном языке вплоть до се годняшнего дня), и тот факт, что замещение старой лек-семы на новую прохо дило с разной скоростью в зависимости от конкретно-го диалекта – так, до сто верно известно, что по крайней мере в некоторых диалектах из архаичной груп пы Минь эта замена не произошла вообще, ср. kheiŋ55 ʽсобакаʼ в диалекте Фучжоу (Nakajima 1979: 18).
Есть, однако, основания подозревать, что даже в конкретных диалектах китайского языка вы теснение одного слова другим происходило не внезап-но, а через промежуточный этап сосуществования в рамках одного диа лекта обеих лек сем, имевших смежные, но все же различавшиеся значения. «Мгно-венное» вытес нение из употребления одного слова другим, ранее не суще-ствовавшим в языке, в принципе возможно только в результате заимствова-ния из ино языч ного исто чника; для gǒu заимствованное происхождение,
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 271
как будет показано ниже, вполне вероятно, однако заимствование его в том же значении ̔ собакаʼ (как ро довой термин), что и quǎn, не объясняет факта столь длительного со су щест вования обоих «синонимов» в китайской лите-ратуре эпохи Хань.
Логично предположить, что по крайней мере на ранних этапах своего при-сутствия в китайском языке «новое» слово gǒu обозначало не ʽсобакуʼ во-об ще, а какой-то специфически узкий подкласс собак, ограниченный либо воз ра стом (ʽщенокʼ и т. п.), либо полом (ʽкобельʼ и т. п.), либо породой, либо функ циональностью (ʽохотничья собакаʼ, ʽсторожевая собакаʼ и т. п.). Позже на ча лось расширение сферы употребления этого слова – в ходе которого функ-ции gǒu и quǎn могли поменяться, т. е. первое превратилось в родовой термин, второе же, наоборот, продолжало некоторое время употребляться в более огра ниченном кругу контекстов, прежде чем окончательно исчезнуть из живого язы ка, сохранившись исключительно как «высокостильный» архаизм.
Тот факт, что референциальный класс одного из рассматриваемых слов из начально был подмножеством другого, видно уже из такого известного па-ра док са философа Хуэй Ши, представителя «школы имен» (míng jiā), как
gǒu fēi quǎn «собака-gǒu – не собака-quǎn» (цитируется в трактате «Чжуан-цзы», гл. «Поднебесная»); это высказывание, по-видимому, следует понимать в том же ключе, что и еще более знаменитое bái mǎ fēi mǎ «белая лошадь – не лошадь», т. е. речь идет о некорректности отнесения объекта, обладающего определенным признаком, к классу аналогичных объ-ектов, для которых облада ние этим признаком нерелевантно. К сожалению, в отличие от «парадокса бе лой лошади», подробно разбираемого, например, в трактате «Гунсунь Лун-цзы» и неоднократно упоминаемого и в других памятниках древнекитайской литера туры, «парадокс двух собак» в ранних источниках не разъясняется (а коммента рии более поздних эпох, насколько бы подробными они ни были, не могут счи тать ся досто вер ным свидетель-ством для раскрытия тонких семантических рас хож дений древ некитайской лексики).
Обратимся для начала к данным ранней лексикографической традиции. Сразу же обращает на себя внимание тот факт, что в классическом словаре Сюй Шэня «Шовэнь цзецзы» (I в. н. э.) не более позднее слово gǒu тол-куется че рез более раннее quǎn, как можно было бы ожидать, а наобо-рот: quǎn по лучает толкование gǒu zhī yǒu xuán tí zhě yě, букв. ʽсобака-gǒu, у ко торой лапы (= пальцы на лапах?) в подвешенном состоянииʼ (здесь и ниже цит. по изд.: Шовэнь 1981). То, что столь не обычное толкование мотивировано в первую очередь соображениями фоне ти ческого характера, было очевидно уже Дуань Юй-цаю в его комментарии «Шо-вэнь цзецзы чжу» (1815 г.), и подтвер ж да ется данными ДК реконструкции:
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову272
*khʷiːnʔ (→ позднеханьское *khwiǝ́ːn) ʽсо бакаʼ действительно похоже по про из ношению на *gʷeːn (→ поздне хань ское *gwiaːn) ʽвисеть, быть под-вешен нымʼ, хотя этимологическая связь между этими словами безусловно исключена. С другой стороны, хоть какая-то, пусть хотя бы экстравагант-ная, се мантическая связь между этими двумя значениями должна была прощупывать ся. Любопыт ная попытка «разгадать» толкование Сюй Шэня, в частности, со держится в комментарии Сюй Хао (1846 г.): , ,
xuán tí, gài zhǐ liè quǎn yán, wéi lié quǎn zú shang yǒu yī zhǐ bù lǚ yě «ʽпод ве шенные лапыʼ, по-видимому, означают охот ни чью собаку; только у охотничьей собаки один палец на ноге не касается земли». Разумеется, если речь идет о т. н. «прибылом» пальце, то он характерен для боль шинства пород собак, не только охотничьих, но не исключено, что у «про то типической» древнекитайской охот ничьей собаки он действительно мог быть более замет ным, чем у каких-то дру гих пород. В любом случае важным для нас в этом ком ментарии будет в первую очередь само упомина-ние об «охот ничьей» собаке как о смысловом концепте, имеющем отдельное лексическое выражение.
К толкованию иероглифа в «Шовэнь цзецзы» приложена также цитата, авторство которой Сюй Шэнь приписывает Конфуцию: ,
Kǒng-zǐ yuē, shì quǎn zhī zì rú huà gǒu yě «Конфуций сказал: ʽСмотри, как иероглиф похож на нарисованную со баку ( gǒu)ʼ». На самом деле это из ре че ние, как и большинство остальных ци тат «из Конфуция», вклю-ченных в «Шо вэнь цзецзы», скорее всего, извлечено автором из т. н. «Апо-крифов» ( wèi shū), имевших широкое хождение в эпоху Хань, но впо-следствии утраченных (Bottéro 2002: 18); отметим, что самому Конфуцию сло во gǒu вряд ли было известно – в «Лунь юй», единственном памятни-ке, хоть как-то пре тендующем на после до ва тельную, хотя и опосредованную, передачу высказы ва ний Кон фуция, оно вообще не встречается (в отличие от
quǎn, встречаю щегося два жды в оригинальных высказываниях).Любопытно, тем не менее, что и толкование слова gǒu у Сюй Шэня
так же приписывается Конфуцию: , , , Kǒng-zǐ yuē, gǒu, kòu yě, kòu qì fèi yǐ shǒu «Конфуций ска зал: ʽСобака-gǒu – это kòu ʽзадерживатьʼ; она лает, удерживая воздух, и так несет охрануʼ» (Дуань Юй-цай, по-видимому, справедливо предполагает, что в исход ном тексте имелось в виду не kòu ʽбить, стучатьʼ, а иероглиф из той же фоне тической серии
kòu ʽудерживать, за держиватьʼ). Эта глосса также является фонетической (ДК koːʔ ʽсобакаʼ – почти полный омоним ДК khoːʔ ʽза держиватьʼ) и на-глядно показывает, что истинное происхождение слова koːʔ как Сюй Шэню, так и анонимному автору «толкования Конфуция» было неизвест но. Стоит, однако, отметить, что в самом «толковании» недвусмысленно гово рится о
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 273
том, что собака-gǒu выполняет охран ные функции (а не, скажем, охот ничьи, на что может намекать толкование слова quǎn).
Тем не менее, на материале тех толкований «Шовэнь цзецзы», в кото-рых слова quǎn и gǒu задействованы уже в составе толкований для других иерогли фов, так или иначе имеющих отношение к «собачьей» тематике, обосно ванного смыслового рас пределения между ними установить не уда-ется. Слово quǎn за действовано в толкованиях примерно в десять раз чаще, чем gǒu, однако это, по-видимому, коррелирует не с употребительностью этих терминов в эпоху Хань, а с тем, что иероглиф ( ) является состав-ным компонентом (чаще все го – детерминативом) многочисленных сложных знаков. Таким образом, если, например, знак rán толкуется Сюй Шэнем как quǎn ròu ʽмясо собаки-quǎnʼ, то даже в том случае, если во времена Сюй Шэня «живое» употребление слова quǎn ограничивалось контекстами, связанными с охотой, в толковании нет противоречия: quǎn ròu упо-треблено вместо ожидаемого * gǒu ròu лишь потому, что графема входит в состав иероглифа , и толкование Сюй Шэня, неизменно ориенти-рованное на графическую сторону знака, а не на язы ковое значение стоящего за ним слова (или слов), абсолютно предсказуемо.
Толкования, в которых quǎn используется для объяснения смыс-ла зна ков, не содержащих графему , в «Шовэнь цзецзы» ограничива-ются считаны ми единицами, из которых особенно интересно одно: sǒu ʽнауськивать (со баку, очевидно, охотничью)ʼ = shǐ quǎn shēng, букв. ʽделать так, чтобы собака-quǎn подавала голосʼ. Это – тот случай, когда для появления в составе толкования слова quǎn «графический стимул» от-сутствует, что опять-таки го ворит о возможном сужении значения в сторону ʽохотничьейʼ собаки.
Принципиально иная линия проводится в толковом словаре «Эръя» (III–II вв. до н. э.) – источнике, по всей видимости, более древнем, чем «Шо-вэнь цзе цзы» и в большей степени ориентированном на семантику лексем, записывае мых иероглифами, чем на графический состав знаков. Здесь в разделе «Толко вание [имен] домашних животных» (цит. по изд.: Эръя 1999) встре ча ет ся сле ду ю щий пассаж: , , , , quǎn shēng sān zōng, èr shī, yī qí, wèi chéng háo, gǒu «когда у собаки-quǎn рожда-ется тройня, это zōng; ко гда двойня – это shī, когда один – это qí; когда они еще не покрыты волосами – это gǒu», т. е., по сути, разницу между quǎn и gǒu предлагается ин тер пре ти ро вать как разли чие между ʽвзрослой собакойʼ и ʽщенкомʼ. Именно от этого се мантического разграничения, в частности, отталкивается целый ряд именитых комментаторов к «Чжуан-цзы» (Шао Цзинь-хань и др.) в своих попытках истол ковать упоминавшийся выше па-радокс Хуэй Ши («собака-gǒu – не собака-quǎn»; см. Чжуан-цзы 1999: 923).
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову274
Этимологическую трактовку gǒu как ʽщенкаʼ поддерживает целый ряд ав торитетных си нологов, в первую очередь – Ван Ли, который считает кос-вен ным подтверждением ее вхождение в большую «словосемью», представ-ленную сло гами с общей структурой вида *ko и обозначающих детенышей как диких, так и домашних животных. В нее входят следующие лексемы (список при во дит ся по Ван Ли 1982: 182–183):
(а) собственно *kōʔ (ko в реконструкции Ван Ли) ʽсобака, (?) щенокʼ, а так-же его более поздний графический вариант (а1) , впервые зафикси рован ный в глоссарии «Цзин дянь шивэнь» Лу Дэмина (VI в.), где он определен как свобод-ный вариант в еще одном значении ʽдетеныш медведя или тиграʼ (также взято из еще одного пассажа в «Эръя»: , xiōng hǔ chǒu, qí zǐ gǒu «медведи, тигры и тому подобное – их дети [зовутся] гоу»);(б) jū, др.-кит. *ko (kio у Ван Ли) ̔ жеребенок, молодой жеребецʼ (со гласно «Шо-вэнь цзецзы», mǎ èr suì yuě jū «двухлетний конь на зы ва ет ся цзюй»);(в) gāo, др.-кит. *kāw или *kū (ku у Ван Ли) ʽягненокʼ (согласно «Шо вэнь цзе-цзы», = yáng zǐ ʽдетеныш овцы, ягненокʼ);(г) < > hǒu (?), ср.-кит. *xʌ́w, др.-кит. *hōʔ (xo у Ван Ли) ʽтеленокʼ; это слово встречается только в комментарии Го Пу (IV в.) к фразе , niú, qí zǐ dú «де те ныш ко ро вы [зовется] ду» в «Эръя»: < > jīn Qīng zhōu hū dú wéi hǒu «ныне в Цинчжоу теленка-ду зовут хоу»).
Если исключить из рассмотрения чисто лексикографические вхождения (а1) и (г), реальное существование которых не подтверждается конкретными язы ковыми примерами из текстов, в составе «словосемьи» остаются слова
*kōʔ ʽсобакаʼ (ʽщенокʼ?), *ko ʽжеребенокʼ, *kāw ~ *kū ʽягненокʼ, объединен-ные фоне тическим и семантическим сходством, которое, однако, не подда-ется объясне нию в рамках какой-либо продуктивной модели. В частности, нет ни малейших оснований усматривать этимологическую связь между ʽжеребенкомʼ и ʽягнен комʼ, так как вокалического чередования *o : *aw или *o : *u в древнекитайском не было (не говоря уже о том, что вряд ли в ре-альном языке может су щест вовать грамматическое чередование, способное трансформировать ʽжеребен каʼ в ʽяг ненкаʼ или ʽщенкаʼ; речь может в луч-шем случае идти о диалектных вариантах, но тогда непонятно, почему упо-мянутые слова могут свободно встречаться в памятниках, представляющих один и тот же диалект).
Реально подтвердить или опровергнуть семантику ʽщенокʼ для gǒu может только контекстный анализ ранних встречаемостей этого слова в со-ставе конкретных памятников V–III вв. до н. э., т. е. того периода, когда оно сосу ще ст вовало в текстах с более архаичным quǎn, при этом не вытесняя
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 275
последнее из активного узуса, т. е., скорее всего, находилось с ним в отно-шении некоторо го семантического распределения. Ниже мы рассмотрим не-сколько таких кон текстов, которые, на наш взгляд, имеют ключевое значение для ситуации.
В наиболее раннем из дошедших до наших дней канонических текстов кон фуцианской направленности – «Лунь юй» – слово gǒu не встречается во обще, при двух случаях quǎn (один – в соседстве с mǎ ʽлошадьʼ, дру гой – в соседстве с yáng ʽовцаʼ). Впрочем, нулевая частотность gǒu сама по себе не дает возможности утверждать об отсутствии этого слова в том кон кретном диалек те, на котором написан «Лунь юй».
Намного интереснее результаты по второму важнейшему памятнику ран-не конфуцианской литературы – «Мэн-цзы» (предположительно написанно-му в IV в. до н. э. и в целом считающемся более или менее однородным по составу). Здесь уже встречаются оба слова, причем с примерно одинаковой частотностью: 4 случая gǒu на 6 случаев quǎn. При этом в трех из четырех случаев gǒu обнаруживается в соседстве с zhì ʽсвинья, боровʼ, а также с другими названи я ми домашних животных, пред наз наченных на убой, ср. особенно:
(M1) , , jī tún gǒu zhì zhī chù, wú shī qí shí, qī shí zhě kě yǐ shí ròu yǐ «что касается таких домашних жи вотных, как куры, поросята, собаки, боровы, то не упускайте время для их [раз ведения], и семи-десяти летние смогут питаться мясом» [Mengzi I, 3] – из контекста вид но, что речь идет не о ʽщенкахʼ, а о специальных «съедобных» породах собак.
Этот же пассаж дублируется ниже, в [Mengzi I, 7]; еще в двух кон текстах gǒu не может однозначно интерпретироваться именно как «съе добная»
соба ка, но при этом также явно не может иметь значение ʽщенокʼ:
(M2) gǒu zhì shí rén shí «собаки и свиньи едят человеческую пищу» [Mengzi I, 3] – о расточительстве царского двора в голодное время;(M3) jī míng gǒu fèi xiāng wén «петухи слышат, как лают соба-ки, а собаки – как поют петухи» [Mengzi III, 1] – об идеальных размерах границ государ ства.
Совсем иная статистика характеризует употребление в «Мэн-цзы» «ста-рого» слова quǎn. В четырех из шести контекстов оно встречается в соста-ве устойчивого идиоматического сочетания quǎn mǎ ʽсобаки и лошадиʼ (ср. выше один случай такого же употребления в «Лунь юй»), несомненно относя щегося к сфере охотничьей терминологии, ср.:
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову276
(M4) ... ... ... shì zhī yǐ pí bì... shì zhī yǐ quǎn mǎ... shì zhī yǐ zhū yù... «он (царь) угождал им (варварам) кожами и шелками... угождал им собаками и лошадьми... угождал им жемчугом и яшмой...» [Mengzi II, 22] – здесь ʽсобакиʼ попадают в один ряд с предметами роскоши, т. е. речь идет, скорее всего, о породистых охотничьих собаках.
Еще в двух, менее показательных, контекстах, quǎn попадает в один ряд с другими домашними животными – ʽкоровамиʼ и ʽкурамиʼ (интересно, что оба контекста обнаруживаются в пределах одной и той же главы, что, впрочем, мо жет быть и случайным совпадением):
(M5) , quǎn zhī xìng, yóu niú zhī xìng «природа собаки по доб на природе быка» [Mengzi XI, 3];(M6) , rén yǒu jī quǎn fàng, zé zhī qiú zhī «когда убе гает со-бака или курица, ее умеют разыскать» [Mengzi XI, 11].
Наблюдаемые десять контекстов в совокупности позволяют сформулиро-вать предварительную гипотезу, состоящую из четырех пунктов:
(1) «базисный», т. е. пересекающийся семантический компонент в словах quǎn и gǒu один и тот же (ʽдомашнее животное, относящееся к виду Canis lu pusʼ), что обуславливает их взаимозаменимость во многих контекстах; так, есть все основания предполагать, что в контекстах вида M3 или M6 можно было бы без малейшего искажения смысла поменять эти слова местами;
(2) при необходимости уточнить, что речь идет о специфических породах собак, в частности, употребляемых в пищу, употребляется исключительно сло во gǒu; употребление слово quǎn в таком контексте будет ошибочным;
(3) при необходимости уточнить, что речь идет о (породистых) охотни-чьих собаках, употребляется исключительно слово quǎn; употребление слова gǒu в таком контексте будет ошибочным;
(4) вопреки лексикографическому определению в «Эръя», нет таких лите-ратурных кон текстов, в которых семантику слова gǒu можно было бы прямо или косвенно истолковать как ʽщенокʼ.
Особо следует подчеркнуть, что не предполагается истинность каждого из этих четырех пунктов для всех временных и пространственных ипостасей древ некитайского языка. Предлагаемый сценарий можно рассматривать как исход ный, отражающий реальную ситуацию в тех диалектах раннего под-периода классического древнекитайского языка (V–IV вв. до н. э.), где впер-вые, наряду с «исконным» словом quǎn, наблюдается употребление «нового» слова gǒu. Кон кретная же история того, каким образом семантические сферы, покрываемые этими лексемами, могли перекрывать и вытеснять друг друга,
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 277
могла различать ся по диалектам, хотя общий вектор, по-видимому, везде был одинаков: посте пенное сужение функций quǎn (ʽсобака /любая/ʼ → ʽсобака /охотничья/ʼ → пол ный пере ход в разряд лексического архаизма; типологи-чески очень сходное раз витие имело место в случае английского hound) и, на-оборот, расширение функций gǒu (ʽсобака /съедобная/ʼ → ʽсобака /вообще/ʼ).
Протестировать изложенную гипотезу трудно, т. к. это можно сделать только на ограниченном корпусе текстов, поскольку диагностичными здесь мо гут считаться только более или менее однородные (не компилятивные) тексты, написанные не ранее V в. до н. э. (когда в текстах впервые начи-нает появляться термин gǒu) и не позднее III в. до н. э., когда семантиче-ские функции gǒu и quǎn уже начинают смешиваться – так, уже в памят-нике «Хань Фэй-цзы», создание которого разумно, учитывая годы жизни его предполагаемого автора, привязы вать к середине III в. до н. э., активно употребляется сочетание gǒu mǎ ʽсобаки и лошадиʼ вместо характер-ного, как было показано выше, для «Мэн-цзы» quǎn mǎ. Таких текстов в древнекитайском корпусе на самом деле очень мало, а интересующие нас слова в большинстве из них, как правило, ока зываются в «недиагностич-ных» контекстах.
Попробуем, тем не менее, рассмотреть встречаемость терминов quǎn и gǒu в наиболее объемном из всех текстов, составленном, скорее всего, в тре-буемый период – комментарии-летописи «Чуньцю Цзо чжуань». Как было показано еще Б. Карлгреном (Karlgren 1926), этот памятник можно в целом считать аутен тичным доку ментом V–IV вв. до н. э., представляющим доста-точно специ фи ческий диалект, и если ситуация с ʽсобакойʼ в этом диалекте окажется в целом сходной с ситуацией в «Мэн-цзы», этот результат можно будет считать исторически значимым, так как рассматривае мые памятники по целой группе пара метров, несомненно, следует относить к разным диа-лектным группам древ не китайского.
Иероглиф gǒu встречается в «Цзо чжуань» в шести контекстах, из кото рых два можно исключить сразу (в них gǒu транскрибирует имя соб-ственное и может вообще не иметь отношение к ʽсобакеʼ), а остальные де-лятся на две группы, в которых:
(а) ʽсобакаʼ упоминается в контексте других домашних животных, в основ ном употребляемых в пищу, или даже эксплицитно определяется как животное, которое можно съесть:
(Z1) guī gōng shèng mǎ jì fú wǔ chèng niú yáng shǐ jī gǒu jiē sān bǎi «он отправил гуну колесни цы и лошадей; пять комплек-тов ритуальных одежд; коров, овец, свиней, кур и собак – всего триста голов» [Zuǒ, Mǐn, 2];
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову278
(Z2) , , , lì rén zhī yǔ shú sūn jū yú jí zhě qǐng qí fèi gǒu, fú yǔ, jí jiāng guī, shā ér yǔ zhī shí zhī «те чи-новники, которые жили с Шу-сунем в Цзи, просили у него ʽлающую собакуʼ, но он им ее не отдал; когда же он собрался вернуться назад, то убил ее и отдал им на съедение» [Zuǒ, Zhāo, 23];
(б) так или иначе упоминается ʽбешеная собакаʼ:
(Z3) , , shí yī yuè jiǎ wǔ, guó rén zhú jì gǒu, jǐ gǒu rù yú huá chén shì «в одиннадцатый месяц, в день цзя-у, люди гнались за бешеной собакой; бешеная собака прибежала к Хуа-чэню» [Zuǒ, Xiāng, 17];(Z4) , guó gǒu zhī jì, wú bù shì yě «если в стране собака станет бешеной, нет таких, кого она не покусает» [Zuǒ, Āi, 12].
Иероглиф quǎn встречается чаще (общее число встречаемостей – 13), но в большинстве случаев также входит в состав имен собственных и топо-нимов, так что и здесь в значении ʽсобакаʼ он оказывается представлен всего 4 раза, в следующих контекстах:
(Z5) , , , , gōng sǒu fū áo yān, míng bó ér shā zhī, dùn yuē, qì rén yòng quǎn, suī měng hé wèi «гун натравил на них большого пса, Мин ударил и убил его, Дунь сказал: ʽОн пренебрегает людь ми и полагается на собак; хоть он (пес) и злобен, на что он годится?ʼ» [Zuǒ, Xuān, 2].
Здесь налицо достаточно нестандартная ситуация, когда в тексте уточняет ся разновидность (порода) собаки – áo (ДК *ŋaːw); слово встре-чается в ДК корпусе очень редко (как правило, в контекстах, связанных с войной или с охо той), но, тем не менее, не является лексикографическим фанто мом (в словаре «Эръя» определяется как «собака размером в 4 чи», т. е. больше метра в длину). В прямой речи одного из героев áo относится к классу quǎn как собак, очевидно несущих служебную функцию.
(Z6) , qí yǔ zhuī xǐ yǐ fá shā quǎn yú mén zhōng «его воз-ница погнался за Си и убил в воротах собаку» [Zuǒ, Xiāng, 18].
Здесь также более или менее очевидно, что речь идет о сторожевой или бое вой собаке, поставленной охранять ворота.
(Z7) , ... , dú ér xiàn zhī, gōng... yǔ quǎn, quǎn bì «[она] от равила [мясо] и поднесла ему; гун... отдал [мясо] собаке, собака издохла» [Zuǒ, Xī, 4].
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 279
Здесь речь может теоретически идти о любой разновидности собаки, хотя, исходя из общего контекста ситуации, уместнее, наверное, было бы опять-таки думать о боевом или об охотничьем псе.
(Z8) , , zhèng bó shǐ zú chù jiā, háng chù quǎn jī, yǐ zù shè yǐng kǎo shú zhě «Чжэнский бо приказал солдатам вы ста вить по поросенку, [каждой] шеренге – по собаке и курице, чтобы, [принеся их в жертву], проклясть застрелившего Ин Као-шу» [Zuǒ, Yǐn, 11].
Это – единственный из контекстов, в котором собака-quǎn упоминается в контексте домашних животных, употребляемых в пищу (свиньи, куры); тем не менее, следует учитывать, что речь идет не о гастрономической, а о ри-туальной функции – в данном случае, по-видимому, об использовании кро-ви жертвен но го животного в ритуальном проклятии (для каковой функции вполне могла бы сгодиться и кровь охотничьих или боевых пород).
Таким образом, и в диалекте «Цзо чжуань», несмотря на то, что он, несом-ненно, относился к иной группе, нежели диалект «Мэн-цзы», распределение ме ж ду quǎn и gǒu устроено примерно таким же образом – в ряде слу-чаев допустима нейтрализация их функций, но gǒu обнаруживается во всех контек стах, где речь эксплицитно идет о ʽсобаке гастрономическойʼ, а quǎn – во всех контекстах, где очевидна «боевая» функция животного.
Особенно любопытно обратить внимание на сочетание fèi gǒu, букв. ʽлающая собакаʼ, в (Z2). Классический комментарий Кун Ин-да «Чуньцю цзо-чжу ань чжэнъи» объясняет дан ное словосочетание как ʽсторожевую собакуʼ, и, действительно, такое толкование выглядит вполне естественно как само по себе (в какой еще ситуации можно ожидать специального маркирования собаки как ʽлающейʼ?), так и в общем контексте описываемой ситуации (где речь идет о за лож нике, некоторое время прожившем под домашним арестом в царстве Цзинь, куда он был послан для урегулирования отношений из цар-ства Лу: вряд ли он мог взять с собой в путешествие «мясную» собаку).
С другой стороны, дальнейший анализ ДК корпуса показывает, что дру-гих контекстов, в которых встречалось бы со четание fèi gǒu или
fèi quǎn в явно выраженном значении ʽсторожевая собакаʼ, ни в одном из релевантных для нас памятников не существует (в отличие, например, от вполне естествен ного термина shǒu quǎn или shǒu gǒu, обнаружи-ваемых в памятниках III–II вв. до н. э., где shǒu = ʽсторожить, охранятьʼ, и сомнений относительно общего значения быть не может).
В связи с этим напрашивается следующая гипотеза: первоначальная сфе-ра значе ний gǒu могла на самом деле ограничиваться т. н. «нелающими» (или, по крайней мере, мало лающими) поро дами собак (чау-чау?), но наряду
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову280
с этим существовали и «лающие» породы, выполнявшие смешанные функ-ции (т. е. они могли и нести службу, и потребляться в пищу – ровно та самая ситуация, которая и была описана в «Цзо чжуань»): такого рода собаки мог-ли обозначать ся «расширенным» двуслогом fèi gǒu. С другой сторо-ны, слишком далеко идущих вы водов на основании одного-единственного примера делать все же не рекомендуется – речь скорее о том, что данный контекст в принципе не обя зы вает к отождествлению ʽсобаки лающейʼ с ʽсобакой стороже войʼ, легко допус кая альтернативные интерпретации.
Как бы то ни было, в «Цзо чжуань» также не обнаруживается ни малей-шего под твер ждения значения ʽ/новорожденный/ щенокʼ из «Эръя». По-следнее, в итоге, можно объяснить лишь как результат какого-то локального переноса значения (например, через метонимическое сходство освежеван-ной собачьей туши с лишенной волосяного покрова кожей новорожденного щенка и т. п.), не успевший получить надлежа щую фиксацию в литератур-ных текстах.
Учитывая, во-первых, сам факт столь позднего засвидетельствования сло-ва gǒu в китайских текстах, во-вторых, столь специфическую привязан-ность к «съедобным» разновидностям собак, логично было бы склониться к выводу о заимствованном происхождении этого слова, и здесь мы встаем на точку зрения А. Шюсслера (Schuessler 2007: 257), который также сомне-вается в истинности «внутренней» этимологии Ван Ли, и выдвигает вместо этого гипотезу о воз мож ном заимствовании из языков мяо-яо, ср. прамяо-яо
*klu2 B ʽсобакаʼ (Purnell 1970: 57) → прамяо *kle1, праяо *klu2, или прамяо-яо *kluC → прамяо *klǝɨC, праяо *kluC в реконструкции И. Пейроса (Peiros 1998: 152).
Если доверять (пока что весьма сырым) данным глоттохронологи ческих подсчетов, относящих первичное разделение прамяо-яо примерно к ру-бежу IX–VIII вв. до н. э. (Peiros 1998: 116), источник заимствования, судя по реконст ру и ро ванным формам, следует искать ско рее в ветви яо, нежели мяо, т. к. из праяо *klu легче вывести ДК *koːʔ, чем из прамяо *kle. Помимо всего прочего, отме тим, что реконструкция фонологической системы клас-сического периода ДК язы ка формально допускает для gǒu и произноше-ние *kloːʔ, с медиалью -l- (Старостин 1989: 222), которая к среднекитайскому периоду выпадает бес след но, так что присутствие в сравниваемых мяо-яо формах медиали -l- не пре пят ст вует этимологизации.
Отметим, впрочем, что с культурно-исторической точки зрения такой сце нарий выглядит несколько странно: если ДК слово *k(l)oːʔ действитель-но имеет иноязыч ное происхождение и проникло в китайский язык вместе с соответст ву ю щей ре алией (специфической породой собак, разводимой преимущественно в кулинар ных целях), языки ветви яо могли бы a priori
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 281
считаться наименее веро ят ным ис точником такого заимствования, посколь-ку известно, что из всех пле мен Юго-Восточной Азии именно у яо сильнее всего развито табуирование по треб ления собачьего мяса (Eberhard 1968: 48), что обычно связывается с куль том «собачь его первопредка» Пань-ху (Yang & An 2005: 53).
Вполне допус тимо, что реальный сценарий был сло жнее – например, в процессе заимствования мо г ли быть задействованы допол нительные «языки-по средники», или же оно имело место из какой-то третьей, не дожившей до на ших дней ветви мяо-яо. Любопытно отметить в этой связи также австро-азиатскую параллель – совр. мон kluiw, др.-мон. cluiw ʽсобакаʼ: А. Шюсслер предполага ет, что австроазиатское слово могло быть источником лексемы в мяо-яо (Schuessler 2007: 257), по-видимому, считая монское слово рефлек-сом общеавстроазиат ской основы ʽсобакаʼ, для которого Дж. Норман и Мэй Цзу-линь пытаются вы вести праформу *k-coʔ, чтобы включить монскую параллель в одну этимологию с вьетнамским chó, кату *cɔ и т. п. (Norman & Mei 1976: 279–280). На самом деле, однако, достаточных оснований для такого объединения нет – в частно сти, в наиболее представительном на се-годняшний день корпусе австроазиат ских этимологий монское слово вообще не рассматривается даже как потен ци альный когнат общеавстроазиатского
*cɔʔ (Shorto 2006: 78). Следовательно, для монской ʽсобакиʼ более вероятен внешний источник происхождения, и, если только совпадение с мяо-яо эти-моном не носит случайный характер, это значит, что соответствующий тер-мин мог иметь статус «бродячей» культурной лек семы в юговосточноазиат-ском регионе (хотя в этом случае остается неясным, почему ему не удалось проникнуть в другие языки сино-тибетской семьи).
В любом случае, если заимствование действительно попало в китайский язык из языков «южных соседей», естественно было бы ожидать, что более ши рокое распространение слово gǒu получит сперва в южных диалектах – в частности, тех, на которых были написаны классические памятники даос-ской литературы, обычно ассоциируемые с южными территориями (царство Чу и т.п.). В этой связи нельзя не обратить внимание на канонический текст «Чжуан-цзы», в котором на 4 встречаемости quǎn приходится целых 14 контекстов со словом gǒu – причем, что еще важнее, как минимум в двух контекстах при сутствует идиоматическое сочетание gǒu mǎ ʽсобаки и лошадиʼ вместо клас сического quǎn mǎ (как в «Мэн-цзы», см. выше); об аналогичной си туации в памятнике «Хань Фэй-цзы» (предположительный автор – Хань Фэй, уроженец царства Хань, территориально расположенного на границе «север ного» и «южного» ареалов Китая) уже говорилось выше.
Последнее обстоятельство можно интерпретировать только одним обра-зом: в то время, как в (условно) «северных» диалектах gǒu внедрялось в
Institutionis Conditori: Илье Сергеевичу Смирнову282
обиход постепенно и в основном в специализированных значениях, в (столь же услов но) «южных» диалектах этот процесс шел ускоренными темпами, так что уже в тек стах IV-III вв. до н. э. старое слово quǎn функционировало в них скорее как ар хаизм высокого стиля – удерживаясь, в основном, за счет своего присутствия в классических памятниках раннечжоуской литературы, хорошо известных в том числе и всем образованным авторам, писавшим на «южных» диалектах. Ко гда же, в результате установления правления дина-стии Хань, «южная» норма стала господствующей, quǎn окончательно вышло из живого употребления (впрочем, не исключено, что в отдельных местных диалектах этот процесс рас тянулся еще на несколько веков, вплоть до завершения позднедревнекитайского периода – ср. упоминавшееся выше сохранение старого термина в диалекте Фу чжоу, при том, что согласно глот-тохронологическим данным, обособление диа лектов группы Минь имело место не ранее III в. н. э.).
Завершить данную статью хотелось бы на довольно важном, на наш взгляд, обобщении. Как нам представляется, разобранный пример достаточно нагляд-но указывает на то, что в современных лексикографических ис сле дованиях по различ ным хронологическим слоям китайского языка полагать ся следует в первую очередь не на словарную и комментаторскую традицию, а на кор-пусный подход к исследуемым языковым состояниям – как в данном, так и во многих других случаях детальное исследование поведения слова во всех засвидетель ст во ванных контекстах, ограниченных объективными (хронологи-ческими, жан ро вы ми и т. п.) рамками, как правило, дает гораздо более досто-вер ную инфор мацию, чем «классические» словари и комментарии, некри-ти че ский подход к которым для современного филолога вряд ли приемлем. Разуме ется, корпусный подход требует от исследователя гораздо большей за-траты усилий (хотя сего дня, в свете активной компьютеризации классических текстов, во много раз меньшей, чем потребовалось бы еще десять-двадцать лет тому на зад), но полу ча емые результаты, позволяющие реконструировать реальные, сво бод ные от субъективных интерпретаций сце нарии языкового развития, вне всякого сомне ния, сполна оправдают эти затраты.
Литература
Старостин 1989: С. А. Старостин. Реконструкция древнекитайской фоно логической системы. М.: «Наука».
Ван Ли 1982: Ван Ли. Тунъюань цзыдянь («Словарь иероглифов общего происхожде-ния»). Пекин: Шанъу иньшугуань.
Чжуан-цзы 1999: Чжуан-цзы цзиньчжу цзиньши («Современный перевод и коммен-тарий к ʽЧжуан-цзыʼ»). Тайбэй: Тайвань шанъу иньшугуань.
Г.С. Старостин. К проблеме двух собак в классическом китайском... 283
Шовэнь 1981: Дуань Юй-цай. Шовэнь цзецзы чжу («Комментарии к сло варю ̔ Шовэнь цзецзыʼ»). Шанхай: Гуцзи чубаньшэ.
Эръя 1999: Эръя чжушу. Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ.Baxter & Sagart n. d. Baxter-Sagart Old Chinese Reconstruction (Version 1.00). Online:
http://crlao.ehess.fr/document.php?id=1217.Benedict 1972: Paul Benedict. Sino-Tibetan: A Conspectus. Cambridge Uni ver sity Press.Bottéro 2002: Françoise Bottéro. Revisiting the wén and the zì : The Great Chinese
Characters Hoax // Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 74, pp. 14–33.Eberhard 1968: Wolfram Eberhard. The Local Cultures of South and East China. Leiden:
Brill.Karlgren 1926: Bernhard Karlgren. On the authenticity and nature of the Tso chuan.
Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.Nakajima 1979: Motoki Nakajima. A Comparative Lexicon of Fukien Dialects. Tokyo:
Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa.Norman & Mei 1976: Jerry Norman, Mei Tsu-lin. The Austroasiatics in Ancient South
China: Some Lexical Evidence. Monumenta Serica, pp. 274–301.Peiros 1998: Ilia Peiros. Comparative Linguistics in Southeast Asia. Canberra: Research
School of Pacifi c and Asian Studies, Australian National University.Peiros & Starostin 1996: Ilia Peiros, Sergei Starostin. A Comparative Vocabu lary of Five
Sino-Tibetan Languages. University of Melbourne, Department of Lin guistics and Applied Linguistics.
Pulleyblank 1995: Edwin G. Pulleyblank. The historical and prehistorical rela tionships of Chinese // The Ancestry of the Chinese Language. Journal of Chinese Linguistics Monograph Series Number 8. Ed. by William S.-Y. Wang, pp. 145–194.
Purnell 1970: Herbert C. Purnell, Jr. Toward a Reconstruction of Proto-Miao-Yao. Ph. D. Thesis: Cornell University.
Schuessler 2007: Axel Schuessler. ABC Etymological Dictionary of Old Chi nese. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Shorto 2006: Harry Shorto. A Mon-Khmer Comparative Dictionary. Canberra: Research School of Pacifi c and Asian Studies, Australian National University.
Yang & An 2005. Yang Lihui, An Deming. Handbook of Chinese Mythology. Oxford University Press.