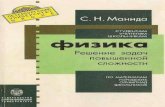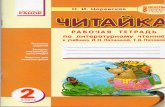Физика социальных движений: гражданская активность в...
Transcript of Физика социальных движений: гражданская активность в...
2
Содержание Введение ..................................................................................................... 3 Как люди и организации требуют изменений: исследование
репертуара протестных действий в Тюмени (О.Лобанова, А.Семенов)
...................................................................................................................... 5 Объединяя «оппозицию»: случай Совета инициативных групп и
граждан Тюмени (М.Агапов) .................................................................. 15 Освещение протестного движения в России в средствах массовой
информации 2011-2012 гг (Е.Медведева). ............................................. 22 Особенности политической мобилизации в сети Интернет на примере
кампании «За честные выборы» в г. Тюмени (Е.Семушкина). ........... 30 Евромайдан и его «оранжевый» предшественник: сходства и различия
(А.Смолыгина) .......................................................................................... 32 К вопросу об «успешности» «цветных революций» на постсоветском
пространстве: сравнительный аспект (Э.Самохвалова) ....................... 35
3
Введение
Cоциальные движения и протесты вызывают интерес у самой широкой
аудитории — от экспертов и журналистов до политических активистов и
чиновников. Такое внимание к протестным событиям во многом объясняется
ситуацией «оспаривания власти», когда действия протестующих имеют трудно
предсказуемый характер: они могут быть источником как демократических
перемен, так иметь негативные последствия, приобретая формы гражданской
войны или массового насилия. Так, с одной стороны, протестные действия
служат барометром, демонстрирующим степень демократичности режима и
состояния гражданского общества: протестная активность показывает роль
граждан в политической жизни, когда последние имеют специфические
интересы, формируют повестку, объединяются и публично отстаивают свои
требования. С другой, есть множество примеров того, как массовые протестные
действия становились проводниками установления военной диктатуры (Чили в
1970-х), экономического кризиса, широким репрессиям (Тяньаньмэнь 1989 г.) и
гражданской войне (Сирия 2011 г.).
Несмотря на очевидную важность темы, мы до сих пор не имеем
достаточной информацию о том, как происходит мобилизация, почему одни
движения успешны, а другие заканчиваются провалом, как реагирует власть и к
чему это приводит. Со стремлением разобраться в этих вопросах и
приблизиться на шаг вперед к выдвижению и проверки гипотез связана идея
этого сборника. Сборник посвящен проблеме «состязательной политики» и
объединяет исследования по социальным сетям, порядкам коммуникации,
освещение протестов в СМИ.
Сборник открывает исследование Олеси Лобановой и Андрея Семенова,
посвященное репертуару протеста в Тюмени. На основании собранных
эмпирических данных о количестве, формах и инициаторах публичных
протестных акций авторы делают выводы о подъеме гражданской активности с
2010 года, что выразилось как в увеличении частоты акций, так и в появлении
новых участников и организаторов, многие из которых затем участвовали в
кампании ―За честные выборы!‖ 2011-2012 гг.. Михаил Агапов, в свою очередь,
анализирует деятельность Совета инициативных групп и граждан — крупного
объединения внесистемной оппозиции Тюмени — с позиции теории
структурации. Репрезентация кампании ―За честные выборы!‖ в федеральных
СМИ - предмет работы Екатерины Медведевой. Автор демонстрирует значимые
различия в освещении кампании оппозиционными, проправительственными и
―нейтральными‖ СИМ, и, что еще более интересно, фиксирует эволюцию
образа протестующих в течение кампании.
Екатерина Семушкина, используя данные о профилях протестных групп
сети ―Вконтакте‖ доказывает, что мобилизация в декабре 2011 года происходила
среди групп разной политической ориентации, но особо активными оказались
сторонники национализма разных оттенков. Феномен мобилизации также
4
находится в центре работы Анастасии Смолыгиной. Исследователь сравнивает
―два Майдана‖: 2004 и 2013 годов, пытаясь выявить общее и особенное в этих
двух кампаниях. Завершает сборник статья Элины Самохваловой о причинах
успеха и неудач ―цветных революций‖ на постсоветском пространстве. Выводя
вопрос в плоскость сравнительных исследований, она показывает, что
демократизация так и не смогла стать центральной тенденцией на
постсоветском пространстве.
Важно отметить, что тексты данного сборника носят, скорее, поисковый
характер, продолжают множественные линии дебатов о причинах успеха и
неудач социальных движений за изменения. Постсоветская реальность является
богатым и интересным эмпирическим материалом для исследователей
гражданской активности и социальных движений.
5
Олеся Лобанова и Андрей Семенов
Как люди и организации требуют изменений: исследование репертуара
протестных действий в Тюмени1
Социальные изменения — центральная тема социологии, любое общество
отличается динамикой, споры о причинно-следственных связях и паттернах
этой динамики составляют дискуссионное ядро этой дисциплины2. Различные
социологические традиции по-разному рассматривают изменения: обращается
внимание на конфликт коллективных идентичностей (марксизм), роль
ценностей (веберианство), символический аспект социальных взаимодействий
(традиция Дюркгейма), стратегическую рациональность акторов и их
приспособление к меняющимся условиям (теория рационального выбора).
Каждая традиция по-своему решает один из ключевых вопросов о субъектности
социальных изменений: действуют ли акторы исключительно по своей воле,
или их действия отражают структурные процессы, происходящие в глубинах
общества? Являются ли требования, предъявляемые участниками социальных
взаимодействий друг к другу и общественным институциям, только отражением
их социальной позиции (как у К.Маркса и отчасти у П.Бурдье), результатом
стратегических калькуляций (как в теории рационального выбора) или
результатом «символического производства» собственной идентичности?
Другой комплекс проблем связан с нормативной традицией, в частности — с
вопросами, поставленными Ю.Хабермасом и чуть позже — Д.Александером.
Для них требования изменений связаны с более фундаментальным вопросом
согласования гетерогенных интересов различных групп в рамках одной
политии. Ю.Хабермас указывает, что процесс обсуждения вопросов общей
значимости (в том числе — в форме предъявления требований) должен носить
свободный, открытый и рациональный характер и, что не менее важно,
участники должны обладать возможностями реализации их представлений о
коллективном благе. Такие условия увеличивают вероятность возникновения
базового консенсуса по общественно-значимым вопросам в пространстве,
который Ю.Хабермас называет «публичной», а Д.Александер «гражданской
сферой». Одним из существенных элементов публичной/гражданской сферы
являются протестные действия. Они имеют множество функций, но
определенно свидетельствуют о конфликте и необходимости его разрешения.
Конечно, не все из них затрагивают проблемы общественного блага, напротив, в
1Статья опубликована в журнале Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены:
http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/2013/6/2013_118_3_SEMENOV.pdf 2Олеся Лобанова — аспирант ПГНИУ, младший научный сотрудник ИПОС СО РАН (Тюмень). E-mail:
Андрей Семенов - кандидат политических наук, доцент кафедры новой истории и международных отношений в
ТюмГУ. E-mail: [email protected]
6
некоторых случаях мы наблюдаем организацию протестов вокруг частных
интересов. Тем не менее, поскольку они происходят в публичной сфере,
протесты являются мощным ресурсом влияния и социальных изменений.
Настоящая статья имеет своей целью уточнить существующие
теоретические модели в социологии социальных движений, основываясь на
полученных эмпирических данных. В своей работе мы в значительной мере
опираемся на труды представителей подхода «динамики оспаривания» (dynamic
of contention) - Ч.Тилли, Д.Макадама, С.Тарроу и др. В рамках данного подхода
протесты вписаны в широкую перспективу «состязательной политики», под
которой понимаются «эпизодические, публичные, коллективные
взаимодействия между предъявителями требований и объектами предъявления,
в которых (а) одной из сторон выступает государство в качестве объекта (ему
предъявляют требования), субъекта (оно предъявляет требования) или третьей
стороны и (б) требования в случае их реализации затронут интересы хотя бы
одной из взаимодействующих сторон [9,p.5]. «Состязательность» подразумевает
динамику отношений с неочевидными итогами и результатами —
протестующие стараются повлиять на объект требований, прибегая к
эффективному репертуару и поддержке отдельных индивидов и структур, а их
соперники стремятся уменьшить влияние путем комбинирования различного
набора действий. Таким образом, важным аспектом во взаимодействии
участников является выбор конкретного репертуара, а также эффекты,
связанные с его реализацией.
Модель «состязательной политики» предполагает, что, с одной стороны, на
выбор репертуара протеста влияет политический режим, способный увеличить
или уменьшить риски участия в коллективных действиях. Например, в работах
Ч.Тилли показано, что в демократических странах социальные движения
встречаются гораздо чаще, чем в авторитарных [10]. С другой стороны,
репертуар зависит от культурных условий и связан с протестными традициями,
нарративами и разделяемыми символами: протестующие обращаются к
протестным формами, которые укоренились в обществе и опознаются широкой
аудиторией как протестные. Таким образом, автор приходит к выводу, что
протест это одновременно универсальное и уникальное явление — люди
протестуют по всему миру, но делают это по-разному в зависимости от типа
режимов и культурных особенностей. Как показывают отечественные и
западные исследования, протестные действия в России имели оригинальную
динамику и разнообразие [3; 4]. В советский период действия по оспариванию
текущей политики носили как открытый (восстание в лагерях, движение
диссидентов), так и скрытый характер (экономическое неповиновения, саботаж
на работе) [1]. В перестроечный период наблюдалась обширная и интенсивная
мобилизация, сопровождавшаяся появлением социальных движений самого
разного характера. Вся середина 1990-х, по мнению Г.Робертсона, прошла под
знаком забастовок, связанных с социально-экономическими условиями: в
отдельных городах собирались по 200-250 тыс. человек, а наиболее
7
распространенными формами были демонстрации, забастовки, голодовки,
перекрытие дороги и ж/д путей [8]. В начале 2000-х происходит широкая
демобилизация протестующих, которая время от времени прерывается
национальными кампаниями, такими как движение против монетизации льгот в
2005 году и движение «За честные выборы» в декабре 2011 — марте 2012 гг.
Хотя общие данные о протестном репертуаре в стране являются важными,
но они показывают «среднюю температуру», не фокусируясь на особенностях
регионов. Несмотря на последовательный процесс централизации, Россия
остается гетерогенным пространством, где различия между регионами в
экономическом, социальном и политическом измерениях весьма значительны.
Поэтому в своей статье мы рассматриваем, как протестующие предъявляют
требования власти, политическим акторам и частным лицам в центре
Тюменской области — городе Тюмени. Различается ли динамика, охват
участников, репертуар по России в целом и в других регионах? Каковы
особенности рекрутирования новых участников и каковы функции различных
форм публичных действий у организаций и активистов?
Место проведения исследования — город Тюмень — имеет свои
преимущества и недостатки в качестве объекта. Согласно рейтингу журнала
«Русский репортер» за 2013 г. Тюмень занимает второе место в десятке самых
перспективных российских мегаполисов [5], являясь при этом нефтегазовой
столицей с официальной численностью около 650 тыс. человек. В схеме
«четырех Россий» Н.Зубаревич Тюменская область сочетает в себе признаки
первой («большие города») и третьей группы (аграрная периферия) [2].
Областная столица характеризуется довольно высоким уровнем жизни,
развития инфраструктуры, интернетизации, в то же время за пределами Тюмени
и второго по величине города региона - Тобольска — находятся аграрные
районы.
Данные для настоящего исследования собраны на основе мониторинга
СМИ, полевых дневников наблюдения и уведомлений в муниципальные органы
власти. Они включают в себя информацию о дате, времени и месте проведения
мероприятия, его организаторах, цели, лозунгах, форме, в отдельных случаях —
о количестве участников. Также по уведомлениям в муниципалитет
фиксировалось количество непротестных публичных акций. Полученная нами
база данных содержит 442 записи по протестным событиям и позволяет
проследить пятилетнюю динамику «состязательной политики» в городе через
призму публичных протестных акций. Необходимость использования разных
источников для формирования базы данных обусловлена частичностью
сведений в каждом отдельном источнике. Так, в листах наблюдений и СМИ
зачастую не фиксировались организаторы акций протеста, а в уведомлениях на
проведение публичных акций в муниципалитет не включаются такие формы
«состязательной политики» как флеш-моб или сход граждан. Кроме того, в ряде
случаев мы наблюдали, как организации заявляют о проведении протестной
акции, получают согласие муниципалитета, но сама акция не проводится. В
8
других случаях (как на первомайскую демонстрацию) подавалось одно
уведомление, однако событие «демонстрация» распадалось на «шествие» и
«митинг». Несмотря на ограничения, мы можем сформировать общую картину
«состязательной политики в Тюмени» за период 2008-2012 гг.
Динамика протестных акций в Тюмени (2008 — 2012 гг.) Протестные акции - это одна из распространенных форм публичных
мероприятий, которые по уведомлениям занимают около 65% от ее числа. В
остальных 35% случаев горожане участвуют в различного рода праздничных
(дни города, молодежи), патриотических (дни победы), религиозных (крестные
ходы), частных (благоторительность) и других акциях. За пятилетний период
2008-2012 гг. в среднем у обычного тюменца была возможность каждые пять
дней видеть протестные мероприятия. Также в течение этого срока он мог бы
наблюдать за изменениями в цветах: от абсолютного доминирования
коммунистических на небольшие вкрапления анархистских, имперских и
других цветов, за которыми стояли новые игроки.
График 1. Количество протестных акций. Данные: подсчеты авторов.
График 1. демонстрирует плавный рост количества протестных акций: если
в 2008 году было зафиксировано 38 событий протестного характера, в 2009 —
59, в 2010 — 71, в 2011 — 99, в 2012 — 85. Важно отметить, что рост
наблюдался до декабря 2011 года, т.е. до начала кампании «За честные выборы»
и широкой политической мобилизации. Отчасти это можно объяснить
электоральным циклом - в процесс включались политические партии,
работавшие со своими избирателями. В то же время внепартийная мобилизация
(дольщики, гражданские активисты, общественные организации) также внесла
свой вклад в рост протестных акций: с 20 акций в 2008 году до 27 в 2009 году,
36 в 2010 году, 45 в 2011 году и 41 в 2012 году. Организационная среда протеста
за пятилетний период также менялась: с одной стороны, коммунистические
2008 2009 2010 2011 2012
0
20
40
60
80
100
120
38
59
71
99
85
9
организации (КПРФ и РКРП-КПСС3) сохраняют за собой лидерство в
инициации протестных действий, их акции составляют 41% от общего числа. С
другой стороны, мы наблюдали, как на авансцену выходили другие группы:
анархисты («Автономное действие»), обладая гораздо меньшими ресурсами,
стабильно проводили не менее 6 собственных акций в год (9% всех
зафиксированных событий), также нередко присоединялись к другим
политическим и гражданским акциям. До 2012 г. они были активны, но потом
произошел упадок движения, связанный с фабрикацией уголовного дела в
отношении лидера анархистского сообщества и его последующего отъезда из
города. С 2009 года к протестам присоединяются консервативные группы
(Тюменский городской родительский комитет, Евразийский Союз Молодежи,
позже - тюменское отделение «Суть Времени»): на их долю приходится 4,3%
протестов. В 2008-2011 годах заявляли о себе экологическое общество
«Гринхелперс», автомобилисты, общественная организация «Радужный Дом»,
однако в 2012 году следов их публичной протестной активности не
зафиксировано.
Политические партии, за исключением коммунистов, выходят на публичные
протесты редко: за пятилетний период было зафиксировано 3 акции
«Справедливой России», 3 акции Партии народной свободы («Парнас»), 9
акций ЛДПР, 11 - Концептуальной партии «Единение». Выделяется на этом
фоне незарегистрированная партия «Воля», которая только за 2011 год подала
38 уведомлений о проведении митингов и пикетов. Однако по сообщениям в
СМИ и листам наблюдения нам удалось подтвердить только одну акцию из
этого числа. Таким образом, в целом, организационная среда «состязательной
политики» остается бедной, в ней доминируют традиционные «левые», хотя
доля последних в общем количестве акций снижалась (с 47% в 2008 до 32% в
2010 и 43% в 2012 г.). Новые группы появляются редко (в 2011 г замечена
активность организаций «Кредитная амнистия», Партии Народной Свободы, с
2010 года действует коалиционное объединение Совет инициативных групп и
граждан), а их публичная активность не отличается устойчивостью.
Частные лица, не связанные с политическими организациями, инициировали
около 23% всех акций. Самые активные группы — обманутые дольщики,
работники предприятий и жители, протестующие против уплотнительной
застройки и других городских проблем. Дольщики в том числе используют одну
из наиболее радикальных форм — голодовку — в качестве инструмента
воздействия на власть. Также зафиксированы случаи сходов, перекрытия
дороги, закапывания траншей, другие формы прямого действия.
Оценить общую численность протестовавших несколько затруднительно: в
наличие есть данные по 128 случаям из 352 (36% об общего количества
зафиксированных). Если убрать из выборки экстремальные значения (19
одиночных пикетов, 10 демонстраций/шествий и две крупные акции декабря
3 РКРП-КПСС - Российская коммунистическая рабочая партия — Коммунистическая партия Советского
Союза.
10
2011 года, а также акции с численностью участников менее 10 человек),
остается 83 случая, собравшие 4560 человек, т.е. в среднем — 55 человек на
акцию. Принимая во внимание численность участников шествий и
демонстраций коммунистов, а также сход граждан 10 декабря 2011 года (1500
человек) и митинг «За честные выборы» 24 декабря 2011 года (500 человек) —
6500 за пятилетний период, а также общее количество акций исключая
одиночные пикеты и обозначенные выше (321), можно утверждать, что общее
количество участников протеста за 5 лет составило не более 24 155 человек,
большинство из которых (за вычетом акций декабря 2011 года) было
мобилизовано коммунистами. Таким образом, в среднем в течение года мы
могли наблюдать не более 4500 участников, а с поправкой на крупные акции —
не более 3500. При этом мобилизационное ядро — постоянных участников
акций от всего спектра организаций и движений — насчитывает от 500 до 700
человек.
Репертуар протеста На городском уровне протестный репертуар имеет отчетливые очертания:
митинги, пикеты и одиночные пикеты занимают первые три места по
распространенности. В своем арсенале их применяют участники вне
зависимости от политического опыта, ресурсов и структуры организации —
они используются протестными «тяжеловесами» в лице коммунистов, так и
представителями консервативного блока, «частными» лицами. Схожесть
репертуаров во многом объясняется общей протестной культурой,
подразумевающей, что о формах осведомлены сразу несколько сторон:
организаторы знают, что необходимо делать, а широкая аудитория — как это
воспринимать. Вообще, тюменские протесты следуют в русле общероссийских
тенденций: Г.Робертсон отмечает смену акций «прямого» действия середины
1990-х (захват помещения, перекрытие дороги) на «символические» формы
(митинги, пикеты) в 2000-х [8].
График 2. Общий репертуар протеста (2008-2012 гг.)
Тем не менее, есть некоторые отличия в выборе репертуара среди акторов.
152
118
1913
11661Митинг
Пикет
Одиночный пикет
Пробежки
Демонстрации
Флешмоб
Сход
Голодовка
11
Например, репертуар коммунистов крайне ригиден и невосприимчив к новым
формам — наиболее востребованными для них являются митинги, пикеты и
шествия. Другие формы протеста практически ими не задействованы. У обеих
партий — КПРФ и РКРП — популярной протестной повесткой (27%) являются
«дни исторической памяти»: годовщины Октябрьской революции, дни
рождения и смерти советских лидеров (В.Ленина, И.Сталина), «расстрел»
Белого дома в 1993 году. На втором месте идет «Стратегия-31» (16% для РКРП),
инициированная РКРП и ее организациями-сателлитами4. КПРФ и РКРП в
целом соблюдают паритет по количеству акций (с незначительным
опережением последней), проводят совместные мероприятия, однако с учетом
сателлитов («Союза воинствующих безбожников», Левого Фронта, РОТ-
Фронта) РКРП набирает 26,7% акций из 41%, принадлежащего
коммунистическому блоку. Такой репертуар позволяет сохранить
мобилизационное ядро организации, которое, по большому счету, остается
восприимчивым только к «советской» риторике и традиционным формам в виде
демонстраций и митингов, но при этом ведет к отторжению со стороны
широкой публики. Опираясь на работы Н.Залда, можно утверждать, что
коммунистические организации располагают постоянной базой поддержки,
занимают определенное место среди других организаций, в результате их
лидеры применяют консервативные стратегии, избегая радикальных
требований, которые подвергают опасности занимаемые ими ниши [6] .
Анархисты имеют более разнообразный репертуар, благодаря частичной
трансформации традиционных форм и обращению к новыми. В их набор
протестных действий входят митинги, пикеты, санкционированные и
несанкционированные шествия, флешмобы. Традиционные формы (митинги и
пикеты) составляют около 90% их репертуара, но при этом они дополняются
новыми элементами - перформансами, выступлениями музыкальных групп,
викторинами, становясь, по наименованию анархистов, «уличными
вечеринками». Анархисты одними из первых в городе стали использовать не
только перфомансы, но также политические флешмобы. Например, широкую
огласку получил флешмоб «Сцепка», во многом инициированный анархистами,
где участники сидя на асфальте и сцепившись локтями, выкрикивали «Нет
ментовскому беспределу». Большинство акций анархистов посвящено
проблемам самого широкого спектра — около 30% из них невозможно
обобщить в связи с эклектичностью требований, поэтому они отнесены к
категории «другое», далее следует критика правоохранительных органов (26%):
реформа МВД, политические репрессии, на третьем месте — 13% вопросы
городской среды (вырубка парков, уплотнительная застройка). Благодаря этому,
анархисты поддерживают интерес к собственным действиям: если в 2008 г.
акции анархистов насчитывали не больше 10 человек, то в 2010 г. в коалиции с
4 Организации-сателлиты — Левый фронт, Союз воинствующих безбожников, Союз советских женщин — не
являются самостоятельными политическими игроками и напрямую зависят от РКРП, то есть некоторые
члены РКРП одновременно их руководители и составляют «костяк» организации.
12
коммунистами и гражданскими активистами они мобилизовали до 250 человек
(митинги против «распила общественных средств» и против «Центра Э»). В то
же время организационное ядро анархистов оставалось малочисленным (12-15
человек), в 2012 г. их активность резко пошла на спад. Анархисты активно
поддерживали низовые формы протеста, налаживая сотрудничество с
молодежными экологическими организациями, жителями, выступающими
против точечной застройки, независимыми профсоюзами.
Наконец, крупной категорией участников протестных акций стали жители
города, не аффилированные с политическими организациями - частные лица.
В Тюмени их требования сосредоточены на сфере долевого строительства
(обманутые дольщики), рабочих отношений (рейдерские захваты, невыплаты
заработной платы), точечной застройки, безопасности детей в школе. Репертуар
частных лиц представляет собой различного рода варианты «символического» и
«прямого» действий — первыми по распространенности, как и у других
участников, являются митинги (30%) и пикеты (20%), однако далее идут сходы,
одиночные пикеты, перекрытие дороги, угроза голодовки. Репертуар «прямого»
действия (сходы, перекрытие дороги) чаще всего отсылает к понятию
процедурной справедливости, когда участники возмущены нарушением
формальных правил [12]. Например, одним из резонансных событий стало
перекрытие дороги местными жителями, требовавшими от властей
справедливого расследования дорожной аварии («дело Ягуара5»). Если
требования политических активистов могут игнорироваться властями,
принимая формы «отписок», то реакция на действия «частных лиц» более
заметна: на сходы приезжают ведомственные чиновники (например, в «деле
Ягуара»), первые лица области участвуют в переговорах (например, в случае
обманутых дольщиков), косвенно об этом могут свидетельствовать также
отозванные уведомления.
На репертуар протеста влияет не только предпочтения участников, но также
реакция власти, которая может создавать препятствия для тех или иных форм.
По мнению Ч.Тилли, отношение режима к протестующим выражается в
безразличии, содействии или репрессиях, зависящих от количества
затрачиваемых ресурсов: в случаях безразличия власти толерантно относятся к
акциям протестующих, при содействии - уменьшают их затраты, при
репрессиях - наоборот, увеличивают стоимость коллективных действий [11].
Власти толерантно относятся к традиционным формам протеста, поскольку их
сценарии, а также способы реагирования им хорошо известны. Новые формы,
которые только вводятся в арсенал протестующих, вызывают некоторые
опасения режима, что выражается в создании им дополнительных барьеров,
например, в виде трудностей при согласовании акций, задержаний активистов,
проведения неформальных «бесед» и др. Влияние режима на последующую
трансформацию репертуара хорошо заметно на примере двух групп —
5 В 2011 году водитель машины «Ягуар» на высокой скорости сбил пешехода и скрылся с места ДТП.
13
представителей ЛГБТ-сообщества и участников «Русских пробежек». В первом
случае, на уведомления о согласовании пикетов неоднократно получался отказ,
неправомерный по мнению участников, что вызвало контрстратегию со
стороны ЛГБТ-активистов: они перестали согласовывать свои акции с
муниципалитетом, заменив планируемые пикеты на флешмобы, ставшие
практически единственным способом протестных действий. Во втором случае,
власти создавали различные преграды для проведения адаптированного
шествия - «Русских пробежек», в которых участники бегали колонной по
улицам города с националистической символикой и речевками «Русский значит
трезвый». Стратегия власти по отношению к ―бегунам‖ сначала имела
запретительный характер, что вынуждало участников отказаться от формы
пробежек и заменить их занятиями на турниках. Затем изменилась на
кооптационый - местным властям удалось превратить политически
мотивированные акции в подобие городских «дней здоровья».
Таким образом, за пятилетний период произошли изменения в протестной
активности: в среднем увеличилось количество акций и новых участников.
Однако это не повлекло за собой широкую мобилизацию. Протестующие имеют
трудности с мобилизационными структурами, привлекая лишь членов
организаций и ближайший круг сторонников. Ими используется репертуар,
резонирующий с общероссийскими протестными формами. Лидирующими
формами являются митинги, пикеты, одиночные пикеты, которые знакомы
преобладающему большинству организаторов. К ним обращаются большинство
участников вне зависимости от формы организации и идеологических
предпочтений, опыта и ресурсов. Можно сказать, что на сегодня они
составляют фундамент протестной культуры. Впрочем, существуют некоторые
особенности репертуара у отдельных организаций: коммунисты имеют
неподвижный репертуар, анархисты прибегают к широкому (флешмобам,
«уличным вечеринкам»), «частные лица» - к прямым действиям — перекрытию
дорог, угрозе голодовки, сходам. Выбор репертуара во многом зависит от
протестного опыта организаторов, то есть от знаний и представлений о том, как
необходимо протестовать, какие формы эффективны и проч. Он также связан с
протестной культурой организаций — участники адаптируют действия и формы
идеологически и культурно близких им организаций [7]. Традиционные формы
могут приобретать новые элементы, благодаря протестному опыту
организаторов («эффект текущей работы») или путем диффузии, когда
коллективные действия происходят по образцу действий других — в последнем
случае необходимо, чтобы участники обладали хотя бы минимальным
сходством с адресатом. Формы предъявления требований зависят не только от
предпочтений участников, но также от отношения властей, которые способны
создавать барьеры определенному репертуару и требованиям.
14
Литература
1.Кулевиг Э. Народный протест в хрущевскую эпоху: Девять рассказов о
неповиновении в СССР. — М.: АИРО-XXI, 2009. — 208 с.
2.Зубаревич Н.В. Четыре России // Vedomosti.ru: [веб-сайт]. 2011. 30 декабря.
URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/1467059/chetyre_rossii
3.Массовые движения в современном обществе / Отв. ред. С.В.Патрушев. М.:
Наука, 1990. 198 с.
4.Социология общественных движений: эмпирические наблюдения и
исследования / Отв. ред. В.В.Костюшев. СПб.: ИС РАН, 1993. 172 c.
5.10 самых перспективных российских городов //Русский Репортер: [веб-сайт].
2013. 14 сентября. URL: http://www.rusrep.ru/article/2013/05/22/megapolisy
6.Ash R, Zald N. Social Movement Organization:Growth, Decay and Change Social//
Social Forces Vol. 44, 1966, pp.327-347
7.D.McAdam, D. Rucht The Cross-National Diffusion of Movement Ideas/ Annals of
the American Academy of Political and Social Science Vol. 528, Citizens, Protest,
and Democracy (Jul., 1993), pp. 56-74
8.Robertson G. The Politics of Protest in Hybrid Regimes: Managing Dissent in Post-
Communist Russia. - Cambridge University Press, 2011. 304 p.
9.Tilly C., MacAdam D., Tarrow S. Dymanics of Contentious – Cambridge
University Press, 2004,- pp.5.
10.C. Tilly. Regimes and Repertoires. Chicago: University of Chicago Press, 2006
11.C.Tilly From Mobilization to Revolution - Addison-Wesley, 1978. - 349 p.
12.S.Tyler Social Justice and Social Movements//Escholarship.org: [веб-сайт].
2013. 1 марта.
15
Михаил Агапов
Объединяя «оппозицию»: случай Совета инициативных групп и граждан
Тюмени
В современной России оппозицию принято делить на системную
(парламентскую) и внесистемную («уличную6»). Так, лейбл «оппозиция»
прочно приклеился к участникам и сторонникам массовых протестных
выступлений, связанных с пересмотром результатов парламентских выборов,
прокатившихся по стране зимой 2011/2012 гг. Оценки деятельности российской
внесистемной «оппозиции» носят зачастую диаметрально противоположный
характер. Одним она представляется новыми «умом, честью и совестью» эпохи,
другим – «пятой колонной». В действительности внесистемные гражданские и
политические активисты в равной степени далеки от обоих образов. Бытует
представление о существовании некоего единого «центра» оппозиции, который
направляет ее деятельность от Москвы до самых до окраин. Так, губернатор
Тюменской области В.Якушев полагал, что 5 декабря 2011 г. «тюменские
оппозиционеры собрались … на площади и протестовали против
фальсификации результатов выборов только потому, что это было
запланировано. От руководителей оппозиции им забыли или не успели передать
команду об отмене протеста» [1]. Но и это представление далеко от реальности.
Думается, что феномен новейшего российского внесистемного гражданско-
политического активизма может быть лучше понят, если будет рассмотрен на
примере отдельных случаев (case-study), в данном докладе – на примере Совета
инициативных групп и граждан Тюмени (СИГГ).
Материал к докладу был собран посредством участвующего наблюдения
за деятельностью СИГГ и его мероприятиями в период с 2010 по 2012 гг. Так же
использовались протоколы собраний СИГГ и материалы внутренней рассылки
СИГГ. Деятельность СИГГ будет рассмотрена с точки зрения теории
структурации (т.е. теории производства и воспроизводства социальных систем)
Э. Гидденса. Под социальными системами здесь понимаются устойчивые
практики взаимодействия индивидов, которые являются инициаторами и
движущей силой такового взаимодействия и которые могли бы повести себя
иначе на любом этапе установленной последовательности действий [2].
Деятельность СИГГ будет проанализирована как одна из практик
внесистемного гражданско-политического активизма, а именно как практика
взаимодействия локальных низовых инициатив [3] и оппозиционных движений
и партий. Мы используем предложенный Э. Гидденсом метод анализа
стратегического поведения, нацеленный на исследование значимости
6 Михаил Агапов — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИПОС СО РАН (Тюмень). E-mail:
16
непреднамеренных последствий преднамеренных действий для
воспроизводства социальной системы. «Повседневная жизнь представляет
собой поток преднамеренной деятельности. Однако действия имеют
непреднамеренные последствия, которые посредством механизмов обратной
связи могут систематически превращаться в неосознанные условия дальнейших
поступков» [4].
Впервые о создании СИГГ было заявлено на городском митинге против
«распила общественных денег на строительстве подземного перехода»,
состоявшемся 30 октября 2010 г. Митинг был организован «Общественным
фронтом сопротивления Распилу» – группой гражданских активистов,
насчитывающей не более 5 человек, близких по своим взглядам и ценностным
установкам анархистам. Сверхзадачей митинга 30 октября, прошедшего под
лозунгом «Политика умерла, даешь самоорганизацию!», было инициировать
независимое от органов государственной власти и политических партий (в том
числе оппозиционных) общественное движение в защиту интересов «простых
граждан». Предпринимавшиеся прежде попытки подобного рода оказывались
малорезультативными – на соответствующие публичные акции являлись только
их организаторы и друзья организаторов; общественные структуры, призванные
вести соответствующую компанию (против политических репрессий под видом
борьбы с экстремизмом, против роста тарифов ЖКХ, в защиту окружающей
среды и т.п.), либо быстро распадались, либо вообще не создавались.
Заявляемые проблемы не вызывали у населения живого деятельного отклика.
Однако тема борьбы с коррупцией такой отклик вызвала. На митинг 30 октября
пришло от 200 до 250 чел. (что превосходило численность тюменских митингов
такого типа, по крайней мере, в 2 раза), но главное – до трети участников были
«новыми людьми». Первый же пункт резолюции митинга объявлял «о создании
в Тюмени Совета Общественных инициативных групп (рабочее название),
который будет заниматься координацией усилий общественных низовых
инициатив в Тюмени, инициировать обсуждение общественного контроля за
расходованием общественных средств, в частности бюджета» [5].
Разумеется, идея создания Совета возникла не во время митинга 30
октября. Она, как говорится, уже витала в воздухе. Предпосылки к ее
артикуляции были следующими. Во-первых, в Тюмени периодически возникали
самые разные локальные низовые инициативы как «конфликтные», так и
«поддерживающие» [6]; во-вторых, существовали прецеденты в разной степени
эффективного сотрудничества инициативных групп с представителями
общественных движений и политических партий, в результате чего были
установлены личные контакты; наконец, архитекторы будущего СИГГ
вдохновлялись примерами объединений инициативных групп в других городах.
Важно отметить, что с точки зрения тюменских анархистов и близких им
гражданских активистов, запустивших процесс образования СИГГ,
возникновение и развитие демократических низовых инициатив является
благом само по себе. Последние воплощают важнейший анархический принцип
17
прямого самоуправления (демократии участия). «[Наша цель] Развитие прямого
самоуправления граждан в Тюмени и Тюменской области, – говорится в
манифесте тюменских анархистов, – Для этого мы поддерживаем и инициируем
создание общественных структур, в которых каждый имеет право голоса» [7].
Изначально Совет задумывался как сугубо координационная структура
городских локальных инициативных групп, главными участниками которой
должны были стать сами инициативные группы. В частности, в объявлении о
первом собрании Совета, опубликованном 4 ноября 2010 г., отмечалось, что его
целью является «объединение инициативных граждан и групп для организации
взаимной солидарной поддержки во время проведения гражданских акций и
общественных мероприятий». В этом же объявлении подчеркивалось:
«Действовать совет будет на антиавторитарных принципах — никаких вождей и
председателей. Главное — поддержка друг друга и решение общих проблем»
[8]. Таким образом Совет должен был воплотить на практике анархистский
идеал «самоуправляемой общественной структуры».
На первое собрание Совета, состоявшееся 7 ноября 2010 г., пришло 35
человек – «представителей разных инициативных групп (дольщики,
уплотнительная застройка, антикоррупция, экология) и просто неравнодушных
жителей города». Большинство из них не были прежде знакомы друг с другом.
Во многом собрание состоялось благодаря тому, что на митинге 30 октября его
организаторы собрали контактные данные всех желающих принять участие в
учреждении и деятельности Совета. Было решено, что Совет будет
формироваться как общественное движение, без формального членства. Если
каждая действующая в городе локальная низовая инициатива представляла
собой какой-либо конкретный проект, нацеленный на решение конкретной
задачи, то Совет, по замыслу его организаторов, не должен был связывать свою
деятельность с каким-либо одним направлением, он должен был стать своего
рода штабом низовых инициатив. Эта установка была принята участниками
собраниями, согласившимися, что задачами Совета будет создание
возможностей для взаимодействия различных инициативных групп, помощь
вновь возникающим группам в решении их проблем, поддержка группами друг
друга, проведение совместных акций [9].
Примечательно, что хотя Совет проектировался под локальные низовые
инициативы, его участниками помимо последних сразу же стали политические
движения и партии (ТО РКРП, ТО КПРФ, «Автономное действие – Тюмень» и
др.). Это было серьезное отступление от первоначального замысла сразу в
нескольких отношениях. Во-первых, Совет задумывался как сугубо
гражданское объединение, без политических движений и партий (сами
анархисты первоначально рассчитывали войти в него в составе отдельных
инициативных групп). Во-вторых, в объединение, которое должно было
строиться на «антиавторитарных принципах» вошли партии, которые с точки
зрения анархистской политологии сами являлись авторитарными (РКРП,
КПРФ). Как это стало возможно? Дело в том, что наиболее активные низовые
18
инициативные группы, поддержав идею Совета еще на стадии
предварительного обсуждения, тогда же высказались за участие в нем всех
организаций, которые пожелают присоединиться. Поскольку многие
инициативные группы получали прежде поддержку со стороны политических
партий, то сотрудничество с таковыми в рамках Совета представлялось им
вполне естественным. С точки зрения непартийных инициативных групп
главным критерием выбора союзников была готовность последних включиться
в активную деятельность по решению конкретных городских проблем.
Идеологические позиции организаций, отвечающих этому критерию, не имели
особого значения. Впрочем, некоторые границы в этом отношении
устанавливал принятый 9 января 2011 г. устав СИГГ. Среди прописанных в нем
принципов деятельности Совета были такие, которые исключали возможность
взаимодействия с националистическими и фундаменталистскими
организациями и деятелями: «Осознание человеком своих социально-
экономических и вытекающих из них политических интересов должно
строиться на рациональных основаниях, исключающих мифические
(иррациональные) и построенные на ложных взаимосвязях объяснительные
модели (национализм, различные варианты «теорий заговоров», инопланетяне и
т.п.)» [10]. В итоге в Совет вошло 8 инициативных групп (группы против
уплотнительных застроек, ТОС 5 микрорайона, студенты против повышения
транспортных тарифов и др.), 6 партийных организаций (ТО РКРП, ТО КПРФ,
ТО ПНС, Партия «Воля», «Автономное действие – Тюмень», Левый фронт –
Тюмень), 2 правозащитных движения и 1 профсоюз.
Были определены следующие направления деятельности СИГГ: 1) защита
подвергающихся репрессиям гражданских активистов; 2) мониторинг
социально-экономической политики региональных властей; 3) мониторинг
реформ в сфере трудового законодательства и защита прав трудящихся; 4)
просветительская работа (семинары, лектории); 5) борьба с клерикализацией
общества; 6) борьба за свободу собраний; 7) содействие развитию гражданского
контроля; 8) солидарные действия с инициативными группами как входящими в
СИГГ, так и теми, которые обратятся в Совет за поддержкой. По каждому из
направлений образовывалась рабочая группа. Таким образом СИГГ представлял
собой коалицию различных инициативных проектов (рабочих групп). Могли ли
эти проекты реализовываться без какой-либо связи с СИГГ? Несомненно. Так,
например, некоторые рабочие группы в дальнейшем дистанцировались от
Совета (просветительский проект «Свободный университет») или вовсе
покинули его (тюменское региональное отделение Общероссийского Центра
противодействия коррупции в органах государственной власти), что никак не
сказалось на их деятельности. Лишь некоторые проекты реализовывались при
активном вовлечение большинства участников СИГГ (компания в защиту
Андрея Кутузова [11]).
Точками сборки СИГГ и формами его презентации стали мероприятия
другого рода. В основном это были петиционные компании и публичные акции,
19
инициированные политическими партиями и движениями – как
самостоятельные, так и в рамках общероссийских акций («Стратегия 31» и др.).
Выход СИГГ в публичное пространство в обрамлении флагов и транспарантов
оппозиционных движений и партий (в основном левацких) способствовал тому,
что СИГГ практически сразу начал восприниматься как коалиция или своего
рода зонтик оппозиционных партий. Следует заметить, что такое же
впечатление СИГГ производил и при взгляде на него изнутри. В силу того, что
по сравнению с инициативными группами политические партии и движения
были лучше организованы, в большей степени идеологически мотивированы,
наконец, обладали тем опытом организационной работы и теми
организационными ресурсами, которые многие инициативные группы просто
не имели, именно политические партии и движения очень быстро заняли
доминирующее положение в СИГГ (прежде всего это относится к ТО РКРП и
АД). Этому способствовал и установленный в Совете механизм принятия
решений – простое большинство голосов присутствующих на собрании
участников СИГГ. Отклонение альтернативного варианта механизма, при
котором субъектами принятия решений становились бы рабочие группы (по
принципу одна группа – один голос) не только закрепил ведущую роль
политических партий и движений в Совете, но и фактически лишил
инициативные группы их субъектности внутри СИГГ. Последние
самоустранились сначала от участия в межпартийных идеологических
дискуссиях, которые скоро заняли центральное место в собраниях СИГГ и в его
электронной рассылке, а затем и от участия в общих мероприятиях СИГГ как
таковых.
В период протестов зимы 2011/12 гг., связанных с пересмотром
результатов парламентских выборов, СИГГ проявил себя неоднозначно. С
одной стороны, он выступил организатором первой такого рода публичной
акции в Тюмени – митинга 5 декабря – и поддержал последующие протестные
публичные выступления. Митинг 5 декабря собрал от 150 до 200 человек. Он
прошел «в режиме свободного микрофона», «мнение о прошедших выборах
высказали два с половиной десятка человек», часто «завязывались споры» [12].
Его наиболее активными участниками стали «новые митингующие», т.е. т.е.
граждане, в основной своей массе участвовавшие в публичных акциях впервые.
10 декабря «новые митингующие» провели несанкционированный «сход
граждан», побивший все рекорды по числу участников – на центральную
площадь города вышло около 2 000 человек. Третья акция прошла 24 декабря.
Это был санкционированный митинг «За честные выборы», организованный
«новыми митингующими» в тесном взаимодействии с СИГГ. На него вышло от
500 до 800 человек. Однако уже весной 2012 г. протестные публичные акции в
Тюмени вернулись «к прежним (до-декабрьским) ритуализированным формам,
когда основной целью является демонстрация публичного присутствия партий»
[13]. Здесь мы наблюдаем еще один пример непреднамеренных последствий
преднамеренных действий, вызвавших изменение ситуации. Входящие в СИГГ
20
партийные активисты, похоже, искренне полагали, что выступая в качестве
формальных организаторов протестных митингов они не выйдут за рамки
решения сугубо технических вопросов, но лишь организуют сцену (в прямом и
переносном смысле) для «новых протестующих», на деле сам способ
обустройства сцены (партийные транспарант и флаги, мобилизация групп
поддержки из числа партийных активистов) задал мероприятиям сугубо
партийный (ритуализированный, замкнутый на сцену) формат и стиль, тогда как
«новые митингующие» стремились к проведению гражданской акции –
креативной, открытой вовне. Формат воспроизводимых, во многом в силу
устоявшейся привычки, партийными лидерами порядков коммуникаций вызвал
отчуждение «новых митингующих» и как следствие – спад числа участников
протестных выступлений.
Нельзя сказать, что СИГГ оказался полностью провальным проектом. Он,
несомненно, «стал важной площадкой для обсуждения и в некоторой степени
координации протестных действий» [14]. Хотя в публичном пространстве Совет
сейчас почти не представлен, формально он продолжает существовать –
примерно раз в месяц проходят общие собрания СИГГ. Вхождение в Совет
политических движений и партий сделало невозможным реализацию проекта
Совета в его изначальном замысле – независимое от органов государственной
власти и политических партий (в том числе оппозиционных) общественное
движение в защиту интересов «простых граждан». Если локальные низовые
инициативы составили своего рода background Совета, то политические партии
и движения проявили себя в качестве доминирующих агентов «народного
парламента». Непредполагавшееся изначально превращение Совета в
своеобразный зонтик оппозиционных партий и движений стало следствием
описанного выше ряда «ситуаций структурного противоречия» [15].
1. Губернатор высказал свое мнение о митинге оппозиции в Тюмени //
Региональный интернет-портал Nash Gorod.Ru URL:
http://www.nashgorod.ru/news/news47029.html (дата обращения:
14.02.2014)
2. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э.
Гидденс. – М. : Академический проект, 2005. – 528 с.
3. Мирясова, О.А. Гражданская активность в пространстве лояльности и
оппозиционности // Граждане и политические практики в современной
России: воспроизводство и трансформация институционального порядка /
[ред-колл. : С. В. Патрушев (отв. ред.), С. Г. Айвазова, П. В. Панов]. – М. :
Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 271–294.
4. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э.
Гидденс. – М. : Академический проект, 2005. – 528 с.
5. Отчет с митинга 30 октября // Блог «Общественный Фронт
Сопротивления Распилу» URL: http://netraspilu.livejournal.com/1491.html
21
(дата обращения: 14.02.2014)
6. Мирясова О. Гражданские инициативы в России: Самоопределение,
самоуправление и роль в жизни общества // Блог межрегионального
объединения «Автономное действие» URL: http://avtonom.org/pub/gr-
initiatives.html (дата обращения: 14.02.2014)
7. Манифест движения «Автономное действие – Тюмень» // Сайт
«Автономное действие – Тюмень» URL:
http://tyumen.avtonom.org/manifest (дата обращения: 14.02.2014)
8. Предварительное собрание Совета инициативных групп Тюмени // Сайт
Golosa.Info URL: http://golosa.info/node/4490 (дата обращения: 14.02.2014)
9. Предварительное собрание Совета инициативных групп Тюмени // Сайт
Golosa.Info URL: http://golosa.info/node/4490 (дата обращения: 14.02.2014)
10. Принят устав Совета инициативных групп и граждан Тюмени // Сайт
Golosa.Info URL:http://golosa.info/node/4654 (дата обращения: 14.02.2014)
11. Эпштейн, А., Васильев, О. Полиция мыслей. Власть, эксперты и борьба с
экстремизмом в современной России / Эпштейн А., Васильев О. – М. :
«Гилея», 2011. – 175 с.
12. «Небывалый цинизм выборов» обсудили на площади // Региональный
интернет-портал Nash Gorod.Ru URL:
http://www.nashgorod.ru/news/news47014.html (дата обращения 14.02.2014)
13. Лобанова О.Ю., Семенов А.В. От неучастия к действию. Гражданско-
политическая активность в Тюменской области в декабре 2011 – сентябре
2012 гг. // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. –
2012. – №3-4. – С.134–140.
14. Лобанова О. Ю., Семенов А.В. Гражданско-политическая активность в
России в в декабре 2011 – сентябре 2012: Тюменская область // Вестник
Пермского университета. Политология. – 2013. – №1. – С. 5–19.
15. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э.
Гидденс. – М. : Академический проект, 2005. – 528 с.
22
Екатерина Медведева
Освещение протестного движения в России в средствах массовой
информации (2011-2012 гг.)
Всплески гражданской активности в контексте современного российского
общества стремительно перенеслись из разряда феномена (в декабре 2011 года)
в категорию привычного (начиная с митинга «За честные выборы» 4 февраля
2012 года7).
Стоит отметить, что, как в рамках публичного дискурса, так и в научных
кругах сформировалась точка зрения, согласно которой протестные настроения
«активного меньшинства» актуализировались в ноябре 2011 года и главной
причиной нарастания протестного потенциала стали исключительно
«нечестные выборы». Характерной особенностью протестной волны,
захлестнувшей Россию в период избирательного цикла 2011-2012 годов, стало
вовлечение средств массовой информации в процесс мобилизации участников
уличного протеста. Однако помимо приобретения новой роли в политическом
процессе России, СМИ продолжают оставаться важным каналом
информирования широких социальных групп о значимых политических
событиях в стране. Гипотезой нашего исследования стало предположение о том,
что стратегия освещения протестных акций средствами массовой информации
может существенно отличаться в зависимости от характеристик и степени
ангажированности конкретной медийной организации. Основываясь на этой
гипотезе, целью исследования является сравнить особенности конструирования
и воспроизводства в СМИ представлений о митингах оппозиции, прошедших в
Москве в период с декабря 2011 по сентябрь 2012 года. Мы исследуем эти
отличия методом контент-анализа на материалах федеральной прессы
(«Аргументы и факты», «КоммерсантЪ», «Комсомольская правда»,
«Московский комсомолец», «Независимая газета» и «Новая газета»). Выборка
исследуемых печатных изданий осуществлялась на основе рейтинга
цитируемости деловых и общественно-политических газет. Общее количество
единиц анализа составило 250 статей в период с 5 декабря 2011 года по 17
сентября 2012 года.
Наше исследование выявило, что, во-первых, какие митинги получили
резонанс в СМИ, а какие остались в тени. Наибольший интерес у СМИ
вызвали митинги «За честные выборы» 10 декабря на Болотной площади и 24
декабря на проспекте Сахарова. Ни одному из последующих митингов по
совокупному количеству упоминаний в федеральной прессе не удалось побить
7
Екатерина Медведева — Тюменский государственный университет, ИBиПН, E-mail:
23
этот рекорд. 34 отклика нашел в анализируемых печатных изданиях митинг 10
декабря на Болотной площади (из них по 4 статьи в «Аргументах и фактах» и
«Московском комсомольце», 6 – в «Коммерсанте», 1 – в «Комсомольской
правде», 11 – в «Независимой газете» и 8 в «Новой газете». Что касается
митинга на проспекта Сахарова 24 декабря, то о нем можно встретить 32
упоминания (из них по одному в «Аргументах и фактах» и «Коммерсанте», 2 в
«Комсомольской правде», по 9 – в «Московском комсомольце» и «Независимой
газете» и 10 в «Новой газете». Особого внимания заслуживают первые
протестные акции, которые проходили 5 декабря на Чистых прудах и 6 декабря
на Триумфальной площади и остались практически проигнорированными в
СМИ. Мы выявили 14 статей об этих акциях, из них по 5 приходится на
«Московский комсомолец» и «Новую газету», 3 – на «Независимую», 1 – на
«Комсомольскую правду», в «Коммерсанте» и «Аргументах и фактах» первые
митинги оппозиции не освещались. Падение интереса к теме митинговой
активности фиксируется с 4 февраля 2012 г.. Падение интереса к теме
митинговой активности фиксируется с 4 февраля 2012 г.. Во многом, это можно
объяснить тем фактором, что журналисты при написании материалов
руководствуются соображениями сенсационности и новизны того или иного
события. В то время как пятый по счету митинг оппозиции (4 февраля 2012
года) перестал восприниматься как СМИ, так и самими гражданами как новое,
уникальное для России явление. Параллельно с шествием и митингом «За
честные выборы» 4 февраля проходил более многочисленный «Антиоранжевый
митинг» на Поклонной горе, оттянувший на себя значительную долю внимания
средств массовой информации. В результате в СМИ можно обнаружить 35
материалов, посвященных акции, организованной несистемной оппозицией, но
большая часть из них – это материалы «Независимой» и «Новой» газет. В
остальных СМИ можно встретить 1-2 упоминания. Что касается «Маршей
миллионов», то они освещались в СМИ на фоне иных информационных
поводов, их сопровождающих. «Марш миллионов» 6 мая обратил на себя
внимание журналистов массовыми беспорядками и столкновениями
митингующих с полицией, 12 июня – ужесточением законодательства о
митингах, обысками у лидеров несистемной оппозиции, 15 сентября –
лишением депутатского мандата Геннадия Гудкова. В результате далеко не
«миллионные марши» собрали на троих 68 откликов.
Во-вторых, было выявлено, что представления средств массовой
информации об участниках протестных акций делятся на две группы по
хронологическому принципу: участники декабрьских протестных акций и
участники последующих митингов оппозиции. Участники декабрьских
протестных акций представлены в СМИ одинаково. Вырисовывается
следующий социальный портрет действующих субъектов митингов - молодые
люди в возрасте от 18 до 30 лет, непрофессиональные оппозиционеры,
представители среднего класса (менеджеры, предприниматели, офисные
рабочие), преобладающая часть – это люди с высшим и незаконченным высшим
24
образованием, более половины митингующих разделяют либеральные,
демократические взгляды; приверженцы «русской идеи» выступали на
декабрьских митингах в роли маргинального меньшинства. Так, например
описывает участников митинга на Болотной площади «Коммерсант»:
«Преобладающая часть участников – не профессиональные оппозиционеры, а
обычная интеллигенция, менеджеры, не согласные с результатами выборов,
первый раз ставшие субъектами уличной демократии, выяснившие все
необходимое для участия из «Твиттера» и «Фейсбука»; это молодые люди от 18
до 35 лет, искренние, неглупые, и уж точно позавтракавшие…».
«Комсомольская правда» характеризует участников, исходя из мотивов,
побудивших их прийти на митинги: «первых привели идеалы, вторых –
любопытство, третьих – показ шуб, четвертых – профессия…». В «Московском
комсомольце» высказывается точка зрения, что митингующих роднят
интеллигентность и ответственность. Это достойные представители новой,
европейской России, уважающие закон и выступающие против его нарушений,
в большинстве своем это люди аполитичные. «Независимая газета» также
подчеркивает аполитичность участников декабрьских акций протеста:
«Носители протеста – это люди со слабой партийной привязкой». «Независимая
газета» представляет и более детальный портрет декабрьских протестующих,
ссылаясь на результаты опроса Левада-центра, проводимого на митинге 24
декабря: «Более 60% участников – молодые люди до 40 лет. Более 70% – с
высшим и незаконченным высшим. Каждый четвертый – руководитель: либо
владелец собственного бизнеса, либо человек, имеющий подчиненных. 12%
протестующих – студенты. 70% участников акций разделяют либеральные,
демократические взгляды. 24% исповедуют левые идеи. Только 6% составил
националистический контингент. Это «элита общества по образованию и роду
занятий», подытоживают обозреватели «Независимой».
Участники последующих акций в медийном поле разделялись в первую
очередь по идеологическому принципу. Начиная с шествия и митинга 4
февраля 2012 года, СМИ акцентируют внимание на том, что публика начинает
делиться по цветам широкого спектра политических сил: беспартийные,
сторонники «Яблока», сторонники левых и коммунистических движений,
анархисты, националисты, либералы, антифашисты. Представления в СМИ в
целом идентичны, лишь некоторые в список традиционных политических и
общественных сил, участвующих в митингах, добавляют экзотический
контингент в лице представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций
(«Комсомольская правда» об участниках первого «Марша миллионов»,
«Московский комсомолец» на «Марше миллионов» 12 июня). В целом же
подчеркивается, что протест трансформировался из этического, морального
(протеста аполитичных рассерженных граждан, которым надоело, что им врут)
в сугубо политический.
И, в-третьих, на основании маркировки материалов по оценочным
суждениям в отношении акций протеста СМИ можно разделить на
25
проправительственные, нейтральные и оппозиционные. К первым можно
отнести издания "Комсомольская правда" и "Аргументы и факты". В этих
газетах российские протестные акции сравниваются с волнениями в Египте,
Тунисе и других арабских странах, «цветными революциями» в Грузии,
Украине, Киргизии; декларируется официальная позиция руководства страны
об участии Запада, в том числе через финансирование, в организации митингов
оппозиции, цель которых - дестабилизация политической ситуации в стране; в
«Аргументах и фактах» 14, в большинстве своем негативно окрашенных,
упоминаний о митингах оппозиции меркнут на фоне детального и пафосного
освещения «антиоранжевых» митингов в поддержу действующей власти. В
качестве примера негативной оценки приведем отрывок из статьи в
«Аргументах и фактах» (№ 8 от 21.02.2012) «Оппозиционный гламур. Митинги
протеста превращаются в ярмарки тщеславия»: «Митинги оппозиции – ничто
иное, как революция норковых шуб, актуальная модная тусовка, ярмарка
тщеславия, где значительная часть участников - девушки и женщины,
преследующие цель найти «мужа» или отдать дань новой моде». Еще один
признак принадлежности названных СМИ к проправительственным –
второсортные аналитические статьи, повествующие о многочисленных
неудобствах, которые причиняют рядовым жителям столицы митинги
оппозиции. К таким можно отнести нарушения порядка дорожного движения,
расходы из федерального бюджета на обеспечение безопасности на
мероприятиях, а также колоссальные убытки для управляющих торговых точек,
расположенных в местах проведения митингов. Заурядность этих рассуждений
в отсутствии каких бы то ни было количественных показателей, наглядно
демонстрирующих масштабы причиняемого дискомфорта. Для того, что
представить масштаб трансляции подобных представлений, явно
преследующих цель формирования негативного отношения к протестному
движению, обратимся к тиражам и охвату аудитории этих изданий.
Еженедневка «Комсомольской правды» выходит по России тиражом 550 000
экземпляров, по Москве – 130 000 экземпляров. Аудитория одного номера по
России составляет 2 876 300 читателей, по Москве – 522 900 читателей.
Еженедельник выходит по России тиражом 1900 000 экземпляров, по Москве –
290 000 экземпляров. Аудитория номера по России – 5 230 900 читателей, по
Москве – 925 100 читателей. И наконец, о правительственном характере
«Комсомольской правды» может сказать политика главного редактора
«Комсомолки» - Владимира Сунгоркина, который являясь одной из заметных
фигур в медиаотрасли, неоднократно заявлял в интервью о том, что для него
важно не потерять любовь читателей, но вместе с тем завоѐвывать дружбу с
властью. «А мне вообще Путин нравится — вчерашний, позавчерашний,
завтрашний» - эта цитата из интервью Сунгоркина, которое он давал телеканалу
«Дождь» в январе 2012 года, ставит все точки на «И» в вопросе отношений с
властью. Что касается «Аргументов и фактов», то газета остаѐтся лидирующим
по объѐму тиража еженедельным периодическим изданием России (тираж 2,997
26
млн экз.). Читательская аудитория газеты — около 8 млн человек. Кроме России
распространяется ещѐ в 57 странах мира.
Для изданий с нейтральной позицией, к которым можно отнести
"КоммерсантЪ", "Московский комсомолец", "Независимая газета" характерно
использование в статьях различных точек зрения - мнений оппозиционеров,
представителей властных структур, рядовых участников митингов, а также
экспертов и членов научного сообщества. О всестороннем освещении
происходящих событий можно судить по статье в «КоммерсантЪе» «Второй тур
выборов», посвященной подготовке митинга 10 декабря на Болотной площади.
Журналисты «Коммерсанта» Андрей Козенко и Лолита Груздеева взяли
комментарий у организаторов акции (Анастасии Удальцовой), в пресс-службе
столичной мэрии, которой предстояло согласовать акцию, и представителей
правоохранительных органов, которым предстояло обеспечивать порядок и
безопасность на митинге. А в силу того, что впервые акция протеста была
организована через социальные сети, журналисты не преминули пообщаться и
узнать об особенностях мобилизации через Интернет от популярного блогера
Рустема Адагамова. Пишет «КоммерсантЪ» и о контрольных в столичных
школах, запланированных на день проведения митинга на Болотной площади,
однако обозреватели избегают оценочных суждений относительно того, что эта
мера направлена на сокращение числа участников протестной акции и является
инструментом борьбы с несистемной оппозицией в целом. Сами митинги
освещаются что ни на есть из «гущи событий». Специальный корреспондент
(Андрей Колесников) общается с рядовыми участниками митинга,
организаторами, ораторами, составляет внешний портрет митингующих.
Суждения о спаде протестного движения (февраль-март 2012 года)
«КоммерсантЪ» подтверждает наглядно, публикуя результаты опроса ВЦИОМа
и комментарии Валерия Федорова, генерального директора ВЦИОМа,
организаторов и участников протестных акций. Если говорить о масштабах
нейтрального освещения, то также обратимся к тиражу и аудитории
«Коммерсанта». Тираж ежедневной газеты «КоммерсантЪ» составляет 120-130
тыс. экземпляров, из них 56 % распространяются в Москве и Московской
области. Аудитория одного номера по Москве составляет 121 000 человек, по
России – 235 000 человек. Аналогичная стратегия освещения протестного
движения характерна для «Московского комсомольца» и «Независимой газеты».
(Из организаторов митингов чаще всего комментарии берут у Удальцова,
Навального, Рыжкова, Немцова, Гудкова). Среди представителей экспертного
сообщества, комментирующих митинги оппозиции – политолог Дмитрий
Орлов, Ольга Крыштановская, Глеб Павловский и другие. Противоречивостью
отличается «Независимая газета», в которой мнения о том, что протестные
акции носят «чисто провокационный характер и преследуют цель
дестабилизировать политическую ситуацию в стране» (номер от 08.12.11), о
что «Заказчиком протестных акций являются США, откуда осуществляется
финансирование» (09.12.11), о том, что участники митингов – это «Олухи,
27
которые ходят по городу с плакатами и кричат какие-то глупости и не знают, где
военкомат» (12.12.11) расположились по соседству со статьями, в которых
представители оппозиции – организаторы митинга наделяются такими
качествами, как способность включить разум, ответственность, чувство меры,
готовность, что превращает протестное движение из субкультуры в открытое
пространство (статья «Разум когда-нибудь победит от 10.12.11), высказывается
мнение о том, что впервые за 10 лет власть потеряла монополию на
формирование повестки дня и разделила ей благодаря митингам с оппозицией
(статья «Власть, оппозиция и повестка дня» от 12.12.11). Стратегию освещения
«Независимой газеты» можно сравнить с чашей весов, на одной стороне
которой находятся материалы с оценками митингов, близким к позиции власти,
на другой – к оппозиции.
Оппозиционные СМИ представлены изданием "Новая газета", в
материалах которой присутствует сопереживание протестующим, критика
позиции властей в отношении к митингам, подробное описание действий
оппозиции по организации и проведению митингов. Прочувствовать
сопереживание и искреннюю симпатию к митингующим можно, анализируя
статьи, вышедшие в печать после первых протестных акций 5 декабря на
Чистых прудах и 6 декабря на Триумфальной площади, которые закончились
массовыми задержаниями. Обозреватели «Новой газеты» в компании с
десятками сочувствующих проводят ночь перед дверями ОВД, в которые
поместили задержанных, пытаясь разобраться в причинах ареста и запрета им
общения с адвокатами (номер от 07.12.11) Текстовая трансляция судебных
заседаний над Ильей Яшиным и Алексеем Навальным, в ходе которых
сотрудники полиции, выступающие в качестве свидетелей, путаются в
показаниях, игнорирование этих фактов судьей, приговор 15 суток – репортеры
иронично высмеивают судебную систему, призывая всех неравнодушных
поддерживать лидеров оппозиции морально и посредством передач. Особого
внимания заслуживает освещение митингов 10 декабря на Болотной площади и
24 декабря на проспекте Сахарова. Репортажи с самых многочисленных акций
протеста вели до 10 корреспондентов одновременно, и каждый из них
подчеркивал атмосферу праздника, доброжелательность и вежливость
участников. Следующий важный момент – это неутихающая, резкая критика
действий власти, предпринимаемых в отношении митингов. В номере от 12
декабря 2011 года была опубликована статья под названием «Топ-5 идиотизмов
от властей накануне митинга», в которой перечисляются пять очевидных и
неприкрытых попыток представителей власти повлиять на проведение митинга
10 декабря, сократив число его потенциальных участников. В число этих
попыток вошли следующие:
1.Проведение городской контрольной по русскому языку в школах по
время митинга (с 13.00 до 18.00) .
2.Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко настоятельно
рекомендовал россиянам отказаться от участия в массовых митингах и акциях,
28
чтобы не увеличивать заболеваемость гриппом и ОРВИ.
3.ГУВД по Москве – агентству «РИА Новости»: «По оценкам экспертов,
Лужков мост рядом с Болотной набережной перегружен большим количеством
людей, собравшихся на общественно-политические мероприятия. Более того,
эксперты не исключают возможности его обрушения».
4. Гидрометеобюро Москвы и Московской области — агентству
«Интерфакс»: «Погода не будет способствовать массовому мероприятию»».
5. На Болотной вырубили интернет и телефоны.
Ни одна анализируемая газета не привязала эти события друг к другу, и
как следствие не могла распознать в них инструменты власти в борьбе с
«креативным классом». И наконец, только в «Новой газете» освещались
механизмы организации акций, в том числе их финансирование через сбор
средств на кошелек Ольги Романовой. Так в «Новой» отчитались, сколько было
денег собрано общими усилиями на проведение митинга на проспекте Сахарова
(почти 3 миллиона рублей), при этом особо подчеркивалась невозможность
перевести деньги из-за границы. Узнать о том, как расходуются деньги, можно
было на страницы Романовой.
Результатом проделанной работы стали следующие выводы:
Во-первых, стратегия освещения протестного движения в России в
период с декабря 2011 года по сентябрь 2012 проправительственными
средствами массовой информации предполагает максимальное отстранение от
протестных акций, проявляющееся в минимальном количестве
информационных сообщений, отсутствием деталей, комментариев с
организаторами и рядовыми участниками протестных акций, декларировании
позиции представителей власти, посредственных характеристиках участников и
митингов в целом. Этой стратегии придерживаются «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда».
Во-вторых, стратегия освещения протестных акций оппозиции
нейтральными СМИ предполагает всестороннее освещение ситуации с
использованием различных точек зрения – участников, организаторов,
представителей власти, экспертов научного сообщества, представителей
общественных организаций, а при составлении социального портрета
митингующих с использованием результатов исследований ВЦИОМа, Левада-
центра и Лаборатории Крыштановской. То есть нейтральные СМИ при
освещении протестных акций держатся на равном расстоянии от власти и
оппозиции.
В-третьих, оппозиционные СМИ, к которым относится «Новая газета»
придерживаются стратегии максимальной близости к протестным акциям и еѐ
участникам, что проявляется в открытом сочувствии, симпатии к
митингующим, в неприятии действий власти по отношению к ним, в личном
участии корреспондентов издания в митингах, общении с организаторами.
Иными словами, оппозиционные СМИ служат каналом трансляции идей
представителей оппозиции и каналом мобилизации участников протестных
30
Екатерина Семушкина
Особенности политической мобилизации в сети Интернет на примере
кампании «За честные выборы» в г. Тюмени
В последнее время онлайн-платформы превращаются в популярное место
для обсуждения значимых общественных проблем8. На сегодняшний день
Интернет – стал наиболее свободной площадкой для проведения дискуссий.
Именно поэтому изучение протестной он-лайн активности – интересное
направление политического анализа.
Как правило, большинство исследований, посвященных данной тематике,
написано зарубежными авторами: З. Папачарисси9, Дж. Ли
10, К. Шеки
11 и
прочие. В России данный предмет исследования находится на начальной стадии
развития. В апреле 2013 года известный научный журнал «Политическая наука»
посвятил проблеме функционирования интернет-оппозиции целый выпуск12
.
Однако стоит отметить, что основное поле исследований для отечественных
политологов составляет интернет-публика крупнейших российских городов,
таких как: Москва и Санкт-Петербург13
. Данное же исследование – является
одной из первых попыток регионального анализа.
Научной проблемой данного исследования является феномен
политической мобилизации в социальных сетях на примере тюменской
кампании «За честные выборы». Целью исследования является выявление
путей консолидации и мобилизации тюменских протестующих на примере
местного интернет-сообщества «Тюмень против жуликов и воров»14
.
Результаты работы основаны на контент-анализе, кластерном анализе и
перекрестном методе. Путем выборки в мае 2012 года были найдены 116
пользователей. С их страниц были взяты следующие данные: пол, возраст и
список общественно-политических групп и подписок. Итоговое количество
анализируемых групп – 365. Путем кластерного разбиения было получено 16
объединений: националисты (111 групп), левые (14), фашисты (2), анархисты
(10), монархисты (3), оппозиция (137), провластные (2), правые (122),
информационные группы (45), религиозные группы (10), неоязычники (1),
антифа (2), юмористические (5), общественные (26), другое (11). Кроме того, 21
пользователь участвовал в общественно-политических событиях.
8Екатерина Семушкина — студентка 2 курса политологии ТюмГУ ИИиПН. E-mail: [email protected]
9 Papacharissi Z. The virtual sphere. The Internet as a public sphere // New Media & Society. 2002. №4(1). p. 23
10Lee J. The Blogosphere and the Public Sphere: Exploring Possibility of the Blogosphere as a Public Sphere
11Shirky C. The Political Power of Social Media: technology, the public sphere and political change // Foreign Policy.
2011. №1. 12
Журнал «Политическая наука». №1. 2013. URL.: http://www.inion.ru/index.php?page_id=127&jid=924 13
Yulia Lukashina. Collective action frames and Facebook fan and group pages: the case of the Russian Snow
Revolution 2011-2013. Interface: a journal for and about social movements 11/2013; 5(2):422-449. 14
См. URL.: http://vk.com/miting72
31
Таким образом, мы можем сформулировать некоторые предварительные
выводы. Во-первых, для тюменской он-лайн оппозиции характерно
многообразие предпочтений, однако около половины пользователей выражает
правые и националистические взгляды (41% от 116 человек).
Националистическое крыло оппозиции наиболее активно в плане проведение
офф-лайн мероприятий. Традиционно популярными являются «Русские
пробежки» (из 21 события 15 пользователей указывают свое участие в них).
Либеральные взгляды выказывает небольшое количество пользователей (12
человек из 116, что составляет 10%). Большинство из них (10 человек – 8%)
являются сторонниками Михаила Прохорова. Авторы исследования связывают
это с активностью местного отделения «Гражданской платформы». Так, за
период 2012 года местное отделение партии развернуло активную кампанию по
рекрутированию сторонников из числа молодежи. Основной группой
поддержки Алексея Навального являются националистически настроенные
граждане, лишь 2 человека из 6. Наибольшей поддержкой пользователей из
политиков пользуется Михаил Прохоров (10 человек подписаны на его
персональную страницу), далее с равным количеством сторонников идут
Алексей Навальный и Владимир Жириновский – по 6 человек. Стоит отметить,
что поддержка ЛДПР в Тюменской области традиционно высока. Партия
Жириновского, как правило, входит в тройку лидеров по числу голосов на
выборах. Кроме того, пользователи подписаны на Дмитрия Медведева (4
человека), по одному подписчику у остальных политиков и общественных
деятелей – Г. Явлинский, М. Задорнов, С. Удальцов, Б. Миронов, Д. Дѐмушкин,
Н. Стариков, А. Вассерман. Гендерный состав группы характеризуется
преобладанием мужчин (81 человек, что составляет 70%) над женщинами (33 –
30%). Основная возрастная группа – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
32
Анастасия Смолыгина
Евромайдан и его «оранжевый» предшественник: сходства и различия
События, происходившие на Майдане в 2013 году, вызвали широкий
общественный интерес15
. Поначалу мирные демонстрации, целью которых
являлось подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС,
переросли в антипрезидентские и антиправительственные протестные
действия. Нередко эксперты проводят параллель между Евромайданом и
оранжевой революцией 2004 года, поэтому выявление сходств и различий этих
акций – важное направление политического анализа.
Первая линия сравнения, которую целесообразно выделить – это причины
двух уличных акций. В 2004 году кампания мирных митингов и демонстраций
были вызвана спорами по поводу фальсификации президентских выборов и
нежеланием части украинцев видеть Виктора Януковича на посту президента.
Евромайдан начался как реакция на решение правительства страны
приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между
Украиной и ЕС и последующим нарастанием недовольства. Также существенно
различаются цели «оранжевой» революции и Евромайдана: если в первом
случае это признание недействительными официальных итогов выборов
Президента Украины и назначение повторных, то во втором цели
трансформировались в зависимости от происходящих событий: от подписания
Соглашения между Украиной и ЕС, до отставки президента и правительства,
возврату к конституции 2004 года, отмены «законов 16 января», а также
амнистии арестованных митингующих.
Одной из основных линий сравнения является лидеры, выступающие как
идеологами, так и непосредственными участниками и организаторами
митингов. Политическими лидерами «оранжевой» революции были кандидат в
президенты Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, а организаторами и основной
политической силой выступила коалиция «Сила народа», объединившая в себе
сторонников двух лидеров, а также ―Социалистическая партия‖ Украины. Стоит
отметить, что Ющенко и Тимошенко, действительно, смогли не только
консолидировать людей и «заразить» их общей идеей о проведении повторных
выборов, но и возглавить протестные акции. Евромайдан в этом аспекте
полностью отличается: на первенство претендовало три председателя
оппозиционных украинских партий – Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег
Тягнибок, некоторые из которых участвовали и в событиях 2004 года. Они
оказались в центре событий, но лишь влились в общий поток, а не возглавили
толпу16
. Конкуренция за поддержку граждан и борьба за рейтинг помешали им
15
Анастасия Смолыгина — студентка 2 курса политологии ТюмГУ ИииПН. E-mail: [email protected] 16
6 отличий «оранжевого» Майдана-2004 от Евромайдана-2013 // Эксперт Online [Электронный ресурс]. URL:
http://expert.ru/2013/12/3/6-otlichij-oranzhevogo-majdana-2004-ot-evromajdana-2013/
33
стать той силой, которая могла бы направить противостояние в мирное русло и
успокоить народ, когда это нужно было сделать.
Также хотелось бы сопоставить уровень насилия в рассматриваемых
примерах. Революция 2004 года носила относительно мирный характер и
прошла без серьѐзных столкновений и жертв. Протестующие обращались к
следующему репертуару: блокировки зданий, строительству палаточных
городков в центре города и призывы лидеров к забастовкам и акциям
гражданского неповиновения. Всѐ это осталось и спустя 9 лет, но вот набор
средств давления на власть заметно увеличился, что произошло после
избиенения студентов 19 января 2014 года. Второй Майдан отличался
радикализацией протеста: участники захватывали административные здания,
происходило столкновение с правоохранительными органами, использовались
зажигательные смеси, плитки, поджоги шин и проч. Изменилась стратегия
силовых структур: они были скорее наблюдателями, то теперь «Беркут» стал
использовать. Жертвами стали более 100 человек с обеих сторон, поэтому
нередко в Евромайдане находят признаки гражданской войны.
Социальный портрет митингующего на Майдане за 9 лет
преимущественно не изменился – основной костяк составляют студенты,
представители среднего класса, неработающие пенсионеры и
предприниматели17
. Количество участников колеблется по разным источникам
по «оранжевой» революции от 100 тыс. до 1 млн, по Евромайдану в настоящее
время данных нет. Что касается пола, то на Площадь Независимости чаще
выходили мужчины, нежели женщины, что вполне объяснимо. Превалирующим
возрастом является средний – от 30 до 50 лет, однако много и молодежи от 15 до
30. Также можно говорить о преобладании украиноязычных протестующих18
, о
чѐм свидетельствуют плакаты, а также комментарии из эфиров новостей. Стоит
отметить и националистический уклон Евромайдана, включающий в себя
неформальную националистически настроенную группировку «Правый
сектор».
Символика митингов также претерпела изменения. В 2004 году Майдан
заполнился оранжевыми флагами со словом «Так!», лентами и воздушными
шарами. Набор лозунгов представляет собой следующие требования: свобода,
социальные изменения, экономическое улучшение, против фальсификации
выборов и преступного режима19
. Протестующие событий недавних дней
выходили на площадь с флагами Евросоюза и Украины под звуки украинского
гимна и криками «Слава Украине!». Плакаты пестрили карикатурами на В.
Януковича и надписями «Украина – это Европа». Требования, как уже
говорилось выше, менялись в зависимости от повестки дня, но к первому
относится призыв подписать соглашение с ЕС. Итак, на основе сравнения
17
Старое и новое // Фокус: [Электронный ресурс]. URL: http://fi.ill.focus.ua/a/0x0/5497745.jpg 18
Лицо Евромайдана (социальный портрет участников протестов) // Обозреватель [Электронный ресурс]. URL:
http://obozrevatel.com/Infographic/19638-litso-evromajdana-sotsialnyij-portret-uchastnikov-protestov.htm 19
Оранжевые революции и ненасильственные методы свержения власти // Пси-фактор [Электронный ресурс].
URL: http://psyfactor.org/lib/or-2.htm
34
«оранжевого» Майдана-2004 и Евромайдана 2013-2014 можно сделать
следующие выводы:
Сходств у этих явлений не так уж и много: во-первых, это отношение
России и Запада и освещение данных событий в СМИ. Если Россия
поддерживала и продолжает поддерживать украинскую власть только во главе с
В. Ф. Януковичем (нынешнюю называя нелегитимной), то Запад поддерживает
протестующих. Во-вторых, осталась прежней и географическая локализация.
Электорат Януковича остался преимущественно на левом берегу Днепра, а
правый берег до сих пор находится в руках «западенских» политиков. В-
третьих, социология протеста существенно не изменилась, добавив, однако, в
Евромайдан националистические и радикальные элементы. К спорным
сходствам можно также отнести итоги двух акций, а именно то, что
истеблишмент так или иначе услышал требования народа. Различия, в свою
очередь, прослеживаются в других направлениях: цели и причины,
длительность и этапы, участники и требования, символика и лозунги, лидеры и
организаторы: все эти аспекты различаются как количественно, так и
качественно.
35
Элина Самохвалова
К вопросу об «успешности» «цветных революций» на постсоветском
пространстве: сравнительный аспект
В конце XX века началось качественное изменение пространства, а также
его геополитических характеристик, с распадом СССР перешедшее к новому
статусу – образованию ряда независимых государств, называемых
постсоветским пространством в силу общности исторических, социально-
экономических, политических и культурных связей20
. Однако формированием
независимых государств преобразования не завершились, и период социальных
и политических трансформаций продолжается и по сей день. Различные
гражданские движения, ставшие в своем роде символом эпохи трансформации
постсоветского пространства в период 1990-х, проявили свою активность в и
период 2000-х.
На сегодняшний день демократизация общественной жизни является
определяющей тенденцией развития человечества, в современную эпоху
демократия становится наиболее распространенной формой/режимом
правления.
Становление демократического, открытого, правового общества в
государствах постсоветского пространства зачастую рассматривается через
призму процессов «цветных революций». Данный феномен описывает попытку
преобразования политических институтов и предоставление нового
обоснования политической власти в обществе, сопровождающаяся
сопровождением формальной или неформальной мобилизацией масс и такими
неинституционализированными действиями, которые подрывают
существующую власть [2; 61]. Прежде всего – это революция в Грузии21
, в
Украине22
и в Киргизии23
. Также для полноты картины, стоит упомянуть про
неосуществившиеся революции: восстание в Андижане24
, попытка революции в
20
Элина Самохвалова — магистр направления «Мировая политика» ТюмГУ ИииПН. E-mail:
Революция роз – цветная революция в Грузии в ноябре 2003 года. Основной мотив революции –
фальсификации парламентских выборов 2 ноября 2003 года. В ходе революции Э. Шеварднадзе сложил
полномочия, и руководство страной перешло к оппозиционерам во главе с М. Саакашвили. 22
Оранжевая революция (укр. Помаранчева революція) – широкая кампания мирных протестов, митингов,
пикетов, забастовок, происходившая в Украине с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года, связанная с
объявлением результатов борьбы В.Ющенко и В.Януковича в рамках президентских выборов. 23
Тюльпановая революция - протестные движения в марте 2005 года, связанные с фальсификацией
результатов выборов, которые привели к свержению президента республики А. Акаева и приходу на его пост
К.Бакиева. 24
Подавление правительством Узбекистана 13-14 мая 2005 г. народного восстания, собравшегося по причине
ужесточения ситуации в стране, недовольства экономической и социальной политиков.
36
Белоруссии25
, серия протестов в Армении26
, массовые беспорядки в
Молдавии27
.
Осмысляя феномен цветных революций, стоит задаться вопросами:
почему в одних странах постсоветского пространства происходящие изменения
политических режимов «успешны», а в других – нет или менее «успешны»?
Почему некоторые недемократические режимы становятся более
демократичными, а другие так и остаются недемократическими? В
исследовательской и экспертной среде существуют различные точки зрения на
«успешность» цветных революций, сравнение которых может способствовать
пониманию феномена.
Целью исследования является сравнение моделей «успешности» цветных
революций.
Схожесть всех процессов, обозначенные феноменом «цветных
революций», заключается в предложении социально-политических
преобразований, целью которых определяется продвижение «демократии
снизу».
Возможно предположить, что изначально цветные революции имели
«успех» там, где имелись благоприятствующие факторы, рассмотрев которые,
мы приблизимся к пониманию причин возникновения цветных революций и их
«успеха», либо «неуспеха»:
Объяснение демократизации посткоммунистических стран часто
происходит через анализ влияния политических факторов, таких, как «наследие
прошлого», которое может оказать непосредственное воздействие на
посткоммунистические трансформации [1; 3]. Это «наследие» определяет
изначальную констелляцию акторов и распределение ресурсов между ними на
старте изменений режимов. Оно 1) создает стимулы и накладывает ограничения
на действия акторов и 2) задает набор ресурсов, доступных для мобилизации в
процессе смены режимов [7]. Иными словами, «наследие» есть не что иное как
«точка отсчета» различных траекторий смены режимов.
Предрасположенность к переменам в значительной степени является
следствием результатов преобразований. Предполагается, что в странах, где
политика преобразований привела к безработице, бедности и снижению
стандартов жизни, наблюдается предрасположенность населения к переменам.
Среди рассматриваемых стран менее всего экономическая жизнь пострадала в
Беларуси, сохранивших многие экономические и политические структуры
государственного социализма. Грузия, Украина на первых порах пережили
25
«Васильковая революция» («Джинсовая революция» - термин предложен самими оппозиционерами) -
смена власти А.Лукашенко в рамках президентских выборов 2006 года с целью либерализации страны и
демократиции политического режима. 26
Массовые беспорядки в Ереване - серия протестов, состоявшихся в Армении после президентских выборов
19 февраля 2008 года, организованные сторонниками кандидата в президенты и первого президента Л. Тер-
Петросяна. 27
«Революция булыжников» («Революция Твиттера» (англ. Twitter Revolution)/ «Сиреневая революция») -
массовые беспорядки 7 апреля 2009 года Кишинѐве, начавшиеся после апрельских выборов в Парламент
Молдавии. Беспорядкам предшествовал митинг молдавской оппозиции 6 апреля.
37
значительное уменьшение валового национального продукта, и обеднение
значительной части населения [3, 26].
Практические политические альтернативы имеющемуся положению
вещей. Альтернативные политические стратегии, которые могут взять на
вооружение посткоммунистические страны, включают в себя возможное
членство в НАТО и/или ЕС [4, 33]. Присоединение к этим институтам означает
позитивные продвижения демократии, причем у Киргизии нет реальной
возможности войти ни в ЕС, ни в НАТО, поскольку «продвижение демократии»
несовместимо с клановой и эгоистичной политикой с ярко выраженным
региональным характером. В Грузии элита была достаточно сплоченной и
считала поддержку Запада условием экономической и политической
безопасности.
Особенности динамики режимов постсоветских стран и различия между
ними, а также заметны при сравнении рейтингов политических прав и
гражданских свобод, которые ежегодно публикует Freedom House28
. На
основании представленных данных мы имеем возможность проследить
«успешность» цветных революций и процесса демократизации в ряде стран
постсоветского пространства.
Рис. № 1.
Средние показатели Freedom House по параметру «Оценка демократии»
По данным Freedom House несвободными являются Узбекистан,
Белоруссия, Армения, а восстание в Андижане в 2005, Васильковая революция
в 2006 и серия Ераванских протестов в 2008 не достигли поставленных целей.
Причем, как отмечают эксперты, дальнейшие изменения политических режимов
в обозримом будущем данных государств маловероятны (McFaul, 2002; Way,
2005, Hale, 2005).
В зону частично свободных стран входят Украина, Грузия,
28
Ежегодные средние оценки политических прав и гражданских свобод в 12 постсоветских странах (средний
индекс политических прав и гражданских свобод). Категории: 1-3 – свободные страны, 3-5 – частично
свободные страны, 5-7 – несвободные страны.
38
демонстрирующие «успех» своих Оранжевых (2004, 2005) и Розовой (2003)
революций.
Отдельную группу составляют Киргизия с низкими показателями
свободы и успешной Тюльпановой революцией в 2005, Дынной революцией в
2010 и Молдавия с показателями, стремящимися к частично свободному
уровню и неуспешной Революцией булыжников в 2009. Что касается Дынной
революции 2010, то эти события значительно выбиваются из общей картины
общности сценарных механизмов, так как они не были «привязаны» к
избирательному процессу и отличались применением насильственных методов
и большим количеством жертв и пострадавших.
В странах, где цветные революции оцениваются как условно «успешные»,
после революционных событий числовые показатели демократичности
остаются на том же уровне или же принимают меньшее значение, что можно
рассматривать как позитивную динамику в контексте продвижения
политических прав и гражданских свобод. В ситуациях «неуспешности»
цветных революций прослеживается другая тенденция – неудавшиеся
трансформации приводят к повышению уровня несвободы в стране.
Также важно отметить, что с точки зрения анализа данных Freedom
House, демократизация на постсоветском пространстве не является
центральной тенденцией. Данное утверждение построено на вычислениях
модального значения для всего массива данных (= 4,96) и коэффициента
вариаций (= 0,94). Страны не демонстрируют готовность к демократическим
трансформациям настолько, чтобы сохранить достигнутый уровень свобод и
уменьшить стремление к автократичном наследиям прошлого.
Таким образом, цветные революции не являются гарантом
демократизации общественно-политической ситуации: эффект революций в
Грузии и на Украине отличается от революции в Киргизии и тем более от
попыток революций в Узбекистане, Белоруссии, Армении и Молдавии.
«Успешность» «цветных революций» - многоплановый феномен, который
заключается в сочетании следующих ключевых элементов: «наследие
прошлого»; эффекты институтов, относительная цена стратегий; сценарии
конфликта, которые либо «замораживают» траектории изменений режима в
конечной точке, либо продолжают цикл дальнейших изменений, а также
условия «успеха» включают в себя организованную оппозицию с
альтернативной идеологией и политической программой.
Литература
1. Гельман В. Из огня да в полымя? Динамика изменений
постсоветских режимов в сравнительной перспективе / Полис. 2007. №2.
С. 81-108.
2. Голдстоун Дж. К теории революции четвертого поколения // Логос.
2006. № 5.
3. Лейн Д. «Цветная» революция как политический феномен/
Социология: теория, методы, маркетинг. 2010. N. 1. С. 14-36.
39
4. Оранжевые сети: от Белграда до Бишкека / сост. Е.Бондарева; ред.
Н.Нарочницкая. — СПб.: Алетейя, 2008. — 208 с.
5. Bunce V.J., Wolchik S.L. International diffusion and postcommunist
electoral revolutions / V.J. Bunce, S.L. Wolchik // Communist and
Post_Communist Studies.—2006.—Vol. 39.— P. 283–304.
6. Hale, Henry E., 2005, «Regime Cycles: Democracy, Autocracy, and
Revolution in Post-Soviet Eurasia», World Politics, vol.58, N1, P.133-165.
7. Mahoney, James, Richard Snyder, 1999, ―Rethinking Agency and
Structure in the Study of Regime Change‖, Studies in Comparative
International Development, vol.34, N3, P.3-32.