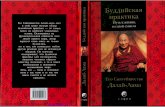ФИЛОСОФИЯ СПИНОЗЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ФИЛОСОФИЯ СПИНОЗЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
О Т А В Т О Р А
И здавая работу о философии Спинозы, автор стремился заполнить пробел в советской философской л и тературе. Учение Спинозы — одна из наиболее интересных страниц домарксистской философской мысли. Н а русском языке имеется немало трудов, освещ аю щ их это учение. Однако монографические исследования, рассм атриваю щие все его стороны, немногочисленны. К ним относится прежде всего 2-й том «Истории новой ф илософии» Куно Фишера, появившийся в русском переводе в начале этого столетия. Он полностью посвящен Спинозе, однако теперь значительно устарел, не говоря уж е о его методологической несостоятельности с точки зр ения марксизма. Д ругие дореволюционные монографии, посвященные Спинозе, например «М ораль Спинозы» Рене Вормса (переводная), выш едш ая еще до у к азан ного сочинения Куно Ф ишера, «М етафизика Спинозы» Л . Робинсона (С.-Петербург, 1913), «Этическое миросозерцание Спинозы» С. Ф. К ечекьяна (М осква, 1914), освещ аю т лиш ь некоторые стороны этого учения. В советское время, главным образом в 20-е и 30-е годы, бы ло опубликовано много статей и ряд отдельных изданий, иногда довольно значительных по объему, как например книга Я. М ильнера «Бенедикт Спиноза» (М осква, 1940). Однако за некоторыми, сравнительно небольш ими исключениями, эти статьи и брошюры преследовали цели разъяснения и популяризации, оставляя в тени некоторые особенно трудные стороны этой философии, имеющие, однако, принципиальную важ ность. В за р у бежной философской литературе Спинозе посвящ ено не-
з
обозримое количество статей и книг. В предлагаемой читателю работе автор стремился учесть важнейш ие из них. Он попытался вместе с тем дать по возможности всестороннее исследование этой чрезвычайно трудной и сложной философской системы.
Выявление наиболее значимого содержания философских систем прошлого для нашей современности превращ ает историко-философское исследование в исследование сугубо теоретическое. В предлагаемой читателю монографии автор стремился продемонстрировать эту определяющую особенность историко-философского исследования. Убедительный анализ столь сложной и многогранной философской системы, каким является учение Спинозы, с необходимостью требует максимального расш ирения историко-философского горизонта. Поэтому автор хотел представить эту философию как звено историко-философского процесса — от античности до современности. Этот замысел предопределил структуру предлагаемой работы, в которой непосредственно Спинозе посвящено несколько больше половины всего исследования. Во всех его частях автор стремился выявить такие черты, которые обогащ ают марксистско-ленинское понимание историко-философского процесса. Р аботая над своей монографией, автор руководствовался прежде всего сознанием важности этой работы для идейно-философской борьбы современности, борьбы диалектического материализм а против многочисленных разновидностей бурж уазного идеализма. Однако не менее важную сторону своего исследования он видел и в том, что некоторые идеи трактуемой философии сохраняю т свою актуальность и для нашей эпохи — эпохи стремительного научного и социального прогресса. Оба указанных аспекта предлагаемой теперь вниманию читателя книги даю т, по убеждению автора, полное основание для ее названия — «Философия Спинозы и современность».
Автор приносит искреннюю благодарность коллективу кафедры истории зарубеж ной философии философского ф акультета М осковского университета и группе по и зданию философского наследия И нститута философии АН СССР, где обсуж далась рукопись этой книги.
I. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ, РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ В ЕВРОПЕ И НИДЕРЛАНДАХ В КОНЦЕ XVI—XVII в.
Одна из определяю щ их особенностей той эпохи в развитии западноевропейского общ ества, которая обычно именуется в советской исторической литературе эпохой ранних бурж уазны х революций, состоит в недостаточн о й — по сравнению с эпохой французской буржуазной революции конца X VIII в. — экономической и идеологической зрелости руководившего тогда общественным прогрессом класса буржуазии. Во всех ведущих странах Западной Европы XVI—XVII вв. — в И талии, Испании, Германии, во Франции, в Англии, Н идерландах — бурж уазия так или иначе была вынуж дена приспосабливаться к господствующим феодальным классам и к созданной ими форме общественно-политического господства, к абсолютной монархии. М асш табы и степень капиталистического развития в разны х странах были р аз личны, но именно в Н идерландах в XVII в. они были наибольшими.
Одно из следствий развития капиталистического производства состояло, как известно, в блестящ ем прогрессе естествознания XVII в., особенно математики, м еханики и астрономии, залож ивш ем фундамент современного естествознания. Теснейш ая связь естествознания рассматриваемой эпохи с техникой, со многими сторонами экономической и государственной жизни объясняет исключительное внимание, оказы ваем ое правительствами Англии, Н идерландов, Ф ранции и других государств его развитию 1.
Занятия естествознанием становятся модными в ари стократических и д аж е придворных кругах. Однако правительствую щ их лиц интересовала, как правило,
,5
только прикладная, техническая сторона естествознания. Заботясь о его развитии, они вместе с тем всемерно стремились поставить барьер тому могучему и все усиливавш емуся влиянию естественнонаучных открытий на умы людей, которое подрывало вековые устои религии и способствовало развитию материалистического и атеистического мировоззрения. Причина такой позиции государственных руководителей очевидна. К ак в XVI в., так и в XVII в. самой мощной идеологической силой, господствовавшей над сознанием народных масс — крестьянства, городского плебса, в несколько меньшей мере и бурж уазии,— была религия, остававш аяся самой эф ф ективной помощницей эксплуататорского государства в духовном воздействии на их сознание. Н есмотря на все и зм ен ен и я 'в отношениях церкви и государства, происшедшие в результате образования национальных абсолютистских монархий, а затем и реформационных движений, связи государства и церкви в XVII в. были еще очень многообразны и тесны. К ак заметил один из членов английской палаты общин в 1641 г., «церковь и государство смешаны как вода и вино»2.
Эта общ ественная ситуация объясняет главное направление в развитии передовой, буржуазной по своей сути идеологии рассматриваемой эпохи, состоящ ее в секуляризации всех сторон жизни, в освобождении их от церковной опеки. Процесс этот, как известно, начался задолго до рассматриваемой эпохи, еще в недрах ф еодального, средневекового общества. Одним из его философских отраж ений служ ила тогда теория «двух истин», выводивш ая человеческое мышление из-под контроля теологии. О днако только теперь, в связи с успехами бурж уазного производства и бурным прогрессом научного познания процесс секуляризации жизни и о тр аж ающей ее идеологии приобретает характер «цепной реакции», охвативш ей все ее стороны. Если эпоха П росвещ ения стала вершиной борьбы и торж ества б урж уазного сознания над сознанием феодальным, а последовавш ее спустя несколько десятилетий развитие позитивизма сигнализировало уж е о спаде борьбы буржуазной идеологии против религии, то XVII в. представляет преддверие этой борьбы, закончивш ейся сменой фео
дального мировоззрения мировоззрением юридическим. При этом формы, в каких происходил процесс секуляри
6
зации в XVII в., отличались крайней сложностью и противоречивостью. Н е уяснив сущ ества этой противоречивости, нельзя понять и специфических особенностей мировоззрения Спинозы, как, впрочем, и в с е х . других крупных мыслителей этой эпохи.
Одно из существенных проявлений такой противоречивости составляет узость социальной базы передовых, материалистических по своей сути направлений и идей. Энгельс, подчеркнув аристократический характер ан глийского материализма XVII в., принявшего деистическую ф орм у3* указал , что привычки и стремления «новых дворян» «были гораздо более буржуазны ми, чем ф еодальны м и»4. Аналогичное явление наблю далось и во Франции XVII в. Ф илософские идеи Д екар та — не только его метафизики, но и его физики, — а так ж е м атериалистические и атеистические идеи Гассенди и либер- тинов («вольнодумцев») находят своих приверж енцев преж де всего при дворах герцога де Лю иня, принца Конде и в других аристократических сал о н ах 5.
Эзотерический характер прогрессивных, рационалистических и материалистических по своей сути идей не был, однако, явлением, вызванным исключительно специфическими условиями XVII или даж е XVI в. Я вление это порождено скорее более глубокой основой эксп луататорского общества, отделявш ей массы от науки и образованности и стремившейся удерж ать их сознание в пределах иррациональных догм религии. Т акова уж е социальная сущность теории («двух истин», ведущ ей свое происхождение от Ибн Сины и Ибн Руш да. Аверроэс, как известно, утверж дал, что высшая, ф илософ ская истина, по своей сути будто бы не противоречащ ая догм атам Корана, доступна только незначительному кругу людей, своего рода умственной аристократии, в то время как подавляю щ ая масса народа самой природой предназначена довольствоваться этими догмами. Концепция эта, будучи развита на европейской почве, сы грала исключительно прогрессивную роль, способствуя уж е в конце средневековья и еще более в эпоху. В озрож дения освобождению философии и науки от теологической опеки. Вместе с тем с развитием буржуазного индивидуализм а в эту эпоху стала более ощутима социальная направленность теории «двух истин», типичный пример которой дан в произведениях П етра Помпонацци.
7
В дальнейш ем, у многих передовых мыслителей XVII в. мы встречаемся с тем же противоречием, порожденным, с одной стороны, страстным стремлением развивать научное и философское знание, а с другой — по возм ож ности ограничивать социальную сферу его прогрессивного мировоззренческого воздействия. П оказательна в этом отношении деятельность Д екарта. Ф ранцузский мыслитель выступал как смелый новатор, боровшийся за приближение науки и философии к жизни, написавший ряд своих произведений на французском языке, сознательно обращ аясь к «здравому смыслу» и «естественному разуму» тех, кто не изучал в университетах схоластической премудрости, он одновременно подчеркивал свою лояльность по отношению к католической церкви и ее идеологии и предназначал свои «Размыш ления» и «Н ачала философии» лиш ь для профессиональных философов.
Н идерланды XVII в. — страна, в которой социальные и идеологические противоречия эпохи выразились с наибольшей силой. В течение почти всего века они находились в фокусе экономической и идейной жизни Западной Европы. Победоносная борьба с ф еодальнокатолической Испанией, мировая торговля, грабеж колониальных народов, интенсивное развитие м ануф актурного производства, ж естокая эксплуатация трудящ ихся масс своей страны сделали Н идерланды «образцовой капиталистической страной XVII столетия»6. Но особенность голландского капитализма XVII в. состояла в преобладании торговой бурж уазии в экономической жизни страны. П ока Англия не проделала свою буржуазную революцию, затянувш ую ся на несколько десятилетий, торговая гегемония голландцев обеспечивала им и промышленное преобладан ие7. «Республика Соединенных Провинций,— писал Уильям Темпль, английский посланник в Гааге, современник описываемых событий,— выш ла из моря, там ж е она первоначально почерпнула силу, а такж е величие и богатство» 8. Амстердам, один из самых больших городов тогдашней Европы, становится цитаделью нидерландской и мировой торговли 9. В процессе борьбы с Испанией, а затем с Францией, в эпоху английской революции Н идерланды стали центром притяжения передовых экономических и идейных сил. Находившие здесь убежищ е вольные и невольные
8
изгнанники из разны х стран Европы, а такж е интенсивная торговля голландцев сделали Н идерланды , по вы ражению одного современного историка, «перекрестком народов» 10.
О днако необходимость ведения войн с крупнейшими военно-феодальными держ авам и того времени тормозила развитие капиталистических отношений в стране. Она поддерж ивала значение дворянства, усиливала власть ш татгальтеров из дома Оранских, стремивш ихся изменить республиканский политический строй, установившийся в Н идерландах после заклю чения Утрехтской унии (1579). Б орьба республиканской партии «провин- циалистов», или «федералистов», против централизатор- ско-деспотическнх устремлений «унитаристов» (так н азы валась партия Оранских) составляет главное содерж ание политической жизни Н идерландов XVII в. Республиканская партия как партия торговой бурж уазии была заинтересована в федералистской структуре страны, ибо так ая политическая структура усиливала ее экономическое господство. Вместе с тем как главный эксплуататор торговая бурж уазия Н идерландов оказалась в серьезном конфликте почти со всеми остальными классами страны, склонявш имися на сторону Оранских. Первый этап борьбы республиканцев и монархистов закончился победой ш татгальтера М орица Н ассау- ского и казнью великого пенсионария Голландии, самой крупной и экономически наиболее развитой провинции Н идерландов, О лденбарнвелде (1619). П осле заклю чения Вестфальского мира, упрочившего положение Н идерландской республики, а такж е неожиданной смерти ш татгальтера В ильгельма II республиканская партия снова добилась руководства Н идерландами. Правление великого пенсионария Голландии Я на де Витта (1653— 1672) было «золотым веком» нидерландских республиканцев и апогеем успехов голландской торговой бурж уазии. Трагическая гибель великого пенсионария, растерзанного толпой, инспирированной партией Оранских, в 1672 г. свидетельствовала о враж дебности нидерландского народа к республиканской партии торговой бурж уазии и была одним из выраж ений отмеченной выше узости социальной базы передовых общественных сил. Б урж уазная революция в Н идерландах была связана с необходимостью вести жестокие войны с могущественны
9
ми военными держ авам и за независимое национальное сущ ествование. Это делало во много раз более тяж ким бремя налогового обложения и до предела усиливало эксплуатацию бурж уазией трудящ ихся масс, которые, по словам М аркса, уж е в 1648 г. (когда был заключен Вестф альский договор) «больше страдали от чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем народные массы всей остальной Европы» 11.«Все это изолировало нидерландскую буржуазию и укрепляло позиции Оранского дома, в котором народные массы видели главных защитников национальных интересов перед лицом могущественных иностранных держ ав.
Упомянутый выше Уильям Темпль, находившийся в тесных отношениях с де Виттом и его друзьями, в своих «Зам етках о государстве Соединенных Н идерландских провинций», отмечая тяготы бесконечных налогов, подчеркивает вместе с тем неограниченность власти городских магистратов и провинциальных ш татов. Он указы вает такж е, что правящ ую прослойку в этих магистратах и ш татах составляла верхушка торговой бурж уазии, своего рода рантье, жившие на доходы и проценты. С оставляя замкнутую правящую прослойку, эти рантье, выделялись своим воспитанием, образованием, нередко приобретали поместья и дворянские титулы. Республиканизм купеческой олигархии в повседневной политической практике, таким образом, был скорее аристократичным и далеким от демократизма 12. Этим в значительной степени объясняю тся успехи ш татгальтеров О ранских, демагогически использовавших в своих интересах недовольство народных масс.
Идеологические формы этой борьбы — преж де всего религиозные. О твергая многочисленные утверждения бурж уазны х историков относительно будто бы происшедшего в эпоху Ренессанса и Реформации усиления религиозности среди различных классов населения Западной Европы 13, следует вместе с тем констатировать усложнение религии и религиозной ж изни в результате огромных социальных изменений, происшедших в рассм атриваемую эпоху. Именно этим объясняю тся все реформа- ционные движ ения XVI в. и многочисленные сектантские учения, их сопровождавш ие. «Скроенное по мерке феодализм а католическое мировоззрение,— писал Энгельс,—
Ю
не могло больше удовлетворять этот новый класс (т. е. бурж уазию .—В . С .), так как оно ис соответствовало созданным им новым условиям производства и обмена. Тем не менее и этот класс еще долгое время оставался в оковах всемогущей теологии. Все реформационные движ ения и связанная с ними борьба, происходившая с X III до XVII столетия под религиозной вывеской, были по своему теоретическому содержанию лиш ь многократны ми попытками бю ргерства, городских плебеев и поднимавш егося вместе с ними на восстания крестьянства приспособить старое теологическое мировоззрение к и зменившимся экономическим условиям и ж изненному укладу новых классов» 14.
Из всех реформационных учений наибольш ее революционное значение имел кальвинизм, который, по словам Энгельса, создал республику в Голландии 15. Если мелкобурж уазные слои Н идерландов, главны м образом ремесленники и мелкие торговцы, склонялись к анабаптизму, крестьяне оставались в основном католи ками, то более крупная бурж уазия и массы городского плебса стали пламенными прозелитами кальвинизм а 16, который они в своей борьбе с католической Испанией стали рассматривать как национальную религию Н и дерландов. Ф аталистическая доктрина кальвинизм а стала могучим средством мобилизации и бурж уазии и н ародных масс, она необыкновенно поднимала их револю ционную активность, потому что социально-психологическую базу этого ф атализм а составляла уверенность р а з вивающихся классов в исторической неодолимости их дела.
Но по мере развития революции, уж е к концуXVI в., когда стала ясной победа Н идерландов над И спанией, когда Н идерланды сложились в самостоятельное государство, служители кальвинистской церкви превращ ались в особую касту, все строж е наблю давш ую за догматической стороной кальвинистского вероисповеда' ния, подвергавшую цензуре печать, вмеш ивавш ую ся в государственные дела и в личную ж изнь граж дан . С д р у гой стороны, когда ослабло напряж ение военных действий, нидерландская бурж уазия, особенно ее правящ ая часть, верш ивш ая дела в провинциальных ш татах, так называемые регенты, начала тяготиться опекой кальвинистских консисторий и синодов. По мере того как
11
голландские буржуа богатели и усваивали аристократический образ жизни, они все более отдалялись от предписаний кальвинистской морали.
В этих условиях возрастало влияние гуманистической традиции, связанной с именем Э разм а Роттердамского, более свободно относившейся к догматической стороне религии, традиции, имевшей тенденцию сводить религию к проблеме индивидуального морального соверш енствования человека, которому Эразм в своей известной полемике с Лютером не склонен был отказы вать в свободной воле, ибо ее отрицание, полагал он, делает невозможным соверш енствование человеческой природы. Крупнейшим из нидерландских «свободомыслящих» в конце XVI в., продолжателем идей Э разм а был Д ирк Коорнхерт, автор первого философского произведения на голландском языке, резко выступавший против нетерпимости ортодоксального кальвинизма и отвергавший христианское положение об изначальной испорченности человеческой природы. Выступая против притязаний кальвинистских церковников на политическое руководство нидерландским обществом, Коорнхерт стремился указать им их действительную роль: «Я обращ аю сь ныне к проповедникам, д а помнят они о том, что они — слуги, а не господа, что они долж ны довольствоваться своей должностью и служить тем, кто их взял на службу, не забы вать о своем занятии и не совать своего носа в дела властей, а всегда придерж иваться слова божьего». О бращ аясь, с другой стороны, к властям , Коорнхерт напоминал им: «Мы указываем только, чтобы городские власти, которые стоят ныне у кормила государственного правления, обладали государственной властью полностью и б езраздельно, и не откры вали бы ворот и дверей, чтобы духовенство, церковники могли добиться нового права, новой власти над граж данскими властями и граж данами» 17. Эти слова Коорнхерта свидетельствую т о серьезной борьбе, начавш ейся в юной республике по вопросу: долж на ли церковь зависеть от государства или наоборот. Хотя доктрина кальвинизма вклю чала положение о независимости государства от церкви — и в этом заклю чался один из главных результатов реформационных дви ж ений,— но в повседневной политической практике кальвинистская церковь постоянно вмеш ивалась в государственные дела и стремилась привлечь государственную силу
12
для достижения своих интересов и целей, далеко не всегда совпадавш их с государственными. В этих своих устремлениях церковники исходили из принципа, согласно которому и церковь и государство представляю т собой «установления бога» на земле.
В начале XVII в. борьба меж ду республиканской партией регентов и монархической партией Оранских, опиравш ихся на церковь, приняла характер религиозного и церковного раскола. Внутри кальвинистской церкви возникла сильная оппозиция, основываю щ аяся на учении богослова Арминия, согласно которому абсолю тное божественное предопределение, составляю щ ее стерж ень теологической догмы К альвина, все же преодолимо для человека, «спасающегося» силой своей веры в бога. Арминианство, испытавш ее влияние гуманистической традиции Эразма Роттердамского, вносило элемент суб ъ ективности в теологическую концепцию кальвинизма, ограничивающий абсолютный божественный произвол в пользу индивидуального реш ения человека. В свете выш еизложенного долж но быть такж е ясно, что одним из важнейш их принципов учения арминиан, или ремон- странтов, было требование подчинения церкви интересам государства, чтобы не только при замещ ении церковных должностей, но даж е при разреш ении богословских вопросов решающий голос принадлеж ал государственной власти. Борьба арминиан с ортодоксальными кальви нистами, контрремонстрантами, или гомаристами (по имени теолога Г ом ара), находила свое отраж ение во множестве памфлетов, в которых вопрос о предопределении и другие теологические тонкости находились в причудливом переплетении с вопросами политики, в особенности политической роли церкви. П ораж ение партии федералистов и казнь О лденбарнвелде означали и п оражение ремонстрантов. Н а Дордрехтском соборе (1619) победили гомаристы, сторонники ортодоксального, «несгибаемого» кальвинизма. Н ачались массовые репрессии против ремонстрантов, которые, однако, не привели к полному исчезновению их «ереси». Когда в начале 50-х годов рассматриваемого столетия наступил относительно мирный период истории Нидерландов, будущий ш татгальтер Вильгельм II I был еще младенцем и полноту власти снова взяла в свои руки республиканская п ар тия, ремонстранты, составлявш ие меньшинство, по сло
13
вам У ильяма Темпля, представляли «скорее государственную партию, чем церковную секту», будучи людьми более образованны ми и интеллигентными, часто находились на государственной служ бе и обладали благодаря этому весом, обратно пропорциональным их количеству 18. Серьезнейш ая борьба, какую им пришлось вести с ортодоксальными кальвинистскими церковниками, за которыми ш ло большинство нидерландского народа, в особенности концентрировалась вокруг вопросов о веротерпимости, об отношении религии и философии, а такж е церкви и государства.
К ак уже выш е было выяснено, огромная социальная роль церкви в рассматриваемую эпоху превращ ала церковь и государство в тесных союзников, делая церковь орудием государственной власти, а государственную власть орудием церкви. Поэтому единство государства в политическом сознании эпохи, особенно в сознании государственных руководителей и ревнителей господствовавш их церквей, ассоциировалось обычно с единством вероисповедания подданных данного государства. Осущ ествление формулы «un roi, une foi» (один король, одна вера) привело к отмене Н антского эдикта и к изгнанию многих тысяч гугенотов из католической Ф ранции. Т акая религиозная политика как действительность или как тенденция была присуща и другим странам Европы, но не везде она могла быть выполнена с одинаковым успехом. В Англии, как известно, попытки С тю артов сделать англиканство единственной религией подданных королевства и искоренить всех «еретиков» послужили одной из важнейш их причин революции.
Н идерландские кальвинисты, укреплявш ие централи- заторские стремления Оранского дома, тоже старались распространить в своей стране дух религиозной нетерпимости по отношению ко всем иноверцам и сектантам, «еретикам». «М ож ет быть только одна религия в государстве,— говорили они.— Все еретики долж ны быть изгнаны, ибо лучш е иметь безлюдный город, чем торгующий город, полный сектантов» 19. Этот воинствующий фанатизм наталкивался на реш ительное сопротивление республиканцев, противопоставивших ему интересы нидерландской экономики, в системе которой столь большую роль играла торговля, необходимость привлечения в страну капиталов и лиц, искусных в различных ремес
14
лах и производствах, какую бы религиозную доктрину они ни разделяли 20. С теоретико-экономическим обоснованием вероисповедного либерализм а республиканской партии выступил ее виднейший публицист, лейденский суконщик Питер де л а Кур в своем произведении «П ольза голландцев», во втором издании которого в качестве соавтора выступил сам Ян де Витт 21.
Все сказанное объясняет, почему многочисленные эдикты, изданные под напором ортодоксальных кальви нистов Генеральными ш татами против ряда «еретических» религиозных доктрин и передовых философских учений, важнейшим центром которых стали в XVII в. Нидерланды 22, слабо приводились в исполнение. Р есп убликанцы сопротивлялись такж е попыткам кальвинистских церковников подчинить своему контролю научнофилософское развитие, центрами которого стали Л ей ден ский, Утрехтский и некоторые другие нидерландские университеты, в которых укреплялось картезианство. В 1656 г. Генеральные штаты под влиянием ремонстран- тов (и при ближайш ем участии де Витта) издали эдикт, предписывающий университетам строго соблю дать в преподавании границы между теологией и философией 23,— чтобы и не раздраж ать церковников и предохранить науку от их посягательств.
Важнейшим проявлением процесса секуляризации общественной мысли стала идея о полном различии задач государства и церкви. Э та идея, начало которой было положено в произведении М арсилия П адуанского, особенно интенсивно развивалась в XVII в. и имела множество сторонников. Суть ее состояла в убеждении, согласно которому задача церкви — вести лю дей наиболее коротким путем «к спасению», к «вечной жизни» на том свете, в то время как зад ач а государства заклю чалась в заботе о земных, «бренных», телесных д елах людей. Из мысли о полном разделении целей церкви и государства следовал вывод, состоявший в провозглашении абсолютной независимости и самодостаточности общественной жизни, в представлении религии вероисповедному убеждению любого человека, т. е. к полнейшей религиозной терпимости и к отделению церкви от государства. XVII в. еще не принес победы этой идее, но завоевал для нее множество сторонников и, что еще важ нее, стал решающим историческим периодом в ее
15
разработке и в теоретическом обосновании. К числу наиболее значительных теоретиков, обосновывавших идею веротерпимости и отделения церкви от государства, принадлеж али Боден, польские социниане Крелль, Пшып- ковский и Ш лихтинг, а затем Спиноза как автор «Богословско-политического трактата» и Л окк как автор «Писем о веротерпимости».
И дея о принципиальном различии задач государства и церкви методологически такж е была связана с теорией «двух истин», как было связано с ней учение о н езависимости науки и философии от теологии. В эпоху позднего Ренессанса, как и в XVII в., особенно был распространен тот вариант этой теории, согласно которому философия и теология, религия и наука имеют различные предметы и поэтому не могут быть в конфликте друг с другом. Этот вариант теории двух истин, восходящий к философам Ш артской школы (XII в .), в дальнейш ем был четко сформулирован Дунсом Скотом и особенно У ильямом Оккамом. Главный представитель средневекового номинализма утверж дал, что знание опирается на опыт и вы раж ается в истинах, очевидных д ля человеческого ума или выведенных из очевидных положений, а вера основывается только на откровении и не допускает никаких рациональных доказательств. Последнее положение, будучи острием своим направлено против схоластической «естественной теологии», сформулированной Фомой Аквинским, приводило к полной ирра- ционализации веры и одновременно открывало путь к философским, а следовательно, и научным исследованиям без вмеш ательства теологии. Такие мыслители позднего Возрождения, как Галилей или Бэкон, боровшиеся за раскрепощ ение философии и науки от теологии, использовали этот вариант теории «двух истин» в интересах свободного, не связанного богословской догматикой исследования природы. Они, таким образом, подчеркивали независимость философии и науки от теологии. С другой стороны, этот вариант теории «двух истин» был использован некоторыми теологами, и прежде всего Лю тером, в целях доказательства невозможности для философской мысли поколебать положения веры, поскольку они не поддаются никакому рациональному обоснованию. Тем самым эти теологи, обращ аясь к теории «двух истин», доказы вали незыблемость веры,
16
неуязвимость ее догматов перед лицом разума. В этой связи для уяснения всей сложности процесса секуляризации общественной мысли следует сказать несколько слов о состоянии религиозной мысли и ее отношении к философии в XVI—XVII вв., особенно в протестантских странах, к которым принадлеж али и Нидерланды .
Главные теоретические источники религиозной реформы Л ю тера — мистика и номинализм позднего сред невековья. Развитие этих идейных факторов разорвало тот мезальянс между теологией и философией, религией и знанием, какой так выпукло был представлен в теоло- гическо-философской доктрине Фомы Аквинского, воспринятой католической церковью. Провозглаш ение «оправдания верой» как единственного пути к «спасению» и возвращение ad fontes, к «свящ енному Писанию», порывавшее с многовековым «священным преданием» католической церкви, закономерно сочеталось у Л ю тера с мистическим пренебрежением к разуму, с воинствующим иррационализм ом 24. Не менее страстные нападки на разум, доказательство несовместимости его законов с положениями веры присущи и другому главному представителю реформационного движения, Кальвину, утверждавш ему, что невежество верующего лучше, чем дерзость мудрствую щ его25. В озвращ аясь к Августину, К альвин еще резче, чем Л ю тер, подчеркивал несвободу человеческой воли, наделяя божественное всемогущество абсолютной произвольностью, не связанной никакими предписаниями разум а, и приходил к последовательно иррационалистическому истолкованию действительности, преж де всего человеческой жизни. Эти выпады Л ю тера и Кальвина против разум а, столь напоминаю щ ие тер- туллиановское «верю, ибо нелепо», в XVI и тем более в XVII в. безусловно вы раж али бессилие религии перед лицом разума, философии и науки, переход ее на оборонительные позиции в условиях всестороннего общ ественного прогресса, прежде всего прогресса научной, м атериалистической мысли.
Мистицизм, с его неверием в разум, в познавательные возможности человека и вытекающем из него стремлением жить «с богом и в боге», был широко распространен не только в XVI, но и в XV II в. и притом в различных классах общества. Развитие мистицизма означало и развитие религиозного субъективизма, выступавш его
17
против внешних, догматизированных и принудительных церковных авторитетов за лично пережитое и индивидуально окраш енное содерж ание религиозной жизни. Религиозный субъективизм, отраж авш ий и возрастание индивидуализма, характерного для бурж уазного общ ества, сначала служил могучим оружием в руках Р еф о р мации в ее борьбе против застывшего католического культа, потерявшего свое былое воздействие на души верующих. В этом состоял смысл основного религиозного принципа Л ю тера — оправдание «верой», а не «делами». Но затем , когда реформированные церкви сложились в устойчивые организации и разработали собственные догматы , религиозный субъективизм стал в а ж нейшей особенностью различных сектантских движений, направленных против реформированных церквей. Таким образом, мистицизм и тесно связанный с ним религиозный субъективизм играли социально неоднозначную роль. Исповедание мистических воззрений в рассм атриваемую эпоху, например, анабаптистами и рядом других сектантских народных движений, будучи вы раж ением оторванности народных масс от прогресса науки и техники, цивилизации вообще, плодами которой пользовались господствующие классы, нередко обосновывало тогда, как и в предшествующие века средневековья, революционные движ ения, направленные против господствующего эксплуататорского строя. М ожно сослаться на известное указание Энгельса в «Крестьянской войне в Германии»: «Револю ционная оппозиция феодализму проходит через все средневековье. Она выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания. Что касается мистики, то зависимость от нее реф орм аторов XVI века представляет собой хорошо известный факт; много заим ствовал из нее такж е и М ю нцер»26. П ровозглаш енное Реформацией возвращ ение к «свящ енному писанию», к Ветхому и Новому заветам Библии, усиливавш ее мистические течения в религиозной мысли, было сильнее воспринято в народных сектантско-еретических движениях, чем у идеологов бюргерской и дворянской Реф ормации. Если последние, вы рабаты вая свою религиозную догматику, с течением времени все- таки возвращ ались к схоластике, то первые более последовательно подчеркивали непарушнмость «слова
18
божьего» в Библии, особенно в Евангелии, потому что видели в нем обоснование своих утопическо-коммунистических устремлений. П ереведенная на ряд живых народных языков Библия нередко ста новилась в XVI—XVII вв. революционным документом. Поэтому, например, Генрих V III, английский король, в 1554 г. запретил чтение Библии мастеровым, поденщ икам, земледельцам и слугам, которые могли истолковать ее в духе радикальны х сектантских учен и й 27. Мистицизм и иррационализм последних усиливался такж е той страстной борьбой, какую они еще эн ер гичнее, чем идеологи эксплуататорских классов, вели с псевдорационализмом схоластики и католической ц еркви, как наивысшего обобщения и санкции ф еодального строя.
Несмотря на столь широкое распространение мистицизма и на связь его с революционными устремлениями плебейско-крестьянских масс, ему не могла, разум еется, принадлеж ать ведущ ая роль в умственном прогрессе, сделавш ем столь значительные успехи в р ассм атриваемую эпоху. Т акая роль принадлеж ала только рациона- лизму. Прогрессивное ж е мировоззренческое значение мистики в сущности исчерпывалось тем, что она подчеркивала необоснованность претензий схоластики на «разумное» истолкование догматов католического вероучения и тем самым в известной мере расчищ ала путь для успехов рационального объяснения мира. М истицизм и рационализм — гносеологически взаим оисклю чающие явления — в религиозной мысли XVII в. очень часто выступали в причудливом переплетении. Этот противоестественный симбиоз был порожден тогда противоположными факторами производственно-культурного и духовного развития человечества. М истицизм с его недоверием к познавательным возможностям человека, приводивший к упованиям на б о г а , . пассивному протесту против господствовавших общественных порядков и к уходу во внутренний, субъективный мир, отр аж ал недостаточную зрелость плебейско-крестьянских масс, их разочарование в исходе реформационных движ ений, не принесших им никакого облегчения. С другой стороны, рационализм отраж ал возрастаю щ ую веру человека в собственные силы в эпоху бурного развития производства, техники, науки и искусства. Поэтому естественно,
19
что свои наибольш ие успехи рационализм одерж ал, д аж е в сфере религии, у идеологов бюргерской оппозиции. Среди таких идеологов особенно выделялись в конце XVI и в XVII в. нидерландские арминиане, примыкавшие к гуманистической традиции Э разм а, и в особенности более поздняя формация «польских братьев» — наиболее влиятельная ветвь социниан, или аититринита- риев.
Уже Л елий Соцын, основатель социнианства, провозгласил: «Ничто, противоречащ ее разуму, не достойно веры »28. Эта рационалистическая установка по отношению к христианской религии была всесторонне развита идеологами «польских братьев» и особенно Виш оватым, автором произведения с весьма характерны м название м — «Разум ная религия». Определяющ ий принцип этого произведения, как и других произведений польских братьев, издававш ихся после 1653 года, года ‘ изгнания братьев из Польши, в Н идерландах, состоит в применении рациональных критериев к содержанию Библии и тем более к католической традиции. Если схоластики стремились поставить разум на служ бу религии, подчинить его откровению, то социииане, напротив, откровение, «священное писание» приспосабливали к разуму, пытаясь толковать многие «чудеса» как естественные, причинно обусловленные события. Считая при этом безошибочными общие основы Писания, социниане утверж дали вместе с тем, что в своих второстепенных положениях оно содерж ит ошибки и неувязки. Р ац и оналистический подход польских братьев к тексту Библии приводил их, таким образом, к тому, что они лиш али «священное писание» безошибочности, чем создавали чрезвычайно опасный для религии прецедент, использованный Спинозой. Сами польские братья не отказались полностью ни от веры в откровение, ни от веры в чудеса. Но они значительно упростили догматику христианства, уменьшили число религиозных таинств, которые истолковывались ими аллегорически. О бесценивая, таким образом, догматическое содерж ание христианства, сводя его к минимуму, центр тяж ести религии социниане переносили на морально-этические вопросы. Конечно, сама эта идея формулируется не впервые. Намеки на нее можно видеть уж е у А беляра, который в начале XII в. пытался подчинить догматы откровения критериям
20
разума. Более четко эту идею вы сказы ваю т некоторые гуманисты, например итальянские платоники Фичино и Пико делла М ирандола. Еще более определенно она была сф ормулирована Эразмом, усматривавш им смысл религиозной жизни не в скрупулезном соблюдении догматов, а в следовании немногочисленным правилам практической жизни, зафиксированны м в Евангелии. О днако именно польские социниане наиболее всесторонне развивали идею, сближ авш ую рационализированную религиозность с моральностью. В деле «спасения», учили они, решающую роль играют не те или иные догм аты и связанные с ними обряды, а поступки и образ
’ мыслей людей, соответствующие евангельской этике. Это положение социнианской религиозности превращ ало человека из безвольного орудия бога в активное сущ ество, которое в отношении разум а и воли начинало приближ аться к своему «творцу», в чем следует видеть отраж ение усиления веры человека в свои силы, происшедшее вместе с прогрессом производства, техники и науки в рассматриваемую эпоху.
П одчеркивая такж е значение верований, общих всем ^ 'христианским религиям, социниане выступали с теоре- Щ тнческим обоснованием движ ения за соединение церк-
вей, которое развивалось в Западной Европе в XVII в. преимущественно в тех бурж уазны х кругах, которые были заинтересованы в ликвидации влияния церкви на государственную жизнь и политической роли духовенства, в максимальном упрощении и удешевлении религиозной обрядности, ликвидации религиозного фанатизма и росте религиозной терпимости. Среди поборников движения за соединение церквей были не только либеральные теологи, например, латитудинарии в Англии и ремонстранты в Н идерландах, но и видные философы, противники теологических споров и сторонники веротерпимости, например Лейбниц в Германии, * Локк, испытавший влияние польских братьев, в Англии, либертины во Франции. Сущ ествовала и плебейская форма этого движения, которой мы коснемся ниже.
Рационалистическое истолкование Библии, особенно развивш ееся в Н идерландах, стало здесь значительным явлением общественной мысли, принесшем много неприятных хлопот кальвинистским теологам. Р яд либеральных нидерландских теологов, подвергая Библию рацио-
21
налистическо-аллегорическому истолкованию, стремились примирить ее с картезианской философией. Т ак поступали лейденские теологи Кокцей и Виттих, гронингенский теолог Амерполь, доказывавш ий тождество ветхозаветной истории мироздания и картезианской космогонии, лейденский богослов Хеербоорд и утрехтский врач Вельтгюйзен, впоследствии недруг Спинозы29. Б олее р а дикальная попытка истолкования «священного писания» уж е лиш ь с точки зрения философии была сделана Лю двигом М ейером, активным участником спинозовско- го круж ка, в его книге «Философия — истолковательница Священного П исания» (1666), приписы вавш аяся современниками автору «Богословско-политического трактата» . В ней доказы валось, что Библия, исходящ ая от бога, содерж ит только истину, которая, однако, была впоследствии искажена человеческими вставками и д о бавлениями, заклю чаю щ ими в себе много лож ного и противоречивого. Зад ач а рационалистической философии и состоит в том, чтобы восстановить истину, устранив своей критикой и скаж ен и я30.
Воззрения и деятельность социниан, при всей их радикальности, все ж е оставались в пределах теологии. М еж ду тем уж е для XVI и тем более для XVII в. свойственны более последовательные с точки зрения секуляризации общественной мысли и развития материалистического мировоззрения попытки наступления на господствующие религиозные вероучения с позиций передового философского мировоззрения. Примером может служ ить книга М ейера. Н аиболее характерная форма такого наступления — различные деистические концепции, яв лявш иеся, по определению М аркса, одной из б урж уазных разновидностей хри сти ан ства31. Хотя они и не поры вали с представлениями о боге, но сводили эти представления к минимуму и поэтому с крайней в р аж дебностью оценивались господствующими религиями. Деистическое движ ение — сложный комплекс идей, отражавш ий рост религиозного скептицизма, веротерпимос т и 32, вплоть до попыток соединения всех христианских религий, а затем , как увидим, и существенные особенности в развитии научно-философского мышления рассматриваемой эпохи. Первый из. этих факторов часто порож дался сущ ествованием ряда церквей и сект, возникших в период Реф ормации и жестоко вр аж д о вав
22
ших друг с другом. Эта враж д а переходила иногда в опустошительные религиозные воины, например, во Ф ранции XVI в. И не случайно, конечно, что известный публицист, социолог и философ Ж ан Боден, о тр аж ая стремление французской бурж уазии к единой централизованной власти, в своих «Разговорах семерых» (1593) не отдает предпочтения ни одному из господствовавш их тогда в Европе вероисповеданий. И спользуя мысли Фи- чнно и Пико о родстве всех религий и другие идеи религиозного синкретизма эпохи Возрождения, Боден противопоставляет всем господствовавш им вероисповеданиям некую «естественную религию», являю щ ую ся як о бы старейшей из религий, сводящ ую ся к монотеистической вере в бога, нравственное сознание, бессмертие и потустороннее воздаяние и свойственной у ж е «первым лю дям» — Авелю, Эноху, А в р аам у 33.
Эти мысли Бодена в еще более ясной, философско- рационалистической форме были сформулированы Э дуардом Гербертом из Чербери, другом Гассенди, в его сочинении «Об истине» (1624), религиозно-философским дополнением которого является трактат «О религии язычников» (1645 ) 34. П ервое произведение Герберта очень интересно с точки зрения последовательного применения принципов рационализма по отношению к религии. Оно основано на убеждении в полной независимости разума от откровения и д аж е в подчиненности второго рассуждаю щ ей силе первого. Эта сила, совершенно не зависящ ая от опыта, является естественным инстинктом человеческой природы и вы раж ается в способности человека образовы вать всеобщ ие понятия (notiones com m unes). Н а таких общих понятиях, как на фундаменте, основываются морально-религиозные принципы, являю щ иеся принципами «естественной», или «разумной», религии, не искаженной усилиями ж рецов и противопоставленной Гербертом в сущности всем историческим вероисповеданиям35.
Рост религиозного скептицизма и свободомыслия приводил в рассматриваемую эпоху не только к деистическим, но и к атеистическим воззрениям. Об этом, в частности, свидетельствует известное предисловие Мер- сенна к его же книге «Знаменитейш ие вопросы к книге Бытия», в которой «атеисты и деисты атакую тся и побеждаю тся», опубликованной в П ариж е за год до пуб
23.
ликации главного произведения Г ер б ер та36. В этом предисловии М ерсенн утверж дал, что не только во Ф ранции, но и в других странах имеется множество «ужасных атеистов» и что в одном лишь П ариж е их свыше пятидесяти тысяч. Характерно, что книгами, «преисполненными безбожия», Мерсенн назы вает сочинение Ш арро- на «О мудрости», книги М акиавелли «Князь», К ардано «О тонкости», а такж е и книги Ванини и Кампанеллы.
Этот небольшой список безбожных авторов, составленный М ерсенном, интересен тем, что он показы вает, насколько широко понимали в XVII в. атеизм, склоняясь к тому, чтобы объявить атеистом всякого, кто отрицал личного внеприродного бога господствующих монотеистических религий, бога, создавшего природу и у п равляющего ею. Этим объясняется, в частности, та незначительная граница, * которая в религиозном сознанииXVII в. отделяла деизм от атеизма. К ак писал П аскаль, атеизм и деизм «суть два предмета (choses), которые христианская религия почти одинаково ненавидит»37. В Н идерландах и в протестантских государствах Г ерм ании теологи решительно выступали против всяких попыток рационализации религии, исходящих от философии, прежде всего картезианской. Многочисленные ревнители официальных религий расценивали такие учения как атеистические, не без основания считая, что «чрезмерное» стремление к рационализации религии может только разруш ить все ее обаяние в сознании верующих. М истицизм, столь интенсивно развивавш ийся как в протестантских религиях, так и в католической, можно рассматривать как своего рода защ итную реакцию против наступления рационализма на религию. Но теологи уж е не могли открыто выступать против науки, развитие которой было настоятельным требованием жизни. Поэтому, например, П авел Воэций, сын гонителя Д екарта, Гизберта Воэция, в своей книге «Реф ормированная первая философия» (1667) делает уступку картезианству в пользу его чисто математических учений, но решительно отвергает попытки использовать философские принципы картезианства в системе кальвинистской теологии, потому что они «из теолога делаю т атеолога, скептика»38. Все деистические стремления передовых мыслителей, приводившие к естественному, в конечном итоге материалистическому объясне
24
нию явлений природы, а в известной мере и человеческой жизни, квалифицировались такими протестантскими теологами XVII в., как Д икманнус, Мейер, Трпб- беховиус, Раппопольт, Кортгольт как «натурализм», от которого лиш ь один ш аг до ат е и зм а 39.
П риведенные факты, число которых можно было бы значительно увеличить, свидетельствую т о том, что вне атмосферы религии в XVII в. была почти немыслима никакая идейная борьба. Главным врагом передовых и тем более материалистических философских учений в этом столетии оставалась теология в своих различных разновидностях. Влияние теологии, как увидим, значительно осложняло и борьбу материализм а против и деализма в рассматриваемую эпоху.
Переходя к более конкретному рассмотрению ф илософских идей, послуживших предпосылками философии Спинозы, мы обратимся преж де всего к проблеме пан- теизма — как вследствие ее важ ности для истолкования спинозизма, так и потому, что эта проблема более чем лю бая другая соединяет спинозизм с предшествующей многовековой философской традицией.
I I . И С Т О Р И Ч Е С К А Я Э В О Л Ю Ц И Я П А Н Т Е И З М А
Термин «пантеизм» возник в начале X V III в. как одно из обозначений «свободомыслия», не приемлю щего господствовавш их в Европе монотеистических христианских религий К В дальнейш ем этим термином стали обозначать философские концепции, которые в противоположность религиозно-теистическому противопоставлению бога и природы сливали их в некое единство, а иногда и отож дествляли. Такие концепции возникали и р азвивались задолго до появления самого термина «пантеизм».
Значительная трудность, встаю щ ая перед историком философии, состоит в оценке этих концепций с точки зрения основного вопроса философии. Рассмотрение истории пантеистических идей убеж дает, что пантеизму нельзя дать однозначного определения с точки зрения деления всех философских учений на материалистические и идеалистические. П редварительно можно сказать, что оценка тех или иных пантеистических концепций в качестве материалистических или идеалистических долж на быть обоснована конкретно-историческим анализом, в процессе которого необходимо учитывать главное н аправление философской борьбы в данный исторический период. При этом очень важ но уяснять, как в ту или иную эпоху понимался «бог» и как рассматривали «природу», поскольку взаимоотнош ения этих понятий образую т существо пантеистической мысли. Если понятия «материя» и «дух», па которых основываю т свои выводы материализм и идеализм, не являю тся метаф изическими противоположностями, а непрерывно р азви ваются, отраж ая прогресс в познании человеком объектив-
26
ной реальности, с одной стороны, и все больш ее услож нение внутреннего мира человека — с другой, то то ж е сам ое следует сказать о понятиях «природа» и «бог», весьма близких понятиям «материя» и «дух». Н иж е и будет сделана попытка такого ан али за возникновения и развития пантеистических концепций в истории гл ав ным образом европейской философии.
Органицизм и пантеизм в античной натурфилософии
Первый вопрос связан с самим возникновением пантеизма. Не следует ли начинать его историю в Европе вместе с началом истории древнегреческой философии? Об этом, как будто, свидетельствует сообщение А ристотеля, подкрепляемое и другими античными источниками: «Некоторые такж е говорят, что душ а разлита во всем (существующ ем), быть может, в связи с этим и Ф алес думал, что все полно богов»2. Хотя это воззрение Ф алеса, как в сущности и всех других раннегреческих философов, отвечает этимологии слова «пантеизм» («всебо- ж ие»), нам представляется, однако, что говорить о пантеизме применительно к Ф алесу преж девременно.
Пантеизм предполагает представление о боге как едином мировом духе, что связано с развитием моно^ теистических религиозных представлений. Эпоха ж е Ф алеса, как известно, была эпохой господства «языческих» политеистических представлений, и понятия бога как единого мирового духа, отличного от природы, еще не существовало. Вместе с тем рассмотренное воззрение Ф алеса, как и других раннегреческих философов, з а к лю чает в себе важнейшую предпосылку, без которой немыслимо дальнейш ее развитие пантеистических идей. Такой предпосылкой является органистическое, гилозоистическое понимание мира, воззрение на мир как на живой и даж е одушевленный.
Этот взгляд, господствовавший в течение всей античности, знаменовал тогда ограниченность естественнонаучных знаний о природе. Зачатки объективных методов исследования природы, доступные античным ученым и философам, сочетались у них с идущим еще от эпохи первобытного общ ества использованием методов простой
27
аналогии между близкими и по своей видимости более понятными явлениями человеческого (отчасти и ж ивотного) организма и более широкой сферы общественных отношений, с одной стороны, и значительно менее понятными явлениями окруж аю щ ей природы — с другой. Отсюда более или менее ярко выраженное антропоморфное истолкование природы, элементы которого мы находим д аж е у материалистов-атомистов, которые ближе всех подошли к чисто физическому, «механическому» истолкованию явлений природы. Гилозоизм, как одно из главных проявлений органистическо-антропоморфного истолкования природы, как продолжение первобытно- антимистических представлений, вы раж ал неспособность древнегреческих мыслителей уяснить специфическую природу психического. Поэтому, можно сказать, что все эти мыслители не отделяли психического от физического, приписывая его всей природе. Этому органистиче** ско-гилозоистическому воззрению обязана своим проис* хождением важ нейш ая идея древней, а затем и средневековой натурфилософии — идея тождества микрокосмоса, т. е. прежде всего человека, и макрокосмоса, т. е. всей природы, мира в ц елом 3. У древнейших греческих натурфилософов — Анаксимена, Гераклита, Эмпедокла, Д емокрита — эта идея заклю чила в себе материалистическое содержание: человек, как малое подобие природы, наделен способностью познавать ее.
Значительный интерес с точки зрения развития пантеизма представляю т некоторые воззрения Ксенофана. Ко времени его вступления на философскую арену единство природы уже было осознано в многотысячелетнем развитии человеческой мысли и зафиксировано в м атериалистической натурфилософии ионийских мыслителей, в их учениях о едином вещественном первоначале, л е ж а щем в основе многообразных изменений природы. Как известно, именно это единство природы было названо Ксенофаном бо го м 4. Конечно, это еще не мировой дух монотеистических религий. Более того, в условиях господства сугубо антропоморфных, политеистических религиозно-мифологических представлений утверждение К сенофана о том, что «сущ ествует единый бог, величайший из всех богов и людей, не подобный смертным ни внешним видом, ни мы слью »5, объективно имело атеистический смысл, поскольку оно разруш ало общ еприня
28
тые представления о богах в эллинском мире. Известно, что в этой связи Ксенофан первым в истории философии сф ормулировал фундаментальную мысль, согласно которой боги создаю тся людьми по своему образу и подобию 6. Атеистический аспект ксенофановского пантеизма, поскольку мы можем говорить о нем, аспект, сохраняю щий свое значение и для всей последующей истории этого направления, состоит, таким образом, в дезантро- поморфизации бога (или богов, если иметь в виду К сеноф ана), т. е. в лишении бога, более или менее последовательно отождествляемого с природой, человеческих черт. Этот аспект связан такж е у древнегреческого мудреца с определенно материалистическим убеждением в том, что «мир нерожден, вечен и неуни- чтож им »7.
Следующим этапом в развитии пантеистических представлений следует признать физические и отчасти этические воззрения стоиков. Значение их пантеизма состоит. в том, что исторически он послужил этапом на пути к христианскому монотеизму.
К ак известно, понимание природы стоиками, особенно наиболее древними, Зеноном и Хризиппом, м атери алистично в его наиболее существенных принципах: признание реального сущ ествования только за телами, воспринимаемыми человеческими чувствами, признание материи единственной сущностью, леж ащ ей в основе всех вещей, признание, подобно многим другим античным натурфилософам, земли, воды, воздуха и огня в качестве единственных физических элементов природы. Однако вместе с тем физике стоиков присущ и другой ход мыслей, приведший их к обожествлению некоторых существенных сторон изменяю щ ейся природы и все более выпукло выступавший по мере эволюции учения Стой — от Зенона и Хризиппа до Сенеки и М арка А врелия.
Неспособность античных философов решить проблему психики и сознания, а так ж е установить подлинные источники изменений, соверш аю щ ихся в природе, привела стоиков к выводу о необходимости различать в природе пассивную, страдательную , и активную, действенную, стороны 8. П оследняя как объединяю щ ая с и л а 9 и б^1ла ими названа богом, разумом (Аоуод) или умом (уоид) 10. При этом бог понимался стоиками пантеисти
29
чески — в неразрывном единстве с природой. «Н е может быть природы без бога и бога без природы »11, бог находится в материи «как мед в сотах» 12. Бог в понимании стоиков, особенно наиболее древних, — вполне физическое, материальное существо 13. Это некая м ировая смесь воздуха и огня, как активных элементов, своего рода теплое дыхание (руеица), аналогичное животной теплоте, оживляю щ ее и одухотворяющее весь мир и . Органи- цизм античной натурфилософии был очень последовательно вы раж ен стоиками, исходившими в своем понимании природы из аналогии ее с человеческим организмом 15. Этим именно объясняю тся их определения бога в качестве ума, «разумного воздухоогня», «творческого огня», творческой силы (би^аци;), пронизывающей всю природу, сообщ аю щ ей всем ее частям и предметам определенное напряж ение (тоуод) 16. Таким образом, органи- цизм натурфилософии стоиков динамичен.
Понятие бога-разум а, или бога-ума, имеет у стоиков и еще один весьма существенный смысл. Это не только воспринимаемое чувствами теплое дыхание, ож ивляю щее весь мир, но и та правильность изменений природы, которая откры вается человеческому уму. К ак известно, стоики развивали концепцию строжайш его детерм инизма, всеобщей причинной обусловленности всех без исключения событий, происходящих как в природе, так и в человеческом мире. «Нигде не бывает ни беспричинного, ни сам опроизвольного»17. Однако пантеизм стоиков и метафизическое истолкование ими детерминизма как всюду одинаковой, однообразной цепи причин и действий привели Стою, в противоположность ш коле Эпикура, к обожествлению царящ ей в явлениях природы и человеческой жизни необходимости, которая была истолкована ими как непрелож ная судьба (е^ш р^гут]), ф а тальность, рок. «Судьба есть цепь причин, т. е. порядок и связь, и невозможно ни воздействовать на них, ни уклониться от них» 18. Всемерное подчеркивание определяющей роли судьбы составляет, как известно, и одну из наиболее характерны х черт этического учения стоицизма. П оскольку ж е судьба мыслится при этом как некая «духовная мощь», она есть не что иное, как «разум мира», божественное провидение (яроуош ), управляю щ ее природой и людьми 19. И столкование же
30
логоса как божественного провидения привело стоиков к тому, что признание всеобщей причинной обусловленности, царящей в природе, стало сочетаться у них с признанием целесообразности, с телеологическим истолкованием явлений природы и человеческой жизни. Стоики признавали как имманентную, внутреннюю целесообразность, определяемую так называемыми «сперматическими логосами» юЛру) а я е р ^ а п к о !) , аналогичными аристотелевским формам, целесообразно формирующим любые природные вещи, так и целесообразность трас- цендентную, внешнюю, расценивающую явления природы с точки зрения их действительной или мнимой пользы, приносимой человеку20.
К акова наиболее общ ая онтологическая основа этого перехода стоиков с позиций детерминизма на позиции трансцендентной телеологии, от которых только один шаг к теистической персонификации судьбы? Нам представляется, что такой основой может быть только то оконечивание мира, какое мы находим как у Аристотеля, помещающего бога за пределами конечного мира, так и у стоиков, которые — опять-таки в противоположность эпикурейцам, защ ищ авшим идею бесконечности вселенной и бесчисленности составляющих ее м и ров ,— пантеистически обожествляли единственный и уж е в силу этого конечный в пространстве мир, космос, за пределами которого находится беспредельная п устота21. Последовательно органистическое истолкование мира с необходимостью связано с представлением о его конечности. Ограниченный в пространстве космос мыслился стоиками как живое, органическое и гармоническое целое, все части, предметы и существа которого разумно и целесообразно расположены в его системе22.
Таким образом, стоики, развившие систему взглядов в основном материалистического пантеизма, вместе с тем в процессе все большей эволюции в сторону идеализма вплотную подошли к теистическому пониманию бога как личности, управляющей природой и людьми. Когда последний крупный представитель стоицизма, М арк Аврелий, писал в своем произведении, что «все проникает единый бог, едина сущность всего, един закон, един и разум во всех одухотворенных существах, едина истин а » 23, то побеждали уже новые, христианско-монотеистические воззрения и на бога, и на мир.
31
Супранатурализм религиозно-монотеистических представлений. Креационизм христианского вероучения
и эманационизм языческого идеализма
Наиболее характерная черта этих воззрений — суп- ранатуралистическое истолкование бога, абсолютно противопоставленного природе. Центральное представление христианской, так же как иудейской, а затем и магометанской, религии — это, как известно, представление о боге как о личности, абсолютно возвышающейся над природой, которая сама по себе не обладает никакими закономерностями и живет лишь в той мере, в какой этого хочет бог. Супранатуралистическое представление о боге как о внеприродном, сверхъестественном существе с наибольшей силой проявляется в библейском мифе о творении природы «из ничего», о создании человека и т. д. Значение этого догмата в системе религиозного мировоззрения было фундаментальным, именно на нем прежде всего основывалось главное представление религии и подчинившейся ей философии об абсолютной зависимости природы и человека* от бога, призвавшего природу к существованию и могущего в любой момент уничтожить е е 24. Гносеологическая основа этого догмат а — недостаточная выясненность закономерных связей самой природы. Его психологическая база — сугубое, как в древности, так и в эпоху средневековья, господство суеверных представлений, которые держ али в своем плену не только сознание народных масс, далеких от науки и философии, но весьма часто и сознание более образованных представителей общества. Суеверия же, как известно, означают веру в «чудо», в возможность событий, выпадающих из причинно обусловленных ф актов и явлений природы и человеческой жизни. Таким образом, главное чудо — творение богом мира «из ничего » — лишь возведенное в иррациональный абсолют представление о существовании в природе и в человеческом мире огромного множества менее значительных «чудес».
Р азработка принципов и догматов христианско-моно- теистической — сложной и отвлеченной — религии, представлявшей отрицание более простых и примитивных политеистических верований, потребовала использования некоторых положений античной философии. Одним из
32
наиболее важных и раньше всего использованных христианскими философами и теологами было понятие логоса стоиков. Это понятие подвергалось дальнейшему и, можно сказать, окончательному идеалистическо-теологическому переосмыслению- Если у стоиков логос означал то, в соответствии с чем устроен мир, то в христианской философии (теософии) логос стал означать «слово божье» (или «сына божия»), посредством которого был создан мир. Отсюда знаменитые слова, которыми начинается Евангелие от Иоанна: «В начале было- слово и слово было у бога, и слово было бог... Все произошло через него, и без него не начало быть ничто, что произошло»25. В этом важнейшем положении Евангелия сформулирован основоположный принцип иудейско-христианского монотеизма, принцип креационизма, согласно которому бог сразу (в «шесть дней», по Ветхому завету) создает мир со всем многообразием предметов и существ, составляющих его. Эта крайне метафизическая точка зрения не раз сформулирована и в Ветхом завете, например в рассказе о том, как Адам дал название всякой твари, присвоив каждой из них впредь неизменное и м я 26.
В философско-богословской интерпретации христианского креационизма, наиболее типичное выражение которой мы находим в произведениях Августина, бог как высшее и абсолютно независимое существо полностью определяет не только возникновение каждой вещи, любого существа, но и своей творческой силой поддерживает их в любой момент существования, определяет все их перемены, как бы непрерывно творя их (creatio continua). Если бог, пишет Августин в своем главном произведении, «отнимет от вещей свою, так сказать, производительную силу (potentiam su am fabri- ca to r iam ), то их так же не будет, как не было прежде, чем они были создан ы »27. Крайний фатализм этого основного религиозно-монотеистического воззрения — «без бога ни до порога» — базируется на представлении согласно которому все вещи и существа природы нахо дятся в абсолютной зависимости от одной и той ж е наи- высшей божественной причины.
Характерная черта августинианско-христианского дуализма и креационизма состоит такж е в сочетании веры в абсолютную фатальность всех вещей и событий и представления о действительности как полной чудес,
2 Зак. G81 33
проявляющихся в мертвой и живой природе, в индивидуальной и общественной жизни. Этот иррационалнсти- ческий взгляд Августина на действительность вытекал из характерного для креационизма прёдставления о боге как таинственной личности, намерения которой абсолютно недоступны человеческому пониманию. Такое представление по сути своей антропоморфно, что заф и ксировано и в главном догмате христианского вероучен и я —догмате триединства. Это антропоморфное представление о боге было представлением сугубо волюнтаристическим. Рассм атривая бога не только как вечное бытие и первопричину мира, но и как его произвольного правителя и свободного судью, Августин усматривал его сущность в недоступной человеческому пониманию воле.
К другим представлениям об отношениях бога и мира приводил неоплатонизм, самая влиятельная наряду с аристотелизмом философская система средневековья, оказавш ая значительное воздействие на христианскую теологию. Вместе с тем развитие пантеистических концепций как в западнохристианской, так в значительной степени и в арабо-мусульманской философии в д ал ь нейшем такж е основывалось именно на этой философской системе.
Философское учение неоплатонизма, разработанное в основном Плотином, само по себе нельзя считать пантеистической философской системой. Бог, выражаю щ ий абсолютное единство природы и определяемый как «единое», в этой системе вынесен за пределы природы и противопоставлен ей, как это присуще и всем монотеистическим религиозным учениям—христианству, иудаизму и мусульманству. Возможности для развития пантеизма в этой системе, однако, скрыты уже в том, что ей свойственно безличное понимание бога. В отличие от христианско-антропоморфного представления о боге «единое» Плотина и других неоплатоников, представляющее собой своеобразную идеалистическую комбинацию учения П арменида об абстрактном бытии, совершенно отличном от мира чувственных вещей, и учения Платона о благе как верховной идее, в сущности лишено антропоморфных черт. Это обстоятельство с наибольшей силой выражается в том отношении бога к миру, какое отличает неоплатонизм от креационизма, характерного для христианства и для других монотеистических веро
34
учений. В последних, как мы видели, это отношение есть свободноволевое отношение бога-творца к созданному им миру, полностью зависящему от него и не о б лад аю щему никаким самостоятельным бытием, никакими са м о стоятельными устойчивыми законами. Иное понимание отношений бога и мира было развито неоплатонизмом, сохранившим, хотя и в сугубо идеалистической и мистической форме, органистическо-динамическое представление о бытии, столь характерное для натурфилософии стоиков. Если креационизм монотеистических религий следует рассматривать как крайнее выражение м етаф изического взгляда на происхождение вещей, то неопла- тоновский эманационизм, согласно которому мир, как множество, постепенно и последовательно «истекает» из бога, «излучается» богом, как абсолютным единством, содержал в себе диалектическую тенденцию, вы р аж ен ную опять-таки в сугубо идеалистической и мистической форме — более общее и более «совершенное» бытие порождает бытие менее общее и соответственно менее «совершенное».
Одну из ступеней этого сверхъестественного космического процесса убывания духовного и возрастания м атериального, нисхождения от божественного, внеприрод- ного единства к бесконечному множеству природных в е щей составляет «мировая душа», понятие которой сы грало значительную роль в последующем развитии органистическо-пантеистических идей. Это понятие л е жит в основе идеалистического органицизма Плотина, тесно связанного с весьма развитыми представлениями панпсихизма. Одушевленность всего космического о р ганизма означает одушевленность и звезд и земли, порож дающей растительные, животные и человеческие о рганизмы. Все они обладают бессмертными душами, как деятельными и творческими принципами, что и отличает идеалистический панпсихизм неоплатонизма от н ату р а листического гилозоизма ранних древнегреческих «физиологов». Вместе с тем знаменательно, что христианский креационизм отказался — уже в лице Августина и в особенности Фомы Аквинского — от «языческого» представления о посмертном переселении бесплотных душ в другие тела, настаивая на том, что души людей творятся богом в момент их зарождения.
Идеалистическому эманационизму Плотина присуща
2* 35
такж е идея, согласно которой пассивная материя не только не участвует в процессе божественного самопо- рождения вещей, но и оказывается предельной ступенью самовырождения божественного единства. Материя, по учению Плотина,— результат полного угасания света божественных идей, конечного исчерпания их активности, абсолютный мрак, противоположный свету божественного первоединства и вместе с тем только ему обязанный своим существованием. Идеализм этой концепции эманационного нисхождения бога в природу все же значительно отличался от христианско-монотеистического креационизма. Если последний абсолютно противопоставлял бога природе, то эманационизм Плотина заключал в себе возможности их сближения, возвращ ая тем самым творческий источник природы в саму природу. Степень и характер этого сближения определяет в дальнейшем пути развития различных пантеистических учений. Последние опирались и на другие принципы неоплатоновской философии и, прежде всего, как это ни парадоксально, на мистицизм Плотина и других неоплатоников.
Мистицизм в учении неоплатонизма, как и в ряде других теософских учений первых веков н. э. (например, уже у Ф илона), связан с концепцией так называемого «отрицательного богословия». Согласно этой концепции, внеприродный бог возвышается над всяким бытием, доступным человеческим чувствам и человеческому разу му. В своих попытках постигнуть его мы можем применить к нему бесконечное множество предикатов («положительная теология»), но еще лучше отрицать их относительно всецело неизреченной природы бога, не поддающейся никаким рациональным определениям. Так как бог абсолютно не похож ни на что наблюдаемое в этом мире, легче сказать, какие качества не присущи ему, чем какие присущи. «Познание» божественной сущности, недостижимое на путях рациональных определений, возможно в редкие минуты исступления, или экстаза, когда человеческая душа, как бы вырываясь из объятий бренного тела, позволяет человеку коснуться божественного единства. Если процесс эманации — процесс нисхождения бога в природу и в мир человека, то «познание» его в моменты экстаза — обратный процесс «возвращения» души человека к богу. Таким обра
36
зом, связанная с мистицизмом концепция непосредственного постижения бога до известной степени «приближала» его к человеку и тем самым к природе, что т а к же открывало возможности для пантеизма.
Однако типы пантеистических воззрений, восходящие к неоплатоновской концепции эманации, с одной стороны, и неоплатоновскому мистицизму с его убеждением в возможности непосредственного, сверхразумного «постижения» бога — с другой, в дальнейшей истории пан теизма отличаются друг от друга. К концепции эманации восходит натуралистический пантеизм, растворяющий бога в природе, а к учению неоплатонизма о возм ож ности непосредственного постижения бога на путях сверхразумного откровения — религиозно-спиритуалистический, мистический пантеизм, растворяющий природу, а затем и человека в боге, утверждаю щ ий тем самым, что сущность человека не отличается от су щ ности бога. Впрочем, оба этих типа пантеистических' воззрений нередко перекрещивались в процессе своего исторического развития: натуралистическая и религиоз- но-мистическая тенденции — в различных пропорциях — нередко переплетались в мировоззрении одного и того же мыслителя.
Натуралистические и материалистические тенденции в мйстическом пантеизме средневековья
Пантеистические идеи, высказывавшиеся в эпоху средневековья, когда проблема бога почти полностью вытеснила из философской мысли проблему природы, с необходимостью выступали как идеи мистические. Но даж е в этих условиях не исчезли полностью натурали стические тенденции, с которыми мы встречаемся, например, уже в контексте пантеистических идей И оанна Эри- угены, автора знаменитого сочинения «О разделении природы», далеко отклонившегося от ортодоксального христианского вероучения. Мистицизм его воззрений состоит в предпочтении отрицательного богословия богословию положительному, в представлении о боге как о таинственном, абсолютно непознаваемом существе, возвышающемся над всяким бытием. Вместе с тем с влиянием неоплатоновского мистицизма, почерпнутого глав-
37
ным образом в произведениях Псевдо-Дионисия Ареопа- гита, Иоанн Скотт оригинально сочетает высокую оценку разума, проявившуюся прежде всего в широком и смелом для своей эпохи использовании иносказательного толкования догматов «священного писания».
С точки зрения развития пантеистических идей наиболее важ но перетолковывание автором «Разделения природы» догмата о творении мира богом. Этот догмат истолковывается Эриугеной на основе неоплатоновского принципа эманации как последовательное порождение более абстрактной «природой» «природы» более конкретной, как нисхождение от бога, как наивысшей реальности, единства и общности к множественности и единичности, к небытию28. По окончании этого процесса имеет место обратное восхождение от небытия, единичности и раздельности через посредство обобщающих идей к богу как безусловному, единому и всеобщему бытию 29. Во всем этом динамическом процессе самопо- рождения и саморазрушения бога он выступает как «начало, середина и конец» 30.
Пантеистическая трактовка бога, истолковывающая творение как вневременный процесс, по сути превращается здесь уже в отрицание креационистской теологии. В этой связи вспоминаются слова Фейербаха, что «пантеизм представляет собой отрицание теологии с точки зрения теологии или то отрицание теологии, которое само опять-таки оказывается теологией» 31.
Д л я эпохи Эриугены и для последующих веков чрезвычайно прогрессивное мировоззренческое значение имели четко выраженное в «Разделении природы» устранение христианско-монотеистического противопоставления бога и природы и вытекающая из него замена супранатуралистического понимания бога его натуралистической трактовкой. В этой связи устанавливается единство мировой божественной субстанции с порожденными ее «богоявлениями» — природой и человеком 32. Это единство развивается Эриугеной в картину циклического развития мира, изображенную в теологическо-ми- стифицированной форме знаменитого учения о четвероя- кой природе. . Пантеизм Эриугены носит в целом религиозно-спиритуалистический характер. Поскольку «возвращение» человека к богу — главная цель его зем ного существования, Иоанн Скотт не столько растворяет.
38
бога в природе, сколько природу в боге. Главный смысл его пантеизма состоит в том, что природа не отделяет человека от бога, а сближ ает их. Однако мы встречаемся в произведении Эриугены и с натуралистической тенденцией. Например, в рассказе о ветхозаветном Аврааме, который познал бога без помощи «священного П и сания» — его еще не было,— а лишь по движению небесных св ет и л 33. Одно из ее проявлений — древняя идея о человеке как микрокосмосе, в миниатюре повторяющем всю природу ?4.
Пантеистические идеи не очень характерны для западноевропейской средневековой философии, особенно для раннего ее периода, продолжавшегося до X I—XII вв. После Эриугены эти идеи высказывались отдельными, особенно смелыми мыслителями, но и у них они не составляли системы воззрений. В качестве примера мож но указать на А б е л я р а 35. Затем уже в самом начале XIII в. — на Амори (Амальрика) из Бена, учение которого было признано еретическим католической церковью, установившей его зависимость от пантеистических идей Эриугены. Действительно, Амальрик не только утверж дал идентичность творца и сотворенного им, объявляя бога сущностью всех творений, но и доказы вал в духе неоплатонизма, что «подобно тому, как свет невидим сам по себе, а только в воздухе, так и бог не является сам по себе ни ангелам, ни людям, а только в творениях» 36. Отрицательное богословие и здесь приводит к натуралистическим тенденциям, несмотря на наличие ангелов и, конечно, других атрибутов христианского мифологизма. Последователи Амори, амальрикане. «братья и сестры свободного духа», сделали из пантеизма и социальные выводы. Антииерархические возм ож ности пантеизма, сформулированные еще Эриугеной, проявились у амальрикан как прямые социальные выводы в их отрицании всякой власти, церковных и общественных порядков. Известный анархизм этих воззрений не может скрыть их антифеодального острия. Амальриканство не раз осуждалось католической церковью. В 1225 г. папа Гонорий III специальной буллой предписал сжечь все экземпляры «Разделения природы», приписывая ему таким образом идеологическую ответственность за осужденные «ереси».
Осужденный тогда же Д авид из Д инанта довел
39
пантеизм до материализма. Теоретические источники воззрений Д авида не вполне ясны. Всего вероятнее, ими послужили произведение Эриугены и натуралистическая интерпретация философии Стагирита, произведенная Александром Афродизийским37. Суть учения Д авида состоит в утверждении, согласно которому в основе всей действительности лежит материальная субстанция, совпадающая с богом и мировым разумом. Все вещи, включая человеческие души,— лишь формы проявления этой субстанции. К ак пишет Аквинат в своем «Своде богословия», Д авид «глупейше полагал, что первая м атерия есть бог» 38. По характеристике воззрений Д авида Альбертом Великим, «бог есть субстанция всех тел и всех душ. Отсюда вытекает, что бог, материя и дух суть одна и та ж е субстанция»39.
Воззрения Д авида из Динанта характеризуют в а ж ную заслугу пантеизма в истории средневековой, да и последующей философии. Эта заслуга состоит в «реабилитации» материи, объявляемой началом, равным богу, а не низшим и тленным по сравнению с ним, как это утверждалось господствовавшей религиозной философией. Здесь снова вспоминаются слова Фейербаха, определившего пантеизм как «теологический атеизм, теологический материализм». К Д авиду из Динанта это определение вполне приложимо. Применимы к нему и д ал ь нейшие слова Фейербаха, согласно которым пантеизм «материю, отрицание бога, превращает в предикат или атрибут божественного существа. А кто превращает материю в божественный атрибут, тот делает материю божественной сущностью» 40. .
Воззрения Д авида из Динанта обнаруживают также зависимость от идей Ибн Сины и других восточных философов. В настоящей работе немаловажно остановиться на вопросах, связанных с пантеизмом в средневековой мусульманской и еврейской философии.
Острый конфликт между религией и философией в эпоху средневековья возник прежде всего в странах мусульманской культуры. С интересующей нас точки зрения это был конфликт между мусульманским кр еационизмом и фатализмом, представленным в философии главным образом мутакаллимами, и передовыми мыслителями, опиравшимися в своей оппозиции правоверному исламу на философию Аристотеля и на неоплатонизм.
40
Первое место среди этих мыслителен занимаю т Ибн Сина и Ибн Рушд. Близок к ним в ряде отношений и Маймонид, сыгравший немаловажную роль в истории еврейского вольномыслия в средние века. Аристотелизм и неоплатонизм, как определяющие философские источники систем Ибн Сины и Ибн Рушда, направленные своим острием против мусульманского креационизма и фатализма, порождали разные тенденции. Первый из них приводил к положениям деистического характера , второй ж е направлял в сторону пантеизма. Обе эти тенденции в оригинальном переплетении характерны для мировоззрения передовых мыслителей мусульманского и иудейского Востока.
Заслуга Ибн Сины и в особенности Ибн Руш да состоит прежде всего в том, что они отказались от сугубо идеалистической идеи неоплатонизма, согласно которой материя обязана своим существованием последней ста дии угасания духовного божественного начала. В о звр ащ аясь к дуалистическим представлениям Аристотеля, Авиценна и Аверроэс учили, что материя и вся природа в извечности своего существования нисколько не уступает богу. Само представление о боге дезантропоморфи- зируется в духе Аристотеля и Плотина. Бог оказывается лишь необходимым бытием, первопричиной всего совершающегося, но отнюдь не творцом всех вещей. «Управление вселенной, — говорит Ибн Руш д в «Разрушении разрушения»,— подобно управлению городом, где все исходит из одного и того же центра, но не все делается непосредственно главой» 41. Божественная причина потому и является «первой», что она никогда не выступает причиной непосредственной. Непосредственной же основой всего существующего выступает материя, являю щаяся у Авиценны пассивным восприемником бестелесных форм, ниспосылаемых разумом последней, лунной сферы, а у Аверроэса она сама производит эти формы под воздействием божественного интеллекта.
В противоположность волюнтаристическому пониманию бога, характерному для мусульманского, как и иудейского и христианского, креационизма и фатализм а, Ибн Сина, Ибн Рушд и Маймонид развивали восходящее к Аристотелю интеллектуалистическое понимание бога, сущность которого усматривалась не в воле, а в разуме. Бог Авиценны и Аверроэса — безличный абст
41
рактный принцип, деятельность которого совершается в соответствии с разумной необходимостью его природы. Как таковой, бог мыслит только универсальное, а не индивидуальное, и поэтому его провидение имеет силу лишь по отношению к общим закономерностям и особенностям природы и не распространяется на индивидуальные вещи и явления, как это доказы вали адепты мусульманского и христианского фатализма. Однако и у Авиценны, и у Аверроэса, и у Маймонида бог остается внеприродным началом, связь которого с миром изображается на основе неоплатоновского принципа эмана- ционизма. При этом важнейший вывод, сделанный Ибн- Синой и Ибн Рушдом из концепции последовательной эманации мировых умов, душ и сфер, заверш аю щейся порождением всего многообразия конкретного мира, состоит в лишении бога функций непосредственного виновника и вершителя его судеб. Будучи первопричиной всего совершающегося, бог оказывается последней причиной, причиной лишь в конечном счете. Здесь опять подрывалась фаталистическая идея божественного провидения, непосредственно направляющего индивидуальные судьбы всех вещей, существ и людей. Был сделан важный ш аг к пониманию их вне связи с богом, самих по себе. В представлении Авиценны и Аверроэса все ступени эманации не столько соединяют бога с миром, сколько разделяю т их. Отношение бога к миру мыслится при этом не столько пантеистически, сколько деистически. Однако важнейший результат деистического понимания этих отношений в сущности тот же, что и пантеистического. Пантеистически растворяя бога в природе или деистически оттесняя его на самую крайнюю периферию мироздания, передовые мыслители уже в эпоху средневековья приходили к более или менее последовательному натуралистическому истолкованию явлений природы и человека42 и тем самым подготавливали почву для развития материалистических идей, для чего, однако, потребовались целые века исторического и историко-философского развития.
Поскольку функции бога в философских системах Авиценны и Аверроэса значительно урезывались, а права природы соответственно возрастали, более логичной, и более последовательной методологической основой натурализма для эпохи средневековья является панте
42
изм, отказывающийся от обособленного положения бога во вселенной. Однако пантеистические воззрения в тех условиях были более опасны, так как более легко приводили к атеистическим выводам. Этим, вероятно, и следует объяснить тот факт, что в своей «Восточной философии», в которой Авиценна не комментировал Аристотеля, а излагал собственные воззрения, мыслитель отказался от допущения обособленного положения бога, отождествляя его с миром 43.
О деистическом характере воззрений Ибн Сины, Ибн Рушда и Маймонида можно говорить весьма условно, примерно в том ж е смысле отдаленности бога от мира и ограниченности его связи с миром, в каком этот термин историки философии применяют иногда к Аристотелю. К ак определенное философско-теологическое воззрение деизм, как было выше сказано, возникает в XVI в. и расцветает в XVII—XVIII вв. Воззрения же названных мыслителей, несмотря на присущую им отделенность бога от мира, соединяет с пантеизмом органицизм, составляющий методологическую базу критического вы ступления этих мыслителей против креационизма. Х а рактерно, что защитники последнего, мутакаллимы, пытались использовать в интересах креационизма ато мистическую физику, отвергнутую поэтому уж е Авиценной. Опираясь на органицизм, другой мусульманский философ, Аверроэс, четко поставил вопрос о двух противоположных взглядах на происхождение существ: «...одни объясняют мир развитием, другие творением. Приверженцы теории развития говорят, что р азм нож ение есть не что иное, как выхождение от существ, своего рода удвоение существ. Роль действующей силы, по у к а занной гипотезе, заключается в данном случае только в том, чтобы извлечь одно существо из другого, разделить их; очевидно, что ее функции сводятся к функциям д ви гателя. Что ж е касается приверженцев теории творения, то они говорят, что действующая сила производит сущ ество, не нуждаясь при этом в заранее существовавшей материи. Таково мнение Моткаллеминов нашей религии...» 44. Космос со всеми составляющими его сферами уподобляется Аверроэсом живому существу, причем первый двигатель образует в нем как бы сердце, откуда жизнь распространяется по другим органам. Воззрение на мир, уподобляющее последний организму, особенно
43
четко сформулировано Маймонндом в 72-й главе 1-й части его «Путеводителя колеблющихся». «Вселенная в своей совокупности,— говорится здесь,— есть не что иное, как единый индивидуум» 45. Органицизм Авиценны, Аверроэса и Маймонида был противопоставлен креационизму мутакаллимов, не признававших ни единства мира как целого, ни закона причинности и подчинявших бессильные атомы капризам божественной волн. П равда, Маймонид, как известно, пытался сочетать свой органицизм с креационизмом, стремясь примирить Аристотеля и Тору. Но нас интересует сейчас не эта эклектически-компромиссная сторона его воззрений, нам важно акцентировать присущий им органицизм. В этой же главе из «Морэ Небухим» проводится довольно подробная аналогия между вселенной, как она представлялась современникам Маймонида, и человеческим организмом. Здесь, в частности, подчеркивается не только роль сердца, от которого исходит движение в организме и которое присуще любому животному организму, но и роль «самой благородной» «разумной способности», делающей человека подлинным микрокосмосом 46. Р а з у мы сфер и космический разум, делающий природу познаваемой, выводится, таким образом, из высшей человеческой способности, как это имело место в свое время у Аристотеля и у Плотина.
Подводя итоги, укажем, что, несмотря на отдаленность бога от мира, какую мы находим у Ибн Сины, Ибн Руш да и Маймонида, влияние неоплатонизма и органицизма, определившее их понимание вселенной, привело этих мыслителей на позиции натурализма, наиболее адекватным методологическим обоснованием которого в средние века служил пантеизм. Не случайно мы встречаем у Аверроэса пантеистическое по своей сути различие между природой порождающей (лат. na tu ra na tu rans) и природой порожденной (natura n a tu ra ta ) . Это различие между абстрактной природой непознаваемого бога и всей совокупностью конкретного многообразия окружающей человека природы, за которой скрывается единый бог, по существу содержится уже в главном произведении * Эриугены. Н езависимо от него оно было сформулировано и Аверроэсом, откуда уже при переводе его произведений на л а тинский язык это различение перешло в европейскую
44
схоластику, хотя нередко оно и употреблялось здесь в другом, далеком от пантеизма смысле (например, Фомой Аквинским, Раймундом Луллием, в более поздние времена Френсисом Бэконом) 47.
Усиление натуралистических тенденций в пантеистических концепциях эпохи Возрождения
Расцвет пантеизма, все большее раскрытие натуралистических возможностей, заключенных в нем, относится к эпохе Ренессанса, к XV и в особенности XVI — н ачалу XVII в. Если и в предшествующие века сугубого господства теологии и схоластики пантеизм был одним из философских обоснований интереса к природе, полностью убить который религия и прислуживавш ая ей философия не могли никогда, то теперь, в эпоху огромного роста этих интересов, порожденного развиваю щ им ся буржуазным способом производства, пантеизм приобретает в европейской философии исключительное влияние и распространение. Этим и объясняется в з н а чительной мере произведенная в XV в. деятельностью флорентийских платоников и Н иколая Кузанского, а в XVI в.— многих натурфилософов новая рецепция платонизма и в особенности неоплатонизма (а затем и стоицизма), оттеснивших схоластизированный аристотелизм.
Перевес неоплатонизма над аристотелизмом в передовой философской мысли этой яркой эпохи гносеологически связан с тем, что неоплатонизму с его принципом эманации свойственна более динамическая интерпретация бытия, чем аристотелизму. Неоплатонизм рассматривает бытие как постоянный поток, в то время как аристотелизму с его категориальным разграничением различных родов бытия свойствен более статический взгляд на него. Этот взгляд был значительно усилен в схоластической интерпретации аристотелизма, стремившейся сочетать аристотелизм со своим теистическим понятием бога, с принципом креационизма. П оэтому с точки зрения системы Аквината, главного представителя схоластизированного аристотелизма, природа представляет собой мертвую иерархию форм, некогда созданных богом и пребывающих с тех пор неизменными вплоть до «скончания веков», до «страшного суда». Пантеизм,
45
низводивший бога в природу, рассматривал последнюю как одухотворенное целое, приводил ее в движение, разрушал абсолютные грани между ее различными о б ластями, включал человека в систему природного целого, возобновлял органистическо-динамический взгляд на природу, свойственный многим натурфилософским построениям античности, возобновлял, а кое в чем и р аз вивал элементы диалектики, находимые в философских концепциях античности.
Одна из причин широкого распространения неоплато- новского по своему происхождению пантеизма в эпоху Возрождения состоит в той тесной связи, какая всегда существовала между неоплатонизмом и мистикой. Относительно прогрессивная роль мистики в эту эпоху состояла в разрушении ортодоксально-схоластической картины мира. Эта важнейш ая черта мистики объясняется отмечавшейся выше интимной связью, существовавшей между непосредственным мистическим «постижением» бога и самим богом, приближавшимся тем самым к человеку и к природе. Немаловажную роль мистика сыграла и своим обличением псевдорационализма схоластики, пытавшейся использовать аристотелевскую логику для обоснования религиозных догматов и доказательства иррациональных богословских «истин», никаким д о к аза тельствам не поддающихся. Прогрессивная роль мистики, таким образом, была чисто отрицательной. Другой роли мистика и не может играть, ибо по природе своей она враж дебна человеческому разуму как главному средству познания мира. Но при этом следует иметь в виду, что воинствующий иррационализм и резко отрицательное отношение к науке были присущи ортодоксальной мистике П етра Дамиани — Бернарда Клервосского. Мистики же — пантеисты не выступали со столь огульным отрицанием разума, а некоторые из них д аж е опирались на него в своих враждебных схоластике интерпретациях природы, как это имело место уже у Эриугены.
К числу таких мыслителей принадлежал прежде всего Николай Кузанский. Мы, разумеется, не можем входить здесь во всестороннее рассмотрение его философских воззрений, в частности тех элементов теистического понимания отношений бога и мира, которые сильно преувеличиваются католическими историками фило
46
софии. Вместе с большинством историков философии мы считаем, что учение Кузанца о бытии в наиболее оригинальном существе своем пантеистично.
Проблема бесконечности мира и пантеизм
С пантеизмом автора «Ученого незнания» связана первостепенная философско-космологическая проблема — проблема бесконечности мира.
Идея бесконечности мира не только во времени, но и в пространстве — одно из главных завоеваний античной материалистической философской мысли. У же первоначало Анаксимандра, аяеф оу , т. е. нечто неопределенное и безграничное, последовательно выделяло из себя бесконечное количество миров. В дальнейшем Анаксагор учил о существовании бесконечного количества гомео- мерий, первосемян, а Гераклит рассматривал процесс становления и смены миров как бесконечный во времени. Демокрит, а потом Эпикур и Лукреций, исходя из бесконечности пустого пространства и бесчисленности атомов, сформулировали важнейшую материалистическую мысль о бесчисленности аналогичных нашему миров в бесконечном пространстве. Анализ понятия бесконечности впервые произведен, однако, лишь Аристотелем. Н аиб о лее общий вывод Стагирита состоял при этом в р азл и чении бесконечности актуальной,’ или действительной, и потенциальной, или возможной. Мыслитель пришел т а к ж е к выводу, согласно которому актуальное сущ ествование бесконечности, наличность и данность ее человеческим чувствам и человеческому рассудку невозможны, ибо «беспредельное не существует в области чувственно воспринимаемых вещ ей»48. Аристотель д о казы вает в этой связи противоречивость понятия актуальной бесконечности. Поскольку «ничто беспредельное не может иметь бытия» 49, невозможны ни бесконечно пустое пространство, ни бесконечно протяженное тело. Реально существует всегда лишь конечное, поэтому бесконечность следует понимать только как потенциальную, как возможность бесконечного прибавления или уменьшение. Но если это бесконечное прибавление или уменьшение понимать как бесконечный — восходящий или нисходящий — ряд причин или целей, то такой ряд тоже невоз
47
можен, ибо он непознаваем. Возможность и необходимость исчерпывающего, абсолютного знания о всех элементах мира и о мире в целом заставляю т нас, по убеждению Стагирита, отказаться и от понятия потенциальной бесконечности применительно к ряду причин и целей. Понятие потенциальной бесконечности сохраняет свою силу только по отношению к движению и времени. Таким образом в противоположность Д ем окриту, примыкая к Платону, Аристотель приходит в своей натурфилософии и в своей космологии к выводу об ограниченности, конечности в пространстве единственного мира, за пределами которого расположен божественный перводвигатель. Вывод этот диктовался и телеологическим существом мировоззрения Стагирита. Только конечность мироздания в пространстве гарантирует единство мировой цели, воплощенной в божественном первоуме, ибо «цель есть предел» 50.
В античной идеалистической философии первых веков н. э., а затем и в средневековой философии засилье мистических идей имело одним из своих важнейших гносеологических результатов принижение человеческого разума и отрицание возможности исчерпывающего зн а ния мира. В этих условиях бесконечное как непознаваемое стало оцениваться значительно выше конечного, чувственно и рационально постигаемого мира. Бесконечн о сть— в пространстве и времени,— изгнанная из мира, становится определяющим атрибутом бога.
«Измерить океан глубокий,Сочесть пески, лучи планет,Хотя и мог бы ум высокий,—Тебе, числа и меры нет.
Хаоса бытность довременну Из бездн Ты вечности воззвал,А вечность, прежде век рожденну,В себе самом Ты основал»!
Уже Филон Александрийский определял бога как .совершенное и бесконечное существо. Эта мысль была окончательно закреплена неоплатониками в их учении об «отрицательной теологии», одновременно подчеркивающей и непознаваемость и бесконечность трансцендентно-
.48
то божественного существа. Противопоставление бесконечного бога конечному, «сотворенному» миру становится едва ли не наиболее характерным онтологическим представлением теологическо-философской мысли начиная с Августина как на Западе, так и на Востоке. «Один только бог по сущности своей и просто является бесконечным,— писал Фома Аквинский, в своем главном произведении,— все же остальное является конечны м»51. Теологическая мысль обычно не допускала, чтобы «всемогущий» мог создать бесконечный мир, ибо тогда не осталось бы места для него самого. Только немногие мыслители средневековья и прежде всего Хасдаи К рескас, хорошо известный Спинозе, снова выдвигали идею бесконечного мира 52. Следует иметь в виду, что иерар- хизм и телеологизм, как основные принципы схоластическо-теологического мировоззрения, требовали конечности мироздания в пространстве. При этом в отличие от Аристотеля телеология приобретала у схоластиков не имманентный, а трансцендентный характер, поскольку божественная премудрость предусмотрела все цели, вы полняемые вещами, живыми существами и людьми в системе ограниченного в пространстве мирового целого. Высшая из этих целей — почитание самого бога человеком.
Несмотря на отмеченные выше элементы теистическо-. го противопоставления бесконечного бога и конечного мира, ведущая тенденция онтологии Кузанца в решении проблемы отношений бога и мира состоит не в разрыве и противопоставлении этих начал, а в их всемерном сближении, что и приводит философа к пониманию мира не как конечного, а как бесконечного. Бога Николай обычно определяет как «абсолютный максимум», т. е. как абсолютную бесконечность (infin itum ), как бесконечность во всех отношениях, бесконечность вневременную, понимаемую как верховное единство, как абсолют.
-Сам этот термин, сыгравший впоследствии столь значительную роль в истории немецкого идеализма конца XVIII — начала XIX в., впервые широко употреблен именно Кузанцем. «Один бог абсолютен, все остальные существа ограничены»53. В отличие от так понимаемого бога «вселенная существует лишь ограниченным о б р азом во множестве» 54. Без бога вещи — ничто, как число без единства, но это божественное единство существует
49
не вне и над вещами, как учила об этом вся ортодоксальная теология, а за вещами и в них самих. «Бесконечное единство есть то, что заклю чает в себе все вещ и »55, «бог во всех вещах, как все они в н ем »56.
П римы кая к идеям отрицательного богословия, почерпнутым в основном у Псевдо-Дионисия, Николай всемерно подчеркивает непознаваемость бога как абсолютного максимума, который «ускользает как бесконечное от всякой пропорции» 57. В ыражаясь словами Георга Кантора, впервые произведшего анализ научно- математического содержания понятия «бесконечное» и указавшего на Кузанца как на одного из своих предшественников, «абсолютное может быть лишь признано, но отнюдь не познано, оно не может быть познано д аж е и с приближ ением»58. Однако поскольку бог уже не трансцендентен по отношению к вещам, как это было у Псевдо-Дионисия, а в сущности имманентен им, тезис о непознаваемости бога грозит сделать его имя пустым звуком, сколько бы Кузанец ни доказывал творение мира богом и как бы много внимания ни уделял он вопросам богословия в своих философских сочинениях. Действительно, в «Ученом незнании» встречаются высказывания о том, что «так как бог есть все, он — также и ничто»59, «он везде и нигде» 60. Дезантропоморфизация бога, к которой приводит отрицательная теология, усугубляется у Николая в связи с растворением им, хотя и не без колебаний, бога в мире. Характерно в этой связи отношение Кузанца к «положительной теологии», приписывающей богу различные атрибуты (разумеется, в превосходной степени), а не отрицающей их, как это делает «отрицательная теология». Последнюю Николай ставит выше первой, считая, что «отрицательная теология так необходима для теологии утвердительной, что без нее бог не является предметом поклонения как бесконечный бог, но скорее как творение». «Согласно этой отрицательной теологии, нет ни отца, ни сына, ни духа святого, но есть только бесконечное»61. Таким образом, Кузанец ставит под сомнение важнейший догмат христианского богословия, сохранявший антропоморфный облик христианского бога, хотя и довольно абстрактно вы раж енный. Столетие спустя, особенно после Тридентского собора, сомнение в догмате троицы и тем более отрпца-
50
ние его каралось римско-католической церковью как тягчайшая ересь.
Важнейший вывод, сделанный Кузанцем из пантеистического приближения бога, как абсолютного максимума, к миру и д аж е растворения его в природе, состоял в новом взгляде на мир — не как на конечный, в пространстве ограниченный, а как на бесконечный. Николай отличает бесконечность мира от бесконечности бога. Последняя, как мы видели, является абсолютной — в сущности актуальной— бесконечностью. Бесконечность же природы выступает как потенциальная бесконечность, или, точнее, как безграничность ее, невозможность найти в природе какую бы то ни было реальную границу, возможность перейти любую, заранее поставленную гр аницу. Поэтому, хотя «мир не бесконечен, все ж е нельзя считать его конечным потому, что он не имеет границ, между которыми заклю чен »62. Именно в этой связи Кузанеи выступил со своим знаменитым утверждением о том, что Земля не составляет центра мира, а так н азываемая сфера неподвижных звезд не является окружностью, замыкающей его. «Машина мира имеет, так сказать, свой центр повсюду, а свою окружность нигде, потому что бог есть окружность и центр, так как он везде и нигде» 63. Эти слова К узанца означали приближение конца средневековой схоластической космологии, а вместе с ней и средневекового мировоззрения.
Отрицательная теология в пантеистическом истолковании Николая имеет и другой существенный аспект, выражающийся в натуралистической трактовке явлений природы. Непознаваемость бога как абсолютного м аксимума, не укладывающегося ни в какие пропорции, неуловимость верховного бытия, сообщающего природе универсальное единство, сочетается у К узанца с уверенностью в полной познаваемости природы, к а к «ограниченного максимума», как конкретного проявления абсолютного божественного всеединства. Эта уверенность реализуется у Н иколая в высокой оценке математики, выступающей у него не столько как средство богопозна- ния, чем она иногда была у некоторых неоплатоников, сколько как средство адекватного познания природы. Высокая же оценка математики, в свою очередь, свидетельствует об уверенности Николая в абсолютной цен
51
ности рационального знания. Элемент мистики, связанный с концепцией отрицательного богословия, непосредственного, недискурсивного, интуитивного постижения абсолюта и выступавший у неоплатоников на первый план, у Кузанца, напротив, отступает на задний план. Если Псевдо-Дионисий и другие неоплатоники писали о мистическом незнании (экстаз и т. п.) как о пути «познания» бога, то Николай назвал свое главное произведение «Ученым незнанием». Конечно, здесь есть и мистика, немало и просто богословского материала, но много и гениальных прозрений, связанных с глубоким осознанием ценности рациональных средств познания, выражающихся прежде всего в познании математическом.
Осмысление мира как целостного и одновременно бесконечного приводит Кузанца и к его знаменитому диалектическому учению о «совпадении противоположностей» (сотас1еп1ла о р р о зй о ги т ) . Укажем в э т о й с в я з и , ч т о абсолютный максимум, будучи актуальной бесконечностью, выступает как абсолютный минимум, благодаря чему бог оказывается во всем. Положение об абсолютном минимуме, углубляя математический натурализм Кузанца, делает его одним из провозвестников диф ф еренциального исчисления.
Развиваемый Николаем органистическо-целостный взгляд на мир является взглядом динамическим. Один из его элементов составляет неоплатоновское представление о мировой душе как форме мира, от которой исходит всякое движение и которая реализует в вещах единство, порождаемое абсолютным максимумом. Подобно богу, мировая душа находится в самом мире, а не вне его, как учили неоплатоники. Именно благодаря активному воздействию мировой души «в земных вещах скрыты причины событий, как ж атва в посеве»64. Причинность истолковывается здесь Николаем телеологически. Встречаемся мы у автора «Ученого незнания» и с неоплатонов- ским учением о «развертывании» и «свертывании» всех вещей, отдаленно восходящим к представлениям Гераклита и стоиков о возникновении всех вещей из мирового огня и их обратном возвращении в него посредством «мирового пожара». Кузанец возобновляет такж е древнюю идею о человеке как микрокосмосе, заключающем в своем существе всю вселенную 65.
52
Дальнейшее развитие натурализм а и материализма в пантеистической натурфилософии XVI в.
Огромный интерес к природе, как один из аспектов гуманистической культуры, отражавший успехи нового, буржуазного способа производства в его борьбе против феодализма, привел в XVI столетии к расцвету натурфилософских концепций и систем, свободных от подчинения теологии, как это было свойственно еще Николаю Кузанскому. Этот расцвет связан прежде всего с именами П арацельса, Кардано, Телезио, Патрицци, Бруно, Кампанеллы и некоторых других мыслителей. При всем разнообразии этих концепций их объединяет ряд существенных, определяющих черт.
Первой из этих черт стал именно пантеизм. Роль пантеизма в философии, а в значительной степени и в сфере религиозной мысли, была в XVI в. столь большой, что все это столетие хочется определить — при х ар акте ристике его наиболее влиятельных философских концепций — как век пантеизма. При этом большинство натурфилософов и в это столетие стремилось опереться прежде всего на традиции неоплатонизма, а потом и стоицизма, влияние которого особенно усилилось на севере Европы, в частности в Нидерландах. Точка зр е ния пантеизма у натурфилософов рассматриваемой эпохи выраж ена более последовательно, чем у Н иколая Кузанского. Хотя бог и сохраняется у них в качестве таинственного принципа, направляю щего жизнь природы и человека, однако мыслится при этом в тесном единстве с ними. Радикальное использование концепции отрицательной теологии вместе с пантеистическим растворением бога в природе все больше подводило умы передовых людей к мысли о природе, как о единственном источнике всего происходящего. Кульминацию этого процесса отождествления бога и мира в пределах рассм атриваемой эпохи следует видеть в натурфилософских воззрениях Д ж ордано Бруно. У Н оланца бог, можно сказать, окончательно «переселяется» в природу, которая, по его известному определению, есть не что иное, как «бог в вещах». «Природа либо есть сам бог, либо божественная сила, открывающаяся в самих в ещ а х » 66. Бог выступает у Бруно то как природа, то как пространство, то как м атер и я67.
53
Высказывают натурфилософы и мысль о бесконечности природы — вселенной. Но скорее как смутное предчувствие, чем как четко и ясно сформулированную идею 68. Последнему препятствовало не только отсутствие научно установленных фактов, но и опасность атеистических выводов в условиях все усиливавшейся вXVI в. религиозной реакции, особенно в И талии и в странах, где продолжала господствовать католическая церковь. К ак справедливо заметил Ж ан Боден, «бесконечность уничтожает б о га» 69, чего церковь, разумеется, допустить никак не могла. Однако пламенный Ноланец, развивая идеи Николая из Кузы, четко сформулировал идею бесконечности природы — вселенной. Н о если у Кузанца эта идея выступала как идея еще полутеологи- ческая, то Ноланец развивает ее как учение вполне натуралистическое, как учение о природе. П римыкая к неоплатоновской традиции, Бруно продолжает отличать бога как существо актуально бесконечное, как начало «целокупно бесконечное», существующее «в свернутом виде и целиком», от природы, бесконечность которой, имея измерения, выступает лишь как бесконечность потенциальная, существующая «в развернутом виде и не целиком»70. Ознакомившись, по-видимому, так ж е и с материалистическим учением о бесконечности пространства и бесчисленности находящихся в нем миров Д ем ок р и т а — Эпикура — Лукреция, Ноланец был склонен истолковать актуальную бесконечность как абсолютную бесконечность пространства, а потенциальную — как бесчисленность находящихся в нем миров. «Есть двоякого рода бесконечность,— говорил мыслитель на допросе в венецианской инквизиции,— бесконечная величина вселенной и бесконечное множество находящихся в нем миров, и отсюда косвенным образом вытекает отрицание истины, основанной на в ер е» 71. Известно также, что, развивая учение о бесконечности вселенной и бесчисленности составляющих ее миров; Бруно обратился к теории Коперника и первым открыто заявил об истинности ее руководящего гелиоцентрического принципа. Тем самым учение о бесконечности природы не выступало у Бруно только умозрительным положением, каким оно в сущности оставалось у Николая Кузанского, а получало известную астрономическую и физическую конкретизацию.
54
Другой чертой, свойственной всем натурфилософам и с необходимостью связанной с пантеизмом, был органи- стический взгляд на мир, присущий подавляющему большинству и античных натурфилософов. Это обстоятельство и позволило натурфилософам эпохи Ренессанса, пантеистически переосмысливавшим неоплатоновскую идею эманации, широко вводить в свои построения принципы других античных натурфилософских концепций и прежде всего стоиков. Известное исключение здесь следует сделать для атомистического учения Демокрита — Эпикура — Лукреция. Конечно, и их тео рия была хорошо известна натурфилософам, например Бруно,, немало заимствовавшего из атомизма. Однако если говорить об определяющих принципах ренессансной натурфилософии, то здесь атомизм не играл ведущей роли, какую он стал играть в XVII в., когда развитие механистического материализма у многих мыслителей опирается именно на атомизм. Поэтому основной поток материалистической мысли в XVI в. шел в русле орга- нистическо-пантеистического осмысления мира.
Неотъемлемая черта органистического истолкования мира — гилозоизм, убеждение во всеобщей ож ивленности и одушевленности природы: «Мир одушевлен вместе с его членами» 72,— подчеркивает Бруно. Эту точку зрения, столь широко распространенную в античности, разделяли все без исключения натурфилософыXVI — начала XVII в. Обычно они исходили при этом из платоновско-неоплатоновской идеи «мировой*души» как всеоживляющего и одухотворяющего принципа. Но если в неоплатонизме мировая душа, составляю щая вторую ступень эманации божественного первоединства, % оставалась принципом вне- и надприродным, то у натурфилософов XVI в. она становится принципом вполне природным. По мере дальнейшего ознакомления с ан тичными натурфилософскими учениями, в которых гилозоизм составлял одну из определяющих черт, гилозоистический взгляд на природу натурфилософов XVI в. полу-
’чал новую теоретическую опору, а вместе с тем и более материалистическую трактовку, поскольку одушевленность стала рассматриваться не как следствие особого духовного принципа, а как результат известного сочетания природных элементов.
Другой элемент органистического истолкования мира
55
составляет идея -тождества микро- и макрокосмоса, становящ аяся одной из центральных идей всей натурфилософии XVI — начала XVII в. Выше мы видели, что этот взгляд, сопутствовавший пантеизму, высказывался рядом мыслителей и в эпоху средневековья, но в рассматриваемую эпоху это учение систематически противопоставляется схоластическо-теологическим представлениям. Однако понимание человека как подобия природы при довольно слабом еще познании ее подлинных, физических элементов и законов часто приводило натурфилософов к широкому использованию методов простой ан а логии между человеком и природой и тем самым к антропоморфизации природы. «Море,— писал Кампанел- ла ,— это пот земли или истечение раскаленных и расплавленных ее недр и такое же связующее звено между воздухом и землею, как кровь между телом и духом у живых существ. Мир — это огромное живое существо, а мы живем в его чреве, подобно червям, живущим в нашем ч реве»73.
Принципу антропоморфизма обязана своим происхождением, в частности, идея самосохранения вещей как одно из движущих сил природных явлений. В древности эта идея была присуща натурфилософии стоиков, от них она заимствована Телезио, который опирался на нее в своих стремлениях к натурализации человеческого поведения. Встречаемся мы с этой идеей и у Д ж ордано Б рун о 74. Но если принцип самосохранения, означавший не столько констатацию чисто физических свойств природы, сколько перенос на нее особенностей человеческого поведения, был принципом, содержавшим в себе «рациональное зерно», наполнившимся в дальнейшем, в связи с открытием закона инерции, чисто физическим содерж анием, то в натурфилософских концепциях эпохи тот же принцип антропоморфизма нередко порождал совершенно фантастические представления. Например, Кардано видел в симпатии и антипатии объективные свойства всех предметов природы, П арацельс проводил аналогию между человеческими органами и планетами, Телезио рассматривал «борьбу» тепла и холода за материю как борьбу двух мужчин за женщину, а Бёме видел в голоде космическую силу, которой охвачена вся природа.
С помощью понятия мировой души, являвшегося наиболее глубоким выражением антропоморфизма в
56
истолковании природы, натурфилософы пытались осмыслить присущее ей развитие. В этой связи необходимо указать, что, хотя Бруно, развивая идеи Н иколая Кузаи- ского, усвоил понятие бесконечности применительно к природе, однако эта его фундаментальная, антисхоласти- ческая установка не привела мыслителя к отказу от представления о конечных, целевых причинах, будто бы действующих в природе и связанных еще с аристотелевским учением о конечности мирового целого в пространстве. Необходимо еще раз подчеркнуть в этой связи, что последовательно органистический взгляд на мир и вытекающий из этого взгляда принцип телеологического истолкования его явлений сочетается только с представлением о конечности мира в пространстве. Это вполне понятно, если учесть, что в основе органистического взгляда на мир лежит метод аналогии между человеческим (или животным) организмом, который известен ближе и непосредственнее, и природой. Организм же всегда конечен. И тем не менее для Бруно, представителя органистического взгляда на мир, несмотря на его концепцию бесконечности природы, характерно еще телеологическое ее истолкование, опиравшееся, как и у Аристотеля, прежде всего на рассмотрение процессов, происходящих в органической природе и в сфере человеческой деятельности. Поэтому мировую душ у Ноланец называет «всеобщим умом», «художественным интеллектом», который «побуж дает природу производить как следует свои виды и, таким образом, имеет отношение к произведению природных вещей, подобно тому, как наш ум соответственно производит разумные образы». Е :е , что делается в природе, делается «не без размыш ления и интеллекта», в особенности, когда «художественны*! интеллект... изнутри семенной материи сплачивает кости, протягивает хрящи, выдалбливает артерии, вздуг вает поры, сплетает фибры, разветвляет нервы и со столь великим мастерством располагает ц ел о е» 75.
Следующей общей чертой натурфилософии, такж е связанной у ее представителей с пантеизмом, является продолжение того процесса «реабилитации» материи, который был начат еще в эпоху средневековья трудами Ибн Сины, Ибн Рушда, Ибн Гебироля, Д ави д а из Ди- нанта и некоторых других мыслителей. Теперь этот процесс «реабилитации» материи в свободной от теологиче-
57
ских рамок форме еще более энергично развивается натурфилософами. Пантеистически отождествляя бога и природу, натурфилософы уравнивали материю с богом, по существу объявляя ее единственной творческой сущ ностью. И здесь происходило материалистическое переосмысление неоплатоновской концепции эманации природы из бога. Но если в неоплатонизме материя рассматривалась как последняя ступень деградации бож ества, как результат полного угасания божественного света, как нечто совершенно неразумное и абсолютно злое, то, например, в произведении Патрицци «Новая философия вселенной» природа и материя выступают как полное и наиболее совершенное выражение божества. Д альш е всех по пути «реабилитации» материи пошли Телезио и особенно Бруно, которых и следует считать наиболее последовательными материалистами из числа натурфилософов XVI в.
Бруно утверждал не только иесотворенность и извечность материи, что было присуще и всем другим пантеистам, но и подчеркивал неразрывность материи и формы. Причем в этом обязательном единстве-материи и формы ведущая роль принадлежит материи, которая «творит все из собственного лона» 76, является главным субстанциальным н ач ал о м 77. Конечно, нельзя забывать и о том, что в концепции природы натурфилософов наряду с м атерией сохраняется и активный, идеальный принцип, отождествляемый большинством их с мировой душой как формообразующим принципом, действующим в самой материи. Но то пантеистическое примирение противоположности духа и материи, какое Энгельс усматривает в «Людвиге Фейербахе» д аж е в философских, системах некоторых идеалистов XVIII—XIX вв., все более наполнявшихся материалистическим содержанием 78, привело Бруно к вполне материалистическим результатам в его утверждении существования живой материальной субстанции, как такого начала, «в котором уже не различаются больше материальное и формальное и о котором ... можно заключить, что оно есть абсолютная возможность и действительность», двойная субстанц и я — духовная и телесная — сводится «к одному бытию и одному корню» 79.
Это «Единое, начало и причина,Откуда бытие, жизнь и движ ение»80 _ :
58
постигается Только разумом, оно не тождественно бесконечному разнообразию вещей, открывающемуся чувствам. Пантеистически и натуралистически переосмысливая основной принцип неоплатонизма, Ноланец именут это субстанциальное бытие как «творящей природой», так и богом. По существу, здесь уже снята р а з ница между натурализмом и материализмом и ж ивая материя превращена в единственную причину всего совершающегося в природе. Тем более, что Бруно иногда склонен отождествлять это живое субстанциональное бытие с эфиром, который «содержит всякую вещь и проникает в нее»81 и понятием которого итальянский мыслитель обосновывал антисхоластическое учение о физической однородности вселенной и всех составляющих ее миров.
Следует, далее, указать и еще на одно важ ное отличие органистического истолкования природы и материн от того их истолкования, какое стало развиваться в механистическом материализме, воскрешавшем здесь принципы атомизма. Материалисты-механисты, как известно, приписывали материи только «первичные» качества, исключая из нее все «вторичные», чувственно воспринимаемые свойства. Натурфилософы же рассм атривали природу и материю не только как живую, но и как многокачественную, многокрасочную, улыбаю щ ую ся всему человеку своим чувственным блеском, в ы р аж аясь словами Маркса. В этой черте органистической натурф илософии, впоследствии утраченной в механистическом материализме, проявилось радостное восприятие природы ренессанской мыслью после многих веков засилья аскетическо-схоластического отношения к ней.
Наконец, последняя черта, свойственная всей натурфилософии и тоже необходимо связанная с органистиче- ским, целостным истолкованием мира, состоит в наличии значительных элементов диалектики, напоминавших ту наивную диалектику, какая была столь распространена у многих античных мыслителей. Элементы диалектики в натурфилософских учениях рассматриваемой эпохи со: стоят, прежде всего, в подчеркивании связанности всех ее предметов и процессов, в их непрерывном движении. О всеобщей связи вещей и явлений природы, вытекавшей из единства бесконечного максимума, писал уж е Николай Кузанский 82. Еще большее развитие эта идея
59
получила у натурфилософов рассматриваемой эпохи, став одной из основ их материалистической интерпретации природы. Элементы диалектики связаны такж е с динамическими представлениями натурфилософов, восходящими к стоическо-неоплатоновской концепции «свертывания» и «развертывания» космоса. Поэтому Бруно, например, писал не только о том, что в природе имеет место непрерывная смена явлений и форм, изменение поверхности Земли в течение веков, превращение морей в континенты и континентов в моря и т. п., но и о том, что в бесконечно многообразных изменениях природы можно проследить как процесс развития, «развертывания» космоса, природы, так и обратный процесс «свертывания» всех вещей, движение космоса «к началу и субстанции вещей» 83. В этой мысли Ноланца о «свертывании» и «развертывании» космоса в «свернутом» виде заключался принцип эволюции, принцип развития, «развернуть», четко сформулировать который оказалось возможным лишь через два-три столетия, когда был н а коплен достаточный эмпирический материал и были выработаны более совершенные, научно-диалектические методы его осмысления, неизвестные итальянскому мыслителю. Динамическо-диалектичёский взгляд натурфилософов на мир выразился у них и в утверждении борьбы противоположных начал как одной из наиболее существенных черт, присущих всеобщему движению предметов и явлений мира. У Кардано такими началами были симпатия и антипатия, * у Телезио — тепло и холод, у Патриццн — свет и тьма, у Кампанеллы — бытие и небытие, у Бёме — голод и насыщение, и т. п. Идея Кузанца о совпадении противоположностей была продолжена и развита Ноланцем. У Бруно эта идея такж е находится в очевидной связи с его учением о бесконечности мира, мыслимой только разумом и совершенно недоступной чувствам, как это было у Николая.
Таковы основные принципы натурфилософии, неразрывно связанной с пантеизмом. Все вышесказанное о ней дает основание сделать вывод о материализме, который в эпоху Возрождения выступал главным образом в форме пантеизма. Эту разновидность материализма следует признать переходной формой между философией средневековья и механистическим материализмом XVII— XVIII вв:, чем в основном и определяется наличие в
60
пантеистических натурфилософских построениях, д аж е в наиболее материалистических, различных религиозно- идеалистических и мистических пережитков.
Мистический пантеизм XVI—XVII вв. как оппозициягосподствующей формализованной религиозности
Религиозно-мистический пантеизм, тоже восходивший к неоплатонизму и получивший в средние века наиболее полное выражение в деятельности Мейстера Э ккарта 84, сыграл большую роль в идеологической борьбе XVI—XVII вв. Многие мелкобуржуазные и плебейские сектантские движения этой эпохи свою идейную базу находили в мистическом пантеизме с его резко отрицательным отношением <к системе обязательных религиознодогматических предписаний и основывающейся на них иерархической церковной организации. Религиозно-пантеистическая концепция непосредственного постижения бога своим острием была направлена против господствующих церквей, сначала католической, ‘а потом и протестантских, которые не могли, конечно, допустить, чтобы в деле «спасения» верующие могли обходиться без их услуг. Эта разновидность пантеизма оказалась определяющей для мировоззрения Томаса Мюнцера, вождя «народной Реформации» в период Великой Крестьянской войны в Германии. «Его теолого-философ- ские доктрины,— говорит Энгельс о Мюнцере,— были направлены против всех основных догматов не только католицизма, но и христианства вообще. В христианской форме он проповедовал пантеизм, обнаруживаю щий замечательное сходство с современными спекулятивными воззрениями и местами соприкасающийся даже с атеизмом» 85. Мы подчеркнули последние слова Энгельса, так как видим в них чрезвычайно важное методологическое указание, исключающее метафизически непере- ходимую грань между пантеизмом и атеизмом. Радикально-уравнительские стремления анабаптистов, мечтавших об обществе без частной собственности, классов и государственной власти, находили в пантеизме, делавшем бога всем одинаково близким и доступным, свою наиболее широкую идейную базу. Д вижение а н а баптистов соприкасалось и переплеталось с другими
61
еретическими движениями, в частности с движением ранних антитрннитариев, отвергавших основоположный христианский догмат об обособленном богочеловеке и отрицавших божественность Христа. Многие анабаптисты являлись поэтому последователями М игеля Сервета, сожженного Кальвином в Ж еневе в 1553 г. Его произведения «Восстановление христианства» и «Об ошибках троицы», на которые опирались последующие антитри- нитарии, пропитано идеями неоплатоновско-мистического пантеизма 86.
В исторических условиях XVI—XVII вв. мистический пантеизм сыграл значительную роль в том процессе субъективизации религии и уменьшения роли оф ициальных христианских религиозных доктрин, о котором было сказано выше. Кроме того, мы установили, что оба типа пеитеистических воззрений — натуралистический и религиозно-мистический — далеко не всегда были представлены в «чистом» виде, они.нередко переплетались в мировоззрении одного и того же мыслителя, например, Себастьяна Франка, «настоящего мистического пантеиста», по словам М аркса 87, поборника общественного равенства, близкого по своим социальным и идейным позициям Томасу Мюнцеру. «Природу ж е я назы ваю богом»,— писал Франк в одном из своих произведен и й 88. Его пантеизм проявлялся не только в спекуляциях о боге, человеке и человеческом обществе, но и в рассуждениях о природе. Еще в большей степени это относится к последователям Франка, Валентину Вейгелю и Якобу Бёме. Воззрения последнего из них — особенно яркий пример причудливого сочетания ветхозаветной теологии и натурфилософии Парацельса. Принцип т о ж дества микро- и макрокосмоса, игравший столь значительную роль в натурфилософских концепциях XVI в., широко использовался и Бёме. Однако в отличие от н а турфилософов, применивших этот принцип к истолкованию природы и подчеркивавших зависимость от нее человека, мистические пантеисты развили элементы субъективизма, связанные с пониманием человека как микрокосмоса. Поэтому для Вейгеля и Бёме как познание природы, так и богопознание есть не что иное, как самопознание. Мистерии внутренней жизни — основной путь для «познания» бога и природы, совпадающих в своем существе. Причудливое переплетение религиозно
62
психологических и натурфилософских понятий с теогони- ческими и космогоническими фантазиями особенно характерны для автора «Авроры или утренней зари» и других произведений, в которых в фантастической ф о р ме выражены глубокие диалектические догадки.
Революционная роль мистического пантеизма была значительной в* период английской буржуазной революции, когда левеллеры, диггеры и другие ради кальноуравнительские направления активно связывали с ним свои социальные устремления.
Следует еще раз подчеркнуть в этой связи роль пантеизма как наиболее широкой религиозно-философской базы коммунистических стремлений в различных еретических движениях средневековья. Пантеизм обосновывал тогда примат общего над единичным, что в социальном плане означало примат коллективного над индивидуальным. Конечно, и христианский внеприродный бог провозглашался тем сверхъестественным существом, перед которым в принципе все люди равны. Но это было небесное, потустороннее равенство, обосновывавшее — особенно в социальной концепции Аквината — сугубое неравенство в земном социальном мире. Д ругое дело пантеистический бог, не требовавший никакой социальной иерархии. Конечно, равенство перед этим богом означало прежде всего равенство всех людей перед смертью. В условиях обычной, спокойной ж изни пантеистические настроения крестьянско-плебейских масс были настроениями аскетическо-созерцательными, хили- астическими. Массы пассивно ожидали тысячелетнего царствия Христа как манны небесной. Другое дело в периоды волнений и революции, когда те же пантеисти- ческо-коммунистические идеи становились могучим орудием мобилизации народных масс на штурм мира социальной несправедливости. Такую именно роль эти идеи играли в период Крестьянской войны в Германии, Мюнстерской коммуны и английской революции. В лияние мистического пантеизма в английском народе было столь значительно, что кромвелевский парлам ент в 1650 г. издал специальный ордонанс против этих «богохульных и отвратительных мнений», предписывающий, что «любой не расстроенный умом человек, который будет утверждать... что истинный бог... живет в каждом создании... или что нет никакой реальной разницы м еж
63
ду морально-добрым и злым», должен быть подвергнут шестимесячному тюремному заключению и изгнан, если не исправит своих мнений. И вождь левеллеров Д ж он Лильберн и вождь диггеров Д ж ерард Уинстенли разделяли пантеистические идеи. Последний из них утверж дал, например, что «познать тайны природы значит познать дела Бога; а познать дела Бога в творении значит познать самого Бога, ибо Бог живет в каждом видимом деле или теле»89.
В периоды революций, в периоды максимальной а к тивности масс мистический пантеизм, как свидетельствует об этом деятельность немецких и нидерландских анабаптистов и английских квакеров, оказывался средством боевой мобилизации значительных масс народа. После спада революционной волны, когда эти массы становились мирной паствой победивших протестантских вероисповеданий, застывавших в новых системах догматов и материализовавшихся в бюрократизированных организациях нетерпимых церковников, продолжал оставаться едва ли не главным идейным руслом, по которому направлялось недовольство этими омертвевшими формами религиозной жизни, разочарование в них. В Нидерландах в период Министерской коммуны влияние анабаптистов было весьма значительно. Однако в эпоху борьбы с феодально-католической Испанией подавляю щее большинство городского населения — матросы, ремесленники, предпролетариат — встали под знамена кальвинизма и внесли решающий вклад в дело победы нидерландской буржуазной революции. Победа этой революции не принесла облегчения бремени эксплуатируемых масс. Наиболее развитая идеологически и морально их часть — главным образом квалифицированные ремесленники и частично купцы,— не приемлющая официальной религии, санкционирующей эксплуататорский строй, образовали множество сект, наиболее влиятельными из которых стали в Нидерландах XVII столетия лабадисты и особенно меннониты. Последние, происходившие по прямой линии от анабаптистов, составляли десятую часть всего населения Нидерландов 90. В р аж дебно настроенный к ним очевидец передает, что члены этих сект, ремесленники и купцы, в большинстве своем люди необразованные, обладали тем не менее зам ечательным талантом «объяснения» Писания и обычно были
64
пантеистами. «Большинство из них,— пишет этот очевидец,— верили, что существует единый Божественный Дух, присущий всему живому и рассеянный повсюду. Дух, живущий во всякой твари. Субстанция и бессмертие нашей души — н е ч т о иное, как Божественный Дух. Сам Бог — это не что иное, как этот Дух. Д уш и у м и рают вместе с телам и»91. Более образованные менно- ниты, главным образом из купцов и из лиц свободных профессий, объединялись в так называемые коллегии, свободные религиозные общины, не признававшие никакого духовенства и никаких профессиональных проповедников, выступавшие на своих собраниях со «свободным» толкованием Писания и речами на религиозные темы. Главным центром коллегиантов-меннонн- тов был Рейнсбург, селение вблизи Лейдена, где они собирались несколько раз в году. Среди этих свободомыслящих, как отмечает тот ж е современник, было немало и атеистов.
Отвергая всякую организованную церковь и составляющий ее институт священства, обособившийся от верующих в касту служителей культа, предписывающих им правила веры, меннониты-коллегианты и близкие им секты «искателей божественной правды», «энтузиастов» и другие последовательно развивали тот принцип субъ- ективизации веры, с которым первые реформаторы шли в бой против догматического формализма католической церкви. Отказываясь от какой бы то ни было религиозной догматики и от церковной организации, выступая за полнейшую веротерпимость, принимая в свои коллегии представителей всех вероисповеданий, кол- легианты представляли одно из наиболее радикальных проявлений движения за соединение церквей. Чисто моральное истолкование религии, представлявшееся вероисповедному убеждению каждого человека, освобождавшегося от подчинения какой бы то ни было догматической организации, находил в среде колле- гиантов наиболее последовательных поборников. П роведение этого принципа, опиравшегося на моральную утопию Евангелия, явилось пассивным протестом против официальных коррупированных церковных организаций, находившихся на службе эксплуататорских классов.
Если, таким образом, в Англии середины XVII столетия мистический пантеизм был одним из главных
3 Зак. 681 65
идеологических средств, обосновывавших революционную активность значительных слоев плебейской оппозиции, то в Н идерландах той же эпохи эта его функция была почти утрачена и он становился здесь уже средством пассивного протеста тех слоев населения, которые отрицательно относились к установившимся общественным порядкам, но не видели возможности изменить их. Многие меннониты воздерживались поэтому от всякого участия в государственной жизни и осуждали военную службу. Аскетическая тенденция, неразрывно связанная с моралью неприятия окружающего мира, мистически- созерцательного «удаления» от него, приводила менно- нитов, лабадистов и других «искателей божественной правды» к идеям примитивного коммунизма, столь х а рактерным в прошлом для анабаптистов. Поскольку, согласно одному из основных для всего мистического пантеизма принципов, всякое индивидуальное бытие, включая и человеческое существование, является извращением подлинно единого, божественного бытия, индивидуальная собственность осуждалась среди меннонитов, коллегиантов, лабадистов, английских квакеров. Среди них было распространено убеждение, что «у братьев должно быть все общим» 92.
Д ля уяснения философского значения мистического пантеизма существенное значение имеет проблема его взаимоотношений с рационализмом. Выше мы видели, что пантеистическая мистика начиная с Эриугены в отличие от ортодоксально-католической мистики не означала огульного и радикального отвержения разума. Более того, субъективизация религии, характерная для мистических пантеистов, многих из них приводила к тому, что источник внутренней религиозной «правды» они нередко усматривали в человеческом разуме, как наиболее совершенном выражении «духа божьего», в соответствии с которым следует истолковывать и «слово божье», зафиксированное в Библии. Уже Томас Мюнцер, по словам Энгельса, «отказывался рассматривать библию как единственный и безупречный источник откровения. Настоящее и живое откровение, по его мнению, есть разум, откровение, которое существовало во все времена и у всех народов и которое существует до сих пор... Вера является не чем иным, как пробуждением разума в человеке...» 93. В воззрениях многих пантеистов рассмат
66
риваемой эпохи, особенно в XVII в., оставался, так ск а зать, мистический минимум — вера в возможность непосредственного, душевного общения с невидимым и неосязаемым богом. Но средством такого общения становился не только экстаз, но и разум, мышление. Причудливое сочетание мистики и рационализма — в различной пропорции — составляет одну из определяющих черт многочисленных пантеистических сект рассматриваемого столетия. У некоторых из мистических пантеистов происходила своеобразная сотас1еп и а оррозК огит, в результате которой экстаз вытеснялся размыш лениями о боге и о природе. Так, многие английские квакеры называли себя «детьми света», отрицали библейскую историю о сотворении мира и заявляли, что «все происходит от природы» 94. Более же образованные пантеисты из среды голландских коллегиантов стали д аж е поборниками картезианского рационализма.
Н ам следует оставить здесь рассмотрение многогранной и сложной проблемы пантеизма, ибо мы дошли до пункта, имеющего непосредственное отношение к д е я тельности и мировоззрению Спинозы. Но прежде чем переходить к его анализу, необходимо уяснить собственно философскую атмосферу XVII в., одним из проявлений которой стала и философская система Спинозы.
III. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОИ МЫСЛИ В XVII в.
«Век гениев», как называют иногда семнадцатое столетие некоторые историки науки и философии !, имея в виду множество блестящих имен людей, трудившихся тогда на этом поприще, для марксистской истории философии ценен своими великими материалистическими результатами, ставшими возможными и в силу общего социального прогресса эпохи, и благодаря многочисленным успехам естествознания, и в первую очередь математики, механики и астрономии. Важнейшим завоеванием буржуазной — если не всегда по своим главным представителям, то по своей сути — философской мысли в эпоху, непосредственно предшествующую Просвещению, следует признать рационализм , понимаемый в са мом широком смысле этого слова, как противоположность иррационализма, недоверия к разуму, неверия в человека в его усилиях познать мир, а затем и подчинить его себе. В рассматриваемую эпоху, как и в предшествующие века, главным носителем и поборником иррационализма выступала теология, несмотря на весь псевдорационализм схоластики, связанный прежде всего с именем Аквината. Утверждения ряда буржуазных философов и историков философии, особенно неотомистов, относительно схоластики, как главного идейного источника рационалистических устремлений новой философ и и 2, разбиваются непреложными фактами социального, идеологического и философского развития в рассматриваемую эпоху. И тогда, как и в любую другую эпоху, философский рационализм порождался и укреплялся запросами самой жизни, потребностями производства и техники, ростом товарно-денежного обращения, приоб
ретавшего всемирные масштабы. Развитие всех этих факторов привело к тому, что рационализм становится самой влиятельной гносеологической силой передовой философской мысли.
Сказанное не означает, что могучий расцвет рационализма в XVII в. не имел своих идейно-философских источников в предшествующей мысли. Выше было о б р ащено внимание на огромную роль, какую в процессе секуляризации не только мышления, но и других сторон жизни, сыграла теория «двух истин» в ее обоих в ари ан тах. Д л я развития философской мысли, и преж де всего материалистической, первостепенное значение имела секуляризация мышления, его полная эмансипация от религиозного откровения, происшедшая именно в р ассматриваемую эпоху и положивш ая начало новой ф илософии и новой форме материализма. В этом, как известно, и состоит прежде всего огромная революционизирующая заслуга декартовского учения о «естественном свете разума». Если, как мы видели выше, рационализм наступал в XVII в. д аж е в сфере религии, то в области передовой философии, материалистические устремления которой были органически связаны с успехами научного познания, торжество рационализма, можно сказать, было полным. «Поэтому,— решительно заявлял Гоббс,— философия исключает из себя теологию, т. е. учение о природе и атрибутах бога», «исключает и всякое зн а ние, имеющее своим источником божественное внушение, или откровение, да и вообще всякое знание, которое не приобретено нами при помощи разума, а мгновенно подарено нам божественной милостью »3.
Отождествление философии с рациональным познанием, характерное не только для философов-рационали- стов в более узком смысле этого термина, но и для . тех мыслителен, которых принято квалифицировать , как эмпиристов и сенсуалистов4, означавшее полную эм ан сипацию научно-философской методологии от сверх- разумного откровения, привело в специфических условиях XVII в. с характерными для него приемами научного исследования и самим содержанием научного познания к господству метафизического способа мышления, гносеологическая природа которого не позволяла д аж е мыслителям-материалистам полностью освободиться от теологической проблематики. Известное высказывание
69
Энгельса, характеризующее наиболее существенную черту научно-философской картины мира, открывавшейся передовым мыслителям рассматриваемой эпохи гласит: «Н аука все еще глубоко увязает в теологии. Она повсюду ищет и находит в качестве последней причины толчок извне, необъяснимый из самой природы »5. Выше мы видели, что характерные для XVII в. особенности социальной структуры обществ, вступивших на путь капиталистического развития, природа эксплуататорской государственной власти, громадная социальная роль религии, остававшейся самой мощной идеологической силой эпохи, наложили свой неизгладимый отпечаток на все содержание идеологической жизни, включая и передовую философскую мысль.
От органицизма к механицизму, от теизма к деизму
При характеристике наиболее существенного вклада рассматриваемого столетия в развитие физических зн а ний о природе историки науки подчеркивают генезис механики как науки, прошедшей путь от Галилея, Кеплера и Д екар та до Н ью тона6. Формирующаяся в этой связи механистическая картина мира вырастает из ее органистического понимания, характерного для предшествующих веков. Это понимание было свойственно не только натурфилософии, но и схоластике, пытавшейся, однако, сочетать органицизм с христианско-креационистскими представлениями, от которых была свободна натурфилософия XV—XVI вв. По существу же схоластическо-перипатетическая концепция природы с центральным для нее понятием субстанциальной формы была концепцией органистической, антропоморфно-телеологической. Новаторы рассматриваемого столетия хорошо понимали эту важнейшую особенность схоластической натурфилософии или д аж е обычной точки зрения подавляющего большинства людей. Например Гоббс, разъясняя складывавшийся тогда принцип инерции движения, непонятный с точки зрения обыденного мышления, писал, что «люди судят по себе не только о других людях, но и о всех других вещах, и так как они находят, что после движения они чувствуют боль и усталость, они полагают, что всякая вещь устает от движения н70
ищет по собственному влечению отдыха... Исходя из ( только что указанных соображений, школьная мудрость говорит, что тяж елы е тела падают вниз из стремления к покою и из ж елания сохранить свою природу... Они, таким образом, бессмысленно приписывают неодушевленным вещам стремление и знание того, что пригодно для их сохранения...»7. Аналогично высказы вался и Д е к а р т 8. В сформировавшейся в XVII столетии механистической картине мира схоластическая интерпретация природы получала более могучего противника, чем тот, кого она имела в лице натурфилософии, так как механистическое объяснение природы было в ту эпоху единственно научным ее объяснением, приводившим к более ясным и более последовательным материалистическим результатам.
Механистическое истолкование природы выступало против органистическо-схоластического как объяснение количественное против качественного «объяснения», рас сматривавшее мир как совокупность несводимых друг к другу качеств или сил, загадочных в этой своей несводи- мости и обращавш их умы в сторону божественного всемогущества. Механико-математическое объяснение природы стремилось последовательно свести все качественные определения к количественным. Н аиболее широкой методологической базой такого сведения служило рационалистическо-аналитическое разложение «вторичных» качеств на «первичные», отрицание реального существования первых в пользу вторых, свойственное всем новаторам научно-философской мысли XVII в. и соответствующее механико-математической стадии в развитии естествознания, переживавшего тогда эпоху бурного подъема. Устранение всех признаков органициз- ма, могущих леж ать в основе природных процессов, наиболее радикальным образом произведенное картезианской физикой, стремление истолковать мир как состоящий из чисто физических элементов, разумеется, не было процессом мгновенным. Заслуж и вает специального исследования сам процесс перехода от органи- стического к механистическому пониманию п рироды 9. Бэкон, у ж е шедший в этом направлении, был, однако, еще убежден, что «ощущение существует повсюду» 10.
Одна из характерных особенностей этого перехода состояла в приспособлении некоторых органистических
71
представлении к рождавшемуся механико-физическому пониманию природы. Большую роль в этом процессе сыграло усилившееся в первой половине XVII в. возрождение принципов античного атомизма, связанное в И талии и во Франции с именами Бассо, Беригара, Маньена и особенно Гассенди. Клод Беригар, одним из первых противопоставивший перипатетической физике физику корпускулярную, отбросив аристотелевское учение о формах, усматривал сущность природных изменений в пространственном перемещении мельчайших тел, по- нимаемых, однако, не столько как атомы Демокрита, сколько как семена Анаксагора, т. е. с признаками качественной несводимости п . Ж а н Маньен, написавший книгу «Воскресающий Демокрит», причину движений и сцеплений атомов, порождающих все многообразие вещей, видел в некоей симпатии атомов, в присущей им тенденции к объединению, т. е. в признаках органисти- ческого х а р а к т е р а 12. Д екар т и Гоббс, опиравшиеся на достижения механики, произвели значительно более решительное истребление всех признаков органицизма, однако и они в некоторых существенных случаях были вынуждены использовать понятия, выработанные орга- нистической традицией. Одно из важнейших понятий этой традиции — понятие напряжения, стремления, или импульса (conatus). Являясь, в сущности, латинским эквивалентом rovog/a стоиков, это понятие, играющее значительную роль в системе Спинозы, употребляется Гоббсом в контексте механистического объяснения природы и человека, заменяя несложившееся еще понятие инерции 13.
Важнейший результат механистическо-материалистической интерпретации природы философскими новаторами XVII в. состоял в рассмотрении мира не в качестве организма, каким он представлялся натурфилософам предшествующей эпохи, а в качестве огромного космического механизма. О бразец такого понимания мира был дан физикой Д е к а р т а 14, его полностью придерживался, Гоббс и ряд других ученых и материалистически мыслящ их философов XVII в. К числу их принадлежал и Бойль, один из наиболее крупных представителей механистического естествознания )£VII в., косвенный корреспондент Спинозы. В своем «Трактате о самой природе» он писал: «Природу в целом (N aluram Generalem)
72
я называю космическим механизмом, т. е. совокупностью всех механических состоянии, фигуры, массы, движения и т. п., относящихся к великой системе мира.
Определяя ж е природу того или иного отдельного тела, я назову его частным, обособленным или, если хочешь, индивидуальным механизмом», представляю щим собой видоизменение большого космического механизма, или мастерской мира (Fabrica M undi), сравниваемой Бойлем с огромным часовым механизмом 15.
Конечно, нельзя представлять упрощенно смену органистического понимания мира механистическим, полагая , что органистическая интерпретация природы совсем исчезает в XVII в., полностью уступая место механистической. В действительности далеко не все д аж е передовые мыслители, придерживавшиеся механицизма, истолковывали по образцу механизма ж изнедеятельность животных, как это д ел ал Д екар т и многие картезианцы. Тот же Бойль, пытаясь осмыслить ж и зн едеятельность уток, лебедей и другой птицы, способной летать и плавать, прибегал к аргументам телеологического х а р а к т е р а 16. Идеалистический вариант органи- цнзма представляла философия кембриджских платоников: Р альф а Кедворта, автора термина «гилозоизм »17,— одного из наиболее ожесточенных противников механицизма и атеизма Гоббса, — пытавшегося снова ввести в физику учение о целевых причинах; Самюэля П аркера , впервые введшего в философию выражение «физико- теология»; Генри Мора, доказывавшего, что многие естественные явления, например магнетизм, электричество, д аж е тяжесть, не могут быть объяснены механистически, путем пространственного перемещения частиц вещ ества и столкновения их, а должны быть объяснены только деятельностью активных духов. П рибегая к идее мировой души, Мор пытался дополнить и д а ж е з ам е нить принцип механистического объяснения явлений природы принципом телеологическим и нематериальным 18. К Мору же восходит идея о пространстве как о чувствилище божьем, усвоенная потом и Ньютоном. Монадологию Лейбница с центральным для нее представлением монад, как центров духовно-психической активности, такж е следует рассматривать к а к идеалистический вариант органицизма. Слабость механпстиче-
73
ского объяснения природы, вытекавшая из попытки вывести все многообразие мира из пространственного перемещения бескачественной материи, укрепляла позиции органицистов. Большую роль сыграли здесь научные открытия совершенно неведомых до тех пор форм ж и з ни, произведенные с помощью микроскопа и, казалось, подтверждавшие ее универсальную распространенность, укреплявшие тем самым органистическо-гилозоистиче- ские представления. Именно в Нидерландах в XVII в. были сделаны самые поразительные из этих открытий прежде всего ровесником Спинозы Антоном Левенгуком, издавшим обширный труд «Тайны природы, открытые при помощи микроскопа». Эти открытия дали Л ей б ницу основание написать в своей «Монадологии», что «в наименьшей части материи существует целый мир созданий, живых существ, животных, энтелехий», что «всякую часть материи можно представить наподобие сада, полного растений, и пруда, полного рыб» 19. Спиноза тоже был микроскопистом.
Механистический взгляд на природу, отказывающ ийся от качественно-динамической ее интерпретации, приводил к метафизическому, внеисторическому пониманию природы, представляющей с этой точки зрения комбинацию одних и тех же неизменных элементов. «Революционное на первых порах естествознание, — писал Энгельс, — оказалось перед насквозь консервативной природой, в которой и теперь все было таким же, как в начале мира, и в которой все должно было оставаться до скончания мира таким же, каким оно было в начале е го » 20. Элементы механистического эволюционизма, с какими мы встречаемся в физике, точнее в космогонии Д екарта , не нарушали всерьез метафизической картины природы, с необходимостью связанной с механицизмом. С такой же необходимостью эта картина требовала представления о боге как первоисточнике движения и последующего развития в природе.
Здесь мы снова встречаемся с комплексом идей, получившим наименование деизма. Выше мы видели, что одним из результатов наступления рационализма на религию в области самой религии было возникновение и распространение деистических учений о «естественной», или «разумной», религии, сводящей к минимуму число ее положений и отказывающейся от основоположных
74
догматов христианского, как, впрочем, и любого другого, вероучения.
Философским эквивалентом «естественной религии» был деизм подавляющего большинства передовых мыслителей, оставлявших за богом тот минимум функций, который не поддавался объяснению с позиций механистической интерпретации природы. Такое ограничение функций бога освобождало природу от большей части его опеки и открывало дорогу для ее научного исследования и материалистического осмысления. Трудно переоценить прогрессивность этой философской позиции в условиях XVII в., когда в значительной части Европы победили протестантские религии, особенно энергично настаивавшие на абсолютной власти бога над всей сф ерой действительности как природной, так и общественной. Выше было отмечено принадлежащ ее Аверроэсу деистическое по своей сути сравнение функций бога с функциями главы города, который издает распоряж ения, но ни во что непосредственно не вмешивается. Совершенно иначе понимал функции бога Кальвин, возвращавш ийся к августиновскому представлению о боге, приписывающему богу абсолютную свободу воли, предписывающую правила поведения как человеку, так и природе. Бога, учил женевский реформатор, отнюдь не следует понимать как праздного созерцателя земных событий. Напротив, его следует представлять наподобие капитана корабля, никогда не выпускающего из своих рук руль и постоянно вмешивающегося во все события, чтобы заставлять их идти так, как ему н у ж н о 21. Если философскую позицию Аристотеля в его «теологии» иногда определяют как деистическую, имея в виду о тд аленность божественного перводвигателя от мира и отсутствие его непосредственного вмешательства в его события, то этот термин становится значительно более адекватным применительно -к философским воззрениям многих новаторов XVII в., опиравшихся в своем осмыслении природы на складывавшиеся законы механики.
У же принцип инерции, не известный Аристотелю, придавал, например, деизму Галилея новую форму, невозможную в древности и средневековье. Деистическое сокращение функций бог» становится очевидным при сравнении понимания эти* .функций в космогониче-
75
скнх воззрениях Галилея и Д екарта. Великий итальянский, ученый считал, что бог создает сначала Солнце, затем планеты, затем пускает их по направлению к Солнцу, изменяя в определенном пункте их падение в круговое движение, с тех пор совершающееся в силу инерции, и фиксируя здесь их скорость, с тех пор неизменную, как и сама вселенная, отныне независимая от б о г а 22. С точки же зрения Д екарта, наиболее бескомпромиссно выраженной в раннем «Трактате о свете», д ея тельность бога ограничивается созданием материи и сообщением ей движения, после чего природа сама распутывает первозданный «запутанный и невообразимый хао с» 23, приобретая черты стройного мироздания. Не считая, следовательно, двух главных «чудес» — сотворения материн и движения, понимание которых выходило
.за границы механистической интерпретации природы ,— бог уже «не совершает в этом мире никаких чудес»24. Вполне обоснованной была обида Паскаля, который не мог простить Д екарту того, что он, заставив бога сообщить миру движение путем «первощелчка», не обращ ался уже к божественному всемогуществу25. Аналогичным образом Бойль, уверенный в том, что все естественные явления «объяснимы посредством движения, величины, тяжести, формы и других механических состояний», исходил из того, что бог, как «могущественный виновник и творец мира», не допускает никаких чудес в огромном космическом часовом механизме, аналогичном часам Страсбургского собора, в которых «все части столь искусно придуманы, что весь механизм, будучи однажды приведен в движение, заставляет все части совершать свои движения в соответствии с первым намерением м астер а» 26.
В прямую противоположность теологическо-волюнтаристическому истолкованию бога, столь .ярко вы раж енному Кальвином, деистическая интерпретация бога превращ ала его в гаранта тех естественных закономерностей, которые открывались наукой. В соответствии с этим деисты подчеркивали разумное начало божественного существа, а не волевое. По крайней мере до тех пор, пока некоторые из них стремились к истолкованию явлений физической природы, изучаемых механистическим естествознанием. Подчеркивая неизменность и разумность божественной природы, некоторые деисты,
76
ученые и философы, как бы подводили методологический фундамент под попытки рационализации религии. Весьма знаменательна в этом отношении попытка Д е карта разработать «абсолютно достоверное» д о к аза тельство существования бога и бессмертия человеческой души, с которым философ выступил, было, в своих «Размышлениях о первой философии» и которое превосходило своей радикальностью все аналогичные попытки, не раз предпринимавшиеся в философии и теологии. Ставя веру в бога в зависимость от критерия ясности и отчетливости, Д екарт приходил тем самым к ее предельной рационализации. Его известный последователь, но вместе с тем и оппонент, богослов и философ Антуан Арно, заметивший, по-видимому, опасность столь радикального рационализма применительно к религии, в своих «Возражениях» на «Размышления о первой ф илософии» пытался осторожно отвести уваж аем ого метра с этого небезопасного п ути 27.
О влиятельности деистических представлений среди наиболее передовых мыслителей XVII в. можно судить и по тому факту, что от этих представлений не был свободен даж е Гоббс, едва ли не наиболее радикальный механистический материалист рассматриваемого столетия. Английский философ не* может представить себе вселенной без божественной первопричины, в руках которой находится первое звено непрерывной цепи физической причинности28. Подобно тому как хорошо устроенный правопорядок исключает необходимость непосредственного вмешательства государя в повседневный ход различных событий в его государстве, так и бог, «первый двигатель всего», однако царствующий «при посредстве природы», позволяет всем ее событиям протекать естественным п утем 29. Конечно, деизм Гоббса отличается от деизма Д екарта. Французский мыслитель основывает свое доказательство существования бога на иллюзии онтологического аргумента, который совершенно неприемлем для английского материалиста-номина* листа. Отвергая в своих «Возражениях» на декартовские «Размышления» врожденность идеи о боге, он прибегает в вопросе о существовании бога скорее к космологическому аргументу, полагая, что цепь причин в мире д о л ж на иметь некую вечную первопричину30. Кроме того, вы раж аясь словами М аркса, деизм Гоббса — лишь
77
«удобный и лёгкий способ отделаться от религии»31, но одновременно и единственно возможный m odus vivendi с религией.
Ее духовное и физическое воздействие, столь могучее и эффективное еще в XVII столетии, у деистов этого века, д аж е материалистически мысливших, сочеталось с неспособностью при механистическо-метафизической интерпретации природы обойтись без божественной первопричины. Конечно, тот скудный минимум, какой сохраняет Гоббс от* атрибутов бога, более чем недостаточен— имея в виду его эпоху — для религиозного культа, но он достаточен, чтобы не порывать полностью с религией, открыто заявляя о своем атеизме. Таким минимумом, сохраняемым Гоббсом, является представление об обособленном положении бога, находящегося где-то вне пределов видимого и постигаемого человеком мира. Характерно, что с этих позиций Гоббс выступает против пантеистического отождествления бога и природы: «Недостойно говорили о боге и отрицали его существование те философы, которые утверждали, что бог есть мир или душа мира. Ибо под богом мы понимаем причину мира, а сказать, что мир есть бог, значит сказать, что мир не был создан, а существует предвечно, значит отрицать существование -бога (ибо то, что предвечно, не имеет причины )»32.
Не следует, однако, думать, что деистическая и пантеистическая точки зрения антагонистически исключали
.друг друга. Ведь явления, описываемые философией, крайне редко выступают в «чистом» виде и существуют обычно как более или менее четкие тенденции. Так именно выступали деизм и пантеизм, представителей которых сближ ало стремление к натуралистическому истолкованию явлений мира, устранявшему непосредственное вмешательство бога. Родственная близость этих тенденций была уж е очевидна для нас выше, при характеристике натурализма Аверроэса. В XVII в. Д екарт, один из главных представителей деизма — особенно с точки зр е ния его естественнонаучного обоснования, — писал вместе с тем в шестом из своих «Метафизических разм ы ш лений»: «Под природой, рассматриваемой вообще, я понимаю теперь не что иное, как самого бога или порядок и расположение, установленное богом в сотворенных в ещ ах » 33.
78
Бог и мир в бесконечной вселенной
Поскольку, таким образом, мыслители-новаторы вы нуждены были допускать существование бога, они встречались с большой трудностью, связанной с проблемой «локализации» бога в бесконечной вселенной. Философы-деисты сохраняли обособленное положение бож ественного существа в мире, не допускавшем никаких пределов, что приводило их к ряду затруднений, вносивших противоречия и разлад в материалистическую картину вселенной, над созданием которой много потрудились ученые и передовые мыслители XVII в.
В сознании ученых этого века идея бесконечности вселенной стала, можно сказать, общепризнанной идеей. Теперь эта идея не являлась только натурфилософской догадкой, какой она была еще в предшествующем столетии, а подкреплялась рядом первостепенной важности фактов, доставленных различными областями человеческих знаний. П родолжающееся открытие новых земель и новых народов с огромным разнообразием свойственных им обычаев довершило крушение того огЫ б 1егга- гигп, с которым так свыкались за многие века «европоцентристских» представлений и который начал особенно интенсивно разрушаться с начала эпохи великих географических открытий. Открытия, полученные с помощью микроскопа, обнаружили бесконечное разнообразие ж и з ни совсем в другой сфере. Но особенно сильно воображение образованных людей рассматриваемого столетия было поражено бесконечными просторами вселенной, все новыми ее явлениями, которые продолжали открываться с помощью совершенствовавшихся телескопов.
Идея Бруно о множестве миров завоевывала себе все более широкое признание, Сирано де Б ер ж ер ак ф ан тазировал о путешествии на Луну. Современник Спинозы» великий математик, механик и астроном Христиан Гюйгенс, с которым философ был знаком, писал в своем «Космотеоросе»: «Что за чудесную и изумительную систему мы имеем теперь на величественных просторах Вселенной. Сколько Солнц, сколько Земель, и на к а ж дой из них имеется множество трав, деревьев и животных. К аж д ая из них украшена столькими морями и горами. И как должно увеличиться наше удивление и вое-
79
хищение при созерцании чудовищных расстояний и множеств звезд ?» 34.
Отношение религии к проблеме бесконечности вселенной далеко не было таким восторженным, как у новаторов этого столетия. В религиозном сознании, определявшемся господствовавшими в Европе христианскими вероучениями, мысль о бесконечности вселенной приходила в непримиримое противоречие с традиционной теоцентрической картиной природы, требовавшей хотя бы и очень большого, но все ж е в принципе конечного мира. Верующие не без основания продолжали считать, что бесконечность уничтожает божественное существо. Вопрос этот, например, очень смущал шведскую королеву Христину, и Д екарт в специальном послании должен был успокаивать свою царственную покровительницу, разъясняя ей, будто существование бога вполне совместимо с бесконечностью м и р а 35. Впрочем, и до этого французский мыслитель неоднократно возвращ ался к проблеме отношения бесконечного бога к бесконечному миру, и его решение этой проблемы можно считать наиболее характерной попыткой согласования выводов нового естествознания с основополагающим догматом религиозного сознания.
Принципиально это решение было дано Николаем Кузанским, на которого и ссылается Д екарт в своем письме Шаню, предназначенном для Христины36. По образцу Кузанца и его последователей Картезий различает бесконечность мира как безграничность, беспредельность (indefinitas, indéfini), невозможность установить для природы какой бы то ни было пространственный предел, т. е. потенциальную бесконечность, и бесконечность бога к а к бесконечность в «собственном смысле», бесконечность абсолютную (infinitas, infini), актуальную, так сказать, завершенную. «Я устанавливаю здесь,— пишет Д екар т в своих «Ответах на первые возраж ения» ,— различие между бесконечностью и безграничностью (неопределенностью — indefinitas). Бесконечным в собственном смысле я называю только то, что не имеет границ во всех отношениях (nulla ex parte). В этом смысле бесконечен один только бог. Те же вещи, при рассмотрении которых я не нахожу их конца, каковы протяжение воображаемых пространств, множество чисел, делимость частей количества и тому подобное, я
80
называю беспредельными, а не бесконечными, потому, что они не являются бесконечными и безграничными во всех отношениях»37.
В дальнейшем мы специально остановимся на проблеме познания в связи с различением Д екартом и д р у гими новаторами актуальной бесконечности и потенциальной бесконечности мира. А сейчас лишь укаж ем , что непознаваемая, статистическая актуальная бесконечность в сущности не играет никакой роли в познании реальной природы, в то время как потенциальная бесконечность, бесконечность становления, вытекаю щ ая у Д екарта из самого отождествления материи с пространством, в осмыслении бесконечной природы играет р еш ающую роль. «Мы узнаем также, что этот мир, или протяж енная субстанция, составляю щ ая его, — читаем мы в «Н ачалах философии»,— не имеет никаких пределов для своего протяжения, ибо, д аж е придумав, будто сущ ествуют где-либо его границы, мы не только можем вообразить за ними беспредельно протяженные пространства, но и постигаем, что они действительно таковы, какими мы их во о бр аж аем » 38. Аналогичную роль, как мы видели, потенциальная бесконечность играла и в философии Николая Кузанского. Однако, поскольку Д екар т придерживается деистического взгляда на отношение бога и мира, в его метафизике актуально бесконечный, непознаваемый, неизменный бог, творящий материю и сообщающий ей первотолчок, все ж е в известном смысле ограничивает безграничную вселенную, «оконечивает» ее. Статическая, актуальная бесконечность бога рассм атривается как некий предел для потенциальной, становящейся бесконечности мира. Вот почему французский философ допускает, что, хотя у него нет никаких оснований для предположения каких бы то ни было границ вселенной, однако богу такие границы будто бы могут быть известны 39. Отсюда в картезианском деизме — противоречие в одном из его важ ны х понятий, благодаря которому философ обосновывает самодостаточность мира, его фактическую независимость от бога после того, как он получил «первощелчок». Мы имеем в виду кар тезианскую идею о постоянстве количества движения, которое неизменный бог сообщил однаж ды м атер и и 40. Это противоречие подмечено Энгельсом, указавшим, что в этом основном законе картезианской физики и картези
81
анского мира «выражение, имеющее смысл в применении к конечному, применяется к бесконечной величин е » 41. Гносеологический корень этого противоречия — метафизическое разграничение понятий актуальной и потенциальной бесконечности, противопоставление первой второй.
Другим противоречием, порожденным тем ж е противопоставлением и такж е приводящим к «оконечиванию» мира, является решение Декартом вопроса: существует ли множество миров или только один мир. Принципы физики Д екарта, его знаменитая теория вихрей приводят к первому выводу, впоследствии четко сформулированному Фонтенелем в его «Беседах о множестве миров». Однако в сфере своей метафизики Картезий допускает существование только одного м и р а42. Он соглашается с мнением Мерсенна, который с целью опровержения учения Бруно о множестве миров прибегает к августинианскому аргументу: абсолютно свободный бог ограничивает свою волю и удовлетворяется сотворением только одного м и р а 43. В дальнейшем мы встретимся и с другими противоречиями, порожденными концепцией об отношении отделенного от мира бога к самому этому миру, и увидим, в чем преимущество спинозовского решения этой проблемы.
От телеологии к детерминизму, от ф атализма к учению о естественной закономерности
Органистическо-антропоморфное понимание природы, как мы видели, проявлялось в телеологическом истолковании ее явлений. От такого истолкования далеко не были свободны натурфилософы XVI в., хотя и некоторые из них, например Телезио, хорошо понимали, что действительное познание природы может быть лишь познанием ее собственных принципов, не имеющих непосредственного отношения к целеполагающей деятельности человека. Главным же средоточием телеологизма и в XVII в. оставалась схоластическо-перипатетическая натурфилософия, основывавшаяся на аристотелевском учении о четырех причинах. Обязательные для схоластики креационистские представления христианского вероучения усиливали идеалистические черты, присущие и
82
аристотелевскому телеологизму, и с необходимостью приводили к религиозно-фаталистическим выводам. Если телеологизм Аристотеля не исключал познания действительных причинных связей в природе и д аж е предполагал в своем учении о материальной и действующей причинах, хотя и подчинял их действие причинам конечным и формальным, то схоластический фина- лизм, по существу, полностью отказывался от такого познания.
Подчеркивая конечный характер мира, созданного бесконечной божественной волей, религиозно-схоластическая мысль видела в нем иерархическую систему бого- установленных целей, заменяя, таким образом, внутреннюю и имманентную аристотелевскую целесообразность целесообразностью внешней и трансцендентной. Н аиболее общим выражением последней стали понятие совершенства, или ценности, в выявлении которой схоластики видели главную задачу не только при рассмотрении человеческой деятельности, но и при рассмотрении природы. Познание действительных связей между вещами при этом игнорировалось. Главный смысл человеческого знания усматривался в определении человеком своего места в системе мудро устроенного богом мира и в абсолютном послушании ему (что в социальном плане, разумеется, означало безропотное подчинение католической церкви и санкционированным ею общественным классовым порядкам). Поэтому иллюзорные попытки определения степени совершенства тех или иных вещей и явлений природы приводили к игнорированию действительных связей между ними, выявлением которых схоластическая философия мало интересовалась. Н а р о ду с этим для схоластического понимания причинности была характерна чрезмерная усложненность, надуманная детализация, отраж авш ая антропоморфно-иерархи- ческий подход схоластиков к этой проблеме и отсутствие действительного знания природы 44.
Понимание причинности стало радикально изменяться вместе с ростом капитализма и мануфактурного производства. Созерцательный идеал знания, зародившийся в древности и приспособленный к теоцентрическому мировоззрению в эпоху средневековья, стал уступать место такому пониманию познания, которое видело свою задачу в усилении власти человека над природой, в зем
83
ной, материальной и действительной пользе, а не в потусторонней и иллюзорной. Такое понимание задач познания, дававш ее методологическую базу для бурного роста естествознания и развивавшееся пропорционально его успехам, стремилось исключить из состава знания все, что не имело опытного, эмпирического обоснования. Применительно к проблеме причинности это означало прежде всего изгнание из науки конечных, целевых причин.
Френсис Бэкон, автор первой в новое время классификации наук, — один из первых мыслителей, поставивший перед своей философией такую задачу. Эта задача была нелегкой не только в силу многовекового господства схоластической философской традиции, но и по своему существу, поскольку методы естественнонаучного исследования природы только что начали осознаваться в соответствии с довольно скромной еще практикой т а кого исследования. Борьба со схоластическим пониманием причинности вы раж алась у Бэкона не в полном отказе от четырех аристотелевских причин, а в заострении внимания к материальным и действующим причинам, раскрытие которых было провозглашено Верулам- цем подлинной задачей физики, в отнесении познания «формы» к области метафизики и к фактическому игнорированию конечных причин. Огромную, хотя только пропагандистскую, почти не подкрепленную примером собственной научно-исследовательской деятельности, роль сыграл провозглашенный Бэконом вслед за некоторыми передовыми мыслителями Возрождения лозунг vere scire est per causas scire, т. e. «истинное знание есть знание посредством причин»45. При этом отнюдь не конечных причин, которые «все опрокидывают и разоряют» в своих «непрерывных набегах и вторжениях в область причин физических»46, почему «Цель, или Конечная причина, не только бесполезна, но д аж е извращает науки, если речь идет не о действиях человека»47.
Всестороннее гносеологическое осмысление сформулированного Бэконом принципа детерминизма выпало на долю тех новаторов XVII в., которые, разделяя с Бэконом взгляд на практические цели познания, вместе с тем в отличие от него полностью укрепились на позициях механистической интерпретации природы и собственными научными открытиями способствовали такой
84
интерпретации. Здесь мы -снова встречаемся прежде всего с Картезием, решительно провозгласившим: «Мы совершенно выбросим из нашей философии разыскание конечных целей» 48, ибо «весь род тех причин, которые обыкновенно устанавливают через указание цели, неприменим к физическим и естественным в ещ а м » 49. Д а ж е картезианский бог, который в силу «оконечивания» мира превращает все причины в цели, все же не ставил перед собой столь узкой задачи, чтобы происшедшее, происходящее и могущее произойти в природе о б я з а тельно имело своим назначением принести пользу тому или иному человеку, т а к к а к было бы «дерзко выдвигать такой взгляд при обсуждении вопросов физики, ибо мы не можем сомневаться, »что существует или некогда существовало л уж е давно перестало существовать многое, чего ни один человек никогда не видел и н е признавал и что никому не доставляло никакой пользы» 50.
Изгнание телеологии из сферы науки, ставш ее одним из важнейших .признаков замены органистической к а р тины мира механистической, означало утверждение механистического детерминизма в его наиболее простой и благодаря этой простоте наиболее радикальной форме. Наиболее общей онтологической и методологической предпосылкой этого процесса послужила идея бесконечности и материальной однородности мира. Ведь только в бесконечном, незамкнутом мире можно представить себе истолкованную механистически цепь причин и действий, не имеющую ни начала, ни конца, как, с другой стороны, только по отношению к конечному, замкнутому миру может быть принципиально мыслимо, что все происходящее выполняет ту или иную, вы текающую из связи этого ограниченного в пространстве мирового целого и благодаря этому строго определенную цель, к а к это часто имеет место в действиях организма 51. Если схоластическо-перипатетический конечный мир был миром иерархическим и телеологическим, то мир, открывавшийся новаторам XVII в., стал бесконечным и материально однородным. Картезианское отож дествление материальности мира с его протяженностью укрепляло обе эти идеи и обосновывало принцип механистически понимаемой причинности52. П ризнавая только один вид движения — пространственное см ещ ение частиц вещества относительно друг д р у г а — и уни
85
версализируя его, Галилей, Д екарт, Гоббс и другие новаторы XVII в. упрощали характер процессов 'природы, но именно в силу этого упрощения и экстраполяции механистически понимаемого детерминизма на всю прир о д у — как мертвую, так и живую.— для антропоморфно-телеологической причинности не оставалось места. Чисто физическое истолкование процессов природы, основывавшееся на успехах математики и механики, означало значительный прогресс материалистического мировоззрения, поскольку оно углубляло понимание мира, исходя из него самого, расширяло область познанных фактов, изгоняло всякие сверхъестественные силы, которым уже не оставалось никакого места в «обезбо- женной природе», по которой так грустил Шиллер:
«В царство сказок возвратились боги,Покидая мир, который сам,Возмужав, уже без их подмоги,М ожет плыть по небесам».
Нельзя, разумеется, забывать и о существенной ограниченности той в основе своей материалистической кар тины ¡природы, какая вырисовывалась с помощью механистического детерминизма, сильно упрощавшего и огрублявшего эту картину. Механистическое истолкование причинности, да еще в его доньютоновской форме, признавало только одну возможность действия тел друг на друга, единственное основание всех изменений — непосредственное соприкосновение тел путем толчка или удара, (которые и заменили теперь бесчисленные причины схоластиков. «Причина движения, — говорит Гоббс, — может леж ать только в непосредственно соприкасающемся и движущемся теле» 53. «Все различие встречающихся в материи форм зависит от местного движ ения»54, — указывает Декарт. Поэтому и Гоббс активным телом называет только движущ ее тело, а пассивным — тело, приводимое в движение 55. Основной недостаток механистического понимания причиннос т и -н е п о н и м а н и е качественной специфики причины и действия, качественное отождествление этих категорий, признание только количественного их соотношения. Не будучи в состоянии объяснить возникновение качественно новых образований и обрекая, таким образом, мир на постоянное повторение одних и тех ж е процессов,
86
механистический детерминизм стал одним из главных компонентов его метафизического, антиисторического истолкования. Механистический эволюционизм Д екар та в области космогонии, не оказавший сколько-нибудь существенного влияния на современников, не «привел к нарушению метафизической картины природы, хотя и стал ранним предвестником ее будущего крушения.
Многочисленные слабости механистического детерминизма, особенно проявившиеся «в попытках того ж е Д е карта, Гоббса или Леруа объяснить жизнедеятельность организмов «и д аж е явлений сознания, с одной стороны, заставляли некоторых мыслителей этого века, в том числе и материалистически мысливших, оставаться в ряде существенных вопросов на позициях органистиче- ской интерпретации природы. Виднейшее место в р яду этих мыслителей занимал Спиноза. С другой стороны, Гейлинксу, М альбраншу и другим окказионалистам эти слабости дали гносеологическое основание объявить наблюдаемое в природе взаимодействие тел <не результатом их собственной активности, а результатом непосредственного 'вмешательства божественной воли. От отрицания психофизического взаимодействия окказионалисты перешли к отрицанию реальности всякого ф изического воздействия тел друг на друга, исходя из основного механистического тезиса, согласно которому предметы природы сами по себе лишены какой бы то ни было силы, а следовательно, и активности, и получают их в каждом случае только от бога 56. Окказиона- листическое истолкование причинности — это попытка вернуть умы людей от мысли о естественной закономерности природы, раскрываемой при посредстве естествознания, к теистическо-фаталистическим представлениям, некогда сформулированным Августином, а вXVII в. с наибольшей силой выраженным в религиозной доктрине кальвинизма. Согласно этим креационистским представлениям, мир существует лишь до тех пор, пока этого хочет бог, ибо «бог восхотел, чтобы существовал такой мир, — писал М альбранш в «Метафизических б е седах» .—'Его воля всемогуща: и вот мир создан. Пусть бог не хочет больше, чтобы мир существовал: и вот он уничтожен... Следовательно, сохранение твари богом — это ее непрерывное творение»57. Непосредственно св я занное с этими креационистскими представлениями
87
идеалистическо-теологическое учение окказионалистов о причинности, согласно которому все происходящее в природе представляет собой непосредственный результат трансцендентной и бесконечной 'божественной воли, в Нидерландах, как и в некоторых других западноевропейских странах в XVII в., стало одной из главных противоположностей материалистическо-натуралистического учения о естественных причинных связях.
В противоположность этому учению прогрессивная материалистическая мысль XVII в., исходя «из механистически истолкованного детерминизма, пришла к первостепенной важности выводу о существовании в природе объективной, физической закономерности. Чтобы оценить огромные масштабы философского значения этой идеи, нужно »напомнить, ¡как ¡представляли себе естественную закономерность в предшествующей истории философской мысли.
Идея естественной закономерности рождается в сущ ности вместе с философией, и в истории европейской философии она достаточно четко выражена в мыслях Гераклита о логосе, управляющем природой. В дальнейшем эта идея была продолжена стоиками, которые д о полнили ее идеей номоса, т. е. закона государственного, юридического, для осмысления той правильности, какая наблюдается в процессах и действиях природы. На л а тинский язык vo^iog был переведен как le x 58. Существен- ный изъян, свойственный идее логоса, как идее естественной необходимости, связан с теми мифологическо- антропоморфными ассоциациями, какие были присущи этой идее уже у Гераклита, у которого она стояла в з а висимости от древней идеи судьбы. Полуантропоморф- ное содержание идеи логоса и ее насыщение мифологическими образам и послужили в дальнейшем одним из оснований для перетолкования этой идеи в духе христианского креационизма, о чем было сказано выше. Чисто физическое содержание понятия естественной необходимости, основанное на детерминизме, было четко вы ражено в натурфилософских воззрениях атомистов, выводивших эту необходимость из вечного движения атом о в 59. С понятием «законов природы» (foedera naturae) мы неоднократно встречаемся в поэме Л у кр ец и я60. Однако отсутствие в эпоху античности математической и физической конкретизации понятия естественной зако
88
номерности привело к тому, что в понятие закона в к л а дывалось по преимуществу моральное или юридическое содержание, причем обе эти разновидности закона д а л е ко не всегда с достаточной четкостью различались и рас членялись.
В эпоху средневековья в понятие закона природы вкладывался прежде всего моральный смысл, согласованный со всей системой теоцентристско-креационистских представлений, что может быть подтверждено словами Фомы Аквинского, крупнейшего авторитета схоластической мысли: «Закон природы есть не что иное, как внушенный нам богом умственный свет, посредством которого мы познаем, как надо вести себя и как надо ж и ть»61. К ак известно, интерес к материальной природе в эпоху средневековья был вы раж ен очень робко или был облечен в фантастические формы магических, алхимических или астрологических суеверий, а понятие естественной закономерности самой природы, независимой от божественного руководства миром, можно сказать, совсем исчезло. От соблюдения людьми моральных законов, предписанных богом, зависело, с точки зрения средневековой религиозной мысли, соблюдение определенного порядка природы, нарушение которого — как результат греховного поведения людей — приносило лю дям всяческие неприятности и нередко подвергало опасности самое их жизнь. Взгляд этот, сформулированный уже в Ветхом завете, свидетельствующий о подчиненности человека силам 'природы и об отчужденности от него общественных сил, стал важнейшим базисом средневековой религиозности.
С успехом буржуазного способа производства, с усилением власти человека над природой, с развитием естественнонаучных знаний, соответствующим этим успехам, коренным образом менялось понимание естественной закономерности. Уже в пантеистическом натурализме Кузанца были расчленены понятия закона природы и закона м орального62. Однако только в XVII в. в результате астрономических открытий Кеплера, а такж е открытий в области механики Галилея и Д екарта , а з а тем и ряда других естественнонаучных открытий понятие закона стало мыслиться в своем неантропоморфном, чисто физическом содержании. Закон природы стали понимать как функциональное отношение, вы раж аем ое
89
математической формулой. Одну из первых формулировок понятия закона природы мы находим в этом столетии у Д екарта: «Прежде всего под природой,— говорится в «Трактате о свете», — я отнюдь не подразумеваю какой-нибудь богини или какой-нибудь другой воображаемой силы, а пользуюсь этим словом для обозначения самой материи... И только из того, что бог продолжает сохранять материю в неизменном виде, с необходимостью следует, что должны произойти известные изменения в ее частях. Эти изменения, как мне кажется, -нельзя приписать непосредственному действию бога, поскольку он совершенно неизменен. Поэтому я приписываю их природе. Правила, по которым совершаются эти изменения, я называю законами природы»63. Разумеется, законы природы, по Декарту, суть законы механики, поскольку даж е в организме все «согласуется с правилами механики, являющимися и правилами природы »64. Это прежде всего закон инерции, одну из первых формулировок которого философ дал в «Началах философии» 65.
Исторически и философски весьма знаменательна связь, устанавливаемая в картезианском деизме между неизменным богом, важнейшим «совершенством» которого является постоянство, не позволяющее ему вмешиваться в однажды созданный мир, и законами природы, открываемыми наукой. Такая связь становится наиболее характерной для передовой философской мысли в З а падной Европе вплоть до выступления Ламеттри, Д и д ро, Гельвеция и Гольбаха, разорвавших эту до тех пор казавшуюся необходимой связь, в которой был еще убежден их старший современник Монтескье, продолжавший дело деистов XVII в. и давший в своем «Духе законов» четкую формулировку как понятия законов природы, так и связи их с понятием б о г а 66. Д л я метафизическо-антиисторического воззрения на мир х ар ак терно выраженное деистами XVII—XVIII вв. убеждение в постоянстве и неизменности однажды установленных богом законов природы. Д ля прогресса материалистического мировоззрения в рассматриваемую эпоху в а ж нее, однако, идея, отвергающая фаталистический произвол христианского бога, подчиняющая мир законам, доступным человеческому пониманию, и отвергающая чудеса, в которых религиозное сознание рассматривае-
90
мой эпохи, и тем более всех предшествующих, видело самое важное доказательство божественного руководства миром. Выше мы привели заявление Д екарта , согласно которому бог не совершает в нашем мире никаких чудес. И это совершенно естественно, поскольку природа подчинена собственным, чисто физическим законам, а бог признается лишь их наиболее отдаленным источником.
Бог, природа и свобода в религиозном и философском сознании века
Детерминистическн-закономерный образ мира, укрепившийся в научном сознании XVII в., в качестве одного из своих важнейших следствий имел новое понимание характера человеческой деятельности в ее отношении к объективной действительности. Это понимание о т р аж ало успехи, достигнутые тогда в развитии производства и означавшие усиление власти человека над природой, как и новое понимание самой природы и возможностей человеческого сознания. В наиболее обобщенном виде оно сводилось к проблеме необходимости и свободы. Непосредственной предысторией этой проблемы, а в значительной мере и ее идеалистическим антагонистом, служили религиозные представления о роли божественного промысла, божественной благодати и воли самого человека в деле его «спасения».
Христианско-фаталистическое представление о бож ественном руководстве миром не исключало свободы человеческой воли, а, напротив, предполагало ее, что составляло одну из наибольших «тайн» христианского вероучения. Уже первые столпы христианской филосо^ фии, например Иоанн Златоуст, выступили против учения стоиков о слепой судьбе, определяющей все поступки человека и абсолютно исключающей свободу его в о л и 67. В дальнейшем Августин наиболее всесторонне рассмотрел вопрос о сочетании абсолютного божественного предопределения и свободы человеческой воли. Само это сочетание — одна из наиболее характерных особенностей христианского мировоззрения и христианской философии. Абсолютное божественное предопредел е н и е — фантастическое отражение отчужденности от человека природных и социальных сил, обездоленности
91
подавляющего большинства населения античного, а з а тем и средневекового мира, прежде всего трудящихся масс. Д оказы вая полнейшую немощность и слабость человека, появившуюся в результате «первородного греха», настаивая на совершенной непостижимости божественного предопределения одних людей к спасению, а других к вечным мукам, Августин, как ни один другой христианский мыслитель, подчеркнул абсолютную иррациональность морального жребия человека. С этой типично религиозной точки зрения человек отнюдь не кузнец своего счастья, ибо счастье дает только б о г 68.
С другой стороны, вполне закономерно и то огромное внимание к роли воли в процессе познания и жизни, которое составляет одну из главных отличительных особенностей философии Августина, христианской философии вообще, от «языческой» философии античного мира, с таким блеском и силой подчеркнувшей роль рациональных способностей человека как в области гносеологии, так и в сфере морали. Выдвижение на первый план воли, отразившее рост морального самосознания личности, возрастание чувства человеческого достоинства, как один из наиболее существенных результатов исторического прогресса, одновременно стало у христианских мыслителей выражением их убеждения в иррациональности человеческой природы, что для них было равнозначно ее испорченности, «греховности». Отсюда положение о свободе человеческой воли, неразрывно связанное с представлением о бессмертии человеческой души и особом, привилегированном положении человека в природе. Основное христианское представление о боге как о потусторонней, непостижимой, сверхъестественной, бесконечной личности — в сущности лишь ультрафанта- стическая проекция в трансцендентный мир иррацио- налистически и волюнтаристически понятой человеческой природы. Свобода воли человека, непостижимым о б р азом согласующаяся с божественным предопределением, проявляющаяся, согласно Августину, только в неограниченной способности человека к дурным, «греховным» поступкам в то время как его способность к морально ценным, «добродетельным» поступкам — только видимый результат незримой божественной милости, обрекающей на «спасение» немногих счастливцев.
Начиная с полемики первых, представителей христи
92
анской философии против стоической концепции слепой судьбы, исключающей свободную волю человека, и борьбы самого Августина против ереси пелагианства, подчеркивавшей зависимость божественной благодати от поведения человека и обнаруживавшей в соответствии с этим большую веру в естественные способности человека, споры о соотношении божественной благодати и свободной человеческой воли становятся весьма распространенным явлением в теологической литературе. В схоластической философско-теологической мысли, в той форме, какую придал ей Фома Аквинский, абсолютный раннехристианский и августиновский фатализм был несколько ограничен теорией так называемых вторичных, или инструментальных, причин, равным образом признающей как божественное руководство миром, так и возможность в принципе для любого человека «оправдания делами», что в условиях средневековья означало культивирование добродетели послушания перед лицом всесильной католической церкви как наивысшего освящения феодально-иерархического общества. В эпоху реформационных движений, а затем и в XVII в., проблема божественного предопределения и человеческой свободы снова становится главной религиозно-философ- ской проблемой. Лютеране и еще более того кальвинисты, опиравшиеся на августиновское учение о предопределении, подчеркивали абсолютный характер божественного предопределения, предельно ограничивая свободу человеческой воли и даже отрицая ее69.
Социальная природа кальвинистской религиозной догмы, которая «отвечала требованиям самой смелой части тогдашней буржуазии», выяснена Энгельсом, подчеркнувшим противоречивый характер кальвинистского учения о предопределении. С одной стороны, это учение «было религиозным выражением того факта, что в мире торговли и конкуренции удача или банкротство зависят не от деятельности или искусства отдельных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих», но зависящих от «милосердия» могущественных и неведомых экономических сил, чрезвычайно усложнившихся в результате появления новых рынков, революции цен и других событий социально-экономической жизни рассматриваемой эпохи70. Выражая, таким образом, возросшую зависимость человека от игры экономических сил, фаталисти
93
ческая догма кальвинизма, с другой стороны, отнюдь не ослабляла волевых усилий буржуа и их политических руководителей, а, напротив, поднимала их активность до самой высокой степени, какая тогда только была возможна. На это обстоятельство обратил внимание Плеханов, заметивший, что Кромвель «в силу совершенно искреннего убеждения называл свои действия плодом б о л и божьей. Все эти действия были наперед окрашены для него в цвет необходимости. Это не только не мешало ему стремиться от победы к победе, но придавало этому его стремлению неукротимую силу»71.
Таким образом, социально-психологической субстанцией кальвинистского фатализма служила уверенность восходящей буржуазии в своей «правоте» на поприще экономического соревнования с другими классами уходящего феодального общества. Характерно, что противоположная кальвинистской догма иезуитов, разработанная Луи Молина, снова выдвигавшая свободу человеческой воли, разумеется, в ее согласии с божественным промыслом, отвечала настроениям дворянско-аристократических кругов, не склонных накладывать на себя какие бы то ни было ограничения и не заинтересованных в суровой теологии кальвинизма. Напротив, янсенизм как духовное оружие французской буржуазии был весьма, близок к кальвинизму. Впрочем, подчеркивание роли предопределения, с одной стороны, и роли свободной воли человека — с другой, не играло социально однозначной роли. В эпоху борьбы с испанским католическим абсолютизмом кальвинистский фатализм был могучим идеологическим орудием мобилизации сил нидерландской буржуазии и не в меньшей мере нидерландского плебса. Однако победа нидерландской революции привела к появлению арминианской религиозной догмы, выражавшей интересы наиболее просвещенных слоев нидерландской буржуазии, ограничивавшей в духе деизма силу божественного предопределения, ставившей его в большую или меньшую зависимость от воли человека, его морального поведения.
Вопрос об отношении человеческой деятельности и объективных условий ее осуществления по-новому встал в философской мысли XVII в., пришедшей к материалистическим по своей сути выводам об объективной закономерности, оттеснившим смутное и деспотическое —94
особенно в своей августшшанской версии — представление о божественном промысле. Хотя новаторы, остававшиеся деистами, обычно указывали на бога как на последний источник естественных законов, однако отдаленность этого источника фактически означала освобождение природы от божественной опеки. Поэтому Декарт, например, писал в одном из своих писем: «Я рассматриваю материю, свободно себе предоставленную»72. Понятие свободы, почерпнутое из сферы человеческой деятельности, в теологической мысли применялось, с бесконечным расширением, по отношению к богу. По мере того как деистически мыслимый в категориях разума неизменный бог лишался возможности к произвольным действиям и подчинялся необходимости, что расценивалось теологами столетия, например епископом Брамголом, с которым полемизировал Гоббс, или оппонентом Спинозы Вельтгюйзеном, как атеизм, понятие свободы начинает выражать наиболее существенные особенности самой природы, как и понятие необходимости, о чем можно судить хотя бы по следующим словам Гоббса: «Свобода означает отсутствие сопротивления (я разумею под сопротивлением внешние препятствия для движения), и это понятие может быть применено к неразумным существам и неодушевленным предметам не в меньшей степени, чем к разумным существам»73. «Вода, заключенная в сосуде,— пишет тот же автор в другом своем произведении,— несвободна; с разбитием сосуда она освобождается»74.
Еще более важно констатировать, что действующая по необходимым законам и одновременно свободная природа предполагает такое же соотношение этих понятий в сфере человеческой деятельности. Из сферы этой деятельности изгонялось прежде всего понятие свободной воли. Выражения «свободный субъект», «свободная е о л я » , по категорическому убеждению Гоббса, совершенно бессмысленны, как бессмысленно, например, словосочетание «круглый четырехугольник»75. «Не существует такой вещи, как свобода от необходимости», и отрицание необходимости столь же нелепо, сколь нелепо признание абсолютной свободы, заявлял он же в своей полемике с епископом Брамголом76. Поскольку «ничто не имеет начала в себе самом, но все проходит в результате действия какого-либо другого непосредственного внешнего
95
агента» и «все добровольные действия обусловлены своими необходимыми причинами»77, все подчинено закону механической необходимости. Последняя полностью исключает свободу воли, но отнюдь не исключает свободы.
Понятие свободы, таким образом, не противоречит понятию необходимости, а дополняет его. Поэтому Гоббс четко заявляет: «Свобода совместима с необходимостью. Вода реки, например, имеет не только свободу, но и необходимость течь по руслу. Такое же совмещение мы имеем в действиях, которые люди совершают добровольно. В самом деле, так как добровольные действия проистекают из воли людей, то они проистекают из свободы, но так как всякий акт человеческой воли и всякое желание и склонность проистекают из какой- нибудь причины, и эта причина — из какой-нибудь другой причины в непрерывной цепи... то эти факты, желания и склонности проистекают из необходимости»78. Декарт в своей этике также приходил к выводу о совместимости необходимости и свободы, о чем свидетельствует рассуждение четвертого из его «Метафизических размышлений»: «Для того, чтобы быть свободным, мне не необходимо быть безразличным при выборе одной из двух противоположностей. Скорее обратное, чем больше я склонен к одной, потому ли, что ясно вижу, что в ней встречаются добро и истина, или потому, что бог располагает так содержание моих мыслей, тем свободнее, я ее выбираю» 7Э. Наконец, говоря о проблеме необходимости и свободы, нельзя пройти мимо высказываний по этому предмету Джордано Бруно, хронологически предшествовавших приведенным мыслям Гоббса и Декарта и предвосхищавших идеи Спинозы о диалектике необходимости и свободы: «Необходимость и свобода есть одно и то же, а потому не надо бояться, что действующее в силу природной необходимости действует не свободно. Но скорее наоборот: оно не могло бы вовсе действовать свободно, если бы действовало иначе, чем этого требует необходимость и природа, и даже скорее необходимость природы»80. Поэтому и бог «не может действовать иначе, чем действует, и желать иначе, чем желает. Это, с одной стороны, есть абсолютная необходимость, а с другой — абсолютная свобода, ибо в нем необходимость и желание, как все остальное, есть то же самое»81.96
Постановка проблемы необходимости и свободы в XVII в. предполагала не только установление закономерных связей внешней природы, но и констатацию этих связей — пусть не все!да верно понятых — в области антропологии и психологии человека, а ее решение основывалось прежде всего на разработанных в этом столетии гносеологических принципах. Поэтому нам необходимо остановиться на основном содержании этих принципов, с одной стороны, и на психофизической проблеме — с другой.
Познаваемость бесконечного мира, логические и методологические средства ее реализации
Эмансипация научно-философского мышления ог богословского откровения привела в XVII в. к разработке методологии и гносеологии рационализма. Именно в этом столетии теоретико-познавательные вопросы были поставлены на небывалую до тех пор высоту, что объясняется прежде всего бурным прогрессом двух столь мощных двигателей человеческого познания, как математика и опытно-экспериментальное исследование природы.
Говоря о рационализме как прогрессивном методологическом направлении XVII столетия, прямо или косвенно выступавшим против теологического иррационализма, мы имеем в виду не только рационалистов в более узком смысле этого термина, как Декарт, Спиноза и Лейбниц, но и таких мыслителей, как Бэкон, Гоббс, Гассенди и Локк, эмпиризм и сенсуализм которых в объяснении природы и происхождения знания предполагал ряд методологических установок, сближавших их с первыми из названных мыслителей.
Одной из наиболее общих предпосылок рационализм ма в более широком понимании этого термина было представление об абстрактном человеческом разуме как главной особенности человеческой природы и единственном источнике человеческого познания. В древности к этому представлению приближался Платон, несмотря на все мистические тенденции своей гносеологии. Представление о теоретическом разуме, как источнике высших философских истин, было сформулировано Аристотелем, более четкий по сравнению с платоновским рационализм4 Зак. 681 97-
которого опирался на солидный фундамент логического и естественнонаучного знания. В средние века, несмотря на сугубое господство теологии и примат веры, рационализм нашел себе выражение в воззрениях Ибн Сины, Ибн Рушда, Маймонида, Абеляра, латинских аверроис- тов, Оккама и других мыслителей, которые своим учением о «двух истинах» стремились оградить права разума от посягательств веры.
В интересующую же нас эпоху интенсивного развития математики и естествознания и полной эмансипации разума от откровения учение об анонимном, безличном разуме как источнике истины, было сформулировано еще более энергично и широко. С наибольшей силой оно было выражено в мыслях Декарта о разуме как естественном свете, как свете самой природы, как lumen naturae. В одной из своих писем Картезий писал, что он разуму верит больше, чем самому себе82. Философ был убежден также, что «посаженные природой в человеческих умах первые семена истины» имеют такую мощь, что уже древние «достигли истинных идей в философии и математике, даже если еще и не могли постичь эти науки в совершенстве»83. В принципе, согласно Декарту, способность к разумному мышлению «у всех людей одинакова»84. Аналогичным образом'и Гоббс заявлял, что «философия, т. е. естественный разум, врождена каждому человеку» 85 и поэтому «все люди рассуждают от природы одинаково и хорошо» 86. Как бы обобщая эти идеи, Спиноза утверждал, что разум «один и тот же для всех людей»87. Характерно, что признание принципиального равенства всех людей в отношении их рациональных способностей отнюдь не означало признания действительных возможностей «толпы», т. е. подавляющего большинства народа, сознание которого находилось в религиозном плену и под воздействием церковников, в деле усвоения наук и философии со стороны прогрессивных мыслителей, доказывающих такое равенство. Отсюда известные слова Декарта из предисловия к его «Метафизическим размышлениям»: «Я не жду одобрения толпы и не надеюсь, что моя книга будет прочтена многими». Читать свое произведение автор рекомендует лишь тем, кто способен вместе с ним «серьезно размышлять, кто в состоянии освободить свой ум от сообщничества чувств и отрешиться от все98
возможных предрассудков; а я знаю, что таких лиц найдется лишь очень ограниченное число»88. Выше был выяснен социальный источник этого своеобразного аристократизма, который в средние века был сформулирован в учениях о «двух истинах» и объективный смысл которого в XVII в. был буржуазным.
Другая общая предпосылка всего рационализма XVII в., тесно связанная с рассмотренной, состоит в оптимистическом убеждении в безграничной познаваемости мира. Отсюда дружное выступление новаторов, например Бэкона, а затем Декарта и Спинозы, против скептицизма, подрывающего уверенность человека в своих познавательных силах. Если в предшествующем, XVI столетии, античный скептицизм, возрожденный Монтенем, своим острием был направлен против притязаний схоластики на познание религиозных «истин», то в XVII в., несмотря на деятельность таких скептиков, как Ламот Левайе или Бейль, продолжавших традиции Монтеня, скептицизм нередко использовался и церковниками, особенно теми, которые под влиянием успехов науки и наступления рационализма видели главное средство защиты религиозной веры в иррационализме и поэтому поощряли скептицизм как учение, подрывающее доверие к познавательной силе человеческого разума. Об этом свидетельствует, в частности, «Трактат о слабости человеческого ума», написанный французским епископом Гюэ, иезуитским критиком картезианства. Опровергая скептицизм, новаторы XVII в. выступили с положениями, свидетельствующими об их глубоком гносеологическом оптимизме. «Есть истина»,— провозгласил уже Герберт из Чербери в своем главном сочинении, носящем характерное заглавие «Об истине, строго различаемой от откровения, от правоподобного, от возможного и от ложного»89. «Всякий человек, — писал Амос Комен- ский в своей «Великой дидактике»,— рождается способным к приобретению знания вещей», «человек под руко* водством природы может во все проникнуть» 90. Один из главных авторов рационалистической программы и борцов против скептицизма, Рене Декарт, подчеркивал в «Правилах для руководства ума»: «...не нужно полагать человеческому уму какие бы то ни было границы» 91. При таком условии, продолжал он же в «Рассуждении о методе», «нет ничего ни столь далекого, чего нельзя4* 99
было бы достичь, ни столь сокровенного, чего нельзя было бы открыть» 92.
Провозглашенная этими словами Декарта уверенность в сквозной познаваемости мира встречалась со значительным затруднением, связанным с убеждением в бесконечности мира, уже широко распространенным в XVII в. Выше было отмечено, что аристотелевский рационализм, претендовавший на абсолютное, исчерпывающее познание мира, не мог представить себе этого мира иначе, чем мир конечный в пространстве. Иррационализм христианской философии, победивший на исходе античности и нашедший себе свое наиболее полное выражение в теолого-философской системе Августина, базировался прежде всего на непознаваемости бесконечного бога. Постоянная интервенция этого трансцендентного и бесконечного начала в созданный им конечный мир делала неустойчивыми и иллюзорными все связи, наблюдаемые в этом мире. Конечные вещи, рассмотренные sub specie infinitatis, по учению Мальбранша,—лишь разрозненные и бессильные фрагменты бесконечности. То, что представляется нам произведенным естественными причинами, при видении вещей «в боге», оказывается только окказиональным, более или менее случайным, чем-то, скрывающим загадочную волю всемогущего бога. Учение Мальбранша и других окказионалистов свидетельствует, что иррационалистическо-волюнтарн- стическая традиция августинианства с большой силой влияла еще и в XVII в., когда множество передовых умов пришло к убеждению в бесконечности самого мира. Некоторых из них, например Паскаля, сознание бесконечности мира наполнило, употребляя выражение Рассела 93, «ужасом космического одиночества», в каком оказался человек, затерянный в его бесконечных просторах, и толкнуло, несмотря на его высокую оценку математического знания, на путь скептицизма и в объятия мистики и религии. Согласно Паскалю, окружающий человека мир, доступный научному исследованию,— лишь крохотная темница, отведенная ему для жительства, а сам человек как бы висит между двумя безднами — бесконечностью и небытием — и вынужден содрогаться перед лицом этих абсолютно непостижимых для него чудес 94.
Это чувство покорности и бессилия перед лицом100
бесконечности, сознание слабости человеческого ума в ее постижении было выгодно религии, которая — особенно в лице католической церкви — стремилась культивировать такое сознание, поскольку понятие бесконечности становилось необходимым элементом мировоззрения. Однако позиция новаторов, исходивших из твердого убеждения в бесконечности мира, была отнюдь не пессимистической, а, напротив, весьма оптимистической. Уже Бруно, с такой энергией пропагандировавший идею бесконечной вселенной и отдавший за нее жизнь, воспринимал бесконечность как освобождение- человеческого духа из тесных пределов традиционного, ограниченного небом неподвижных звезд христианского мира и выразил это настроение в пламенных сонетах95. Сходное переживание выразил однажды и Гассенди, благодаривший в одном из своих писем Галилея за то, что тот, разбив границы старого мира, открыл перед ним просторы бесконечности и сделал господином самого себя 96, а также Гюйгенс в цитированном выше отрывке из его «Космо- теороса».
Декарт неоднократно подчеркивал непознаваемость актуально бесконечного бога, непостижимость которого даже увеличивает преклонение перед ним 97. Аналогично высказывался и Гоббс98. Но и у Декарта, и тем более у Гоббса бесконечный мир в сущности отгорожен от бесконечного бога. Чем больше подчеркивали они непознаваемость актуально бесконечного бога, тем сильнее обнаруживалась познаваемость потенциально бесконечного мира. Поэтому мир — отнюдь не темница, он познаваем во всех своих частях и областях. Непознаваемость отождествляемой с богом актуальной бесконечности означает, таким образом, познаваемость бесконечности потенциальной, т. е. познаваемость реального мира. Так должен быть решен вопрос о рационализме новаторов XVII в. и его необходимой связи с убеждением в познаваемости бесконечного мира вопреки мнению некоторых современных иррацноналистов, например французского исследователя Жана Ляпорта, доказывающего, что вынесение Декартом бесконечности за пределы рационального познания будто бы превращает его рационализм в иррационализм и приводит философа к убеждению в определяющем значении религии для всего его мировоззрения " .
Познаваемость потенциально бесконечного мира становится возможной также благодаря тому, что актуальная бесконечность дана в логико-гносеологическом плане как всеобщность понятий и необходимость суждений математического типа, осмысление которых составляло одну из главных гносеологических проблем рассматриваемого столетия. Наличие актуальной бесконечности в этих понятиях и суждениях дает возможность постичь какое угодно число конкретных предметов и явлений. Как замечает Гоббс, «каждое универсальное имя служит для обозначения представлений бесконечного множества отдельных вещей» |0°. Познаваемость потенциальной бесконечности мира означает и утверждение безграничных, возможностей человека в его познании. Конкретная реализация этих возможностей также составляет одну из общих черт, присущих всему рационализму.
Эта реализация состоит прежде всего в применении аналитического и синтетического методов, т. е. метода восхождения к иаивысшим принципам и последним элементам природы и метода нисхождения от этих принципов и элементов к реальным вещам и к миру в целом. Разработанный впервые Галилеем, этот метод находит свое продолжение и развитие как у Гоббса, так и у Декарта. Первый из них писал, что «для исследованш причин приходится пользоваться отчасти аналитическим методом, отчасти синтетическим методом. Аналитическим методом мы пользуемся для установления отдельных предпосылок действия, синтетическим же методом мы пользуемся для определения совокупного результата того, что производится каждой отдельно взятой предпосылкой» ,01. Более важным для новаторов столетня представлялся аналитический метод, более характерный для всей их метафизической методологии, с присущей ей изоляцией явлений и предметов природы друг от друга и рассмотрением их разрозненно, а не в совокупной связи друг с другом. Аналитический метод как «метод выведения принципов из чувственных восприятий», как «метод познания универсальных понятий», по определению Гоббса 102, составлял одну из основ рационалистической методологии и был сформулирован Декартом в «Рассуждении о методе» в первых трех правилах. Решающее значение аналитического расчленения предме102
тов и явлений природы в процессе познания многократно подчеркивается Картезием и в других его произведениях и письмах, например в «Правилах для руководства ума», где утверждается, что «каждый должен быть твердо убежден, что не из многозначительных, но темных, а только из самых простых и наиболее доступных вещей должны выводиться самые сокровенные истины» 103. Все это объясняет, почему метод анализа, или разложения явлений природы на предельно простые и максимально общие принципы и элементы квалифицировался рядом мыслителей, например авторами «Логики» Пор-Рояля, как м^тод изобретения 104. Нет необходимости специально разъяснять связь рационалистическо-аналитической методологии с механистическими представлениями о мире, согласно которым мировой механизм может быть предельно разложен на свои составные части и элементы, поддающиеся математическому осмыслению. Целое с этой точки зрения,— лишь простая совокупность своих частей, не заключающая уже в себе ничего принципиально нового.
Общей чертой, присущей рационализму и выражающей его абсолютную уверенность в сквозной познаваемости мира, является также убеждение в тождественно- сти реальных, онтологических связей и связей идеальных, логических. Такое убеждение в полной разложимости реальных связей на логические законы, в полной сводимости первых ко вторым, составляет необходимую предпосылку аналитического метода, с помощью которого философские новаторы XVII в. достигали, — разумеется лишь в их представлении — познания последних элементов мира. Это убеждение порождалось прежде всего успехами математического естествознания, в особенности таких наук, как астрономия и механика, априорно-ма- тематические построения и умозрительные по своей видимости дедукции которых получали блестящее подтверждение в практике наблюдений, экспериментов, а иногда и прямо в практике производства. Один из наиболее разительных примеров представляет открытие Кеплером законов движения планет путем математической обработки наблюдений движения Марса, оставленных Кеплеру Тихо де Браге. Впоследствии Гоббс писал, что «для вычисления величин и движений на небе и на земле мы не подымаемся к небу, чтобы делить его и
103
измерять его движения, а спокойно проделываем эту работу в нашем кабинете или в темноте» 105.
Такой успех математических вычислений и априорных предположений порождал у рационалистов рассматриваемого столетия стремление распространить математические и логические положения на любую область действительности, а затем приводил их к отождествлению логических и онтологических связей. Согласно третьему правилу метода Декарта, определенный порядок в научном мышлении, которое должно начинать с наиболее простого и наиболее общего и подниматься к познанию все более и более сложного, исходит из твердого предположения, что порядок существует «даже и там, где объекты мышления вовсе не даны в их естественной связи» 106. Стремление рационалистов к предметному знанию, составлявшее одну из главных черт их антагонизма по отношению к схоластике, своей методологической базой имело именно это их убеждение в тождественности логических и онтологических связей.
Это убеждение реализовалось во всеобщем согласии новаторов — как рационалистов в более узком смысле этого, термина, так и сенсуалистов—относительно объективного существования «первичных» качеств, открываемых умом и лежащих в основе бесконечного разнообразия чувственных явлений, а также в отождествлении причинной зависимости и логической последовательности, какое мы находим, например, в цитированном выше гоббсовском определении философии как рационального познания действий или явлений природы из их причин или. оснований. Отождествление causa и ratio, причины и логического основания, какое мы находим у Спинозы, свойственно в сущности всему рационализму XVII в. Такое отождествление мы находим и у старшего современника Спинозы Эргарда Вейгеля, иенского профессора, учителя Лейбница и Пуфендорфа, а затем и у самих его учеников. В книге Вейгеля «Аристотелевский анализ, возобновленный на основе Эвклида» автор видит задачу науки в том, чтобы познать мир как реальный силлогизм. «Необходимая достоверность вещей,— читаем мы здесь,— поскольку она с необходимостью вытекает из надежных принципов словно из своих настоятельных причин, несомненно может быть познана» 107.
Вытекавшее из рационалистическо-механистической104
методологии отождествление причины и действия, в котором проявлялась натуралистическо-материалистическая тенденция рационалистической философии, стремившейся полностью исключить из понимания причинности всякие иерархическо-антропоморфные элементы, нашла свое логическое выражение в форме суждений, которые впоследствии были названы Кантом аналитическими. Более или менее полное отождествление признаков субъекта и предиката, характерное для этих суждений, выражало в сознании рационалистов рассматриваемого столетия тождество причины и действия. Кроме того, поскольку в каждой истине предикат содержится в субъекте, любая истина, с этой точки зрения, анали- тична. Тем самым предметное знание может быть достигнуто простым анализом признаков субъекта. Так, например', Декарт, анализируя понятия протяженности и движения, устанавливал законы движения тел 108.
В этой связи необходимо указать на гармоническое единство между умозрительно-рациональным мышлением и практикой развивающегося эксперимента, какое мы наблюдаем в передовой научно-философской мысли XVII столетия. Для характеристики прогрессивной познавательной функции рационализма этого столетия существенно также указать и на ту .инициативу, какая обычно принадлежала тогда элементу умозрительнотеоретическому по сравнению с опытно-экспериментальным компонентом научно-философского знания. Не следует забывать, что именно в интересующем нас столетии получили философско-логическое осмысление и были основательно проанализированы такие основоположные понятия, как понятие материи, движения, пространства, времени, различных элементов и частиц природы. В таком осмыслении нуждалась и опытно-экспериментальная наука, без чего она не могла бы развиваться. Эта важнейшая особенность умозрительно-рационалистической метафизики «века гениев» была подчеркнута Марксом: «Метафизика XVII века еще заключала в себе положительное, земное содержание (вспомним Декарта, Лейбница и др.). Она делала открытия в математике, физике и других точных науках, которые казались неразрывно связанными с нею» ,09. Естественно также, что умозрительно-аналитическая установка новаторов этого века усиливала их убеждение в том, что мир представляет
105
собой насквозь познаваемую, рационализованную систему.
Другим проявлением убеждения рационалистов во всеобщей познаваемости мира было учение Декарта и других мыслителей о mathesis universalis, о всеобщей математике. Универсальная рационализация мира выступала как его математизация. В этом учении с наибольшей силой проявлялась высокая методологическая оценка математики, которая, по словам Декарта, объясняя «все относящееся к порядку и мере, не входя в исследование никаких частных предметов... содержит в себе все то, благодаря чему другие науки называются частями математики» по.
Метод всеобщей математики, согласно Декарту, да и всем другим рационалистам, есть метод дедукции математического типа, метод, с помощью которого только и возможно достичь достоверного знания в любой области исследования, а не только собственно в математике. Поскольку единство человеческого разума обеспечивает то, что «все знания в целом являются не чем иным, как человеческой мудростью, остающейся всегда одинаковой, как бы ни были разнообразны те предметы, к которым она применяется» и «все науки настолько связаны между собой, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо из них в отдельности от всех прочих» ш , этот метод распространяется Декартом на всю сферу знания, включая область философии, обобщающей его, благодаря чему «все науки заимствуют свои принципы из философии»112. Тем самым всеобщая математика становится синонимом всеобщей науки, универсальной философской методологией, отличающейся от аристотелевской первой философии, которая, согласно Стагири- ту, тоже призвана быть онтологической и в силу этого методологической базой более частных и более конкретных наук о природе, тем, что она, по убеждению Карте- зия, опирает свои положения на достоверные принципы, устанавливаемые математикой. Первый вариант заглавия «Рассуждения о методе», гласил: «Очерк Всеобщей науки, которая может поднять нашу природу до высшей доступной ей степени совершенства; затем Диоптрика.. Метеоры и Геометрия, в коих автор для того, чтобы испытать предлагаемую им Всеобщую науку, избрал наиболее любопытные примеры...» пз.106
Близок к этим идеям Декарта и Гоббс, усматривающий сущность рационального мышления в сложении и вычитании и убежденный в том, что «складывать и вычитать можно и величины, тела, движения, времена, качества, деления, понятия, отношения, предложения и слова (в которых может содержаться всякого рода философия). Если же мы прибавляем или отнимаем, т. е. производим вычисление, то мы называем это «мыслить», по-гречески Лоу1£еавш, что означает, таким образом,
вычислять, или рационально познавать» 114. Еще дальше по тому же пути пошел упомянутый выше Эргард Вей- гель, который в своей книге «Идея универсальной науки» 115, вводит понятие пантометрии, всеизмерения, которое должно пронизать даже такие науки, как этика и юриспруденция, поднимая их до уровня математики. В другом своем сочинении, «Предвестник универсальной пансофической системы» 116, развивая те же идеи, Вей- гель доказывает, что пантометрия с необходимостью приводит к пантогнозин, так как всеизмерение лежит в основе всезнания. Еще раньше Вейгеля выступил с идеей универсальной пансофии, всеохватывающей мудрости, Амос Коменский, опубликовавший в 1644 г. «Предвестник пансофии, разъяснение пансофических устремлений»117, в котором обосновывается идея единства всего человеческого знания, всех его разновидностей — логики, математики, физики, юриспруденции, медицины, педагогики и даже теологии — на основе достоверных принципов,- доставляемых математикой и приводящих к пантометрии.
Ё наиболее выпуклой форме эти пансофические и панлогические устремления новаторов XVII столетия получили свое выражение в геометрическом методе, ставшем одним из главных проявлений их убеждения в возможности исчерпывающего познания мира. Геометрический метод — наиболее обобщенное выражение синтетического метода в понимании новаторов столетия. Если, согласно «Логике» Пор-Рояля, метод анализа, нахождения наиболее общих принципов, есть метод изобретения, то метод синтеза есть метод уяснения уже открытых истин другим людям и в этом смысле — метод изложения 118. Но в своей «геометрической» форме этот метод преследовал не одни лишь педагогические цели, а претендовал на воспроизведение универсальной логики
107
мира, представляя собой попытку распространения аксиоматического метода на философию. Сущность геометрического метода состояла в отвлечении от геометрии Эвклида ее логических приемов, распространявшихся на другие, уже негеометрические области и прежде всего на философию, рассматривавшуюся в качестве универсальной науки. Важнейшими элементами геометрического метода являлись аксиомы, определения и доказательст; ва вытекавших из них положений (теорем). В той или иной степени к геометрическому методу прибегали многие философы и ученые, в том числе Д екарт119, Лейбниц 12°, а также Ньютон в своих «Математических началах». Наиболее широко в применении к философии этот метод использовал Спиноза. В представлении рационалистов XVII в. геометрический метод — наиболее научный способ изложения достигнутых результатов, исключающий всякие споры и приводящий к всеобщему согласию. Один из противников Спинозы, Моргоф, считавший несовершенным метод голландского мудреца, выразил вместе с тем пожелание, чтобы его «Этика» была опровергнута тем же геометрическим способом 121.
Проблема достоверного знания, рационализм и эмпиризм. Метафизический способ мышления
как внеисторическое истолкование познания
Наивысшая методологическая оценка, какую все новаторы давали математическому знанию, истинность которого выражалась во всеобщих и необходимых суждениях, ставила перед ними первостепенную проблему достоверного знания, его характера и признаков, его отношения к вере и откровению, а также и к опытному познанию. Что касается отношения достоверного познания к религиозной вере, то принципиально этот вопрос уже выяснен выше, поскольку мы неоднократно констатировали эмансипацию философии от божественного откровения, как одно из главных методологических условий, приведших к прогрессу рационализма во всех его формах. Антагонизм веры и знания с наибольшей силой проявлялся тогда именно потому, что новаторы XVII в., как ни один из их предшественников, поднялись до глубокого понимания знания как знания достоверного, для108
всех с необходимостью очевидного и в силу этого совершенно бесспорного. Теперь же наша задача состоит в том, чтобы определить отношение достоверного познания к познанию опытному, эмпирическому, более или менее вероятному, опирающемуся на чувственные критерии 122.
В этой связи необходимо констатировать, что противоположность разума и чувств, родившаяся, можно сказать, вместе с философией, никогда еще не достигала такой драматической силы, какую она приобрела в XVII в. Рационализм, в более узком смысле этого термина, и эмпиризм, рационализм и сенсуализм, имевшие уже в предшествующем столетии таких видных представителей, как Телезио и Бруно, в рассматриваемом веке приобрели еще большее число сторонников, основательно исследовавших эти основоположные гносеологические точки зрения. Будучи противоположными, они не были, однако, у новаторов столетия взаимоисключающими, что однажды было очень метко подмечено Яном Амосом Ко- менским и сформулировано в следующих словах: «Тот, кто желает идти только под руководством чувств, никогда не поднимается в отношении своей мудрости над толпой, никогда не сможет представить себе, что Солнце больше Земли, что Земля шарообразна и пригодна для проживания со всех своих сторон. Если же кто, наоборот, будет искать спасения только в разуме, делая чисто спекулятивные выводы, не опирающиеся на свидетельства чувств, тот, впадая в химерические мечты, создает себе собственный мир, каким является платоновский, аристотелевский и т. д.» 123.
Новаторы XVII столетня, внесшие столь значительный вклад не только в философию, но и в науку, достигли выдающихся результатов благодаря гармоническому сочетанию опытно-экспериментального изучения природы и теоретического размышления, что и нашло свое логическое отражение в формах анализа и синтеза, а также математического исчисления явлений природы. В этом смысле все великие рационалисты этого столетия были эмпириками, так как никто из них не отвергал опытного исследования природы, а многие даже подчеркивали его необходимость. Это было само собой разумеющимся у таких гигантов научной мысли, как Галилей или Ньютон. В сущности то же самое можно сказать и о научной методологии Декарта, который уже в «Пра
109
вилах для руководства ума» подчеркнул, что «мы приходим к познанию вещей двумя путями, а именно: путем опыта и дедукции». Он решительно осудил астрологов и всех тех философов, «которые, пренебрегая опытом, думают, что истина выйдет из их головы, как Минерва из головы Юпитера» 124, а в «Рассуждении о методе» категорически заявил: «Что касается опытов, то я заметил, что они тем более необходимы, чем дальше мы продвигаемся в познании» 125. С другой стороны, индуктивный метод Френсиса Бэкона, считающегося родоначальником эмпиризма нового времени и не поднявшегося еще до осознания значения математики для естествоиспытателя и философа, представляет, по известной характеристике Маркса, применение рационального метода к чувственным данным 126. И опытно-экспериментальное естествознание, разрушавшее химеры перипатетической натурфилософии, и его теоретическое осмысление, поднимавшее суверенитет человеческого разума, ограниченный и униженный за многие столетия господства теологии, представляли собой в сущности единый поток антисхоластической мысли, отражавшей технический и социальный прогресс человеческого общества 127.
Действительное различие между рационализмом в более узком смысле этого термина и эмпиризмом или, точнее, сенсуализмом, связано с истолкованием характера и генезиса достоверного знания. Прежде чем характеризовать это различие, следует подчеркнуть, что достоверное, дедуктивно-демонстративное познание противопоставляется познанию вероятному, чувственному как более высокое, надежное и ценное, не только такими классическими рационалистами, как Декарт, Спиноза или Лейбниц, но и таким мыслителем, как Гоббс, вставшим на путь опытно-сенсуалистического объяснения достоверного знания, и даже таким, как Локк, считающимся главным представителем сенсуалистического понимания знания в XVII в. Для Декарта само собой разумеется, что «всякая наука заключается в достоверном и очевидном познании» и исключает «все познания, являющиеся только вероятными» 128. Аналогичным образом и Гоббс под наукой понимает не констатацию единичных фактов, а постижение истины a priori путем демонстрации. Первый род знания, заключающийся в констатации единичных фактов, составляет историю,110
естественную и гражданскую, а второй, состоящий из цепи последовательных рассуждений, зависящих друг от друга, образует не только математические науки, но и этику вместе с политикой, потому что во всех этих науках достоверные принципы создает сам человек 129.
Причина такого противопоставления достоверного, дедуктивно-демонстративного знания знанию чувственно-вероятному заключалась не только в том, что именно первый вид знания с наибольшей силой выражал суверенитет человеческого разума, его независимость от сверхъестественного откровения и противоположность слепой и авторитарной вере. Эта причина коренилась также в антиисторическом, антидиалектическом понимании человеческого сознания, в отсутствии исторического понимания процесса познания, в метафизическом отрыве общего от особенного и единичного. Гоббс одним из первых сформулировал тезис, согласно которому всеобщие и необходимые истины, из которых состоят науки математического типа, никогда не могут быть почерпнуты в опыте. Сколько бы человек ни наблюдал, как за одинаковыми причинами следуют одинаковые действия — например, чередование облаков и дождя, а также дня и ночи,— его знание связи этих фактов будет только вероятным, более или менее достоверным, но никогда не достигнет стопроцентной достоверности, присущей подлинной науке математического типа. «Из опыта,— пишет Гоббс,— нельзя вывести никакого заключения, которое имело бы характер всеобщности. Если признаки в двадцати случаях оказываются верными и только в одном обманывают, то человек может ставить в заклад двадцать против одного за то, что предполагаемое явление наступит или что оно имело место, но он не может считать свое заключение безусловной истиной» 13°. Характерно, что эта же мысль о независимости необходимых истин от эмпирического обоснования энергично подчеркивается и рационалистом Лейбницем в его полемике с сенсуалистом Локком. С различием чисто эмпирического познания, с одной стороны, и познания a priori — с другой, Лейбниц связывает при этом различие между познанием животных и собственно человеческим познанием. «Животные,— пишет он,— чистые эмпирики и руководствуются только примерами», они «никогда не доходят до образования необходимых предложений,
111
между тем как люди способны к наукам, покоящимся на логических доказательствах... Выводы, делаемые животными, в точности такие же, как выводы чистых эмпириков, уверяющих, будто то, что произошло несколько раз, произойдет снова в случае, представляющем сходные — как им кажется — обстоятельства, хотя они не могут судить, имеются ли налицо те же самые условия. Благодаря этому люди так легко ловят животных, а чистые эмпирики так легко впадают в ошибки» 131.
Итак, метафизически понимаемый опыт, по убеждению не только таких рационалистов, как Декарт или Лейбниц, но и такого мыслителя, как Гоббс, вставшего на путь эмпирического объяснения знания, не в состоянии обосновать необходимых истин достоверного знания. Решение вопроса о генезисе этого важнейшего вида знания и отделило рационалистов в узком смысле этого термина от эмпириков, или, точнее, сенсуалистов. Что касается решения этой проблемы рационалистами, то в рассматриваемом столетии оно* состояло в убеждении, согласно которому достоверное знание покоится на принципах, являющихся неотъемлемым достоянием самого разума человека. Такое истолкование приняло у рационалистов форму учения об интуитивном и врожденном, характере этщх принципов.
Понятие интеллектуальной интуиции, означающее, что мыслящий разум непосредственно созерцает свои исходные принципы, без которых был бы невозможен весь дальнейший дедуктивно-демонстративный процесс связи истин, следует отнести к числу важнейших завоеваний прогрессивной гносеологии рассматриваемого столетия. Нужно иметь в виду, что с конца античности и в течение всей эпохи средневековья неоплатоновско- августинианская традиция в понимании интуитивного знания, перетолковавшая творческий разум Аристотеля, составляла едва ли не основное содержание мистического «созерцания бога». Эта традиция рассматривала «интеллектуальное видение» бога как акт, совершенно не связанный с дискурсивным мышлением человека и даже противоположный ему. Способность человеческой души к непосредственному, интуитивному созерцанию бога есть результат его таинственной милости, которой одаряется далеко не всякий человек. Согласно Фоме Аквинскому, не только чувственное познание, обращающееся112
к внешним предметам, но и дискурсивное мышление, состоящее из рассуждении и оперирующее понятиями, свидетельствует о слабости человеческой природы, так как ангелы и тем более бог совершенно не нуждаются в этих низших проявлениях умственной деятельности и процесс своего познания осуществляют чисто интуитивно, не обращаясь к внешним предметам и не прибегая к рассуждению132.
Эмансипация научно-философского мышления от откровения привела и к секуляризации интуиции, которая, по известному определению Декарта, стала пониматься как «прочное понятие ясного и внимательного ума, порожденное лишь естественным светом разума и благодаря этой своей простоте более достоверное, чем сама дедукция»133. В этих словах Декарта сформулирован один из определяющих для понимания интуиции новаторами XVII столетия принципов: интуиция не только не противопоставляется дискурсивному познанию, но и становится той базой, без которой это познание делается невозможным. Таким образом, секуляризация интуиции, произведенная в рассматриваемом столетии Декартом и другими новаторами, представляет собой двойной процесс. С одной стороны, интуиция превращается из сверхъестественного свойства бога, как она мыслилась Аквинатом, в чисто человеческую познавательную способность, а с другой, делаясь такой способностью, она истолковывается не как нечто, выходящее за пределы логическо-дискурсивной деятельности человеческого ума, как понимал ее Августин и множество платонизирующих мистиков, а как высшее проявление познавательных сил человека и только человека, ибо без исходных интуиций становится невозможной сама эта деятельность. Тем самым секуляризация интуиции означала у новаторов дезиррационализацию ее.
Констатируя теснейшую взаимозависимость между интуицией и дискурсивным познанием, установившуюся в классическом рационализме рассматриваемой эпохи, немаловажно отметить, что в дальнейшей истории буржуазной философии по мере нарастания в ней иррацио* нализма непосредственно-интуитивное знание стало опять отрываться от опосредственно-демонстративного, а затем и противопоставляться ему. Это разлуче*ЛГе интуиции и демонстрации, характеризуемое именами
113
Якоби, Шеллинга и Шопенгауэра, нашло свое завершение в новейшем буржуазном иррационализме Бергсона, у которого, как известно, интуиция была последовательно противопоставлена всем интеллектуальным способностям человека и по способу своего функционирования и по предмету своего познания 134.
Возвращаясь к рационализму XVII в., следует еще раз подчеркнуть, что из антипода рационализма интуиция делается одним из основоположных его принципов. Теперь интуиция и все необходимо связанные с ней способы познания противопоставляются тем же Декартом сверхъестественному откровению божию, которое «не постепенно, а разом поднимает нас до безошибочной веры»135. Успехи математических наук, в особенности воззрительный характер геометрических аксиом, послужили основной гносеологической базой этой метаморфозы интуиции. Существенно также отметить, что как Декарту, так и другим рационалистам свойственно весьма расширительное понимание интуитивных истин, составляющих фундамент достоверной демонстрации не только в геометрии, но и вообще в сфере науки и философии. Непосредственность постижения этих истин означает, согласно декартовскому «Разысканию истины посредством естественного света», предельную простоту и абсолютную ясность, исключающую необходимость определения этих основоположных истин через ближайший род и существенное отличие 136. Аналогичным образом определяет интуицию и Лейбниц137.
Немаловажный аспект картезианско-рационалисти- ческого истолкования интуиции состоит также в подкреплении и конкретизации той уверенности в тождестве онтологических и логических связей, какая была присуща всему рационалистическому направлению в его противоположности теологическому иррационализму и в этом качестве охарактеризована выше. Конечно, эта особенность рационалистической методологии более последовательно и более отчетливо выражена рационалистами в более узком смысле этого термина и прежде всего Декартом. Ведь по замыслу Картезия абсолютная ясность, стопроцентная отчетливость и предельная очевидность интуитивных истин означают полное преодоление субъективности понятий нашего знания, выводимого тем самым из пещеры субъективности на широкие про114
сторы объективного, реального, насквозь познаваемого мира. Мы говорим «по замыслу», потому что в своей философской реализации этого замысла Декарт далеко не преодолел субъективизма, о чем будет сказано далее. Несмотря на это, объективная установка картезианского понимания интуиций, лежащих в основе дедуктивного сочетания истин, позволила Декарту в его полемике с Гоббсом в связи с обсуждением «Метафизических размышлений», трактовать процесс такого умозаключения, как познание самих вещей и их взаимных отношений 138. Следует в этой связи также подчеркнуть, что необходимость и объективность законов природы, вскрытых естествознанием рассматриваемой эпохи, с наибольшей силой была выражена именно рационалистами.
Превратившись из элемента иррационализма в важнейший элемент рационализма, интуиция Декарта не утратила, однако, в силу этого своего идеалистического характера. Последний связан с метафизическим истолкованием Декартом, как затем и другими рационалистами, интуитивного знания как знания только непосредственного, не имеющего корней в исторически развивающейся практике общественных классов, не опосредствованного этой практикой. В связи с этим наиболее общие понятия и их связи, интуиции, отрываются от ощущений и противопоставляются им. Это внеисторическое понимание Декартом, как и другими рационалистами, интуиций, составляющих фундамент знания, с неизбежностью толкало французского философа на путь созерцательного истолкования знания и к апелляции к богу как последнему источнику интуитивных истин 139. Кроме того, идеалистический характер истолкования интуиции Декартом послужил одним из главных оснований его учения о существовании духовной субстанции.
Идеалистического понимания генезиса достоверного знания не избежал и Гоббс, вставший на путь его эмпирического истолкования. Поскольку «нет ни одного понятия в человеческом уме, которое не было бы порождено первоначально, целиком или частью, в органах чувств» ио, не может быть и врожденных человеческому .уму интуиций. Исходным материалом, фундаментом достоверного знания служат поэтому не интуиции, а определения. «Свет человеческого разума — это вразу
115
мительные слова, предварительно очищенные от всякой двусмысленности точными дефинициями» 141, а отнюдь не интуиции. Даже аксиомы эвклидовой геометрии, «которые все же могут быть доказаны, не являются принципами, хотя они в силу всеобщего соглашения приобрели авторитет принципов»142. В своей методологии Гоббс придает очень большое значение умению составлять правильные, точные определения, «ибо существо определения кроется... в фиксировании значения определяемого имени, в отграничении его от всех других значений кроме того, которое содержится в самом определении» 143. Таким образом, при изучении философии нужно начинать именно с определений 144, составляющих у Гоббса элемент геометрического метода. Составление определений, точно фиксирующих значение терминов, естественно предполагает наличие человеческой речи, состоящей из слов. Если ощущения и представления, порождаемые воздействием внешних предметов на органы наших чувств, составляют один вид опыта, то умение правильно пользоваться словами языка образует другой вид опыта, источником которого, по Гоббсу, является ум 145. Проблему всеобщих и необходимых истин, фиксируемых в определениях, Гоббс пытается решить с помощью номиналистической теории знаков.
В этой связи следует заметить, что номинализм как путь к преодолению отрыва понятий от вещей, отвергавший платонизирующие и аристотелизирующие фантазии схоластиков-реалистов о существовании универсалий вне человеческого ума и до него, стремившийся связать абстрагирующую деятельность человеческого ума с конкретными предметами реального мира и выявивший эти свои функции в деятельности оксфордских и парижских номиналистов XIV в., продолжал играть еще большую материализирующую роль в XVII в. Поскольку и в этом столетии главным философским врагом новаторов оставалась аристотелизирующая схоластика и поскольку все новаторы в своей борьбе с ней апеллировали к опыту, все они в той или иной степени склонялись к номинализму, например и Бэкон146, и Декарт147. Механистическая картина природы, столь характерная для новаторов рассматриваемого столетия и сводившаяся к представлению, согласно которому природа складывается из взаимодействия бесчисленного количества разрозненных едннич-116
ных объектов, находится в очевидной зависимости от методологии номинализма.
Номинализм Г оббса, наиболее последовательного приверженца такой картины, носит особенно радикальный характер, но одновременно он наследует и даже развивает те субъективистские и конвенционалистские тенденции, какие наметились уже у главного представителя номинализма XIV в. Уильяма Оккама. Поскольку «в мире нет ничего универсального, кроме имен» 148, понятия абстрактных субстанций, заявляет Гоббс, бессмысленны 149, и понятие субстанции выражает лишь существование той или иной единичной вещи. Номиналистическая реакция против крайних преувеличений реализма относительно онтологической значимости общего привела английского мыслителя к отрицанию онтологического содержания достоверного знания, к утверждению, согласно которому «между именами и вещами нет никакого сходства и никакого сравнения» 15°, к отрыву слова от понятия, как обобщенного отражения вещи, и даже к противопоставлению их. Этот путь отказа от общерационалистических установок относительно взаимообусловленности онтологических и логических связей, начатый в XVII в. Гоббсом и продолженный Локком, привел к солипсизму Беркли, а затем и к крайнему субъективизму и агностицизму Юма.
Метафизический предрассудок о постоянстве и неизменности человеческой природы не позволил Гоббсу связать два вида опыта, чувственный и рационально-речевой, как не позволил он в дальнейшем Локку связать внешний и внутренний опыт, ощущение и рефлексию. Многократно подчеркивая, что «без способности речи среди людей не было бы ни государства, ни общества, ни договора, ни мира в такой же мере, как это не бывает среди львов, медведей и волков»151, что язык — произвольное соглашение людей 152, Гоббс видит источник этого соглашения в некотором неизменном, всегда себе равном человеческом уме (здесь философ придерживался воззрения всех рационалистов в широком смысле этого термина). Именно эта решающая для человека способность позволяет превратить слова, как метки тех или иных вещей, имеющие лишь индивидуальное содержание, в знаки, обобщающее значение которых составляет основной результат соглашения и объясняет
117
в конечном итоге наличие достоверного знания, не объясняемого чувственным видом опыта. С этой точки зрения человеческий ум предшествовал человеческой речи. Вот почему «философом мог стать и Адам» 153, который и стал им после того, как бог, создавший первую речь, «научил Адама, как называть существа, подобные тем, которые он ему показал» 154.
Таким образом, проблема генезиса достоверного знания и теоретического мышления вообще не была решена в XVII в. ни рационалистами, настаивавшими на самобытности мыслящей субстанции, ни сенсуалистами, сделавшими попытку объяснить достоверное знание исходя из фактов человеческого опыта. Эта проблема и не могла быть решена в рассматриваемую эпоху (и тем более в древности). Ее решение, предполагающее осознание диалектической связи общего, особенного и единичного и понимание исторического генезиса человеческого мышления в процессе многотысячелетней практики, открылось только классикам марксизма-ленинизма. Внеисторический взгляд на абстрагирующее, теоретическое мышление — одно из главных проявлений метафизического способа мышления, распространенного в рассматриваемом столетии.
Такой взгляд приводил к ряду идеалистических предрассудков. Одним из них было свойственное многим новаторам этого столетия теологическое представление о боге-всезнайке, способном объять необъятное, знать всю бесконечную природу. Высшая из познавательных способностей человека — способность интуиции, постигающей целостность предмета,— здесь как бы снова отчуждается от человека и приписывается богу, превращаемому в субъект мирового, исчерпывающего знания. Например, Галилей считал, что божественная интуиция сразу охватывает бесконечное число истин, в то время как человеческий разум в состоянии познать лишь немногую их часть 155. Даже Гоббс писал, что только «бог, который видит все и располагает всем», понимает, почему человеческая свобода сопровождается необходимостью156. Взгляд, приписывающий богу всезнание, тем более «простителен» Декарту, категорически заявлявшему, что «вполне мудр в действительности один бог, ибо ему свойственно совершенное знание всего», в то время как люди «могут быть названы более или менее мудрыми,1 1 8
сообразно тому, как много или как мало они знают истин о важнейших предметах» 157. Наиболее четко, пожалуй, это воззрение выражено идеалистом Лейбницем, считавшим, что «только высший разум, от которого ничто не ускользает, способен отчетливо понять всю бесконечность, все основания и все следствия» 158, только божественный разум способен завершить тот бесконечный анализ, благодаря которому случайные истины, или истины факта, превращаются в истины необходимые и вечные. Эта сверхъестественная способность бога объять в своей мысли всю бесконечную природу снова вводит тот призрак оконечивания мира, с которым мы уже знакомились при рассмотрении онтологических концепций новаторов.
Рассматривая отношение рационализма и эмпиризма к проблеме характера и генезиса достоверного знания, принимая во внимание их неспособность к диалектическому пониманию этого генезиса и к указанию действительно научных критериев истины, делавшую их гносеологию созерцательной, все же следует указать, что эта созерцательность сильнее была представлена сенсуализмом, чем рационализмом. Особенно если иметь в виду не столько Гоббса, высоко ценившего абстрагирующее мышление, сколько Локка, сделавшего попытку представить абстрагирующую деятельность человеческого рассудка как функцию, по существу не прибавляющую ничего принципиально нового к фактам, доставленным чувствами. Рационалисты, напротив, подчеркивали творческий характер человеческого разума, хотя и делали это на ложной, идеалистической основе, поскольку отрывали и даже противопоставляли его деятельность деятельности чувств, а некоторые из них даже объясняли эту деятельность существованием особой нематериальной субстанции. Творческий характер человеческого мышления был сформулирован Декартом уже в «Правилах для руководства ума», где философ указывает, что при установлении истины совершенно бесполезно подсчитывать голоса, «ибо если дело касается трудного вопроса, то более вероятно, что истина находится на стороне меньшинства, а не большинства... Мы, никогда, например, не сделаемся математиками, даже зная наизусть все чужие доказательства, если наш ум неспособен самостоятельно разрешать какие бы то ни было про
119
блемы, или философами, прочтя все сочинения Платона и Аристотеля, но не будучи в состоянии вынести твердого суждения о данных вещах, ибо в этих случаях мы увеличим только свои исторические сведения, но не знания» 159.
Эта установка рационализма, поднимавшая суверенитет человеческого разума и сопровождавшаяся попытками осветить его «естественным светом» все стороны жизни, включая и темную область религии, естественно, встретила враждебное отношение со стороны господствующих церквей. Для них было более приемлемо эмпирическое истолкование знания, так как оно акцентировало его значение для технического прогресса человечества, и, кроме того, в условиях XVII в. не в состоянии было выдвинуть убедительных аргументов против скептического принижения познавательных возможностей человеческого разума, что идеологи церкви пытались использовать в интересах подкрепления веры. Такое отношение церкви, в частности католической, объясняет, например, тот факт, что, если сочинения Декарта, несмотря на официально признанную государством пользу его научной деятельности, были включены в ватиканский Index, то туда не попало ни одного произведения Гассенди. Его сенсуалистические идеи были даже использованы упоминавшимся выше епископом Гюэ и иезуитами в их антикартезианской полемике 1б°.
Психофизическая проблема в философской мыслиXVII в.
К рассмотренной проблеме отношения априорного и эмпирического знания тесно примыкает и психофизическая проблема, т. е. проблема соотношения телесного и духовного в человеке, принявшая главным образом форму учения об аффектах, или страстях. Став важнейшей философско-психологической проблемой столетия, она привлекала внимание не только таких ведущих философских умов, как Декарт, Гоббс и Спиноза, или даже окказионалистов, как Мальбранш и Гейлинкс, но и ряда менее значительных мыслителей, например Коеффето, де ля Шамбра и Сено, опубликовавших свои произведения еще до декартовских «Страстей души» 161.120
Постановка этой проблемы и специфика ее решения в рассматриваемом столетии определялась двумя факторами: с одной стороны, успехами в познании механических форм развития природы, а с другой — успехами самого познающего мышления, поднявшегося до осознания признаков достоверного знания и интенсивно разрабатывавшего методы научного исследования. Процесс замены органистического истолкования природы ее механистической ■ трактовкой, распространенный и на сферу человека, привел к появлению в этом столетии механистической физиологии. Понимание человека как микрокосмоса, игравшее определяющую роль в антропологии и психологии предшествующих столетий, приняло новую форму. Если вселенная стала рассматриваться как огромный космический механизм, то соответственно и человек превращался в маленький механизм. Такова была, например, точка зрения Яна Амоса Комен- ского162. При всей несостоятельности этого взгляда с современной точки зрения следует иметь в виду, что в условиях XVII в. он представлялся единственно научным, поскольку опирался на некоторые важные достижения в изучении животного и человеческого организма и прежде всего на великое открытие Уильяма Гарвея. Механистическое истолкование животного и человеческого организмов, изгонявшее схоластнческо-перипатети- ческие химеры растительной и чувствующей души, делало важный шаг в научном познании этих объектов самим фактом их приближения друг к другу. Механистическое понимание организма, развивавшее такое же понимание природы, использовало и в этой области некоторые представления, унаследованные от органисти- ческой ' традиции. Таковым, в частности, в области антропологии и физиологии было понятие животных духов, получившее чисто механистическое истолкование у Декарта и Гоббса163. Наиболее характерный результат этого включения животного и человеческого организмов в сферу механистически истолкованной природы — декартовское учение о животном-машине, распространявшееся и на человека. Будучи важнейшим компонентом механистического материализма, это учение по отношению к человеку более последовательно развивалось Гоббсом и голландским материалистом Леруа (Регием), учеником Декарта, порвавшим со своим учителем 164.
ч
121
Важный шаг в области натуралистического истолкования человека представляет и развитое в прямой связи с механистической физиологией учение о страстях, или аффектах, затрагивавшее повседневную жизнь человека и послужившее базой передовых этических учений рассматриваемого столетия. Если в схоластической психологии и морали страсти истолковывались как явление нравственного мира, неразрывно связанное с присутствием в теле человека оживляющей его души, ставившее его в особое положение по отношению ко всем другим живым существам и свидетельствовавшее о его неземном назначении, то, например, Декарт, сыгравший и в этой области инициативную роль, стремился рассуждать о страстях не как моралист, а как физик. В явлении человеческих страстей существен не сам факт действия души, не отвергавшейся Декартом, хотя и изменившей у него свои функции, а связь души с телом человека, ибо «главное действие всех людских страстей заключается в том, что они побуждают и настраивают душу человека желать того, к чему эти страсти подготовляют его тело»165. Чем ниже сфера психической деятельности человека, по Декарту, тем теснее деятельность души связывается с соответствующими состояниями тела. Человеческие страсти конкретизируют ту детерминацию поступков человека, которая делает его природным существом. В этой связи Картезий заявляет, что «дух так сильно зависит от темперамента и от расположения органов тела, что если можно найти какое-нибудь средство, которое сделало бы людей, как общее правило, более мудрыми и более способными, чем они были до сих пор, то его надо искать, я убежден, в медицине» 166.
Метод познания страстей, применяемый Декартом, Гоббсом, а затем и Спинозой, в принципе тот же, что и метод познания других естественных явлений. Путаница человеческих страстей, делающая на первый взгляд невозможным никакое научное познание их, проясняется прежде всего методом анализа, с помощью которого Декарт устанавливает шесть наиболее простых, или первоначальных, страстей, каковыми являются удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль, а все остальные представляют собой лишь их комбинации или разновидности 167.122
Несмотря на значительные успехи, достигнутые передовой философской мыслью XVII в. в познании страстей и в установлении их зависимости от телесных функций человека, сфера духа, развившего в рассматриваемую эпоху свои функции до глубокого осознания принципов достоверного знания, далеко раздвинувшего пределы познаваемого мира, но вместе с тем неспособного к диалектической постановке вопроса относительно генезиса, исторического, социального обоснования этих своих функций, оказалась оторванной от телесного, материального человека и даже противопоставленной ему. И чем сильнее было убеждение в механистическом характере его жизненных отправлений, с одной стороны, чем выше поднималось осознание познавательных возможностей человеческого духа — с другой, тем резче становился этот разрыв, с наибольшей силой выразившийся в дуализме Декарта, заявлявшего уже в «Правилах для руководства ума», что «сила, посредством которой мы собственно познаем вещи, является чисто духовной, отличающейся от всего телесного не менее, чем кровь от костей или рука от глаза, единственной в своем роде...» ,68. Этот дуализм мог снова привести к теологическим выводам, что и было осуществлено в произведениях окказионалистов, апеллировавших к богу в любом случае взаимодействия мыслей и телесных действий человека.
Следует заметить в этой связи, что окказионализм стал главным картезианским направлением в Нидерландах, несмотря на деятельность Регия и несмотря на то, что воззрения Гейлинкса и других нидерландских окказионалистов не всегда совпадали с догматами ортодоксального кальвинизма. Материалисты, разумеется, стремились к ликвидации этого дуализма, доведенного окказионалистами до крайней степени, к доказательству зависимости духа от тела, но их возможности в этом отношении были весьма ограничены самим характером разделяемого ими материализма и той метафизической методологией, какая им была доступна. Поэтому в полемике Декарта с Регием, доказывавшим, что все наши понятия произошли либо из наблюдения вещей в опыте, либо почерпнуты из традиции, т. е. в конечном итоге тоже восходят к опыту, что способность мышления сама по себе, без опыта, не в состоянии ничего представить,
123
позиции этого материалистического истолкователя картезианской гносеологии и картезианского психофизического учения были серьезно ослаблены невозможностью с точки зрения метафизического материализма обосновать всеобщность и необходимость достоверных познаний, вывести его истины из телесных движений любого индивидуального человека, что и не примннул подчеркнуть Декарт 1б9.
Не менее характерен и пример Гоббса, сводившего к движению тел не только все процессы, совершающиеся во внешнем мире, но и все, что совершается в мире внутреннем, субъективном 170. Столь радикальный механицизм приводил к утрате самого понятия субъекта, человеческого сознания, в котором, по Гоббсу, геометрическо-механические качества внешних объектов превращаются в чувственные, «вторичные» качества, а также к утрате понятия человеческого мышления, способного к дедуктивной деятельности и достоверному знанию. Отсюда понятно, почему сам Гоббс при попытке объяснить человеческое сознание на основе принципов своей механистической физики зашел в тупик, который философ и выразил однажды в словах: «Из всех знакомых нам феноменов, или явлений, самым замечательным является самый факт существования явлений, самый факт этого то <ра1\’еа0а 1, то есть то обстоятельство, что из тел, существующих в природе, некоторые обладают представлениями почти обо всех вещах, другие же не обладают никакими» 171. Крайний механицизм в интерпретации природы, бессильный, таким образом, решить проблему сознания, оставлял в силе метод интроспекции, в которой дух наблюдал свою собственную деятельность, в качестве главного, если не единственного, метода психологии рассматриваемого столетия. И этот «авгу- стиновский» метод самонаблюдения мыслящего духа был присущ не только Декарту, у которого он гармонировал с принципами его рационализма и казалось даже подкреплял идеализм его духовной субстанции, но в известной мере и Гоббсу 172, не способному ни решить проблему сознания с позиций крайнего механицизма, ни обойтись без понятия творческого мышления, делающего возможной самое эту геометрическо-механистическую картину природы вопреки нашей чувственной информации о ней.124
Человек как субъект общества и государства
Процесс секуляризации как главное содержание духовного прогресса в рассматриваемом столетии с необходимостью привел и к новому пониманию сущности общественной и государственной жизни и к новому пониманию человека как непосредственного носителя этой жизни. Все рассмотренные выше принципы передовой методологии этого века — рационализм, номинализм, механицизм, деизм и другие — нашли свое естественное преломление и в этой сфере. В частности, констатированный нами переход от органицизма к механицизму в понимании новаторами природы не менее характерен и для их социологических воззрений.
Христианская церковь, как наивысшее обобщение и санкция феодального общества, представлялась господствующему классу реально сущим corpus christianum, т. е. объективно существующим «христианским телом», некоей божественной спайкой политически распыленного христианского мира. Принцип иерархической структуры церковной организации, как и организации самого господствующего класса, становился в этих условиях основоположным принципом истолкования сущности общества. С точки зрения господствовавшей схоластическо-реалистической философии общество рассматривалось как своего рода организм. Развитие номинализма и концепции «двух истин» уже в средние века подрывало такое понимание общества. Ведь развитие номинализма, уже тогда ставшего основополагающим принципом передовой методологии, свидетельствовало о возрастании индивидуалистических тенденций в общественной жизни, порожденных успехами товарного производства и связанной с ними дезинтеграции общества. Концепция же «двух истин», разграничивавшая земные судьбы человека от его внеземного назначения, всемерно подчеркнутого христианской эсхатологией, освобождала политику от религиозных санкций, а государство от церковной опеки. Последняя тенденция, четко обозначившаяся в произведении Марсилия из Падуи, отлилась в систематическую концепцию Макиавелли.
Флорентийский социолог — первый в ряду мыслителей, которые, по словам Маркса, «стали рассматривать... государство человеческими глазами и выводить его
125
естественные законы из разума и опыта, а не из теологии» 173. Живя в эпоху расцвета раннебуржуазного индивидуализма, он первым ясно осознал, что люди, которые «скорее забудут смерть отца, нежели лишение вотчины 174, руководствуются в своей жизни прежде всего соображениями материального интереса. Само это осознание— прямой результат углубления и расширения сферы интереса, первостепенный показатель прогресса человеческого общества. Как один из основоположников юридического мировоззрения, сменявшего мировоззрение теологическое, Макиавелли стал также первым в новое время теоретиком чисто светского государства, свободного от всякого вмешательства церкви и основывающегося на принципах, почерпнутых не из «священного Писания» и не из богословской традиции, а из изучения «человеческой природы». В этой связи у Макиавелли, как затем у Бодена, Гоббса, Спинозы и других теоретиков естественного права, ставшего в рассматриваемую эпоху важнейшим выражением юридического мировоззрения, «сила изображалась как основа права,— подчеркивает Маркс, — тем самым теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали, и по сути дела был выдвинут лишь постулат самостоятельной трактовки политики»175. Выдвижение этого постулата — прямой результат рассмотрения материального интереса в качестве главной пружины индивидуальной и общественной жизни. По известному замечанию Гоббса, многообразие и противоречия человеческих интересов — наиболее серьезное препятствие к достижению истины в общественных науках. Задача политики в этих условиях, учили передовые социологи эпохи, состоит в том, чтобы всемерно учитывать этот наиболее могущественный стимул человеческой жизни, опираться именно на него, а не на моральные предписания, которые в сознании эпохи обычно выступали в неразрывной связи с предписаниями религии.
Осознание материального интереса в качестве основы основ человеческой жизни, свидетельствовавшее о расширении сферы и об увеличении интенсивности товарного хозяйства, о возрастании самой массы товаровладельцев, вовлекавшихся на свой страх и риск в сферу действия национальных и мировых рынков, далеко продвинулось в XVII в., когда укрепились и развились все126
эти процессы. И вполне закономерно, конечно, что именно в этом столетии теологическо-органистическое понимание человеческого общества у передовых представителей социологической мысли, у теоретиков естественного права, все более и более противопоставлявшегося праву божественному, сменилось учением о человеческом обществе как о конгломерате абсолютно самостоятельных человеческих индивидов. А представление о людях как о неравных и неравноправных членах социального организма, сменилось представлением о них как о вполне равных и даже тождественных атомах социального механизма. Не преувеличивая эгалитарных тенденций этой социологической концепции, которая в силу своей буржуазной сущности была весьма далека от сколько- нибудь последовательного проведения и тем более применения, мы вместе с тем не должны забывать о ее прогрессивности в борьбе против феодально-иерархических взглядов на общество, неразрывно связанных с представлением о природном неравенстве людей. Поэтому исторически совершенно понятна полемика Гоббса против Аристотеля, который в своей «Политике» обосновывает воззрение, согласно которому сама природа предназначила некоторых людей к управлению, а других к обслуживанию их176. Согласно же Гоббсу, реализующему применительно к обществу один из основных принципов рационализма XVII столетия относительно принципиального тождества мыслительных способностей людей, «природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей»177 и поэтому «все люди от природы равны между собой» 178.
Не нуждается в специальном обосновании зависимость механистическо-номиналистических представлений об обществе от таких же представлений о природе. Пожалуй, в равной мере является действительной и обратная зависимость, ибо представления об обществе и представления о природе находятся между собой в очевидном взаимодействии, что может быть доказано применительно к любым периодам в развитии человеческой мысли. В частности, зависимость механистического видения мира от индивидуалистических представлений социально дезинтегрированного общества в своем зародыше может быть прослежена в древности, в атомистической концепции общества.
127
Механистическое представление об обществе как о конгломерате принципиально тождественных друг другу атомов, неразрывно связанное с методологией номинализма, как и аналогичное ему представление о природе, тоже развивалось в русле деистических представлений об отношении бога к природе и человеку. Связь деистических представлений с концепцией естественного права особенно очевидна у Гуго Гроция, одного из главных его теоретиков. Безусловно веря в существование бога как творца человеческой природы автор «О праве войны и мира» вместе с тем убежден, что бог не в состоянии изменить требований естественного права, подобно тому как не может он упразднить правила, согласно которому дважды два всегда равняется четырем 179. Человеческая природа, будучи однажды создана богом, в дальнейшем выявляет свою самостоятельность и по существу независимость от своего творца, становясь подлинной матерью естественного права 18°. Еще дальше по пути обособления человеческой природы от божественной первопричины пошел Гоббс, деизм которого, как мы видели, был наиболее приближен к материализму. В социологической концепции автора «Левиафана», в его учении о «естественном состоянии» людей, с необходимостью сменяющемся «гражданским состоянием», последним стимулом человеческой деятельности является сугубо эгоистическое стремление к самосохранению, выявляющее, однако, скорее агрессивную сущность человеческой натуры. Органистическое содержание этого понятия, наполнявшее его не только в эпоху стоиков, но еще и в эпоху европейской натурфилософии, сменилось у Гоббса механистическими представлениями, навеянными слагавшимся тогда принципом инерции.
Идеологическая мистификация, с. необходимостью присущая всем эксплуататорским государствам и выражающаяся в том, что интерес экономически господствующего класса или класса, стремящегося к власти, изображается его идеологами как интерес всего государства, проявилась у новаторов рассматриваемого столетия в их сугубом убеждении в том, что формулируемые ими принципы естественного права и наиболее рационального государственного устройства являются адекватным выражением требований человеческой природы. Иллюзорность этого убеждения раскрылась, как известно,128
значительно позже, когда классовое сознание эксплуатируемых масс и особенно пролетариата остро ощутило ограниченность и необоснованность принципов, формулируемых идеологами буржуазии в качестве общечеловеческих. Однако в XVII в., когда буржуазия с полным историческим правом «заведовала» общественным прогрессом и имела все основания выступать от имени всего общества, учения ее социологов о человеческой природе имели наибольшее основание выступать в качестве объективной истины, содержание которой во многом сохраняло свою значимость и в последующие века. Достаточно напомнить мысли Макиавелли, Гоббса, Спинозы об интересе как главном стимуле человеческой деятельности.
Но вместе с тем сохранялся и мистификаторский характер понятия человеческой природы. С помощью номиналистической методологии мыслители-новаторы освободились от множества химер религиозно-схоластической мысли, в том числе и в области обществоведения. Но и сами они были вынуждены создавать некоторые «универсалии»; важнейшей из них и было понятие человеческой природы. Разумеется, это было по сравнению со схоластическими во много раз более адекватное обобщение, основывающееся на действительных свойствах человеческой природы, с огромной выразительностью проявлявшихся тогда во многих сферах деятельности. Но вместе с тем это было и классово ограниченное обобщение, выдававшее в качестве вечной и общечеловеческой сущности то, что в действительности имело или исторически преходящую или далеко не общечеловеческую значимость. Отсюда понятно, почему сами новаторы расходились в определении подлинных свойств человеческой природы, в наиболее чистом виде проявляющихся в «естественном состоянии». Если Гоббс и Спиноза усматривали эти свойства в эгоистическом стремлении к самосохранению, то Гроций и Кумбер- ленд — в альтруистическом стремлении людей к общежитию, приводящем к образованию государства. Впрочем, в свете вышеизложенного большая историческая правда должна быть признана за первыми. Вместе с тем и первые и вторые, подчеркивая некоторые свойства человеческой сущности, объявляли их единственно действительными, вечными и неизменными. Так и появи5 Зак. 681 129
лась новая универсалия, универсалия «человеческой природы», тоже противопоставленная в качестве некоей вечной и неизменной сущности конкретному человеку.
В свете всего этого становится очевидным идеалистический характер социологической мысли новаторов XVII в., несмотря на столь проницательное осознание ими роли материальной заинтересованности в деятельности людей. Конечно, такое осознание многое им дало. Не следует забывать, что именно в этом веке зарождается политическая экономия в качестве науки о рациональном ведении народного хозяйства. Интересующее нас столетие является не только классическим веком меркантилизма, но и веком Уильяма Петти и Пьера Буагильбера, сделавших первые шаги в создании трудовой теории стоимости и положивших начало классической политэкономии. Новаторы тоже проявляли интерес
вопросам политэкономии. Так, мы встречаем у Гоббса ряд высказываний, касающихся главным образом вопросов стоимости и денег, привлекавших к себе усиленное внимание большинства тогдашних экономистов. Вместе с тем Гоббс уделяет внимание и вопросу трудового определения стоимости. «Что касается изобилия предметов,— писал он,— то оно от природы ограничено темн продуктами земли и моря... которые бог обыкновенно или дарит, или продает за труд человеческому роду. Ибо предметы этого питания... бог свободно положил перед нами на поверхности или вблизи поверхности земли, так что требуется лишь труд и прилежание, чтобы получить их. В этом смысле изобилие зависит (после господней милости) лишь от труда и прилежания человека». «Человеческий труд есть также продукт, который можно обменять с пользой, как и всякий другой» 181.
Но эти высказывания Гоббса, свидетельствующие об осознании им роли экономического фактора в жизни людей, как говорится «не делают погоды». Осознавая значение индивидуального интереса в человеческой жизни, ни Гоббс, ни другие представители социологической мысли этого века не могли еще подняться до осознания решающей роли классового интереса в общественной жизни. Сущность последней они стремились постигнуть, отправляясь от закономерностей человеческого сознания. Отсюда столь популярная в рассматриваемом столетии теория общественного договора, кладущего начало госу130
дарственной жизни. Согласно тому же Гоббсу, общественное неравенство, появление собственности, отличающее гражданское состояние от состояния естественного и, следовательно, как бы дообщественного, целиком обязано своим существованием гражданским законам, кладущим начало государственной жизни182. Важнейшей проблемой социологической мысли рассматриваемого столетня, когда остро встал и вопрос государственного суверенитета, свободного от религиозно-церковной санкции, являлась проблема власти. Решая эту проблему, Альтузий, .Гроций, Гоббс, Спиноза, Пуфендорф, Локк, Томазнй и другие представители социологической мысли рассматриваемой эпохи прибегали к идее общественного договора, отождествляющей общество и государство, не усматривающей между индивидами и государственной организацией — в различных ее разновидностях и при различном понимании сущности суверенитета — никаких других общественных институтов. Государство с этой точки зрения — целиком продукт разума слагающих его индивидов, искусственный механизм, гарантирующий им безопасность и некоторые другие преимущества, отсутствующие в «естественном состоянии».
Находясь в очевидной зависимости от методологии рационализма, идеалистическая теория общества и государства была в силу этого ,и теорией антиисторической. Внеисторическое понимание природы и самого человеческого разума, приводившее к столь же внеисториче- ским представлениям относительно «человеческой природы», закономерно сопровождалось столь же неисторическими представлениями относительно самой человеческой истории. Следует при этом иметь в виду весьма низкий уровень исторической науки, характерный для рассматриваемой эпохи. Собственно, и нельзя назвать наукой то огромное нагромождение фактов в многочисленных исторических трудах, в которых в качестве единственной «закономерности» при осмыслении этих фактов выступала хронологическая последовательность. Впрочем, существовали и попытки широкого «осмысления» хода мировой истории на основе теологических фантазий «священного Писания», впервые осуществленные в главном труде Августина, а в рассматриваемом столетии представленные в «Рассуждении о все5* 131
мирной истории» Боссюэ. Но они, разумеется, были совершенно неприемлемы для теоретиков светского общества и светского государства.
В борьбе против феодально-теологической традиции, опиравшейся на факты многовековой истории, гуманисты, как известно, обратились к еще большей старине, воскрешая античное культурное наследие, свободное от теологических оков. Однако к XVII столетию церковь, в особенности католическая при помощи ордена иезуитов, сумела в значительной степени овладеть этим наследием, искусно подчинив его своим интересам. Кроме того, новаторы этого века, начиная с автора «Нового Органона», глубоко осознали преимущество своей эпохи, значительно более богатой и опытом и мудростью по сравнению с античностью, не говоря уже о средневековье 183. Гордо противопоставляя свой век всем предшествующим, опираясь на обретенный суверенитет человеческого разума, — а само утверждение его, казалось тогда, требовало внеисторизма,— новаторы не видели необходимости прибегать к историческому обоснованию своих социологических идей. Это вовсе не значит, что они игнорировали историю. Нередко они знали ее не хуже гуманистов. Например, Гуго Гроций, это«чудо Голландии», как назвал его Генрих IV, выдающийся историк своей родины, в своем главном труде демонстрирует огромную начитанность в античных текстах. На исторические факты древности и современности нередко ссылаются Гоббс, Спиноза и другие. Но все эти факты обычно фигурируют лишь в качестве простых иллюстраций, a priori сформулированных положений; история воспринимается лишь в одной плоскости — в плоскости современности, в ней, как правило, не усматривается никакого своеобразия, развития. Рационалистическая дедукция, исходящая из неизменной человеческой природы, как основополагающий метод осмысления общественной жизни, с неизбежностью порождала такое отношение к истории и такое представление о ней. Поэтому, хотя большинство передовых социологов этого века оперировали понятиями «естественного состояния» и сменяющего его «гражданского состояния», смена этих статусов мыслилась ими не как реальный исторический факт, имевший место в той или иной стране, хотя исторические иллюстрации привлекались иногда и в этом случае, а как более или132
менее гипотнческая конструкция, дающая возможность разрешить вопрос о происхождении и функциях государственной власти, доказать ее независимость от рели- гио?!той санкции и церковного авторитета и определить принципы ее сосуществования с церковью.
Проблема человека как субъекта общества и государства в ее решении новаторами интересующего нас столетия имела еще один существенный аспект, также являющийся одним нз важнейших результатов секуляризации философской мысли. Мы имеем в виду глубокую постановку в этом столетии моральной проблемы, вне решения которой невозможно достичь понимания жизненно важных вопросов человеческого общежития.
Поскольку религиозно-теологическое мировоззрение, особенно на монотеистической стадии его развития, свою наиболее глубокую жизненную базу пытается обрести именно в сфере морали, его представления о боге и тес- но связанные с ним онтологические категории с неизбежностью отражают эти моральные устремления философско-богословской мысли. Уже платоновский идеализм являлся, как известно, этическим — не только по своему генезису, но по своей сути. Эта особенность объективного идеализма Платона была, естественно, усилена у его средневековых продолжателей. Поэтому с точки зрения средневекового «реализма» — будь то Августин, Ансельм Кентерберийский или Фома Аквинский,— важнейшая моральная категория «добра» обладает онтологической, объективной природой, .существующей ante -hominem, имеющей сверхчеловеческую, божественную ценность и абсолютную значимость для человека. Человек с этой точки зрения—лишь-пассивный восприемник моральных предписаний, октроированных ему божественной благодатью. Развитие буржуазного индивидуализма и методологии номинализма, его обосновывающей, разрушало этот безличный этический/онтологизм. Уже гуманисты провозглашали*- что̂ единственным носителем моральных ценностей является человек. Гуманистическое движение в лице Петрарки и Валлы в сущности и началось с протеста против христианской морали, игнорирующей живого человека, с противопоставления этой морали моральных идей Сенеки и Эпикура, сыгравших огромную роль и в последующем развитии буржуазных этических доктрин.
133
Обоснование последних новаторами интересующего нас столетия неразрывно связано с методологией номинализма, что особенно очевидно у Гоббса. По его убеждению, «не существует никакого добра, которое было бы абсолютно вне всякого отношения к чему-либо или к кому-либо. Ибо даже благость, которую мы приписываем всемогущему богу, есть благость по отношению к нам». Поэтому и слова «добро» и «зло» никогда не употребляются применительно к вещам и не могут быть почерпнуты из природы самих объектов, а устанавливаются «или каждым отдельным человеком в отношении своей личности (там, где нет государства), или (в государстве) лицом, представляющим государство». Совершенно естественно, что этический номинализм выступает и как этический субъективизм, что выражено тем же Гоббсом: «...так как конституция человеческого тела находится в непрерывном изменении, то невозможно, чтобы одни и те же вещи всегда вызывали одни и те же желания и отвращения, еще меньше возможно, чтобы все люди согласно испытывали желание по отношению хоть к одному одинаковому объекту»184. Такой этический субъективизм, явившийся прямым следствием развития интереса и тесно связанного с ним индивидуализма, исторически стал весьма эффективным орудием борьбы против этического псевдообъективизма и псевдогуманизма теологической морали.
Борьба новаторов против этой морали была вместе с тем борьбой против дуалистического понимания человека, лежащего в ее основе. Согласно этому пониманию, предельно заостренному христианской эсхатологией, человек, преходящий путник земного мира, свою подлинную отчизну обретает лишь в потустороннем мире, где его ожидает награда или наказание и где проявляется действительная моральная значимость его земного существования. Уже гуманисты, особенно в лице Помпонац- ци, главное произведение которого вызвало бурный протест со стороны церковников, атаковали один из центральных догматов христианской, как, впрочем, и любой другой веры, догмат о бессмертии человеческой души и стремились к утверждению чисто земной морали, отклоняющей перспективу потусторонних воздаяний. В XVII в. продолжателями Помпонацци выступали французские либертины (вольнодумцы) — Ламот Ле-134
вайе, Нодэ, Сент-Эвремон, а также некоторые филосо- фы-новаторы, такие, как Гоббс и в особенности Спиноза, наиболее основательно разработавший этическую доктрину.
В ее обосновании новаторами этого века проявляется та же принципиальная черта, какую мы видим и в других частях их философского учения, а именно натурализация этических категорий. Антропоморфно-телеологическое мировоззрение схоластики иногда называют и мировоззрением моральным, имея в виду неустойчивость средневековых представлений о закономерностях природы, которые ставились в зависимость от поведения людей, соблюдающих или несоблюдающих те или иные божественные заповеди. В результате победы детерми- нистнческо-закономерного представления о мире, распространенного и на человека, соотношение природы и морали становится «с головы на ноги». Декарт учит, что мораль — лишь одна из ветвей физики185, это утверждает и Гоббс186. Декарт ставит мораль в прямую связь с медициной, разрабатывая свое учение о страстях. Пще более всеобъемлющую попытку предпринимает в этом отношении Спиноза.
Проблема натуралистического обоснования морали перекрещивалась с попытками такого же обоснования общественной жизни в ее наивысшем выражении в форме государственной организации. Согласно Гуго Гро- цию, а затем Кумберленду, руководимое разумом стремление к общению и даже альтруистические наклонности людей привели их в конечном итоге к организации государства. Отсюда смешение правовых и этических понятий, какое мы находим у Гроция. Иначе подходит к этой проблеме Гоббс, согласно которому «естественное состояние» является состоянием доморальным, ибо «справедливость и несправедливость не являются ни телесными, ни умственными способностями», они не присущи изолированному человеку, а «являются качествами, имеющими отношение к людям, живущим в обществе, а не к людям, живущим в одиночестве» 187. Моральные нормы, появляясь только в условиях государственной организации, отражая возникновение частной собственности, смешиваются Гоббсом с правовыми порядками. Поэтому «естественные законы», совпадающие с правым разумом, оказываются в конечном итоге мо
135
ральными законами. Недаром все они сводятся к евангельскому правилу: «не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе», наука же об этих законах оказывается философией морали188. Таким образом, если политика в теории новаторов уже освободилась от морали, то социология была еще далека от подобной эмансипации. В этом и состоит идеалистическая сущность социологических представлений новаторов.
Мы закончим здесь рассмотрение определяющих принципов философской мысли XVII столетия. При всей своей беглости и схематизме этот обзор позволит рассмотреть воззрения Спинозы как звено историко- философского процесса.
IV. СОЦИАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СПИНОЗИЗМА
Вопрос о происхождении философии Спинозы принадлежит к числу труднейших вопросов истории философии вследствие недостатка первоисточников и аутентичных свидетельств. Трудности в определении исторических, социальных и философских источников спинозизма являются одним из «гносеологических» оснований такого исключительного в истории философии разнообразия мнений, какое характерно для литературы о Спинозе и какое порождено социально-философскими позициями исследователей.
Идейно-политическое развитие Спинозы
Одним из самых живучих и распространенных мифов о Спинозе является миф о Спинозе-отшельнике, чуравшемся всякой политической борьбы,- не только писавшим, но и жившим, так сказать, sub specie aeternitatis. Этот миф особенно поддерживается буржуазными историками философии, доказывающими, что сущность спинозизма состоит в разработке новой формы религиозности, свободной от ограниченности любой национальной религии 1.
Начало этому мифу было положено автором старейшей биографии мыслителя, приписываемой Лукасу2. Будучи восторженным почитателем умершего мыслителя, он написал апологетическую «жизнь Спинозы», в которой, желая всячески превознести своего учителя и руководствуясь, по-видимому, античными образцами, изобразил его как философа, всецело отдававшегося делу мысли. Подобное изображение Спинозы не должно
137
удивлять, ибо легенда вокруг имени этого великого атеиста начала складываться чуть ли не на следующий день после его смерти, о чем можно судить на основании тех мнимых фактов, которые сообщаются и другим его биографом, Иоганном Колерусом 3. Изо всего, что сообщает нам Лукас о Спинозе, наименее достоверна та часть его биографии, которая описывает раннюю юность мыслителя, его пребывание в еврейском училище Амстердама. Согласно этому рассказу, отец Спинозы, не имея достаточных средств, решил, чтобы будущий философ посвятил себя изучению древнееврейского языка и священных книг, написанных на нем, это предполагало в дальнейшем карьеру раввина. Юный мыслитель будто бы уже в пятнадцать лет настолько изучил Библию (разумеется, Ветхий завет), что приводил в смущение своих учителей, которые не в состоянии были ответить на его вопросы. Решив в дальнейшем «советоваться только с самим собой»', он начал заново перечитывать Писание, «насквозь проник в его темноту, раскрыл его Тайны, и пробился сквозь облака, за которыми, как ему говорили, скрыта Истина». После этого с неменьшим успехом и с той же тщательностью юный Спиноза изучил Талмуд, но был не удовлетворен им. Не имея еще двадцати лет, он оказался, однако, «настолько рассудительным, что оставил созревать свои мысли, прежде чем их испытывать»4.
Этот подкупающий своей искренностью рассказ Лукаса, частично опровергающийся уже — в отношении отца Спинозы — Иоганном Колерусом, который, однако, в сущности ничего не сообщает нам о годах пребывания юного мудреца в училище5, приводит читателя к мысли, что Спиноза имманентно созрел под сенью «Древа жизни», знаменитого на весь тогдашний еврейский мир ешибота (религиозного училища). Сообщение Лукаса стало основой широкоизвестных и популярных представлений о мыслителе. В советских трудах о Спинозе рассказ Лукаса обычно воспроизводится без всякой критики6. Между тем зарубежные исследования последних десятилетий и прежде всего документы и аутентичные свидетельства, опубликованные в 1932 г. голландским исследователем Ваз Диасом, опровергают эту часть биографии Лукаса. Они показывают, что отец философа, Михаил Деспиноза, был богат и, по-видимому, не соби133
рался направлять своего сына на стезю раввина. Безусловно, маленький Спиноза посещал начальные классы ешибота, но его имени не оказалось в списках учеников высших классов, из которых и выходили будущие раввины. Поэтому Бенто, как звали будущего философа на его родном, испанском языке, по-видимому, уже с тринадцати лет, по окончании начальных классов училища, помогал своему отцу, занимавшемуся торговыми операциями, и еще более активно стал вникать в эти дела с семнадцати лет, когда умер его старший брат Исаак7. Наконец, после смерти Михаила Деспинозы, в 1654 г. молодой Барух возглавил его дело, и, как свидетельствуют упомянутые документы, проявил значительную сноровку в торговых и финансовых операциях. Но купеческая и финансовая деятельность оказалась не по душе молодому человеку, разлад между его духовными интересами и характером его деятельности оказался настолько непримиримым, что созревающий мыслитель, установивший множество научных и дружеских связей вне еврейской общины Амстердама, все больше отдалялся и от своих занятий и от общины, пока, наконец, не произошел знаменитый разрыв юного мыслителя с общиной.- Указанные факты, дополняемые некоторыми другими8, ставят перед-всяким, кто задумывается над формированием воззрений Спинозы, вопрос о социальных источниках разрыва молодого бунтаря с амстердамской еврейской общиной, вернее с ее руководством, стремившимся реставрировать и укрепить принципы воинствующего иудаизма. Разрыв Спинозы со своими бывшими единоверцами оказался этапом на пути его дальнейшей деятельности в кругах единомышленников и друзей, далекой от одиночества. Некоторые зарубежные исследователи, подвергнув тщательному рассмотрению все дошедшие до нас материалы о Спинозе, сопоставляя, в частности, его переписку с дошедшими до нас биографическими сведениями и последними открытиями документов Амстердамской торговой палаты, принимая также во внимание контекст его произведений, пришли к твердому убеждению, выраженному французской исследовательницей Мадлен Франсэ в форме риторического вопроса: «Не имеет ли тенденцию исчезнуть образ фило- софа-одиночки перед другим: активным деятелем,
139
воодушевленным активностью окружавшей его среды?»9. Положительный ответ на этот вопрос дан в исследовании американского ученого Льюиса Фейера «Спиноза и происхождение либерализма», одной из последних монографий, посвященных великому мыслителю10.
Таким образом, социальные истоки спинозизма следует искать прежде всего в положении еврейской общины Амстердама, находившейся в сложных отношениях с нидерландским обществом и государством. Несмотря на то . что община эта в эпоху Спинозы насчитывала всего несколько десятилетий своего существования в Нидерландах, ее экономическая, главным образом торговая деятельность находилась в цветущем состоянии и была немаловажным элементом в мировой торговле самой активной тогда в этом отношении страны11. Руководители общины, «господа Магамада», от имени которых «господа Хахамы», т. е. раввины Саул -Леви Мор- тейра и Исаак Абоаб де Фонсека, провозгласили херем, т. е. великое отлучение еретика-Спинозы 12, были озабочены состоянием управляемой ими общины. Сами они в числе шестнадцати были крупнейшими богачами, акционерами Ост-Индской и Вест-Индской компаний, но остальные несколько сот семейств, составлявших общину, занимали самые различные места на социальной лестнице. В лучшем положении были португальские евреи, так называемые сефардим, основавшие «амстердамский Иерусалим», в значительно худшем — так называемые ашкеназим, т. е. немецкие и польские евреи, начавшие стекаться в Амстердам лишь с начала тридцатых годов XVII в. Соплеменников объединяла только иудейская вера, но разделял язык, множество обычаев и привычек, приобретенных за несколько веков раздельного существования и, главное, различие достатков. Если среди сефардим было много зажиточных людей, то ашкеназим были обычно бедняки, нередко находившиеся, в услужении:у своих португальских собратий и не раз обращавшиеся за помощью к Амстердамскому магистрату 13. Одно время были даже запрещены браки между сефардим и ашкеназим 14. Однако, несмотря на бедственное положение последних, не они, а сефардим доставляли главные заботы «господам Магамада», олицетворявшим .торговую и финансовую мощь амстердамской общи140
ны. В отличие от ашкеназим это были часто люди очень развитые, занимавшие на своей бывшей родине, в Португалии, различные высокие должности, нередко служившие там юристами, врачами, представлявшие и другие свободные профессии. Вековое общение с различными народами и с разными вероисповеданиями с неизбежностью толкало многих из них на путь религиозного скептицизма и вольномыслия.
Вольнодумцы появились и в Амстердаме, причем особую опасность для еврейской олигархии они представляли тогда, когда они за ее религиозно-иудаист- ским рвением усматривали прозаические дела «фарисеев», заботившихся прежде всего о своем дальнейшем обогащении и об укреплении власти над своей безропотной общиной. Большие неприятности доставил «фарисеям» Уриэль Дакоста, громкое дело которого, несомненно, оказало свое воздействие на маленького Спинозу15. Португальский марран, разочаровавшийся в иудейском «законе» чуть ли не на следующий день после своего обращения в иудаизм и прибытия в Амстердам, глубоко уязвил «фарисеев» не только своим убежденным отрицанием бессмертия души и смелым выступлением против «смешных и мелочных обычаев» иудаизма 16, но в особенности тем, что рассмотрел в их деятельности глубоко корыстные стимулы. «Теперешние иудейские мудрецы,— писал Дакоста в своем предсмертном сочинении,— до сих пор сохраняют свои права и злой характер; они упрямо держатся образа мыслей и установлении гнусных фарисеев, не без расчета на собственную выгоду, и правильно было им прежде вменено в вину, что они любят занимать первое место в храме и получать первые приветствия на рынке» 17.
Полное отлучение (херем), которое нередко накладывалось руководством общины на инакомыслящих, оказывало глубокое морально-психологическое воздействие на таких отщепенцев. В условиях, когда принадлежность к иудейскому вероисповеданию обычно исключала возможность нормальных отношений с представителями другой веры, отлучение становилось мощным рычагом как морального, так и экономического воздействия. Эти последствия херема испытал на себе Дакоста, не знавший голландского языка, не имевший никаких связей в Амстердаме вне пределов еврейской общины и вынуж-
141
деинмн в силу отлучения прекратить ту деятельность, которая давала ему хлеб насущный. Поневоле бывшему португальскому дворянину пришлось разыгрывать «обезьяну среди обезьян» 18, согласившись на унизительный обряд публичного «покаяния», чтобы затем покончить жизнь самоубийством, предварительно изложив свою горестную судьбу в «Примере человеческой жизни».
Дело Дакосты ни в коем случае нельзя представлять себе как случайность, порожденную неустойчивостью и неуживчивостью этого полухристианина-полуиудея (или, вернее, нехристианина и неиудея). В действительности деистические идеи, как и сомнения в бессмертии человеческой души, получили довольно широкое распространение среди наиболее образованных сефардим. Об этом свидетельствует, в частности, дело Хуана де Прадо, судьба которого во многом похожа на судьбу Дакосты. Андалузский врач, в течение нескольких лет тайно испо- ведывавший иудаизм, бежавший из Испании в Нидерланды и здесь открыто объявивший себя иудеем, Хуан де Прадо высказал вскоре множество едких сомнений деистического характера по отношению к «вере отцов», за что был дважды осужден в 1657 г. (несколько месяцев спустя после осуждения Спинозы). Он покинул Амстердам и переселился в Антверпен. Дело де Прадо, с которым молодой Спиноза мог быть знаком, проливает дополнительный свет на истоки его вольномыслия 19.
Таким образом, политика олигархического руководства еврейской общины Амстердама состояла в консолидации своих единоверцев. Средством такой консолидации служило укрепление религиозно-иудаистской дисциплины, сильно расшатанной в течение предшествующих десятилетий жизни в Испании и Португалии, когда насильственное обращение в христианство и постоянная угроза костров инквизиции заставляла многих и многих евреев забывать о вере отцов. Организация ешибота в Амстердаме преследовала прежде всего цель укрепления этой расшатанной веры и пропаганды ее среди евреев. Ревнивый фанатизм раввинов и вообще руководства еврейской общины, как отмечают многие историки, как бы подражал католицизму, а их нетерпимость в Нидерландах не уступала нетерпимости кальвинистских церковников. Она в особенности усиливалась в связи со стремлением руководства общины сохранить свои высо142
кие доходы в качестве пайщиков Вест-Индской и Ост- Индской компаний, отводя всякую критику своих действий со стороны единоверцев, требуя их безусловного повиновения. Между тем в 1640 г., как раз в год самоубийства Дакосты, среди членов общины появились подпольные листовки, разоблачавшие дела еврейских магнатов. Некоторые из анонимных плакатов появлялись даже на воротах синагоги и на стенах биржи. Руководству об!цнны пришлось прибегнуть к серии отлучений и штрафов20.
Для уяснения политических симпатий руководящей олигархии еврейской общины, сыгравших, возможно, решающую роль в отлучении Спинозы, нужно учитывать их монархическую направленность, в частности, отмечаемую многими историками беззаветную преданность этой олигархии дому Оранских и вытекающую отсюда вражду к республиканской партии, возглавлявшейся де Виттом21. Причина этой преданности заключалась в том, что еврейские магнаты, руководившие своей общиной, большую часть своих доходов получали в качестве пайщиков Вест-Индской и Ост-Индской компаний. Республиканская партия и тогда, когда во главе ее стоял Олденбарнвелде, и в особенности, когда ее возглавил высокоталантливый Ян де Витт, была враждебна этим компаниям; в интересах свободной торговли республиканцы стремились даже ликвидировать их22.
Факты, связанные с отлучением Спинозы, широко известны из его биографии, написанной Колерусом23. Попытки «господ Магамада» совлечь юного бунтаря, установившего связи в кругах левых республиканцев, «с дурных путей различными средствами и обещаниями»24, не увенчались никаким успехом. Исчерпав средства увещевания и сделав даже попытку подкупить Спинозу, они были вынуждены пойти на «великое отлучение».
Глубина конфликта Спинозы с иудаизмом проявляется в отвержении им (а до него уже Дакостой) одной из основных идей иудаизма — идеи богоизбранности, особого призвания евреев. По сообщению Лукаса, одним из главных обвинений, выдвинутых против Спинозы, было обвинение в том, что он «смеется над евреями как над людьми суеверными, рожденными и воспитанными в невежестве... и тем не менее имеющими смелость ставить
143
свой народ выше других народов»25. Если даже эти обвинения, исходящие, по рассказу Лукаса, от двух молодых сикофантов, втершихся в доверие к Спинозе, чтобы доносить на него, утрированы, сущность их, по-видимому, передана верно. Мы не знаем, о чем шла речь в недошедшей до нас «Апологии», написанной Спинозой сразу после отлучения и адресованной, по всей вероятности, его судьям, но в нашем распоряжении есть «Богословско-политический трактат», одна из4 немаловажных мыслей которого состоит как раз в опровержении идеи богоизбранности еврейского народа. Мы читаем в нем, что «в настоящее время у иудеев нет ровно ничего, что они могли бы приписать себе как преимущество перед всеми нациями. Что же касается того, что они, будучи рассеяны и не составляя государства, в продолжение стольких лет сохранялись, то это нисколько не удивительно после того, как они настолько обособились от всех наций, что возбудили к себе ненависть всех... что их очень сохраняет ненависть наций, это подтвердил теперь опыт». Немаловажно отметить в этой связи, что выступление Спинозы против иудаизма было одновременно и выступлением против всякого национализма, о чем можно заключить по следующим его словам: «...в отношении разума и истинной добродетели ни одна нация от другой не отличается, и, стало быть, в отношении к этим вещам ни одна предпочтительно перед другой не избирается богом»26.
Отвергая узкий консерватизм иудаизма, сочетавшийся у руководителей амстердамской общины с верноподданническими чувствами к дому Оранских, в которых они, по всей вероятности, усматривали опору «порядка», дающего возможность хорошей наживы, Спиноза не только удалился из общины, отказавшись от своей купеческой деятельности, но и избрал в Амстердаме таких друзей, радикальный характер взглядов и деятельность которых несомненно лишь усилили ненависть к нему «господ Магамада». Одним из них был ван ден Энден, наставник Спинозы в латинском языке, «лукианист», поклонник сожженного в Тулузе в 1619 г. итальянского пантеиста-атеиста Лючнлио Ванини27, забрасывавший в умы своих учеников семена атеизма28. Казненный в 1674 г. во Франции за участие в заговоре, имевшем целью ниспровержение Людовика XIV, ван ден Энден,144
как свидетельствуют оставшиеся от него бумаги, разрабатывал планы больших социальных преобразований в Нидерландской республике в демократическом духе29. О революционных симпатиях молодого Спинозы свидетельствует и рассказ Колеруса об альбоме Спинозы, в котором среди других портретов недурно рисовавшего философа30 его последний хозяин, тоже художник, ван дер Спик видел портрет самого Спинозы в костюме Ма- заниелло31, молодого неаполитанского рыбака, возглавлявшего в 1647 г. восстание против испанского владычества.
Разрыв Спинозы со своими единоверцами приходится на годы усиления деятельности в Амстердаме меннони- тов, а также английских квакеров, которые в процессе борьбы против диктатуры Кромвеля были вынуждены эмигрировать в Нидерланды, особенно в Амстердам, подогревая здесь революционные настроения32. Фейер приводит интересный документ, который не фигурировал еще в работах о Спинозе: письмо одного из красноречивых квакерских агитаторов, Уильяма Эймса к Маргарет Фелл, «матери квакеризма»33, от 17 апреля 1657 г., т. е. менее года после изгнания юного бунтаря из еврейской общины, о приглашении последнего на митинг, на котором английские квакеры должны были убедить голландских меннонитов присоединиться к ним. Отрывок этого письма, касающийся Спинозы, гласит: «Есть в Амстердаме один еврей, изгнанный евреями (как говорит и он сам и другие), потому что не признает никакого другого учителя, кроме света (ума. — В. С.). Он послал за мной и я говорил с ним, он оказался очень деликатным и чутким и согласился со всем, что было сказано. И он сказал, что чтение Моисея и пророков само по себе ничего ему не дало, пока он не познал этого изнутри (т. е. с точки зрения собственного «света». — В . С.): и таким образом похоже на то, что имя Христа он признает. Я распорядился, чтобы один из голландских переводов твоей книги был дан ему. Он сообщил мне, что придет на наш митинг, но я между тем был арестован»34.
Событие, о котором идет речь в письме, относится к самому началу амстердамо (уверкерско) -рейнсбургско- го периода жизни Спинозы, когда изгнанник нашел себе приют в меннонистско-коллегиантской среде. В отличие от английских квакеров, которые связывали тогда на
145
ступление «тысячелетнего царства» с необходимостью насильственных действий против богачей и их власти, как это было свойственно и немецко-нидерландским анабаптистам в период Великой крестьянской войны в Германии и Мюнстерской коммуны, их последователи, голландские меннониты, как уже отмечалось, представляли собой мирное религиозно-этическое течение (к чему вскоре пришли и английские квакеры). Их протест против установившихся общественных порядков носил пассивный характер, они чурались политической деятельности, но вместе с тем продолжали поддерживать смутную идею коммунистической кооперации и иногда пытались ее осуществить35. По своему социальному содержанию меннонистско-коллегиантское движение следует определить как мелкобуржуазное, большинство его сторонников рекрутировалось из числа ремесленников— портных, плотников, пекарей, сапожников и т. п. Но среди них было немало лиц свободных профессий и купцов. Ближайшие друзья Спинозы, Ярих Иеллес, один из главных издателей его «Посмертных сочинений», Питер Баллинг и Симон де Врис были купцами, отказавшимися, подобно Спинозе, от своих торговых дел, чтобы посвятить себя поискам «истины». Именно здесь, в среде коллегиантов молодой философ овладел искусством шлифовки линз36. Трудовая и вместе с тем скромная, лишенная всякой притязательности жизнь как источник существования и как один из составных элементов «истины» представляла один из главных устоев колле- гиантской этики.
Молодой философ и стал ее теоретиком, написав еще в Амстердаме (или Уверкерке) свое первое произведение «О боге, человеке и его счастье». Основной путь для избежания «пучины страстей», провозглашаемый здесь,— это «любовь, направленная на определенный объект», под которым следует прежде всего разуметь бога 37, как первую и единственную причину «всего, что мы совершаем и исполняем»38. В своем следующем произведении, «Трактате об усовершенствовании разума», написанном в Рейнсбурге в 1662 г .39, Спиноза, излагая свою философскую программу и пытаясь решить проблему «высшего блага», делает несомненно автобиографические заметки, сообщая в начале этого произведения, с каким трудом он преодолел всеобщее стремление лю146
дей к «богатству, славе и любострастию»40, и укрепился в поисках новой, высшей цели жизни. Такой целью, наивысшим благом является «любовь к вещи вечной и бесконечной», которая «питает дух одной только радостью, и притом непричастной никакой печали»4!.
Для уяснения социальной детерминации этой этической установки Спинозы существенно, что он мыслит достижение высшего блага не только как индивидуальное действие, но считает, что высшее благо — «это достижение того, чтобы вместе с другими индивидуумами, если это возможно, обладать такой природой»42. Поэтому, заявляет здесь же Спиноза, следует «образовать такое общество, какое желательно, чтобы как можно более многие как можно легче и вернее пришли к этому»43. Позднее та же мысль сформулирована в «Богословско-политическом трактате»44 и в «Этике»45. Несомненно, эта социальная утопия Спинозы опиралась на практику меннонистско-коллегиантских общин с присущими им элементами примитивного коммунизма. Сам мыслитель в своем первом письме Ольденбургу от сентября 1661 г. писал, что «между друзьями решительно все и прежде всего все духовное, должно быть общим»46. Об интересе Спинозы к идеям утопического коммунизма свидетельствует и наличие в его библиотеке «Утопии» Томаса Мора, упоминаемой мыслителем в «Политическом трактате»47.
Мистический искейпизм коллегиантов, сторонившихся политики, проявлявших равнодушие к делам государства и усматривавших высшую цель человеческой жизни в любви к бесконечному богу, в мировоззрении Спинозы был лишь одним из элементов, наиболее ощутимым в начале его философского развития. Как показывает последующая переписка мыслителя, он проявлял большой интерес к политическим событиям своей страны и своей эпохи48. Из Рейнсбурга философ переезжает в июле 1663 г. в Ворбург, селение близ Гааги, затем в Гаагу.
В начале своего пребывания в Ворбурге Спиноза, поддерживая непрерывную связь со своим кружком в Амстердаме, продолжал работать над своим главным произведением, «Этикой», начатой еще в Рейнсбурге49. Однако «внезапно» эта работа была оставлена, и философ переключился на написание «Богословско-политиче
147
ского трактата», работа над которым продолжалась около пяти лет50. Спиноза — теоретик этики стал Спинозой— теоретиком политики. Конечно, эта смена научных интересов не была взаимоисключающей. Безусловно, этика — первая и, как показывает итог ее деятельности, рано подведенный смертью мыслителя, самая сильная философская любовь Спинозы. Но в период написания «Богословско-политического трактата» и до смерти дё Витта в 1672 г. политические интересы его автора были особенно интенсивны. Отношения Спинозы с великим пенсионарием не вполне ясны. Вопреки сообщению Лукаса 51 об их близких отношениях, обычно некритически повторяемому и в советской литературе о Спинозе52, новейшие исследователи не склонны решать этот вопрос категорически утвердительно53. Вместе с тем несомненно наличие тесных связей философа с рядом регентов, находившихся в служебных и, по всей вероятности, личных отношениях с великим пенсионарием, таких, как Бург, Бейнинген, Гудде, Боксель, Пэте, Питер де Гроот54.
Социально-политическая ситуация, сложившаяся в Нидерландах этого времени, обрисована нами в первой главе. Молодая республика или, если угодно, олигархия, даже теперь, когда подрастающий штатгальтер был лишен своих основных функций и во главе умных, нередко весьма образованных регентов стоял такой тонкий политик, проницательный дипломат и незаурядный ученый, как «господин Ян», была очень неустойчивой, хрупкой как вследствие постоянной угрозы извне, так и вследствие вражды к республиканскому правительству нидерландского народа, находившегося под влиянием пропаганды фанатических проповедников-кальвинистов. Монархическая, а вместе с ней и клерикальная опасность непрерывно угрожала Нидерландам, государственное устройство которых представляло компромисс между значительной исполнительной властью штатгальтера и законодательной в основном деятельностью Генеральных штатов.
Включившись в число писателей республиканского лагеря, Спиноза оказал ему особенно ценную услугу тем, что по характеру своих занятий в молодости хорошо знал тот документ, на который опирались в своей антиреспубликанской пропаганде кальвинистские церковники,— Библию. Огромная роль этой «Книги» в148
XVII в. объяснялась рассмотренным выше состоянием сознания народных масс, их религиозными предрассудками, рассматривавшими Библию как последний источник «мудрости». Как известно, Спиноза подверг Библию основательному критическому рассмотрению, что дало огромные результаты для развития атеистической мысли. Но нас интересует сейчас, собственно, политический аспект этого произведения.
Спиноза сосредоточивает внимание на одной из основных политико-социологических проблем своего века— соотношении светской и церковной власти, государства и церкви, влияния того или иного решения этой проблемы на состояние научно-философской мысли, общественной и частной морали. В первой главе нашего исследования мы проследили, как много выдающихся умов с различных точек зрения рассматривали эту проблему, но именно Спиноза подверг ее наиболее всестороннему рассмотрению и дал ей исторически наиболее глубокое решение. Уже из предисловия к «Богословско-политиче- скому трактату» видно, что основной враг Спинозы — кальвинистские церковники, ярые союзники Оранского дома, которые своей библейской и вообще «священной» пропагандой держат сознание народа в плену иррационализма. Ни разу прямо не называя кальвинистских проповедников, ио постоянно имея их в виду, обычно сдержанный мыслитель восклицает: «О боже бессмертный. ...Люди, которые прямо презирают рассудок, отвергают разум и чураются его, точно он от природы испорчен, считаются взаправду — что горше всего — обладателями божественного света»55.
Более Или менее завуалированная критика кальвинистской церкви и ее политической деятельности, проявляющейся во вмешательстве в государственные и частные дела граждан, в «Трактате» одной из своих главных целей имеет защиту и укрепление республиканского строя Нидерландов. Этот строй создал единственные в Европе условия свободы вероисповедания и свободы мысли, в ту эпоху необходимо связанные друг с другом56. Цель всего произведения, обращенного к «читателю философу», сформулированная уже в подзаголовке, состоит в том, чтобы всячески предостеречь государственные власти от вмешательства в дела религиозных доктрин, совести и мысли, к чему всегда толка
149
ла кальвинистская церковь, продолжающая строить козни против свободы религии и свободы мысли57. Государство должно расценивать своих граждан лишь по их поступкам, а не по их религиозным и философским взглядам.
Защита свободы совести и свободы мысли — это, так сказать, программа-максимум «Богословско-политиче- ского трактата». Непосредственная же его цель — защита республики от посягательства оранжистов и их союзников, кальвинистских «пророков» и «агитаторов». Последние в своих атаках на республику обычно апеллировали перед лицом верующих к Ветхому завету, к тому периоду в истории еврейского народа и государства, когда решающее слово в управлении народом принадлежало, по их убеждению, священникам, к той форме правления, которая им так импонировала и которую они называли теократией. Спиноза идет навстречу этому стремлению кальвинистов, он подвергает анализу ветхозаветную историю еврейского народа (в 17-й и 18-й главах), вскрывает особенности древнееврейской теократии, когда «между гражданским правом и религией решительно никакого различия не было»58, но приходит к выводам, совершенно противоположным тем, какие делались кальвинистами и оранжистами. Философ показывает, например, что верховные вожди не могли подавлять народ с помощью чуждого ему наемного войска, потому что его в древнееврейском государстве не существовало, поскольку войско там набиралось из народа 59. Осуждая наемничество, Спиноза осуждает и милитаризм, который изо всех сил поддерживался штатгальтерами Оранскими. Если 'последние были заинтересованы в войнах, то партия де Витта, являвшаяся прежде всего партией торговой буржуазии, рассматривала войну скорее как препятствие экономическому развитию страны, чем как его стимулятор. Отражая ее стремления, автор «Трактата» подчеркивает, что господство гражданских, мирных отношений над интересами воины и военного лагеря определяло важнейшую особенность древнееврейского общества, ибо здесь «никто не мог желать войны ради войны, но лишь ради мира и для защиты свободы» 60. Другой такой особенностью было невмешательство жрецов в дела управления государством, к чему так стремились кальвинисты.150
Таким образом, устойчивость древнееврейского государства — результат не его клерикального характера, как доказывали кальвинисты, и не доблести его вождей, опиравшихся на верное им войско, как считали оранжисты, а скорее следствие демократического устройства этого общества. Важнейшее его проявление — фактическое отсутствие частной собственности на землю61. В дальнейшем, в «Политическом трактате», обобщая эту особенность древнееврейского, общества, в существовании которой мыслитель, по-видимому, был искренне убежден, он делает ее одной из определяющих черт «естественного состояния». Философ утверждает, что общность земли и всего, что с ней связано, должны находиться под юрисдикцией государства, так что все это «должно иметь в глазах граждан только то значение, что на ней можно обосноваться и защищать общее право и свободу»62. Спиноза снова предстает здесь как сторонник некоторых идей утопического коммунизма. Предполагается, что в данном случае эти идеи навеяны философу чтением «Океании» Гаррингтона63. В «Этике» ее автор, обеспокоенный тем, что беднейшие граждане следуют за кальвинистскими демагогами, пишет: «Забота о бедных лежит на всем обществе и имеет целью только общественную пользу»64.
Таким образом, нарисованная Спинозой картина древнееврейской «теократии» наносила удар по тем, кто пытался на ней спекулировать в глазах верующих. Конечно, эта картина далеко не во всем отвечала ее историческому оригиналу, теперь нам хорошо известному. Но те ветхозаветные картинки, какие рисовали кальвинистские «пророки» своим слушателям из народа, отвечали ему еще меньше.
Тревога за судьбу Нидерландской республики и опасения, что кальвинистские «агитаторы» поведут за собой народ (как это они не раз делали в прошлом, особенно в борьбе против Испании) против республиканских порядков и просвещенных руководителей Нидерландов, заставляют Спинозу выступить против революций, которые, по его убеждению, не в состоянии существенно изменить природного строя вещей. Здесь философ предстает перед нами как консерватор, заявляющий, что «форму всякого правления необходимо должно сохранять и она может быть изменена не без риска полного ее
151
разрушения». Не проникая за пределы политической поверхности общественных явлений, Спиноза, в частности, не видит никаких результатов английской революции: смерть монарха (т. е. Карла I), привела лишь к появлению нового «тирана» (т. е. Кромвеля), только «под другим названием», реставрация же Стюартов означала, что «все пришло в прежнее состояние». Однако Нидерландам, уверяет автор «Трактата», не должна грозить опасность подобных перемен, сопровождаемых анархией и беззаконием, ибо здесь никогда не было королей, а только графы, которые всегда зависели от Генеральных штатов 65.
Как последователь Гоббса, Спиноза выступает за абсолютный и нераздельный суверенитет государственной власти. Он распространяет этот суверенитет и на область религиозного культа, доказывая в 19-й главе «Трактата», что именно государственная власть решает, каким должен быть внешний религиозный культ. Но только внешний, ибо в отличие от Гоббса Спиноза стремится предупредить любое вмешательство властей во внутренние дела совести и мысли, на что непрерывно толкали церковники (есс1е51а5иа). Ставя задачу полной ликвидации воздействия теологии на право, философ в полном согласии со своими республиканскими союзниками хочет подчинить церковную жизнь государственной юрисдикции66. Он не признает никакого «божественного права», отдельного от права гражданского. Претензии церковников он считает подозрительными, посягающими на право верховной власти. Убедительный пример дают в этом отношении римские папы, которые, запутав религиозные догматы и смешав их с философскими истинами, подчинили своей власти императоров 67.
, Если в понимании неделимости и абсолютности государственного суверенитета Спиноза следует за Гоббсом, то в понимании целей государственной жизни и связанной с таким пониманием организации суверенитета нидерландский философ отличается от английского. Последний, как известно, исходя из того, что цель государственной жизни заключается в том, чтобы обеспечить подданным безопасность и мир, сосредоточивает суверенитет в руках одного человека и высказывается за абсолютную форму правления 68. Согласно же Спинозе, «цель государства в действительности есть свобода», и прежде152
всего свобода от страха69. Такая цель лучше всего достигается «в демократическом государстве (которое больше всего подходит к естественному состоянию») 70, ибо в таком государстве «каждый переносит свое естественное право не на другого (т. е. не на монарха.— б. С.), лишив себя на будущее права голоса, но на большую часть всего общества, единицу которого он составляет» 71.
Высокая оценка демократии в «Богословско-политическом трактате» дает основание некоторым историкам общественно-политических учений говорить о Спинозе как об одном из первых теоретиков народоправства в новое время 72. Признавая значительную долю истины в подобной квалификации политического мировоззрения Спинозы, следует подчеркнуть, что она нуждается в весьма серьезных оговорках. Во-первых, нельзя забывать, какое демократическое государство конкретно имел в виду Спиноза. Мы уже знаем, что он защищал Нидерландскую республику де Витта, которая, сосредоточивая власть в руках буржуазно-патрицианских фамилий, может быть квалифицирована и как олигархия. Во-вто- рых, парадокс спинозовского понимания демократии состоит в том, что философ не видит реальной возможности для подавляющего большинства народа, для «толпы», подверженной иррационалистической пропаганде кальвинистских и других церковников, достичь свободы — высшей цели государственной жизни, которой лучше всего отвечает эта форма ее организации. Констатируя неспособность большей части населения государства участвовать в достижении его высшей цели, Спиноза, обнаруживает ту узость социальной базы передовых философских учений, которая была нами подчеркнута в первой главе работы. Весь «Богословско-политический трактат», как затем и «Этика» и «Политический трактат», многократно констатирует «гнев и ярость толпы»73, ее неразумие, иррационализм. Мы увидим, что это придаст своеобразный аристократический налет этическому учению Спинозы о «свободном человеке». «Человек свободный, живущий среди невежд,— гласит одна из теорем «Этики»,— старается насколько возможно, отклонять от себя их благодеяния»74.
Но было бы совершенно неверно трактовать такое отношение к «невеждам», к «толпе» как некое аристо
153
кратическое пренебрежение Спинозы к массам. В сущности мы встречаемся здесь с тем печальным отрывом масс от образованности и культуры, какой составляет неотъемлемый признак эксплуататорского общества. Категория «толпы», «черни» (уи^иэ) у Спинозы имеет не только социальное содержание, но и этическое, и гносеологическое\ Философ включает в эту категорию не только простонародье, но и представителей высших классов. Как показывает один из параграфов «Политического трактата», Спиноза отлично понимал, что причины невежества и некомпетентности «толпы» коренятся в том, что государственные дела ведутся в тайне от нее, что раболепие и несправедливость с необходимостью возникают «там, где господствуют один или немногие, которые при разбирательствах смотрят не на право или истину, но на величину богатства». Если не поддаваться заблуждению, порождаемому «могуществом и внешним лоском», если постоянно иметь в виду, что «природа... едина и обща всем», то становится очевидным, что «светская чернь», у которой «надменность маскируется пышностью, роскошью, мотовством, какой-то согласованностью пороков, ученым невежеством и изяществом распутства», в сущности еще более неприглядна, чем простонародная толпа 75.
События августа 1672 г., когда в Гааге при попустительстве и прямом подстрекательстве оранжистов толпа растерзала братьев де Витт, причинили философу очень тяжелые переживания76. После этого события, в обстановке усиления монархической и клерикальной реакции падает политическая активность Спинозы77. Отклоняя предложение либерального пфальцкого курфюрста Карла-Людвига занять место профессора философии в Гейдельбергском университете, Спиноза ссылался, в частности, на необходимость дальнейшей разработки своей философии, чему помешала бы преподавательская деятельность, и на «любовь к спокойствию» 78. Философ вел теперь только кабинетную жизнь, целиком отдаваясь своим философским трудам79. Летом 1675 г. была закончена «Этика»80. Окончательная формулировка этических принципов сопровождалась осмыслением их по-, литического аспекта, вне учета которого нельзя было всерьез рассчитывать на реализацию этих принципов. Вот почему по окончанию «Этики» Спиноза приступает154
к написанию «Политического трактата» 81, работа над которым прерывается смертью мыслителя.
«Политический трактат», увидевший свет вместе с «Этикой» и другими произведениями Спинозы только в его «Посмертных сочинениях», принадлежит к числу важнейших произведений социологической и политической мысли своего века. Необходимо отметить различие между «Богословско-политическим» и «Политическим» трактатами. Одна из главных задач первого, как мы видели, состояла в ограничении или даже ликвидации воздействия теологии и церковников на политику. Отсюда обилие в этом произведении цитат, образов и имен из Ветхого завета, который был одним из главных пропагандистских документов в руках кальвинистов. Другое дело «Политический трактат», который можно рассматривать как своего рода политический 'комментарий к «Этике». В нем почти полностью отсутствуют ссылки на ветхозаветные образы, это — одно из первых политических произведений, целиком светское по своему содержанию. Теократия, которой уделялось так много внимания в «Богословско-политическом трактате», совершенно исчезает со страниц «Политического трактата», рассматривающего лишь ставшие традиционными формы политического устройства — монархию, аристократию и демократию. Не Библия, а Макиавелли и Гоббс занимают наибольшее место в теоретическом обосновании обсуждаемых вопросов. Последнее произведение Спинозы отличается большой трезвостью и наибольшей, наряду с «Этикой», зрелостью мысли.
События 1672 г., по-видимому, повлияли на определение Спинозой цели государственной жизни. Если в «Богословско-политическом трактате» целью «гражданского состояния» провозглашалась свобода, то теперь ею провозглашается «мир и безопасность жизни»82, а свобода мыслится только как «частная добродетель»8г. Таким образом, как бы возвращаясь к Гоббсу в определении цели государственной жизни, Спиноза вместе с тем по-прежнему не приемлет предлагаемого английским мыслителем абсолютистского государства, «где мир зависит от косности граждан, которых ведут, как скот, лишь для того, чтобы они научились рабствовать». Оставаясь республиканцем и полемизируя с Гоббсок, он подчеркивает, что верховная власть устанавливается
155
«свободным народом», который «более руководится надеждой, чем страхом»84, что «положение подданных тем печальнее, чем более абсолютно переносится на. царя право государства»85. Но после событий 1672 г. и в условиях войны с Францией, укреплявшей власть штатгальтера и еще более повысившей влияние и авторитет Вильгельма III в глазах нидерландского народа и за границей, в Нидерландах ожидали формального провозглашения монархии, с чем, разумеется, должен был считаться и Спиноза. Поэтому, переходя к рассмотрению форм государственного устройства, он начинает с монархии. Относясь к ней как к «неизбежному злу», философ стремится разработать такую форму монархии, которая имела бы минимум черт абсолютистской власти и удерживала бы максимум преимуществ и свобод республиканского правления 86.
В разработке такой формы Спиноза стал в сущности первым теоретиком конституционной монархии. Он доказывает, что интересы устойчивости монархической формы власти требуют установления «законов настолько незыблемых, что даже сам царь не может уничтожить их»; они требуют, «чтобы все право было изъявленной волей царя, но не так, чтобы всякая воля царя была правом» 87. Как республиканец Спиноза заявляет в этой связи, что «меч царя, или право, на самом деле есть воля самого народа или его более значительной части» 88 и «народ только то свободно переносит на царя, что он абсолютно не может удержать в своей власти, а именно: разрешение споров и приведение в исполнение решений»89. Важнейшими элементами такой строго ограниченной конституцией монархии являются: наличие совета, наблюдающего за соблюдением законов, совета, без ясно выраженного мнения которого монарх не может ничего предпринять90, отсутствие наемного войска и защита государства только силами гражданского ополчения91, а также требование Спинозы, чтобы «покров тайны» максимально отсутствовал в государственных делах, ибо он способствует «домогающимся абсолютной власти» 92.
Мы опускаем другие черты разработанного Спинозой проекта конституционной монархии, имеющими в виду конкретную историческую ситуацию его эпохи. Тем более, что политический идеал Спинозы — не монархия,156
даже конституционная, а республика. Постоянная угроза Нидерландской республике со стороны Оранских заставила мыслителя разработать такой проект, который гарантировал бы устойчивость этой республике и охранял бы ее от абсолютистских посягательств. Он вылился в форму аристократии, рассматриваемой в 8, 9 и 10-й главах. В отличие от монархической формы правления, при которой власть переносится на одно лицо, при аристократической оно переносится на «достаточно многочисленное собрание, совет», способный более эффективно нести бремя верховной власти, - чем один человек, монарх, который все равно обязан опираться в своей правительствующей деятельности на совет93. Для понимания социальной сущности предлагаемой Спинозой аристократической формы правления весьма важно иметь в виду, что в ней идет речь не о земледельческой, а о торговой, коммерческой аристократии. Прототипом разработанного Спинозой проекта послужила конституция главным образом Венецианской республики.
Поскольку прочность государства ставится Спинозой в прямую зависимость от того, насколько его конституция учитывает наиболее типичные эффекты «человеческой природы», устойчивость аристократической формы правления основывается на том, что она, широко открывая путь к власти «большинству богатых», основывается на «общераспространенном и постоянном» аффекте корыстолюбия (ауагШа), подкрепляемого честолюбием 94. Преимущество аристократии перед монархией мыслитель видит в том, что она, не допуская никаких секретных расходов, менее обременительна для подданных95. Само стремление сенаторов, стоящих во.главе аристократии, к миру порождается прежде всего тем, что «мир... выгоднее, чем война» 96. Еще более важное преимущество аристократии перед монархией состоит в том, что здесь «власть никогда... не возвращается к народу», который «не имеет никакого голоса» в управлении государством. Абсолютность этой формы правления ограничивается только тем, что «народ внушает страх власть имущим» и поэтому «сохраняет за собой некоторую свободу, которая, хотя и не имеет прямой опоры, в законе, однако молчаливо отстаивается им и оставляется за собой»97.
157
Рукопись «Политического трактата» прерывается в самом начале главы о демократии, «всецело абсолютной форме верховной власти»98, и мы не знаем, как же конкретно представлял ее себе Спиноза, особенно в свете опыта Нидерландов и трагедии 1672 г. Считал ли он вообще эту форму государственного устройства устойчивой, будучи уверенным, что «большинство демократий со временем становится аристократиями»99.
Подводя итоги политического развития Спинозы, нетрудно сделать вывод, что социальные позиции мыслителя не допускают однозначного определения. Молодой Спиноза, решительно порвавший с еврейской общиной, руководимой деспотической олигархией, сблизился с мелкобуржуазными радикальными и даже революционными деятелями (квакерами), усвоив некоторые идеи утопического коммунизма. Отсюда демократизм Спинозы, его республиканские, антимонархические симпатии, его близость к народу. Однако поскольку большинство народа было темной и суеверной массой, следовавшей за кальвинистскими церковниками и оранжистами, мыслитель склонялся к олигархическо-республиканской партии де Витта; с которой в эту эпоху в Нидерландах больше всего были связаны интересы образованности и науки.
Философское развитие Спинозы и его общие результаты
Стремление новаторов рассматриваемого столетия формулировать открывавшуюся им истину, не озираясь на исторические авторитеты, столь типичные для схоластиков, да и для подавляющего большинства гуманистов, с большой последовательностью выражено философским творчеством Спинозы. Мыслитель, стремившийся представить свои философские принципы и их связь между собой как результат «чистого разума» — особенно в «Этике»,— очень скуп в указании своих теоретически? источников. Поскольку уже первое литературное произведение Спинозы «Краткий трактат о боге, человеке и его счастье», написанный не позже 1660 г .100, содержит формулировку наиболее существенных принципов его философии, последняя представляется читателям как Нил взору древних: могучий поток появляется сразу и158
истоки его неизвестны. Сложные задачи, стоящие перед исследователями в выявлении этих истоков, немало способствовали умножению огромной спинозоведческой литературы. Детальная текстологическая критика, проведенная в отношении этого произведения Зигвартом, Тренделенбургом, Шааршмидтом, Авенариусом, Иоэлем, Фрейденталем, Куно Фишером, Робинсоном, Гебхардтом и другими исследователями, имела своей главной целью выявить «исходный пункт» спинозизма.
Сложность этой задачи явствует из того, что почти все названные исследователи по-разному определяли этот «исходный пункт». Зигварт, рассматривая «Диалоги», помещенные после второй главы первой части «Краткого трактата», и особенно первый из них как документ, предшествующий написанию самого этого произведения, выдвинул гипотезу, согласно которой понятие бесконечной природы, как основное для пантеистических воззрений нашего мыслителя, заимствовано последним у Бруно и предшествует его знакомству с философией Декарта 101. Некоторые исследователи, например Дильтей 102, в общем, присоединились к этой точке зрения, а другие, например Робинсон, решительно ее оспаривали. Вслед за Зигвартом Авенариус в сочинении «О двух первых фазах пантеизма Спинозы и об отношении второй фазы к третьей» доказывал, что Спиноза никогда не был картезианцем, от увлечения кабалистической теософией он перешел к натуралистическому пантеизму Бруно, зафиксированному в «Диалогах», затем, познакомившись с декартовским онтологическим доказательством бытия бога, дошел до «второй фазы», определяемой Авенариусом как «теистическое всеединство» и зафиксированной в основном содержании «Краткого трактата», и, наконец, закончил свое философское развитие на «третьей фазе», «субстанциалистическом всеединстве», развитом в «Этике» 103. С критикой этой точки зрения выступил Куно Фишер, решительно доказывавший, что одного влияния Декарта вполне достаточно, чтобы объяснить происхождение спинозовского пантеизма 104. Крупный знаток философии Спинозы, Фрейден- таль в своей статье «Спиноза и схоластика», сыгравшей большую роль в истории спинозоведения, подчеркнул значение учебников логики, протестантских схоластиков Хеерборда и Бургерсдика, опиравшихся на крупнейшего
159
представителя «второй схоластики» Франца Суареца, для формирования философских воззрений Спинозы. Статья Фрейденталя, написанная в конце 30-х годов прошлого столетия, показательна в том отношении, что она оказалась одним из первых произведений буржуазных историков философии, стремившихся подчеркнуть не столько новаторское содержание спинозизма, сколько его зависимость от схоластической традиции 105. Впрочем, взгляд этот развивался и раньше, но главным образом в отношении еврейских источников спинозизма.
Последняя точка зрения имеет наиболее длительную историю, восходя еще к XVII в .106. В 60-х и 70-х годах прошлого столетия в трудах бреславльского раввина Иоэля было развито иудаистское истолкование спинозизма 107. Для этого истолкования характерно не простое подчеркивание решающего значения произведений и мыслей Маймоннда, Герсонида или Хасдаи Крескаса для начала философского развития Спинозы, но и решающего, якобы, значения этих источников для всего дальнейшего развития его взглядов, включая «Этику». К этой точке зрения в дальнейшем склонялись французский историк философии Кушу 108 и немецкий спинозо- вед Дунин-Борковский в своей большой книге о молодости Спинозы 109. Религиозно-иудаистская интерпретация не только источников, но и сущности спинозизма, проникшая в 20-е годы даже на страницы советской литературы по,— одна из наиболее распространенных в буржуазном спинозоведении. Она, в частности, нашла свое отражение в книгах английского историка философии Леона Ротса 111 и особенно у американского филолога и историка философии Гарри Вольфсона 112.
В связи с критикой попыток религиозно-иудаистского извращения теоретических источников спинозизма следует отметить начавшиеся еще в XVII в.113 и непрекра- щающиеся до сих пор попытки увидеть в системе Спинозы результат усвоения каббалистической «мудрости»114. Таким авторам сам Спиноза ответил известными словами из «Богословско-политического трактата»: «Читал также и, кроме того, знал некоторых болтунов-каббали- стов, безумию которых я никогда не мог достаточно надивиться» 115.
Из других мнений относительно теоретического источника, образовавшего ядро спинозизма, следует указать160
на попытки усмотреть в качестве «исходного пункта» воззрений мыслителя идеи космической любви, объединяющей всю вселенную, и интеллектуальной любви, соединяющей человека с богом, которые содержатся в «Диалогах о любви» итальянского неоплатоника Иуды Абарабанеля (Леона Еврея), испанский перевод которых находился в библиотеке Спинозы. Главным представителем этой точки зрения, усматривающей в спинозовской «интеллектуальной любви к богу» наиболее глубокую суть всего этого учения, является Карл Гебхарт116, один из наиболее крупных знатоков философского творчества Спинозы. Немецкий ученый не раз доказывал и более многостороннюю идейную родословную спинозизма. Как «философия барокко», в которой «жажда бесконечного борется с волей к формированию», учение Спинозы своим происхождением обязано одновременно и североевропейской пантеистической мистике и южноевропейскому рационализму. Первый основной мотив заимствован Спинозой у нидерландско-немецких мистиков, в меннонистско-коллегиантской среде, к которой принадлежали Баллинг и Иеллес (в частности и Рембрандт), а также немецкий философ-поэт Иоганн Шеффлер («Силезский ангел»), автор «Херувимского странника», два года учившийся в Лейденском университете и посещавший кружки коллегиантов. Второй же мотив почерпнут Спинозой в учении Декарта, но также и Гоббса 117. Более частная точка зрения о влиянии на Спинозу воззрений польских братьев, способствовавших выработке некоторых наиболее радикальных идей «Богословско-политического трактата», была сформулирована польским исследователем Людвигом Хмаем 118.
Методологический порок отмеченных точек зрения относительно «исходного пункта» спинозизма, в котором некоторые из них усматривают и его сущность — прямое следствие пресловутой концепции «филиации идей», кон» центрирующей внимание исследователя и читателя на историко-философской традиции, в которой без остатка растворяются воззрения того или иного мыслителя. Применительно к Спинозе эта наиболее типичная для буржуазно-идеалистической истории философии концепция четко сформулирована Дуннным-Борковским 119 и Вольфсоном 120. Конечно, в произведениях гаагского мудреца слышатся — одни более четко, другие более6 Зак. 681 161
приглушенно — почти все философские голоса, раздававшиеся в предшествующие времена. И нетрудно акцентировать почти любой из них, выдавая его за наиболее важный теоретический источник спинозизма. Вместе с тем совершенно очевидно — по крайней мере для марксистской интерпретации спинозизма, — что эти голоса подчинены новой симфонии звуков, рожденных социальным и научно-философским содержанием рассматриваемого столетия. Как известно, марксистская методология истории философии нисколько не преуменьшает значения философской традиции для формирования воззрений того или иного мыслителя. Однако если для буржуазной истории философии данный мыслитель выступает обычно как объект идейно-философской традиции, то марксистская видит в нем прежде всего субъект ее, относящийся к традиции активно, избирательно. Сама эта активность мыслителя данной эпохи определяется его социальным представительством, его осознанной или бессознательной партийностью.
Возвращаясь к Спинозе, следует указать, что особенность его философского творчества состоит, между прочим, в том, что он синтезировал многие идеи историко-философской традиции и современной ему социальной, философской и научной действительности. Отсюда исключительная многогранность этого творчества, являющаяся одним из важнейших оснований для редкого разнообразия интерпретаций спинозизма в последующей истории философии. По справедливому замечанию В. Ф. Асмуса, многообразие интерпретаций учения Спинозы не может быть объяснено «переменой в одних лишь субъективных условиях интерпретации». Их следует объяснять также «пластичностью» его системы 121. Поэтому до известной степени справедливы все отмеченные выше точки зрения, пытающиеся установить «исходный пункт» спинозизма. Но ни одна из них несправедлива как в своем противопоставлении другим, так и тем более в своей изоляции от социальных и идеологически актуальных для эпохи Спинозы предпосылок и условий его творчества. Наиболее несостоятельна религиозно-иудаистская интерпретация спинозизма, особенно грубо игнорирующая исторически актуальные условия и предпосылки спинозовской мысли.
Подчеркнуть это необходимо, потому что идейно162
философское развитие Спинозы,, как еврея по своему рождению и первоначальному воспитанию, действительно началось с усвоения традиций еврейской мысли. Но, поскольку мы судим об этом влиянии по «Богословско- политическому трактату», по переписке мыслителя и по другим его произведениям, Спиноза развивал наиболее прогрессивную традицию еврейского вольномыслия, насчитывавшую к его эпохе много столетий своей истории. В одном из своих последних писем, относящемся к ноябрю—декабрю 1675 г., мыслитель, указывая на теоретические источники своего истолкования бога в качестве имманентной, а не трансцендентной причины всех вещей, подчеркивает, что он утверждает это «вместе со всеми древними философами, хотя к иным образом» и «вместе со всеми древними евреями, насколько можно догадываться по некоторым преданиям, правда, многообразно искаженным и фальсифицированным» 122.
Читателя не должно удивлять, если мы скажем, что «под древними евреями» мыслитель мог разуметь уже библейский Ветхий завет, примитивные верования которого были очень далеки от последующего развития идеалистическо-монотеистическо-креационистских представлений, основывавшихся, правда, на том же Ветхом завете. История еврейского, как и христианского, свободомыслия знает немало примеров того, как пытливые умы приходили к атеизму под влиянием только многочисленных противоречий «священного Писания». Достаточно вспомнить еврейского мыслителя конца IX в. Хиви ал-Балки, пришедшего к отрицанию веры в бессмертие души и в загробную жизнь. Еще более смелым средневековым критиком Библии был Авраам Ибн Эзра, «человек свободного ума и незаурядной эрудиции», еще в XII в. пришедший к отрицанию божественного происхождения Торы, наиболее ценимый Спинозой123. Традиция иудейского свободомыслия в качестве одного из своих важнейших, звеньев включает и творчество Моисея Маймонида, главное произведение которого делает его одним из наиболее видных представителей средневековой философской мысли. Мы увидим в дальнейшем, какие передовые для этой эпохи идеи «Морэ Небухим» были развиты Спинозой и какие — соглашательские по отношению к иудаизму — он решительно отверг, вскрывая несостоятельность новейших иудаист-6* 163
ских интерпретаторов философии Спинозы, пытающихся представить ее прежде всего как результат переработки идеи этой книги 124.
Говоря о непосредственных еврейских предшественниках Спинозы, нельзя пройти мимо Уриэля Дакосты, бунтарство которого против иудаизма имело под собой своеобразный материалистический фундамент. Таким фундаментом было твердое убеждение Дакосты в смертности человеческой души, борьба его против идеалистическо-креационистских представлений о том, что «души суть существа, отдельные от тела, которых бог создал сразу и в одно время и поместил их как бы в амбар, откуда он посылает их, чтобы они входили в чрево беременных. Все это бессмысленный бред пустого древнего язычества, недостойный какого-либо возражения, хотя его еще в настоящее время придерживаются фарисеи». Немаловажно отметить, что это убеждение Дакосты ни в какой мере не было результатом идей, почерпнутых из области естествознания, которым Дакоста совершенно не занимался. К выводу о том, что человеческая душа «есть жизненный дух», находящийся в крови человека125, имеющий вполне естественное, земное происхождение, Дакоста пришел исключительно в результате своего изучения Ветхого завета, в котором ничего не говорится о бессмертии абсолютно нематериальных человеческих душ, а, напротив, неоднократно утверждается вполне естественная судьба смертных человеческих существ. Выступая подобно другим передовым людям своей эпохи в духе деизма, Дакоста противопоставляет религиозно-иудейскому «закону» «закон природы», учащий людей тому, как, «избавившись от суеверий и пустейших обрядов, вести жизнь поистине человеческую»126, отвергающий лицемерие и ханжество, «фарисейство», предписывающий вести жизнь в соответствии со здоровыми человеческими чувствами.
Таковы далеко идущие выводы, сделанные Дакостой в связи с отрицанием бессмертия души. О впечатлении, произведенном этими мыслями Дакосты на евреев, свидетельствует целый поток писаний, направленный против безбожной дерзости этого и других «саддукеев», отрицавших основоположное представление нудаистской, как и любой другой, религиозной морали. Один из таких опровергателей, амстердамский врач Семюэль де Силь164
ва, в своем трактате «О бессмертии души» писал, что «отрицающий бессмертие души не далек от отрицания бога» 127.
Острая борьба вокруг бессмертия души, по всей вероятности, захватила и молодого Спинозу, если верить рассказу Лукаса. Те два молодых сикофанта, которые, втершись в доверие будущего философа, стремились выведать его затаенные мысли, задавали ему и такие вопросы: «Есть ли у бога тело? Существуют ли ангелы? Бессмертна ли душа?». На что последовал такой ответ: «Признаюсь... что нет ничего бессмертного или бестелесного в Библии». «Что же касается Духов, то достоверно, что Писание ничего не говорит о том, что существуют реальные и устойчивые субстанции, но лишь о том, что существуют простые фантомы, называемые Ангелами, потому что Бог использует их для объявления своей волн». «Что же касается того, что Душа существует повсюду, где об этом говорит Писание, это слово «Душа» употребляется просто для выражения «Жизни», или для всего живого. Было бы бесполезно, исходя из этого, делать вывод о своем Бессмертии» 128. Эти мысли молодого Спинозы, как видно из приведенного отрывка, весьма созвучны тому, за что был привлечен к ответственности Дакоста, а сами вопросы сикофантов, возможно, были инспирированы его делом. Аналогичное встречаем и в «Богословско-политическом трактате» ,25. Традиция еврейского вольномыслия, основывающаяся на древнейших библейских текстах, стала одним из истоков философского радикализма Спинозы.
О дальнейшей философской эволюции Спинозы судить нелегко вследствие отсутствия литературных свидетельств. Впрочем, приведенный выше отрывок из письма Эймса говорит о каких-то религиозных исканиях юного мыслителя вскоре после его разрыва с общиной, о том, что, не почерпнув ничего из чтения книг Моисея и пророков, пока он не прибег к помощи собственного «света», молодой друг коллегиантов и квакеров будто даже признал имя Христа. Бейль в статье о Спинозе в «Словаре» также пишет, что «с тех пор как он отказался от исповедания иудаизма, он открыто исповедовал Евангелие и посещал собрания Меннонитов и собрания Арминиан Амстердама. Он одобрил даже исповедание веры, которое сообщил ему один из его ближайших дру-
165
эеи» i3°, С другой стороны, по сообщению Колеруса 131, Спиноза не примкнул ни к одному из христианских вероисповеданий и ни к одной из сект. Это крайне редкое, если не единственное в своем роде, явление для рассматриваемого столетия свидетельствует о силе духа и о радикализме мыслителя, вставшего на путь атеизма и материализма. Но путь этот только начинался в конце пятидесятых годов этого века, его литературным итогом был «Краткий трактат о боге, человеке и его счастье», к которому мы теперь и обратимся. Первое произведение Спинозы открывается главой, развертывающей доказательство существования бога, а вторая исследует это традиционное понятие реальнейшего и совершеннейшего существа, entis perfectissimi seu realissimi. Здесь нет еще последовательного отождествления бога и субстанции, в рассмотрении бога как действующей причины всех вещей автор пользуется восьмичленным подразделением, заимствованным у Бургерсдика и Хеерборда132. Вместе с тем совершенно очевидно, что уже в этом произведении Спиноза встал на путь натурализации бога, отождествления его с природой. В самой общей схеме сущность философской эволюции Спинозы может быть выражена в двух словах: от бога к миру, причем в центре его философских исканий уже здесь, как и потом, находился человек. Недостаточная еще по сравнению с последующими произведениями, особенно с «Этикой», четкость проблематики находит свое отражение в зависимости употребляемой здесь терминологии от схоластическо-теологической. Т ак, движение, которое «существовало от вечности и навеки должно остаться неизменным... есть сын, творение или произведение, непосредственно созданное богом», а другим таким «сыном божьим» является «разум в мыслящей вещи» ш . Рассудок (reeden, ratio), фигурирующий здесь как третий род познания, называется «истинной верой» (waar ge- loof)134. Вторая часть трактата содержит главу о дьяволах (25-ю), но лишь для того, чтобы отвергнуть их существование. В любви к бесконечному богу как основному условию избавления из «пучины страстей» и состоит «истинное богослужение и наше вечное спасение и блаженство» 135.
Особо следует остановиться на отношении амстердамского философа к пантеистическому мистицизму своих166
коллегиантских друзей, проявляющемуся с наибольшей силой в его первом произведении. Основной признак этого мистицизма — вера ,в возможность непосредственного, душевного контакта человека с богом — неоднократно зафиксирован на страницах этого произведения, посвященного как богу, так и человеку. «Совершеннейший человек тот, кто соединяется с богом... и таким образом наслаждается им»136. «Из того, что между богом и нами существует такая тесная связь, вытекает* что мы можем познать его непосредственно» 137. Представление о любви к богу, как и к любому объекту, вторгаясь в гносеологию трактата, накладывает -■ печать сентиментальности на формирующийся рационализм Спинозы: «Ясным же познанием мы называем то* что происходит не из разумного убеждения, но из-чувства'и наслаждения самими вещами»138. Вместе с тем/ конечно, не может быть речи о мистицизме Спинозы в смысле веры в личного бога и в возможность внерацнонального познания его. Напротив, «ни одна вещь не может быть так близко соединена с разумом, как сам бог» 139. Выше мы отмечали, что в этих условиях пантеистический мистицизм переходит в свою противоположность — в уверенность в силу человеческого разума. Это демонстрируется примером не только Спинозы, но и его коллегиант- ского друга, Питера Баллинга, произведение которого «Светоч на подсвечнике» превозносит ясное и отчетливое познание человеческим разумом истины, как это имеет место и в спинозовском «Трактате об усовершенствовании разума» (произведение Баллинга написано примерно одновременно с первым трактатом Спинозы) 140.
Не касаясь сейчас других особенностей «Краткого трактата», подчеркнем, что здесь поставлены Спинозой важнейшие проблемы как метафизики — в смысле онтологии и гносеологии,— так и этики: атрибуты бога и познаваемость их, отношение бесконечного и единого божественного бытия и бесконечного количества единичных вещей, соотношение целого и части, необходимости и свободы божественной деятельности, проблема законо* мерности как божественного предопределения, вопрос о родах, или ступенях познания, о зависимости их от страстей и о главных разновидностях последних, о способе их преодоления как пути к человеческой свободе
167
и др. В дальнейшем, эти проблемы становятся более четкими, они конкретизируются и углубляются, появляются и новые философские вопросы под влиянием естественнонаучных занятий философа и в связи с его общественными интересами, эволюция которых прослежена выше. Главными философскими руководителями Спинозы на этом пути являются Декарт, а затем и Гоббс, причем собственная философская позиция голландского мыслителя уже в «Кратком трактате» расходится с позицией первого, а потом, став материалистической, не совпадает и с позицией второго.
Свидетельством усиления картезианско-рационалистического элемента философского мировоззрения Спинозы, выражающего также возрастание его логико-математических интересов, является уже Приложение к «Краткому трактату» — первая попытка изложения сущности метафизики «геометрическим путем»141, Попытка эта повторена в первом письме Спинозы к Ольденбургу, относящемся к сентябрю 1661 г .142. С точки зрения размежевания с современной ему схоластической мыслью большое значение имеет произведение «Метафизические мысли», опубликованное в качестве Приложения к «Основам философии Декарта», но написанное, или во всяком случае обдуманное, раньше написания этого произведения, как полагают некоторые исследователи143. С одной стороны, в этом Приложении дано изложение проблем метафизики, как она трактовалась у новых схоластиков — Суареца, Бургерсдика, Хеерборда и других— •и преподавалась в университетах, но весь этот схоластический материал трактуется с точки зрения новой, прежде всего картезианской, философии. Применёние .Спинозой логических принципов номинализма, с помощью которых мыслитель освобождает свою метафизику от фантомов схоластического вербализма, сыграет значительную роль в его учении о бытии.
Возвращаясь к первому письму Спинозы, написанному Ольденбургу в сентябре 1661 г., следует отметить ту очень важную задачу, которую, по убеждению философа, не решили Бэкон и Декарт и которую он ставит здесь перед своей философией. Задача эта связана с пониманием «первопричины и происхождения всех вещей» 144. Дальнейшее развитие философских воззрений нашего мыслителя показывает, что для решения этой168
задачи недостаточно только умозрительных средств, в чрезвычайном обилии представленных в философской традиции. Сколь ни велика роль этих средств и в философии Спинозы, все же мыслитель-новатор, стремившийся всеми силами к пониманию и объяснению реального мира и реального человека, как показывает прежде всего его переписка, не только интересовался, но и углублялся в вопросы естествознания145 (не случайно, конечно, литературное наследство Спинозы включает и «Трактат о радуге»). Сказать об этом особенно необходимо в связи с тем, что буржуазные исследователи спинозизма, преуменьшая или просто игнорируя его материалистическое содержание, а также акцентируя его зависимость от предшествующей традиции, всемерно подчеркивают его умозрительный характер, сводя к минимуму или даже игнорируя естественнонаучный 146.
Два письма Спинозы к Симону де Врису, одному из активнейших членов его амстердамского кружка, отправленные из Рейнсбурга в феврале и марте 1663 г., указывают на первые результаты в разработке «Этики». Первое из этих писем важно и тем, что здесь содержится четкое определение субстанции и атрибута, близкое к тому, которое зафиксировано в «Этике»147. Если в «Кратком трактате», в котором нет еще отождествления бога и субстанции, последняя по существу не отличается от атрибутов (мышления и протяжения прежде всего),до теперь эти основоположные понятия спинозов- ской онтологии четко разграничиваются. Проблема субстанции в ее отношении к модусам уже во всей ее глубине ставится в письме к Мейеру, называющемся «О природе бесконечного», одном из наиболее важных произведений философа, написанном 20 апреля 1663 г., в самом конце его пребывания в Рейнсбурге. Три письма к Гудде, написанные в январе, апреле и июне 1666 гм показывают, что принципы онтологии Спинозы, как они затем более пространно были сформулированы и в «Этике», в это время уже установились.
О зрелости материалистической и атеистической мысли Спинозы накануне завершения его работы над «Этикой» свидетельствует его переписка с Гуго Бокселем в сентябре—октябре 1674 г. В последнем из этих писем, показывая несостоятельность аргументации своего корреспондента, пытавшегося подкрепить свое убеждение
169
в существовании духов и привидений ссылками на различные древние авторитеты, в том числе и на авторитет Платона, Сократа и Аристотеля, Спиноза писал: «Авторитет Платона, Аристотеля и Сократа не имеет для меня большого значения. Я был бы удивлен, если бы вы сослались на Эпикура, Демокрита, Лукреция или какого-нибудь другого из защитников атомов. Ибо неудивительно, что люди, измыслившие скрытые качества, ин- тенциональные образы, субстанциональные формы и тысячу других пустяков, выдумали также духов и привидения и доверились бабьим сказкам, чтобы ослабить авторитет Демокрита, славе которого они так завидовали, что со*жгли все его книги, опубликованные им среди таких похвал» 148. Эти слова Спинозы особенно важны, если учесть, что философ, не разделяя атомистической теории, тем не менее ощущал свое принципиальное родство с материалистической «линией Демокрита».
Подчеркивая в интересах наиболее полного выявления материалистической сущности спинозизма в его учении о бытии роль его естественнонаучных предпосылок, мы вместе с тем не имеем права и преувеличивать этой роли. Из совокупности произведений философа очевидно, что естественнонаучные интересы не являлись определяющими в энциклопедии его знаний и его идей. Характерно, что первое из опубликованных произведений Спинозы, «Основы философии Декарта», прерывается в самом начале третьей части, которая из сформулированных в первых двух частях общих предпосылок должна была трактовать о «видимом мире». Автор предисловия к этому произведению, Людовик Мейер, написавший его по поручению Спинозы 149, обещает в нем, что, если потребуется новое издание, то он постарается убедить философа окончить эту часть150. Письма мыслителя к Чирнгаусу, написанные в конце его жизни, свидетельствуют, что он думал над вопросами естествознания, прежде всего над вопросами общей физики и механики, но не успел прийти здесь к определенному и удовлетворяющему его результату. Ярих Иеллес в своем предисловии к «Посмертным сочинениям» своего друга, говоря о его преждевременной смерти, указывает, что она вое- препятствовала завершить весь намеченный им круг философских знаний, в особенности в области физики 151.
Сравнивая, таким образом, философское творчество170
Спинозы, как оно является перед нами в его произведениях, с философским творчеством других его великих современников, и прежде всего с творчеством Декарта, без уяснения взаимодействия и преодоления принципов которого невозможно постичь существа спинозизма, нельзя не заметить его существенные и специфические особенности. Если рационалистическая методология Декарта, как до него Бэкона, а после него Лейбница, имела своей непосредственной целью, порожденной в конечном итоге развитием капиталистического производства и торговли, способствовать прогрессу естественнонаучных знаний, то интенция рационалистической методологии Спинозы, косвенно тоже способствовавшей этому прогрессу, иная. Как уже отмечалось, в центре философских интересов Спинозы, начиная с его первого произведения и кончая главным трудом его жизни, стояли вопросы этики. В эпоху крушения феодально-теологической, аскетической или полуаскетической морали, в условиях огромного по тем масштабам научно-техниче- ского прогресса разработка принципов новой, секуляризированной, свободной от религиозной опеки, полностью повернутой к человеку морали становилась задачей первостепенной философской важности. В «Трактате об усовершенствовании разума», основном методологическом произведении философа, эта этическая интенция выражена совершенно определенно. Достижение наивысшего блага (summum bonum), которое только возможно в человеческой жизни, предполагает не только создание общества дружественно расположенных лиц, но и обращение к учению о воспитании детей, а также к техническим искусствам, к механике и медицине. Не менее важной, чем науки, облегчающие человеческую жизнь, Спиноза считает и «моральную философию» ,52, разработка которой стала в фокусе его философских занятий. Многие исследователи его творчества, естественно, подчеркивают эту определяющую черту спинозовской системы 153.
В век Спинозы, как и в античности, было само собой разумеющимся, что этика «должна основываться на метафизике и физике», потому что «необходимость вещей относится к области метафизики, а знание метафизики должно всегда предшествовать (другим знаниям)»154. В духе аристотелевской традиции под метафизикой Спи-
171
ноза разумел онтологию, которой была отведена как бы роль введения в его этическую доктрину. То же самое еще более очевидно по отношению к методологии и гносеологии Спинозы, которые непосредственно обосновывают эту доктрину. Вместе с тем и онтология, и гносеология спинозизма имеют самостоятельное значение. Для выявления материалистической сути спинозизма наибольшее значение приобретает его онтология, к которой нам и необходимо обратиться в первую очередь.
Однако прежде чем приступить к рассмотрению учения Спинозы о бытии, нужно указать на те исключительные трудности, которые стоят на пути его исследования, как, впрочем, хотя может быть и в несколько меньшей мере, и при исследовании других разделов спинозизма. Эти трудности, многократно отмечавшиеся в спинозоведческой литературе155, порождены как содержанием, так и формой интересующей нас философии. Не предвосхищая последующего изложения, предварительно укажем, что огромные затруднения для исследователя представляет постоянное смешение онтологического и гносеологического планов рассмотрения действительно- сти, с которым читатель встречается как в «Этике»; так и в других произведениях Спинозы. К этому присоединяются трудности употребляемого мыслителем языка, используемой им терминологии. Последняя основывается как на понятиях современного ему естествознания, так и на понятих многовековой философской традиции. Напомним, что новаторская — и притом даже материалистическая— философская мысль XVII в. в большей или меньшей мере была вынуждена использовать сложившуюся за много веков философскую терминологию схоластики, в которую вкладывалось теперь новое, антисхоластическое содержание. Спиноза, хорошо знакомый и с восточными и с западными философскими учениями,— один из наиболее характерных мыслителей в этом отношении. Укажем, наконец, на знаменитый геометрический способ, которым Спиноза изложил свое главное произведение (как и «Основы философии Декарта») и который доставляет дополнительные и весьма значительные притом трудности как для читателя, так и тем более для исследователя'его философии.
Эти трудности отмечались Марксом: «...у философов,172
которые придали споим работам систематическую форму, как, например, у Спинозы, действительное внутреннее строение, его системы совершенно отлично ведь от формы, в которой он ее сознательно представил»156. Слова Маркса указывают на трудности интерпретации спинозовской философии. В истории философии было выдвинуто очень много разнообразных, нередко весьма противоречивых ее истолкований. В последующем изложении мы дадим свою, материалистическую интерпретацию онтологии спинозизма, продолжая здесь традиции марксистского и советского спинозоведения. Мы постараемся убедить читателя, что такая интерпретация является единственно адекватной ее историческому содержанию.
V. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СПИНОЗОВСКОИ КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДЫ
Сама постановка вопроса, сформулированного в названии этой главы, требует обоснования. С какой степенью категоричности мы можем утверждать, зная, что онтологии, или — в терминах этого столетия — метафизике, Спинозы предназначена лишь роль введения в его этико-социологическое учение, принимая во внимание теснейшую взаимозависимость, существующую в интересующей нас философии между методологией и онтологией, между гносеологией и онтологией, взаимозависимость, доходящую иногда до неразличимости,— зная все это, тем не менее утверждать, что учение о природе имеет у Спинозы вполне самостоятельное значение? Против такой постановки вопроса в сущности выступает традиция буржуазного спинозоведения, которая в исследовании спинозизма стоит на формально-имманентной точке зрения, интересующейся выяснением сложной взаимозависимости между его понятиями и категориями, подчеркивающей их умозрительный и порой конструктивный характер и забывающей о предметном функционировании этих понятий и категорий в качестве средств для объяснения реального мира и места в нем реального человека. Выяснение же материалистического содержания спинозизма — исторически наиболее оправданное — должно принимать во внимание прежде всего этот его аспект, который, как показывает последующая история философии, сыграл свою немаловажную роль в сложном комплексе рецепции и интерпретации спино- зовских идей.174
Общий взгляд Спинозы на природу, диалектическая задача и метафизические средства ее решения
На доставленный в этом подзаголовке вопрос лучше всего отвечает не «Этика», в которой учение о природе сформулировано в форме «геометрической» дедукции, а переписка мыслителя, лишенная этих формальных трудностей и часто вскрывающая тот предметный смысл, который 'был затем «формализован» и этой формализацией более или менее затемнен. В этой связи нужно подчеркнуть чрезвычайную важность первой переписки Спинозы с Ольденбургом, начавшейся — судя по дошедшим до нас лисьмам — в августе 1661 г. и окончившейся в декабре 1665 г. (после чего последовал почти десятилетний перерыв в их переписке). Значение этой переписки увеличивается в связи с тем, что Ольденбург, секретарь лондонского Королевского общества, вел ее не только от своего имени, но и от имени Бойля и, по-видимому, некоторых других членов этого общества.
Вступая в период философской зрелости, формулируя в первом письме к Ольденбургу свою философскую программу в ее отличии от философских систем Бэкона и Декарта, Спиноза писал, что их «первая и самая важная ошибка заключается в том, что оба они очень далеки от понимания первопричины и происхождения всех вещей. Вторая, что они не уразумели истинной природы человеческой души» Ольденбурга сразу же заинтересовал первый пункт программы и уже в следующем своем письме к философу он просит его подробнее разъяснить, «каково начало и происхождение субстанций, а также какова взаимная зависимость и соподчиненность всех вещей»2. С удивительной настойчивостью секретарь лондонского естественнонаучного общества возвращается !К этому »вопросу почти в каж- дом из последующих писем 'к Спинозе, побуждая его «отчетливо и ясно» изложить его мнение «об истинном и первоначальном происхождении вещей. Ибо пока мне не ясно, от какой «причины и каким образом вещи получили свое начало, а также в каком отношении они находятся к своей первопричине, — если только таковая существует, — до тех пор все, что я слышу и читаю, представляется мне в каком-то 'беспорядке»3. Ольден
175
бург торопит своего нидерландского корреспондента поскорее опубликовать результаты его исследований в этой области, «какой бы визг ни подняли ¡посредственные теологи», «уже достаточно угождали невежеству и ничтожеству, — продолжает он. — Распустим паруса истинной »науки и проникнем в святилище -природы глубже, чем это4делалось до сих пор»4. При чтении этих писем Ольденбурга возникает вопрос, почему секретарь лондонского Королевского общества, находившийся, можно оказать, в самом фокусе естественнонаучных исследований, именно от Спинозы ожидал особенно ценных, обобщающих результатов в истолковании природы. В письмах, относящихся к лету 1663 г., он сам отвечает на этот вопрос: «Наше Королевское общество решает свои задачи по мере своих <сил, с большим рвением, держась в пределах экспериментов и наблюдений (курсив мой. — В. С.) и избегая всякого рода запутанных дискуссий» 5. Своего рода «позитивистская» тенденция проявилась уже в самом начале развития буржуазного естествознания, решавшего важные 'научно-практические задачи, но уже затруднявшегося в изображении общей картины (Природы, опиравшейся на открытые с его помощью принципы. В Спинозе Ольденбург и видел мыслителя, способного решить эту задачу. Он пытался даже установить некую научно-философскую кооперацию в деле обобщающего осмысления природы между Спинозой, с одной стороны, и Бойлем и другими членами лондонского естественнонаучного общества— с другой. «Да будет мне позволено, — -писал секретарь этого общества своему нидерландскому корреспонденту в августе 1663 г., — побудить Вас главным образом к дальнейшему обоснованию принципов всего сущего (курсив мой. — В. С.), сообразно с тонкостью Вашего математического ума; тогда как моего благородного друга Бойля я непрестанно подговариваю к тому, чтобы он подтверждал и иллюстрировал эти принципы посредством многократно »и тщательно произведенных экспериментов и наблюдений» 6. Наконец, через два с лишним года, снова и снова возвращаясь к этому вопросу, Ольденбург просит Спинозу от своего имени и от имени Бойля сообщить результаты его «возвышенных и трудных исследований относительно того, каким образом каждая отдельная часть природы согласуется с ее целым и как она сцеплена с остальными частями»7.176
Все эти настойчивые запросы Ольденбурга и ответы самого Спинозы, подтверждающие, что философ продолжает думать над разрешением «возвышенных и трудных» вопросов относительно того, «каким образом пещи начали существовать и га какого рода зависимости они ¡находятся от первопричины» 8, не оставляют сомнения, что важнейшую задачу своей онтологии нидерландский мыслитель видел в изображении целостной картины природы, являющейся в то же время и картиной происхождения всех вещей. Нельзя забывать, что проблему генезиса многообразных явлений мира в сущности ¡пытается так или иначе решить каждая философская система, ставящая онтологические вопросы. Широкоизвестное высказывание Энгельса о том, что, несмотря на господство метафизического способа мышления, ш в XVII столетии диалектика -имела своих блестящих представителей в лице Декарта и Спинозы 9, по нашему убеждению, имеет в виду прежде всего попытку решения этими мыслителями задачи целостного изображения мира, что у первого из них вылилось даже в попытку понять природу в развитии. Известно, что Декарт в своем «Рассуждении о методе» сформулировал идеюо том, что природу всех вещей «гораздо легче познать, видя их постепенное возникновение, чем рассматривая их как совершенно готовые» 10, а в «Началах философии» указал, что «мы лучше разъясним, какова вообще природа всех сущих в мире вещей, если сможем вооб-
• разить некоторые весьма понятные и весьма простые начала, исходя из коих мы ясно сможем 'показать происхождение светил, Земли и всего лрочего видимого мира как бы из некоторых семян»11. Последняя мысль Декарта почти дословно излагается Спинозой в его «Основах философии Декарта» 12.
Спиноза, будучи во много раз менее значительным естествоиспытателем, чем Декарт, не смог дать ничего, что поднималось бы до идей механистического эволюционизма, с особой силой сформулированных в картезианской космогонии. Но принципиально перед ним стояла та же самая задача и нельзя признавать случайными словами гаагского мыслителя в его «Богословско- политическом трактате» о том, что «метод истолкования природы состоит главным образом в том, что мы излагаем собственно историю природы, из которой, как из
177
известных данных, мы выводим определения естественных вещей» 13, что «всеобщая история природы» составляет основание философии 14. Хотя и не очень часто, все же факты естествознания фигурируют в произведениях Спинозы, не говоря уже о его переписке. Но центр тяжести его методологии, пытающейся постичь природу как целостный и в сущности развивающийся процесс, смещен в сферу разработки »понятий и категорий, с помощью которых его можно 'было бы представить в наиболее обобщенном виде.
При разработке таких понятий и таких категорий Спиноза шел прежде всего в русле органистической традиции, которой в наибольшей степени был обязан своим происхождением, а -во многом и содержанием целостный подход к природе. Нидерландский мыслитель не мог миновать этой традиции хотя бы лотому, что его целостное рассмотрение природы имело своей 'первой целью объяснение места в ней человека и его важнейших особенностей — гносеологического, психологического, этико-социологического характера. Традиция эта была хорошо известна Спинозе из произведений средневековых и ренессансных авторов, в ее духе он осмысливал многие факты и современного ему естествознания. Понятно поэтому, что, когда, наконец, наш «странный философ» 15 решил более полно изложить Ольденбургу и Бойлю свою точку зрения о том, «каким образом каждая отдельная часть природы согласуется с ее целым и как она сцеплена с остальными частями», он прибегает прежде всего к органистическим аналогиям. В самом начале этого письма, написанного 20 ноября 1665 г., Спиноза подчеркивает, что у него нет «абсолютного знания» этого универсального природного сцепления, «ибо для этого потребовалось бы знание всей природы и 'всех ее частей». Поэтому речь может идти только об основаниях мировой связи вещей 16.
Важнейшим из таких оснований является категория целого и части, вскрывающая универсальное приспособление природных вещей друг к другу и «сосуществование» их. Аналогон, «модель» «всей системы Спиноза ищет в движении частиц млечного сока и лимфы, которые «так 'приноравливаются друг к другу в отношении величины и формы, что они вполне согласуются между собой и все вместе образуют одну жидкость, — лишь178
постольку млечный сок, лимфа и т. д. рассматриваются как части этой жидкости (то есть крови)». И если бы в этой жидкости мог жить какой-нибудь червячок, обладающий зрением и разумом, то такой червячок «жил бы в этой крови, как мы живем в этой части вселенной, и рассматривал бы каждую отдельную частицу крови как целое, а не как часть. И он не мог бы знать, каким образом все части крови управляются общими законами крови и принуждаются... к такому приноравливанию друг к другу, чтобы определенным образом согласоваться между собой». «Все тела природы, — обобщает эту свою мысль философ, — могут и должны мыслиться таким же образом, каким мы здесь мыслили кровь» 17.
Выше мы видели, какую огромную, можно сказать даже решающую роль играли органистические аналогии в пантеистической философии Ренессанса. Было отмечено также, что в органистическо-пантеистической традиции развивалась динамическо-диалектическая идея о «свертывании» и «развертывании» космоса. Но идея эта была слишком общей, ее научное содержание было ничтожным. Целостный «взгляд на природу, развивавшийся Спинозой в русле органистической традиции, в XVII столетии, в эпоху огромного прогресса таких отраслей естествознания, как математика и механика, не мог, разумеется, игнорировать выработанных ими методов исследования действительности. Напротив, эти методы стали играть у Спинозы решающую роль в осмыслении и интерпретации действительности. Они были абсолютизированы им, как, быть может, ни одним другим великим мыслителем этого столетия. В особенности это относится к методам математики, которые именно в рационализме Спинозы .привели к своим крайним результатам, сделавшим нашего .мыслителя «Эвклидом философии». Отмечавшийся в третьей главе работы метафизический, антиисторический взгляд на достоверное знание, прототипом которого послужила математика, выразился у Спинозы, .в частности, в попытке сформулировать развитие природы a priori, привлекая примеры и ссылаясь на опыт лишь для иллюстрации умозрительно сформулированных положений. Что же касается механики, то в своем письме к Ольденбургу от июля 1663 г. Спиноза писал, что «все изменения тел совер
179
шаются по законам механики» 18. Последние были заимствованы Спинозой у Декарта.
Подводя итоги, следует 'подчеркнуть, что спинозов- ская концепция природы представляет собой попытку сочетания органистически целостного понимания ее с осмыслением на основе аналитических методов, доставлявшихся математикой и механикой. Мы увидим в дальнейшем, что все противоречия спинозовской онтологии восходят к такому сочетанию как к своей «субстанции». Однако уже теперь следует сказать, что попытка Спинозы осмыслить происхождение всех вещей a priori и на основе «принципов картезианской механики оказалась неудачной, в чем был вынужден признаться и сам философ в конце своей недолгой жизни. Мы имеем в виду его переписку с Чирнгаусом, проницательные вопросы которого и вынудили у Спинозы это признание. В своем письме от января 1675 г. немецкий философ и ученый просил гаагского мудреца разъяснить ему, «каким образом (раз протяжение, поскольку оно мыслится само через себя, является неделимым, неизменным и т. д.) мы можем a priori вывести возможность возникновения столь многих различных модификаций его» 19. В более позднем своем письме к Спинозе, относящемся к маю 1676 года, этот вопрос 'был повторен Чирнгаусом20. В еще более общей форме это затруднение сформулировано Чирнгаусом через полтора месяца: «Я просил бы Вас о следующем одолжении: укажите мне, каким образом из понятия протяжения согласно Вашим воззрениям может быть a priori доказано разнообразие вещей? Вы упомянули о мнении Декарта. Декарт говорит, что он может вывести из протяжения это разнообразие вещей не иначе, как предположив, что оно было произведено в протяжении движением, возбужденным самим богом. Таким образом, нельзя ли сказать, как мне кажется, что Декарт выводил существование тел из покоющейся материи, — разве только Вы ни во что не ставите его -предположение о двигателе-боге. Каким образом это разнообразие вещей должно с необходимостью a priori следовать из сущности бога, Вами не показано. (Декарт полагал, что доказательство этого превосходит человеческое разумение). Вот я и спрашиваю Вас об этом предмете, хорошо зная, что Вы держитесь -иных воззрений»21.180
Эти вопросы Чиригауса попадали в самое уязвимое место спинозовской онтологии — физики: исходя из паитеистическо-органистического ‘представления о природе, она пыталась достичь объяснения всего многообразия единичных вещей из субстанции на основе мате- матизированно-рационалистических принципов a priori и картезианских механистических представлений о материн. В непригодности последних для выполнения такой сложной, по существу своему и по тенденции, конечно, диалектической, задачи Спиноза убедился в конце своей жизни и прямо »высказал это в своих ответах Чирнгаусу >на поставленные им вопросы. В письме от5 мая 1676 г. он писал ему: «Из протяжения, как его мыслит Декарт, а именно: в виде покоящейся громады, не только трудно, как Вы говорите, <но совершенно невозможно доказать существование тел, ибо покоящаяся материя, насколько это зависит от нее самой, будет продолжать пребывать в 'покое и не побудится -к движению иначе, как более могущественной внешней причиной». В заключении этого лисьма Спиноза добавляет, что «Декартовы принципы естествознания бесполезны, чтобы не сказать абсурдны»22. В письме же от 15 июля 1675 г., отвечая Чирнгаусу, Спиноза еще раз признал, что из понятия протяжения невозможно a priori доказать разнообразие вещей. И поэтому «материя »плохо определена Декартом через протяжение... она необходимо должна быть объясняема через (такой) атрибут, который бы выражал вечную и бесконечную сущность. Но об этом я, быть может, когда-нибудь, если буду жив, поговорю с Вами более ясно. Ибо до сих пор я не имел возможности привести в -надлежащий ‘порядок то, что имеет отношение к этому вопросу» 23. Смерть помешала Спинозе осуществить этот замысел. Впрочем, далеко неясно, в какой форме и в какой степени он вообще мог быть осуществлен в условиях той методологии, какая философу — и вообще его веку — была доступна, и «при том состоянии научных знаний, какое этому столетию было присуще.
Но, как было отмечено, важнейшая заслуга передовой научно-философской мысли XVII столетия состояла не столько в осмыслении конкретных фактов и закономерностей развития природы, тогда еще плохо известных, сколько в разработке понятий и категорий, необ
ходимых для ее общей интерпретации. Одна из решающих проблем такой разработки состояла в определении отношения новых понятий и категорий к понятиям и категориям предшествующей философской традиции, важнейшим из которых было многозначное понятие бога. Без 'выявления того или иного отношения к этому понятию не была возможна, как .мы видели, в сущности ни одна философская концепция рассматриваемого столетия. Проблема бога становится в этих условиях одной из решающих проблем спинозовской метафизики — онтологии.
Бог и мир, субстанция как причина самой себя
Ens quo nihil majus cogitari potest, существо, превыше которого ничего нельзя помыслить, — центральное представление средневековой философско-теологической мысли. Но что такое это существо? Каково его отношение к миру? Возможно ли его познание? Тот или иной ответ на эти вопросы имел первостепенное философское значение не только в условиях средневековья, но и в рассматриваемое столетие.
Схоластический рационализм в лице Ансельма Кен- терберрийского выработал знаменитое онтологическое доказательство существования бога путем анализа его идеи, как Тюнятия о наивысшем и совершенном существе, которому с необходимостью должен принадлежать и признак^существования, Признак существования произвольно приписывался здесь, в этой разновидности аналитического суждения, »привилегированному субъекту, каким представлялось в эту эпоху понятие бога, как это было убедительно доказано впоследствии Кантом. В средние же века, как и в рассматриваемую эпоху, это «доказательство» считалось безупречным, но тем не менее оно не укрепилось в ортодоксальной теологическо-схоластической мысли. Едва ли не главная 'причина этого — «чрезмерные» притязания человеческого разума,
* воображающего себя способным познать таинственное бесконечное существо, которое должно быть навсегда скрыто от человеческого ума, как учила об этом, в частности, «отрицательная теология». Фома Аквинский, выработавший официальный канон схоластическо-като- лической мысли, отверг по этой причине онтологическое182
доказательство существования бога24, заменив его пятью известными аргументами, «доказывающими» не столько существование бога, сколько абсолютную зависимость от него мира. Выявление этой зависимости — в отношении движения, причинности, степени «совершенства», а также случайности вещей, указывающей на необходимое бытие, и их «целесообразности», наводящей на мысль о мировом божественном плане, — в сущности лишь косвенные свидетельства божественного существования.
Не удивительно, что когда радикальная рационалистическая мысль новаторов объявила себя в лице Декарта способной к самому всеобъемлющему 'познанию, она выставила »притязания и на прямое познание божественной сущности суверенным человеческим разумом. Поэтому Декарт возобновил онтологический аргумент, подкрепляя его так называемым психологическим аргументом: из существования в человеческом уме идеи бога, как максимального и совершенного существа, и из невозможности почерпнуть эту идею из нашей чувственной информации о мире делается вывод о боге как единственной причине ее 25. Уже в первой главе своего первого ' произведения, доказывающей существование бога, Спиноза следует за Декартом, называя онтологический аргумент доказательством a priori, а психологический— доказательством a posteriori, причем предпочтение отдается первому из них26. Одновременно Спиноза выступает против тех философов, которые в духе отрицательной теологии утверждают, что «бога нельзя познать положительно, но лишь отрицательно», и тем самым он выступает и против последователей Фомы Аквинского, отвергающих возможность доказательства существования бога a priori27.
Предпочтение, отдаваемое Спинозой доказательству a priori перед всеми другими, коренится в его сугубо рационалистической уверенности, до предела заостряющей картезианский критерий ясности -и отчетливости, как решающий критерий истинности, якобы с необходимостью свидетельствующий о реальном бытии соответствующего объекта, уверенности в том, что из безупречного определения вещи, или, точнее, сущности вещи, можно аналитически заключить о ее актуальном существовании 28. Однако вывод о совпадении сущности
183
п существования, многократно подчеркивает Спиноза, с необходимостью можно 'сделать лишь по отношению к -предельно общей «вещи», каковая -и совпадает в его представлении с »богом, а равным образом и с субстанцией. Неотвратимость, по Спинозе, этого вывода есть результат того, что идея -бога является самой ясной идеей изо всех идей нашего ума. Для своего 'постижения эта идея уже не требует никакой другой. Являясь наиболее общей, она уже в силу этого— наиболее ясна, так как не требует по отношению к себе никакого более высокого «рода», ‘который мог бы определять ее. Поэтому и объект этой идеи — бог, или субстанция, — обладает необходимым существованием, он познается а priori. «Бог... первая «причина всех вещей, а также причина самого себя познается из самого себя», — читаем мы уже в «Кратком трактате»29.
Разумеется, такое познание, наделяющее признаком существования привилегированный субъект аналитического суждения, осуществляется не путем чувственного восприятия, а только в акте интеллектуальной интуиции, схватывающей глубочайшую сущность бесконечно многообразного мира, его единую и единственную основу. Совпадение гносеологического и онтологического аспектов спинозовской метафизики в наибольшей степени проявляется по отношению именно к богу — субстанции, которая, согласно Спинозе, является абсолютно первой как в порядке познания, так и в порядке бытия 30. Поскольку субстанция, как причина самой себя, не обосновывается никаким другим бытием, ее понятие не подчиняется никакому другому, более широкому понятию и поэтому знанию субстанции не может предшествовать никакое другое. Совпадение гносеологического и онтологического аспектов в субстанции и выражается часто повторяемой Спинозой формулой о совпадении в субстанции сущности и существования. Существование же субстанции гарантирует существование бесконечного многообразия вещей окружающего человека мира во всех его проявлениях. «Или ничего не существует,— говорится в «Этике», — или существует так же и существо абсолютно 'бесконечное» 31.
Конечно, в силу своей интуитивно-дедуктивной природы понятие «существования» весьма абстрактно, особенно по отношению к богу-субстанции. Понятие это184
неоднократно использовалось и в идеалистическом контексте, например в новейшем позитивизме. Но конкретно-историческая функция этого понятия у Спинозы должна быть расценена как натуралистическая и материалистическая. Последовательное применение мыслителем дедуктивно-рационалистической методологии, в частности онтологического доказательства божественного бытия, служит у него целям, в сущности прямо противоположным темv какие ставили перед этим «доказательством» схоластики-рационалисты, а в значительной мере и Декарт. У французского философа оно имело в виду утвердить существование бога как начала, возвышающегося над миром и над двумя наивысшими, объединяющими все его явления субстанциями, или, используя схоластический термин, как эминеитного, превосходящего природу существа. Суть же спинозов- ской аргументации, исходящей из того же онтологического доказательства, сводится к тому, что понятие «существа в высшей степени совершенного и абсолютно бесконечного»32, в котором сущность и существование совпадают, полностью исключает какое бы то ни было вне- и сверхприродное начало.
Продуманное до конца ens quo majus esse non potest полностью совпадает с субстанцией, мыслимой как наиболее универсальное, всеобъемлющее бытие. Первое же определение, открывающее «Этику», является определением causa sui, причины самого себя, которая исключает, полностью элиминирует любое внепри- родное начало. Такое понятие было совершенно чуждо схоластической философской мысли. Третье определение характеризует эту причину как субстанцию, существующую «в себе» и представляющуюся «через себя», не нуждающуюся для своего представления в представлении никакой другой вещи. Шестое характеризует ее как бога, понимаемого в качестве существа абсолютно бесконечного. Отождествление бога с субстанцией, а также с природой, имеющее место и в «Кратком трактате» 33, более последовательно проводится в «Этике» 34.
Понятия .причины самой себя, субстанции, или бога, совпадающие в представлении Спинозы с природой, характеризуя материалистический онтологизм и объективизм нашего философа, поднимают его «ад субъективистской точкой зрения Декарта, начинавшего свою
185
систему сомнением в существовании мира и искавшего источника достоверности в недрах субъективного сознания. Открывая свою систему устанавливаемым с логической необходимостью понятием субстанции, познание которой, по замыслу Спинозы, лежит в основе всех остальных познаний о мире, нидерландский мыслитель формулирует антисубъективистскую точку зрения на мир. Очень важное место как в первых теоремах «Этики», так и в других -произведениях философа занимает доказательство единственности субстанции, которая в качестве причины самой себя не может иметь ничего вне себя и, следовательно, ничем *не может быть произведена, ибо «кроме бесконечной природы нет л не может быть никакого существа»35. Если с точки зрения Декарта «под субстанцией мы понимаем то, что нуждается для своего существования лишь в помощи бога» м, то, по Спинозе, «одна субстанция не может производиться другой субстанцией» и вообще «субстанция чем-либо иным производиться не может» 37.
Спинозовская концепция субстанции, как причины самой себя, примыкает прежде всего к пантеистическо- натуралистической традиции. Доказательство того, что «бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующая извне»38, пронизывает все произведения философа. Уже в одном из первых своих писем к Ольденбургу рейнсбургский искатель истины писал: «...я не так отделяю бога от природы, как это делали все известные мне мыслители»39, усматривая, таким образом, в этом принципе единства бога и природы один из конститутивных устоев своей системы. Для ее обоснования Спиноза использует разнообразные аргументы и тексты. Например, в одном из своих последних писем к Ольденбургу, относящемуся к ноябрю — декабрю 1675 г., он, утверждая имманентность и отрицая трансцендентность бога, ссылается на слова апостола Павла: «Мы в нем (т. е. в боге. — В. С.) живем и движемся и существуем»40, и уверяет своего корреспондента, что он утверждает это «вместе со всеми древними философами, хотя и иным образом», как и «вместе со всеми древними евреями» 41.
Утверждение имманентности бога природе идет в произведениях Спинозы рука об руку с утверждением безличного, неантропоморфного характера божества.186
Выше мы видели, что более или менее четко выраженная тенденция к дезантропоморфизации бога была присуща ряду мыслителен средневековья и -была ¡представлена как в своем деистическом, так и в особенности в пантеистическом варианте. Первый из них был, в частности, выражен Маймонидом; «не исключено и даже весьма вероятно влияние этого крупнейшего представителя средневековой еврейской философской мысли на нидерландско-еврейского мыслителя 42. Но если у автора «Морэ небухим» критика антропоморфизмов, какими наделяли бога ортодоксальные раввины, и утверждение безличности божества сочеталось с концепцией отрицательной теологии и имело в виду утвердить непознаваемость бога и его абсолютное отличие от природы, чтобы укрепить благоговение верующих перед ним, то автор «Этики» и «Богословско-политического трактата», напротив, всемерно натурализировал бога, а его доказательство познаваемости неаитропоморфного божества означало, что оно постигается не чувствами, а только умом, «ибо бога мы не можем представлять образно (ш ^ ш а п ) , но зато можем понимать (Ы е1^еге)»43. Несмотря на отдельные оговорки, вроде того, что мы находимся во власти бога «как глина во власти горшечника, который из одной и той же массы делает различные сосуды — один для почетного, другие для низкого употребления»44, Спиноза все время неустанно повторяет, что нужно «тщательно избегать смешения могущества бога с могуществом или правом человеческим, принадлежащим царям»45, так как «атрибуты, делающие человека- совершенным, так же мало могут быть применены к богу, как к человеку те атрибуты, которые делают совершенным слона или осла»46. Несомненно, острие натуралистическо-материалистического пантеизма Спинозы было направлено против господствующих теологических представлений, которые, несмотря на всю свою абстрактность, все же так или иначе сходились в том, что бога следует понимать как некую личность. Спиноза же в «Метафизических мыслях» писал о боге: «Мне не безызвестно слово (именно личность) , употребляемое теологами для объяснения этого предмета. Но хотя мы и знаем слово, мы не знаем его значения и не можем себе составить о нем ясное и отчетливое понятие»47.
187
Пантеистическая дезантропоморфизация и натурализация бога, углубляя материалистический и атеистический аспекты спинозизма, выступает как отвержение креационизма во всех его 'формах. Уже б первом своем произведении молодой мыслитель -писал, что поскольку «творение означает создание вещи ?по сущности и существованию вместе, а порождение значит происхождение вещи лишь по существованию... в природе пег творения, но только порождение»48, поэтому «бог не может более творить»49. Интересно отметить в этой связи выступление Спинозы против Декарта пои изложении принципов его философии. Поскольку Картезий, как известно, отступал в сущности и от принципов деизма в своем утверждении о том, что бог не только сообщил материи первотолчок, положивший начало всем последующим движениям и законам, но и предварительно создал самое материю, Спиноза заметил, что «в его (т. е. Декарта. — В. С.) уме запечатлелось старое воззрение, согласно которому существует всемогущий бог, который сотворил его таким, каков он есть» 50. Нидерландский мыслитель вообще выступает против деистического принципа, согласно которому наряду с отделенным от природы богом существует особая материя, что «рядом с богом есть материя, вечная подобно ему, существующая сама по себе, .приведенная, по мнению одних, разумом бога в порядок, а по мнению других, получившая от него также и форму»51.
Выше мы указывали, что одна из заслуг пантеизма в истории -натуралистическо-материалистической мысли состоит в «реабилизации» материи, провозглашавшейся многими пантеистами началом, не уступавшим по своему значению для образования вещей деятельности божественного всемогущества. Продолжая эту традицию, Спиноза »решительно выступает против тех писателей, которые «отрицают телесность бога», «совершенно удаляют от божественной природы и самую телесную или протяженную субстанцию и полагают, что она сотворена богом»52. Доказательство того, что «телесная субстанция», т. е. материя, достойна «божественной природы», в конкретных условиях -рассматриваемой эпохи была своеобразной формой пропаганды материализма.
Отвергая всякого рода креационизм, Спиноза опирается при этом на. пантеистическое по сзоей сути раз188
личение natura naturans, порождающей, или 'производящей, природы, с одной стороны, и natura naturata, порожденной, или произведенной, — с другой. Это различение мы находим как в «Кратком трактате»53, так и в «Этике»54. Порождающая природа — божественное существо, следовательно субстанция. Формулируя свое отличие от томистов, которые тоже учили о порождающей божественной природе, Спиноза указывает, что «их порождающая природа была существом (как они это называли) вне всех субстанций»55, т. е. существом, понимаемым креационистски. Порожденная же природа— это мир единичных вещей, модусов в двух их разновидностях, о которых у нас пойдет речь ниже. Объявляя субстанцию порождающей, или творящей природой, а мир конкретных предметов — природой порожденной, или сотворенной, Спиноза перетолковывает ставшее обязательным в течение многих веков господства религиозно-монотеистических воззрений представление о творении мира богом: «творение» выступает у него не в качестве процесса создания мира богом в течение некоего краткого промежутка времени, а как логически необходимый и в сущности вневременный, как увидим в дальнейшем, процесс «происхождения» вещей из субстанции. Нидерландский мыслитель выступает здесь продолжателем идей Ибн Сины, Ибн Рушда и до известной степени Маймонида.
Настойчивая борьба Спинозы против ‘креационизма приводит его к последовательному отрицанию свободной воли бога, решительному отвержению божественного произвола. Воля бога и его мощь не отличаются от его разума56. Спиноза и здесь развивает традицию, идущую от Авиценны, Аверроэса и Маймонида, которые, как мы видели, в борьбе против мусульманского и иудейского креационизма и фатализма подчеркивали не волевое, а разумное начало божества. Однако в отличие от них Спиноза, как типичный «представитель философии XVII столетия, с характерным для нее культом достоверно- математического и теоретизирующего мышления, деятельность божественного «разума» стремится истолковать математически и, как увидим дальше, в сущности отождествляет ее с метафизически понятыми закономерностями природы. Отрицая свободу божественной деятельности в смысле произвола, нидерландский мыс
189
литель вслед за Бруно, Гоббсом, Декартом многократно подчеркивает ту мысль, что свободная деятельность бога возможна только как деятельность необходимая. «Бог — единственная свободная причина», ибо «вне его нет внешней причины, 'которая побуждала бы или принуждала его» 57, — читаем мы уже в «Кратком трактате». Мысль эта более обстоятельно развита в «Этике», одна из теорем которой гласит, что «бог действует единственно по законам своей природы и без чьего-либо принуждения»58.
Современники гаагского мыслителя в отрицании им отдельного от природы бога, действующего на основе ничем не обусловленной воли, видели главный пункт расхождения с христианской,— а можно сказать, и с любой другой— формой монотеизма и 'подчеркивали атеизм Спинозы. Так, Колерус, честный биограф философа, но и принципиальный враг его, формулируя противоположность христианского и спинозовского понимания бога, писал: «...или истинный Бог — субстанция вечная, отдельная, отличная от Вселенной и от всей природы, создавшая мир и все живое из небытия одною лишь силою своей безусловно свободной воли; или же Бог — Вселенная и все заключающиеся в ней существа, субстанция с бесконечным мышлением и протяжением?... Спиноза вполне признает, что Бог есть причина всех вещей, но он утверждает, что Бог произвел их неизбежно, без свободы, без выбора, «не сообразуясь со своим добрым желанием... Не заключается ли в этом самый зловредный Атеизм, какой когда-либо .появлялся на свете?» 59.
Выше мы определили, что важнейший принцип онтологии-физики Спинозы является органистическим. Вне этого принципа немыслима пантеистическая традиция, развитая нашим философом до всеобъемлющей натуралистическо-материалистической концепции. Оставляя до последующего выяснения значительное отличие орга- ницизма Спинозы от органицизма Бруно или Кампа- иеллы, явившееся результатом усвоения нидерландским мыслителем принципов механистическо-математического объяснения природы, подчеркнем, что органицизм Спинозы, в общем, выражен весьма абстрактно и связан прежде всего с его пониманием отношения бога к миру.
Подчеркивая, что «бог есть абсолютно первая при190
чина»60 всех вещей, ближайшая «причина их61, Спиноза высказывается против деистического по своей сути представления, согласно которому бог «составляет отдаленную причину отдельных, вещей», ибо «под отдаленной причиной мы понимаем такую, которая никаким образом не связана со своим действием»62. Выше мы констатировали, что в рассматриваемую эпоху к деистическим представлениям о боге, рассматриваемом лишь в качестве отдаленной первопричины наблюдаемых з природе движений, прибегали в сущности все мыслители, укрепившиеся на позициях последовательно механистического истолкования явлений природы. Поскольку же при деистическом истолковании *бога он мыслился как внеприродный принцип и, таким образом, в этом отношении приближался к теистическим представлениям о нем, Спиноза придерживался и развивал пантеистическую традицию, которая более очевидно приводила к выводам атеизма, за что неоднократно и решительно осуждался ортодоксальными вероучениями. Кроме того, деистическо-механистическое истолкование природы и человека, упрощая действительную картину процессов, происходивших в объективной действительности, особенно в сфере органической природы, не могло дать сколько-нибудь удовлетворительного ‘ решения проблемы самого познающего сознания, встречалось с непреодолимыми трудностями в объяснении генезиса достоверного знания, как это констатировано нами выше. Все это может объяснить, почему Спиноза предпочел прибегнуть к понятию бога в качестве не только «отдаленной», но и «ближайшей» причины всех вещей. Творческая мощь бога-субстанции проявляется не только и даже не столько в том, что она выступает в качестве причины самой себя. Как причина самой себя субстанция выступает и причиной всего наблюдаемого в природе и в окружающей действительности многообразия явлений. Из многообразных определений бога в качестве причины всего существующего, почерпнутых в современной ему схоластической мысли и сформулированных в «Кратком трактате» 63, в «Этике» в особенности удерживается представление о боге как о causa effi- ciens, о производящей причине; «бог есть производящая причина всех вещей, какие только могут быть представлены бесконечным разумом»64. Могущество бога порож
191
дается самой его сущностью в качестве причины самого себя 65.
Но как же более конкретно представлял себе Спиноза отношение субстанции-бога в качестве первопричины и бесконечного многообразия единичных вещей? Ответ на этот трудный вопрос мы попытаемся дать в следующем разделе этой главы.
Субстанция и единичные вещи, субстанция и модусы. Раздвоение онтологического видения мира
в спинозовской интерпретации природы
Субстанция — лишь один полюс спинозовской концепции природы. Другим ее полюсом является бесконечное многообразие единичных, или отдельных вещей (res singulares seu particulares). Абсолютно бесконечная субстанция, как причина самой себя, ничем не ограничена, любая же единичная вещь 'потому и является конечной, что она ограничивается другой вещью «той же природы». Таково именно второе определение, открывающее «Этику» и противопоставляющее вещь, «конечную в своем роде» субстанции как причине самой себя66.
В доказательстве реальности субстанции Спиноза опирается на разум, на высшую его способность — интуицию, До известной степени он опирается -при этом и на рационалистическо-реалистическую традицию схоластической мысли, которая оборачивается Спинозой против теистических представлений, обоснованию коих эта традиция служила. В доказательстве же реальности существования единичных, индивидуальных вещей, Спиноза, подобно Бэкону, Гоббсу и Декарту, использовал номиналистическую традицию средневековой мысли и, последовательно проводя ее, решительно отрицал идеалистические (преувеличения схоластического реализма относительно самостоятельного, объективного, или «формального», существования пресловутых «родов» и «видов». Уже в «Кратком трактате» мыслитель отвергает воззрения как тех схоластических последователей Платона, которые -помещали общие идеи (например, «разумное животное») в уме бога и признавали бога творцом этих идей, так и мнение тех средневековых192
последователей умеренного реализма Аристотеля, которые, подобно Аверроэсу, распространяли божественное предопределение «не на отдельные вещи, но лишь на роды» (например, не на Буцефала, а на весь род лошадей). Между тем, доказывает Спиноза, «причину имеют только отдельные вещи, а не всеобщие, ибо они ничто». Поэтому «бог есть причина и попечитель только отдельных вещей»67. И в последующих произведениях Спиноза противопоставляет свое убеждение в реальности существования единичных вещей воззрению еще очень многочисленных в его век платонизирующих и аристотелизирующих схоластиков, которые «больше привыкли занимать свой рассудок entia rationis (мысленными сущностями), чем отдельными вещами, существующими в действительности в природе, и потому рассматривают ens rationis (мысленную сущность) не как таковую, но как ens reale (реальное существо)» GS.
Таким образом,[согласно Спинозе, с одной стороны, существует — по самой необходимости своей сущности— бесконечная субстанция, а с другой — бесконечный мир конечных, единичных, или отдельных, вещей. ̂ Но последние, по высшему замыслу спинозовской онтологии,— не бесконечное нагромождение разрозненных и изолированных предметов, а совокупность людусов, или состояний, единичных'проявлений единшТНи“" единственной субстанции. '«Отдельные вещи составляют не что иное, как состояния, или модусы, атрибутов бога, в которых последние/выражаются известным и определенным образом»69.! Если субстанция, ¡по третьему определению, открывающему «Этику», существует «сама в себе» и представляется «сама через себя», поскольку познается интуитивно, то модус, согласно пятому определению того же места, «существует в другом и представляется через другое»,! 'поскольку его существование и„его по- знание в качестве ^единичной вещи ¿^необходимостью связапо^с'^существованием и познанием других вещей, других модусов'/Хотя|в принципе модусы не" отличаются ~от едитшчтш х /Веще й, тем не_менее *их различие,>неодйо- крат1Го^иксируемое в' «Этике», да и в других произведениях Спинозы, играет немаловажную роль__в спино- аовской ̂ онтологии, не 'говоря уже о различии в харак- тере их гносеологичес5Шго^постижен'ияГ*Ниже мы оста- нöв^ГмcяП<alГ_IГa~oнтoлoгичecкö^I7тäк“̂ I на гносеологиче7 Зак. 681 193
ском аспектах этого важнейшего различения спинозов- скои метафизики.
Не требует специального разъяснения монистический характер спинозовского учения о субстанции. íiWomicTH- ческая тенденция передовой научно-философскбй мысли XVII столетия, лишающая ¡предметы и явления природы их качественной определенности, отрицающая их субстанциальную самостоятельность, тенденция, выражавшая переход от аристотелевско-схоластической логики классификации к логике исчисления, зародившейся в том веке вместе с 'бурным прогрессом математического естествознания, эта тенденция с наибольшей последовательностью проведена—-была, именно Спинозой.
ГВ «Кратком трактате» философ^писал о единстве7"<<ко-1 торое мы видим повсюду в природе»70. В «Метафизических мыслях» он подчеркивал, что, «принимая во внимание сходство (analogía) всей природы, мы можем
рассматривать ее как единое существо (Ens)»71. Последнее и выражено понятием субстанции, порождающей свои состояния. Схоластическая мысль основывала свою философию природы на допущении существования множества самостоятельных, качественно своеобразных субстанций, порождавших многообразные «реальные акциденции», т. е. все, что человек воспринимает чувствами в окружающем его мире. Согласно же Спинозе, все вещи 'принципиально тождественны друг другу, так как все они — проявления одной и той же субстанции. «Сущее делится на субстанцию и модус, а не на субстанцию и акциденцию» 72. Поскольку все существующее «существует или само в себе или в чем-либо другом», «вне ума нет ничего, кроме субстанций и их состояний» 73.
^ у ^ е 1Ш11_Спинозы о_ субстанции и модусах раскрывается и другой аспект его онтологии — аспект целост- н о сп ^^ш о го о б р а з 1Гямира. Проблема целого и части была поставлена“ философом в самых ранних его про- изведениях, если таковыми считать те два его диалога, которые помещены в первой части «Краткого трактата». В первом из них устами Вожделения выражено недоумение, каким образом «единство -совмещается с разнообразием, которое я повсюду наблюдаю в природе»? Ответ Разума гласит, что различие субстанций, представляющееся Вожделению, — только видимость, тогда194
как в действительности существует одна единственная субстанция, «которая существует сама по себе и является субстратом всех других атрибутов», а равным образом и всех модусов, к какому бы атрибуту они ни относились, и «все это, — продолжает Разум, — мы объявляем... единственным или единством, вне которого нельзя представить -себе ни одной вещи»74. Как главное^ выражение целостности природы, «субстанция по при- / роде первее своих состояний», т. е. модусов, гласит . первая теорема первой части «Этики»75.'
Продолжая органистическую традицию, Спиноза стремится постигнуть единичные вещи, исходя из целостности, а не наоборот, как во многих механистическо- аналитических системах, сформулированных в том же веке. С точки зрения Спинозы, целое не может быть без остатка разложено на составляющие его части, ибо «разрушить какую-нибудь вещь значит разложить ее на такого рода части, чтобы ни одна из них не выражала природы целого»7£. Части понимаются Спинозой как части единого, органического, а не механического целого. Целое — это не конгломерат, не механизм, а организм, ибо «каждая отдельная часть целой телесной субстанции необходимо принадлежит к целой субстанции и без остальной субстанции (т. е. без всех остальных частей этой телесной субстанции) не может ни существовать, ни быть мыслимой»77. Выше было подчеркнуто, что, говоря о согласовании частей природы, Спиноза «исходил из органистических аналогий. В сущности то же означает и известная обобщенная формулировка «Этики», гласящая, что «вся природа составляет один индивидуум, части которого, т. е. все тела, изменяются бесконечно многими способами без всякого изменения индивидуума в его целом»78. Не исключено, что сама эта формулировка навеяна тем местом «Путеводители колеблющихся» Маймонида, в котором крупнейший еврейский философ средневековья, опираясь на органистические представления, полемизировал против крайнего креационизма мутакаллимов и на которое мы ссылались во второй главе79.
Сложность понятия субстанции как выражения целостности природы усугубляется еще и тем, что эта целостность одновременно мыслится философом как актуальная, завершенная, ни в какой степени и ни с7* 195
какой стороны не ограниченная бесконечность. Отношение так понятой бесконечной субстанции к миру порожденных ею модусов есть отношение ограничения, понятие которого—знаменитое determinatio est negatio— в антикреационистской онтологии Спинозы 80 выступает как одна из противоположностей теологического понятия творения. Творческая мощь субстанции требует, чтобы понятие актуально бесконечного как абсолютно неограниченного предшествовало понятию конечного как ограниченного не только в пространстве, но и, как увидим далее, во времени. Декарт писал, что «в бесконечной субстанции находится больше реальности, чем в субстанции конечной, и, следовательно, понятие бесконечного в некотором роде первее во мне, чем понятие конечного» 81. Эта мысль еще сильнее была подчеркнута в пантеистической традиции, в которой она составляла одну из ее определяющих идей. Развивая эту традицию, Спиноза писал, что «конечное бытие в действительности есть в известной мере отрицание, а бесконечное — абсолютное утверждение существования какой-либо природы» 82.
Его онтология выдвигает на первый план понятие актуально бесконечной субстанции, абсолютность бытия которой, не допускающая никакого отрицания, противопоставляется относительности бытия любой конечной вещи, которая в качестве модуса должна быть мыслима как результат ограничения бесконечности, вследствие чего и возникает та или иная определенность той или иной вещи. Но определенность данной вещи отличает ее, отграничивает от всех других вещей. Следовательно, любой вещи -присуще не только бытие, но и небытие. Вот почему всякое ограничение и есть отрицание. Одна из наиболее ясных формулировок этой мысли содержится в письме к Иеллесу от июня 1674 г., где, в частности, утверждается, что фигура, имеющая место «только в конечных и ограниченных телах», в отличие от материи, рассматриваемой в целом, «есть отрицание, а не нечто положительное», ибо «это ограничение не принадлежит вещи согласно ее бытию, но, напротив того, оно есть небытие этой вещи. Так как, следовательно, фигура есть не что иное, как ограничение, а ограничение есть отрицание, то она... не может быть не чем иным, как отрицанием»*1. Ограниченность как отрицание бытия196
есть одна из решающих характеристик единичной вещи в ее противоположности субстанции, в интуитивной не- определяемости которой и проявляется прежде всего абсолютный характер ее бытия.
Противоположность субстанции и единичных вещей ' обосновывается также Спинозой в его учении о соот- 1 ношении сущности и существования, учении, средневе- “ ковая традиция которого, имевшая в числе своих виднейших представителей Фому Аквинского, восходит к Авиценне. Во всех .произведениях Спинозы настойчиво проводится та мысль, что сущность субстанции совпадает с ее существованием, тогда как такого совпадения нет ни в одной единичной вещи.
Понятие сущности принадлежит к числу трудно поддающихся интерпретации понятий спинозовской метафизики. Оставив до дальнейшего выяснения гносеологи-' ческую природу сущности, мы остановимся сейчас на ее онтологической функции, ’без уяснения которой нельзя понять отношений субстанции и единичных вещей. Одно из определений онтологической функции сущности, которое мы находим в «Этике», гласит: «К сущности какой-либо вещи относится ...то, через что вещь необходимо полагается, если оно дано, и необходимо уничтожается, если его нет; другими словами то, без чего вещь и, наоборот, что без вещи не может ни существовать, ни 'быть представлено»84. Причина существования любой вещи может -быть двоякой: или она заключена «в самой природе и определении существующей вещи (именно в силу того, что существование присуще его природе), или должна находиться вне ее»85. При этом если первая из этих причин, сущность, исчерпывает существование субстанции, не определяемой в силу своей единственности никакой другой вещью, то сущность любой единичной вещи далеко не исчерпывает ее существования, поскольку оно определяется здесь не только и даже не столько сущностью, сколько окружа- ющими ее другими вещами, детерминирующими данную вещь. Поэтому «все, чьей природы может существовать несколько отдельных единиц, необходимо должно иметь внешнюю причину для их существования»8б. Сущность вещи, метафизически понимаемая как ее вечное определение, некое неизменное внутреннее свойство, лишь полагает бытие этой вещи, утверждает, но не отрицает
197
его. Как метафизическая сущность, она не содержит в себе никаких внутренних противоречий, которые целиком переносятся Спинозой лишь во внешнюю детерминацию, «ибо сущность зависит лишь от вечных законов природы, а существование — от 'последовательности и порядка причин»87, поэтому «никакая вещь не может быть уничтожена иначе, как внешней причиной»88. Поскольку реальное существование вещей протекает не только в пространстве, но и во времени, из спинозов- ского понимания взаимоотношения сущности и существования в субстанции, с одной стороны, и в единичных вещах —с другой, вытекает одно из важнейших различений спинозовской метафизики — различение вечности и времени.
А^егпИаБ, вечность, многократно подчеркивает Спи-, ноза, с необходимостью присуща природе субстанции, поскольку существование ее не определено никакой внешней причиной и ему не угрожает ни одна из них. Вечность, как важнейшее определение сущности и существования субстанции, означает выключенность ее из времени, ибо «в вечности нет никакого когда, ни прежде, ни после»*9. Неоднократные высказывания Спинозыо том, что модусы следуют из субстанции с той же необходимостью, с какой из ¡понятия треугольника следует равенство его углов двум -прямым, как и широкое при- - менение им «геометрического» метода вообще, дают почти исчерпывающий ответ — «почти», поскольку мы отвлекаемся от средневековой философской традиции, в которой понятие вечности играло немаловажную роль, — на вопрос о гносеологическом источнике этого важнейшего определения субстанции, как и «вытекающих» из нее модусов. Таким источником послужило размышление Спинозы над характером достоверности математических истин, которые со времен античности считались извечными, не подверженными никаким ¡переменам, и в этом своем качестве противопоставлялись постоянно изменяющимся, предметам чувственного мира, могущим доставить только недостоверное знание. В XVII в., когда значение математических наук не только в практике научного исследования, но и в философской методологии необычайно возросло и когда отсутствовало понимание историчности математических истин, спинозовская интерпретация их 'как вечных, це198
подверженных никаким испытаниям времени, стала одним из типичных философских заблуждений рассматриваемого столетия. В соответствии с такой методологией Спиноза утверждает, что природа представляет собой как бы вечное настоящее, она -не имеет ни .прошлого, ни будущего. Однако отождествление реально действующей природной причинности с логически-вне- временным следованием математических истин из аксиом и постулатов, понимание в связи с этим вечности субстанции, вне времени -порождающей бесконечный мир своих модификаций, в условиях той эпохи было в сущности направлено против религиозно-креационистских представлений, согласно которым творение мира богом было процессом <не только конечным в пространстве, но и точно определенным во времени90.
В противоположность субстанции мир единичных, разрозненных вещей, в принципе совпадающий с миром ее модификаций, существует в реальном времени, по- скольку он не рассматривается в качестве совокупности модификаций субстанции. При этом время, согласно Спинозе, есть мера длительности, определяемой как «неопределенная непрерывность существования»91. Ее неопределенность — прямой результат того, что существование единичной вещи далеко не полностью определяется его сущностью, а в значительно большей мере детерминацией других единичных вещей. Ибо, поскольку «ни одна вещь не может быть уничтожена иначе, как внешними причинами»92, длительность есть «состояние существования, а не сущности вещей»93. Отличие длительности от вечности есть отличие потенциальной бесконечности от бесконечности актуальной. Последняя, будучи абсолютной бесконечностью, постигнутой интеллектуальной интуицией, дана в результате этого как бы сразу, в то время как потенциальная бесконечность, присущая длительности, позволяет мыслить ее сколь угодно малой или сколь угодно большой, ибо «нет такой длительности, чтобы -нельзя было представить себе двойную или такую, которую можно себе представить много больше или много меньше данной» 94.
Все рассмотренное выше позволяет нам сделать вывод, сформулированный в названии этого параграфа, — вывод о раздвоении онтологического видения мира Спинозой: с точки зрения субстанции и с точки зрения еди
199
ничных вещей, хотя в принципе последние и должны мыслиться единичными видоизменениями, модифика-
( циями этой субстанции. «Мы представляем вещи, — го- уворится в конце «Этики», — как действительные (акту- { альные) двумя способами: или представляя их суще-I ствование.с отношением к известному времени и месту,
или представляя их содержащимися в боге и вытекающими из 'необходимости божественной природы»95. Первая точка зрения (постигает единичные вещи в их самостоятельности, независимости от субстанции, вторая — в их зависимости . от нее, превращающей единичные вещи в модусы. Этот онтологический раскол, порожденный в значительной степени различием -гносеологического, постижения: субстанций — интуицией, а единичных вещей — чувствами, раскол, привлекающий внимание многих исследователей спинозовской метафизики и методологии96 начиная с Бейля, по нашему убеждению, должен быть понят как результат неспособности нидерландского мыслителя провести органистическо-целостную точку зрения на природу. Эта точка зрения для своей успешной реализации требовала диалектических методов, а не только доступной Спинозе рационалистическо- математизированной методологии, исключающей время из решения самых. трудных вопросов интерпретации природы, вопросов, связанных с пониманием происхождения единичных вещей из субстанции.
Противопоставление актуально-бесконечной, вневременной субстанции потенциально . -бесконечному миру единичных вещей, взаимодействие которых совершается в реальном времени, усиливается в метафизике Спинозы, когда мыслитель многократно указывает, что к субстанции не применимы не только категории времени (за исключением вечности, являющейся в сущности отрицанием всякого времени), но и категории меры и числа, с успехом применяемые в процессе научного познания мира единичных вещей. Поэтому одна из определяющих характеристик актуальной бесконечности, этого синонима субстанции, также состоит в неприменимости к ней ни меры, ни числа. «Бесконечная величина недоступна измерению и из конечных частей состоять не может»97. Отсюда неоднократные высказывания Спинозы о неделимости субстанции и о простоте ее, •поскольку она не составлена из частей, а также о не200
обходимости ее существования, «исключающей все подобные 'представления98. Противопоставление актуально-бесконечной субстанции и конечных и преходящих единичных вешей выражается у Спинозы формулировкой, встречавшейся нам при рассмотрении пантеизма Николая Кузанского: «...между конечным и бесконечным нет никакой соразмерности»99. Спинозовская> субстанция есть, употребляя термин Гегеля, целокупность (тотальность) 100 и поэтому «полагать, что телесная субстанция (т. е. в данном случае, протяженный атрибут единой субстанции. — В . С.) слагается из тел или частей, не менее нелепо, чем полагать, что тело слагается из поверхностей, поверхности — из линий, наконец, линии— из точек»101.
Рассмотренные принципы спинозовской метафизики, получившие наиболее полное выражение в «Этике», сложились у мыслителя довольно рано. Почти исчерпывающую формулировку этих принципов мы находим в его известном письме «О природе бесконечного», адресованном Людвигу Мейеру еще из Рейнсбурга и относящемся к апрелю .1663 г. Подчеркивая здесь затруднительность вопроса о бесконечности, Спиноза указывает, что основная причина этой затруднительности состоит в том, что при попытках решения ее «не делали различия между тем, что бесконечно по самой своей природе или в силу самого своего определения, и между тем, что не имеет никаких границ не в силу своей сущности, а в силу своей причины» 102. Тем самым условие правильного понимания бесконечного, по Спинозе, состоит в различении актуально-бесконечной субстанции, постигаемой, как утверждается здесь же, интеллектом, и потенциальной бесконечности отдельных вещей, являющихся предметом представления, чувственного познания. Чувственное понимание количества, оперирующее категориями времени для измерения длительности, меры — для измерения пространства, и числа — для всяких измерений вообще, определяется философом как познание абстрактное, или поверхностное. Такое познание имеет место тогда, когда, «отделяя состояния субстанции от самой субстанции и подразделяя их для облегчения образного представления на классы, мы получаем число (пишегиБ), которое и служит нам для определения этих состояний». Сами средства «аб
201
страктного познания»: время, мера и число «суть не что иное, как модусы мышления, или, лучше сказать, воображения», «вспомогательные средства представления», не пригодные для того, чтобы, не впадая в путаницу, «понять ход природы (progressus naturae)»103. Истинное же познание, достигаемое с помощью только разума, познание, постигающее подлинно бесконечную, единственную, нераздельную, вечновременную субстанцию, воспринимающее «этот предмет так, как он есть в себе», представляется Спинозе единственно конкретным видом познания. Почти буквальное повторение этой мысли мы находим и в «Этике»104.
Очень важно также имеющееся в письме о бесконечном указание Спинозы, согласно которому с помощью названных «средств представления», или «рассудочных понятий», «даже модусы субстанции никогда не будут правильно поняты... ибо этим мы отделили бы их от субстанции и от того способа, каким они проистекают из вечности (курсив мой. — В. С.), а без этого они не могут быть правильно поняты»105. Важность этого указания Спинозы относительно познания модусов, в принципе не отличающегося, таким образом, от познания субстанции, заключается в том, что сам мыслитель обычно путает понятие «единичной вещи», с одной стороны, и понятие «модуса», как той же единичной вещи, но с точки зрения ее зависимости от субстанции—с другой. Даже в том же письме, о котором сейчас идет речь, утверждается, что «существование субстанции мыслится нами как нечто принципиально иное, чем существование модусов»106, в то время как из вышесказанного очевидно, что следует говорить о субстанции и единичных вещах, потому что модусы, как такие состояния субстанции, которые проистекают с необходимостью из ее вечности, в .принципе тождественны с этим породившим их целым, ибо они заключают в себе «вечную и бесконечную сущность бога». Ведь единичные вещи становятся модусами, когда они постигаются интуицией в их зависимости от субстанции, и чувствами, представлением, не могут быть постигнуты в этом своем определяющем качестве. Поэтому в метафизике Спинозы имеет место не столько отрыв субстанции от модусов, как обычно утверждается исследователями этой системы, сколько отрыв субстанции от202
единичных вещей. Этот отрыв, порожденный метафизической методологией мыслителя, выражает его неспособность показать действительное превращение единичных вещей в модусы единой субстанции. Тот онтологический раскол, какой мы констатируем в спинозовской метафизике, выступает, таким образом, не столько как раскол между субстанцией и модусами, сколько как раскол между субстанцией и модусами, с одной стороны, и миром единичных разрозненных вещей — с другой. Раскол этот выражает непримиримость целостно-органистиче- ской и плюралистическо-механистической точек зрения на природу и должен быть истолкован как результат неразрешимости диалектической задачи метафизическими средствами, единственно доступными Спинозе. В дальнейшем мы познакомимся и с другими онтологическими, а затем и гносеологическими проявлениями этого фундаментального противоречия.
В заключение этого раздела следует остановиться на связанных со спинозовским учением о субстанции, единичных вещах и модусах, физических представлениях, конкретизирующих его материалистическую точку зрения. Ибо сколь ни абстрактно спинозовское представление о субстанции, этой, по известному выражению Маркса, метафизически переряженной природы в ее оторванности от человека 107, все же субстанция Спинозы— это природа, и философ вынужден уо1епз-по1еп5 пользоваться «вспомогательными средствами представления». Например, для иллюстрации отношения неизменной субстанции к порождаемым ею преходящим модусам Спиноза избирает образ воды, которая всегда существует в тех или иных количествах и поэтому «вода как вода возникает и исчезает, а как субстанция она не возникает и не исчезает». Материалистический характер монизма Спинозы, связанного с е^о учением о единой субстанции, выражен здесь же р словах о том, что «материя всюду одна и та же и... части могут различаться в ней лишь постольку, поскольку мы представляем ее в различных состояниях. Следовательно, части ее различаются только модально, а не реально» 108. Материя в спинозовском понимании (т. е. как субстанция) есть абсолютно объективная, не зависящая ни от чьего сознания и вообще ни от чего не зависящая реальность. Правда, эта объективная реальность дана
203
не чувствам человека, а только его уму и даже интуиции (что опять-таки, как убедимся в дальнейшем, порождено метафизическим противопоставлением разума и чувств). Но все же основной признак материи, ее объективная реальность, присущ спинозовскому пониманию ее. Вот почему в «Философских тетрадях» Ленин дает высокую оценку теоретико-познавательного значения спинозовской субстанции, указав, что это понятие представляет важную ступень в процессе развития познания природы и материи: «С одной стороны, надо углубить познание материи по познания (до понятия) субстанции, чтобы найти причины явлений. С другой стороны, действительное познание причины есть углубление познания от внешности явлений к субстанции. Двоякого рода примеры должны бы пояснять это: 1) из истории естествознания и 2) из истории философии» 109.
Как ни мало точек соприкосновения спинозовской онтологии с физикой, особенно в «Этике», где мыслитель специально подчеркивает, что в его задачу не входит писать трактат «собственно о теле» по, все же такие точки соприкосновения есть, особенно в переписке. Здесь порой мы встречаемся с замечаниями вроде того, что «структура человеческого тела сдерживается в надлежащих границах одним только давлением воздуха»111. Однако, когда мы говорим о точках соприкосновения онтологии и физики Спинозы, то имеем в виду не отдельные факты современного философу естествознания, встречающиеся в его произведениях там и сям, но в общем не часто, особенно если исключить переписку, а принципиальные положения, которые, в общем, сближают. физику Спинозы с механистической физикой Декарта.
Нидерландский философ подобно своему французскому предшественнику отрицает наличие пустоты в природе. «Пустого пространства не существует» П2. И это совершенно понятно, поскольку Спиноза, категорически настаивая на вездесущности бога-субстанции, исключал тем самым пустоту a priori, как это утверждалось в античности метафизикой элеатов, с которой у метафизики Спинозы столько общего. Отсутствие пустоты для Спинозы — не гипотеза, как утверждал Бойль в связи с их опытами над селитрой, а такой же a priori устанавливаемый факт, не допускающий противного, каким204
с точки зрения методологии мыслителя является существование единственной субстанции. Ведь «у ничто не может быть никаких свойств» из.
Отрицание Спинозой пустоты — главный пункт его разногласий в области физики с Бойлем и всеми теми, кто возобновлял атомистическую физику, по-видимому, скомпрометированную в глазах Спинозы уже тем креационистским применением ее, -какое было сделано мута- каллимами и с каким мыслитель мог ознакомиться по главному произведению Маймонида. Но в остальном принципы механистической физики Спинозы не отличаются от таковых же Бойля. Они совпадают прежде всего в выступлении обоих мыслителей, как и всех других прогрессивных ученых этого века, укрепившихся на позициях механико-математического естествознания, против схоластического «ребяческого и вздорного учения о субстанциальных формах, качествах и т. п.» ,14. Подобно всем ученым, Спиноза отрицает объективность «вторичных качеств», признавая ее только за «первичными» (сам термин, как известно, был введен в научнофилософский словооборот именно Бойлем). «Понятия, почерпнутые из обыденного словоупотребления, — говорится уже в одном из первых писем. Спинозы, — или объясняющие природу не так, как она есть в себе, а так, как она относится к человеческому чувству, я никоим образом не считал бы возможным причислить к высшим родам понятий, ни смешать их с чистыми понятиями, объясняющими природу, как она есть в себе. К последним относятся движение, покой и их законы; к первым — видимое, невидимое, теплое, холодное, а также — скажу сразу же — жидкое, твердое и т. п.»115.
В сферу «вторичных качеств» Спиноза, натурализи- руя все явления действительности, включает и такие ее предикаты, как, например, красота и безобразие, ибо «красота... есть не столько качество того объекта, который нами рассматривается, сколько эффект, имеющий место в том, кто рассматривает. Если бы глаза наши видели дальше или ближе или если бы наша (психофизическая) конституция была иная, то, что теперь кажется красивым, показалось бы безобразным. Красивейшей рука, рассматриваемая в микроскоп, показалась бы ужасной... Так что вещи, рассматриваемые сами по себе или, будучи отнесены к богу, не являются ни кра
205
сивыми, ни безобразными» Пб. К той же области «вторичных качеств» в сущности относятся у Спинозы и такие понятия, как порядок и беспорядок, совершенное и несовершенное, добро и зло, грех и заслуга. В ту же область «мысленного бытия» следует отнести и время, поскольку оно в отличие от вечности — «не состояние вещей, но только модус мышления, ...служащий для объяснения длительности» 117.
Субстанция и атрибуты, спинозовский натурализм как материализм
Соотношение субстанции и модусов с »необходимостью требует дальнейшей характеристики субстанции с точки зрения ее качественного содержания. Целям такой характеристики и служит понятие атрибута, неотъемлемого и определяющего свойства субстанции. Четвертое и шестое определения, открывающие «Этику», и характеризуют субстанцию с точки зрения присущей ей атрибутивности. Второе из этих определений отличает бога-субстанцию от атрибута, как абсолютно бесконечное от бесконечного в своем роде .
Приписывание субстанции бесконечного числа атрибутов— существенный элемент спинозовской онтологии. Поскольку абсолютно бесконечная субстанция представляет собой наивысшее 'бытие, которому принадлежит максимум реальности, она с необходимостью должна обладать -бесконечным числом атрибутов, ибо чем более какая-либо вещь имеет реальности, или бытия, тем более присуще ей атрибутов 118. Кроме того, поскольку реальность и совершенство совпадают, наи- высшее «совершенство» субстанции требует максимальной реальности, Которая, согласно философу, становится невозможной, если относительно субстанции отрицать хотя бы один атрибут. Если всякое ограничение есть отрицание, то субстанция, как совершенно неопределяемая сущность мира, постигаемая интуицией, не может претерпеть никакого, даже самого малейшего ограничения, отрицания. К утверждению о необходимости приписать богу бесконечное число всевозможных атрибутов приводит Спинозу и его онтологический монизм, требующий единой и единственной субстанции, исклю206
чающий существование какой бы то ни было другой субстанции.
Исследуя мотивы, приведшие Спинозу к утверждению бесконечного числа атрибутов, следует также иметь в виду научно-философскую осторожность мыслителя, по-видимому, понимавшего, что с помощью только двух атрибутов, протяжения и мышления, с очевидностью проявляющихся в реальном мире, нельзя объяснить всех явлений и особенностей природы. Например, отвергая в «Кратком трактате» мнение тех деистически настроенных мыслителей, которые, наблюдая в природе покой и движение, считают, что «необходимо должна быть первая причина, движущая данное тело», его автор заявляет, что «мы допускаем, что если бы тело было самостоятельной вещью и >не имело других свойств, кроме длины, ширины и глубины, то в нем не было бы причины, чтобы прийти в движение, если бы оно действительно находилось в покое. Но... природа есть существо, о котором высказываются все атрибуты, и если это так, то ей не может недоставать ничего, чтобы произвести все то, что должно быть произведено» ,19. Наивысшая причинность, каковую ¡представляет собой бесконечная субстанция, необходимость объяснять ее деятельностью все явления природы и человека, как часть ее, требует, таким образом, приписывания субстанции бесконечного числа атрибутов. «В действительности бог составляет причину всех вещей..; в силу того, что он состоит из бесконечно многих атрибутов» 120.
Будучи призвано подкрепить положение о субстанции как причине самой себя и тем самым причине всех без исключения явлений природы, утверждение спино- зовской онтологии о бесчисленности атрибутов субстанции остается в сущности лишь формальным утверждением, ибо реальное значение сохраняют только два атрибута субстанции — протяжение и мышление, об остальных же мыслитель просто ничего не может сказать. Утверждая познаваемость субстанции в аспекте этих атрибутов, Спиноза встает на путь рационалистического истолкования абсолюта. -Протяжение и мышление составляют те неотъемлемые свойства субстанции, вне и без которых невозможно ничего объяснить в окружающей природе и в особенности в мире человека, объяснение -которого — этого ни на минуту нельзя забы
207
вать — представляет собой главную научно-философскую задачу, решаемую как онтологией, так и гносеологией Спинозы. Картезианское происхождение атрибутов протяженности и мышления совершенно очевидно. В «Кратком трактате» эти атрибуты именуются еще субстанциями121, да и в «Этике» Спиноза сбивается иногда на этот способ выражения122, хотя в этом произведении он твердо укрепился на признании единственности субстанции как наивысшего бытия, обладающего двумя решающими, определяющими для всех модусов свойствами протяженности и мышления.
Наличие второго из названных атрибутов, содержание и функции которого мы раскроем несколько ниже, не говоря уже об утверждении—нускай в значительной степени только формальном— бесчисленного количества других атрибутов, несомненно осложняет вопрос о материализме Спинозы. Известно, что сам мыслитель решительно возражал против отождествления природы с материей как протяженной телесной массой, исчерпывающей всю реальность. «Я разумею под природой,— писал он в «Богословско-политическом трактате», — не одну материю и ее состояния, но кроме материи и иное бесконечное» 123. Возвращаясь к той же мысли в одном из своих последних .писем и отводя в нем обвинения в атеизме, Спиноза писал также, что «если некоторые полагают, что «Богословско-политический трактат» основывается на той мысли, что бог и »природа (под которой они понимают некоторую массу или телесную материю) суть одно и то же, то они совершенно ошибаются» 124. Эти свидетельства Спинозы, как и общий контекст его метафизики, служат главным основанием для отрицания материалистического характера спино- зовского учения о природе со стороны буржуазных исто* риков философии. Последние обычно признают натуралистический характер спинозовской концепции, «о отрицают материализм ее, что однажды было четко выражено Вульфом. «Обычная ошибка, — писал этот английский знаток творчества Спинозы, — отождествление натурализма с материализмом. Материализм, подобный гоббсовскому,— несомненно форма натурализма, но не единственная форма. Натурализм Спинозы безусловно не был материалистическим, так как он не только до208
пускал, но даже подчеркивал реальность бога и духа, равно как и материи» 125.
Подобный взгляд на спинозизм — результат обычных для буржуазной философии предрассудков относительно материализма. Как известно, материалистическими учениями буржуазные философы и историки философии признают лишь те учения, которые истолковывают реальность только как совокупность тел, воспринимаемых чувствами, и не могут дать сколько-нибудь удовлетворительный ответ -ни на вопрос об источнике движения этих тел, ни тем более на вопрос об источнике развития действительности, приводящего к появлению сознания человека, сущность которого, якобы, тоже остается вне пределов понимания материалистов. Такое упрощенное и упрощающее понимание материализма стремится свести его сущность только к механистическому толкованию действительности. В противоположность этому пониманию материализма, крайне обедняющему его историю, марксизм-ленинизм, как известно, в своем учении о борьбе двух главных направлений в истории философии формулирует более широкую точку зрения на материализм, признавая материалистическим любое философское учение, исходящее из первичности по отношению к человеческому сознанию объективной реальности и стремящееся истолковать эту реальность, исходя лишь из нее самой, не обращаясь ни к каким внеприродным, сверхъестественным силам. Спинозовское понимание природы вполне удовлетворяет этому принципу. Оно, правда, не укладывается в рамки ее механистического истолкования, присущего гоббсовской концепции природы. Метафизический характер спинозовокого учения о природе, несмотря на его глубокие диалектические запросы, закрыл ему путь к пониманию происхождения и сущности сознания, не позволил провести последовательно материалистическую точку зрения и в некоторых других областях истолкования природы, но оставил его на позициях материализма в решающих принципах этого истолкования. Поэтому натурализм Спинозы, решительно утверждающий, что «все события, наблюдаемые нами на земле, причисляются к явлениям природы» 126, должен быть отождествлен с материализмом, как это было нами сделано уже по отношению к натурализму Брупо.
209
Проблема соотношения субстанции и атрибутов имеет и ряд других сторон и вопросов, породивших значительную литературу в истории спинозоведения. Важнейшая из этих проблем — это проблема соотношения субстанции, как носителя атрибутов, и самих атрибутов, как определяющих свойств ее, вне которых субстанцию нельзя мыслить, не превращая ее в тождество, совершенно безразличное к миру порожденных ею модусов, абсолютно чуждое ему и от него полностью оторванное. Одна из теорем первой части «Этики» утверждает равенство бога-субстанции и бесконечного числа ее атрибутов: «бог, иными словами, все атрибуты бога— вечны»127. Но, поскольку с точки зрения метафизики Спинозы нам известны только два атрибута — протяженность и мышление, возникает вопрос именно об их взаимоотношении с субстанцией. Вопрос этот осложняется тем, что в своих определениях атрибутов Спиноза подчеркнул не только их объективное содержание, но и их субъективную сторону, связанную с проблемой познаваемости как протяжения, так и мышления человеческим умом, являющимся одной из модификаций последнего. Обе эти стороны в содержании понятия атрибута — объективная и субъективная — переданы философом в следующих словах его «Метафизических мыслей»: «Бытие как таковое, само по себе, как субстанция, не действует на нас. Поэтому оно должно быть объяснено каким-либо атрибутом, от которого оно отличается лишь по точке зрения» 128. В «Этике» подчеркивается субъективное содержание понятия атрибута. Давая обобщенное определение атрибута, Спиноза пишет: «...под атрибутом я разухмею то, что ум представляет в субстанции как составляющее ее сущность» 129.
Эти формулировки Спинозы послужили основанием для ряда субъективистских интерпретаций атрибутов: последние с точки зрения таких интерпретаций — не реальные и объективные свойства субстанции, а лишь способы представления, возникающие в разуме, созерцающем субстанцию. Сама по себе субстанция беска- чественна, качества же, или предикаты, возникают только в познающем уме, который не может мыслить субстанции вне тех или иных атрибутов. Эта точка зрения, впервые высказанная едва ли не Гегелем130, была развита одним из его учеников, известным немецким210
историком философии Иоганном Эрдманном131. Убедительные возражения против этого субъективистического истолкования атрибутов были сделаны Куно Фишером 132, заметившим, что если бы атрибуты существовали только в человеческом уме, представляющем, по многократным заявлениям Спинозы, модус атрибута мышления, то понятие атрибута совпало бы с понятием модуса, а между тем понятие атрибута предшествует понятию модуса и без атрибутов <не было бы модусов, а не наоборот. В более позднее время защитниками субъективистической интерпретации атрибутов выступили представители пудаистского истолкования спинозизма, в особенности Иоэль, Роте, Вольфсон. Первый из них пытался изобразить Спинозу продолжателем Хасдаи Крескаса, рассматривавшего божество как совершенно простое начало, а атрибуты — лишь как несовершенные образы его познания человеческим умом 133, второй стремился усмотреть в спинозовском учении об атрибутах продолжение отрицательной теологии Маймони- да 134. Эти попытки представить Спинозу продолжателем иудейской теологии в особенности были направлены на то, чтобы протяжение, как атрибут субстанции, истолковать субъективистически, как существующее только в сознании, добиваясь, таким образом, полной с-пири- туализации спинозизма и превращая его в законченно идеалистическое учение.
Несостоятельность этих попыток очевидна из всего изложенного выше. Хотя атрибуты, как это явствует из приведенных определений Спинозы, действительно связаны с познающим человеческим умом, однако само это познание уже предполагает существование атрибутов. К тому же, поскольку сам философ заявляет в одной теореме «Этики», что каждый из бесчисленных атрибутов бога — субстанции «выражает вечную и бесконечную сущность» 135, это исключает возможность истолковывать их как конструкции человеческого сознания. В предшествующей теореме атрибут определяется так же, как и субстанция, т. е. как представляемый сам через себя136, что еще более подчеркивает объектив-; ность его существования.
Из других интерпретаций соотношения субстанции и атрибутов заслуживает внимания точка зрения Кола- ковского, исходящего в решении этого вопроса из номи
211
налистического ¡принципа, согласно которому признак вещи не может существовать вне самой вещи и в этом смысле идентичен с самой вещью, а различие между ними возникает только в познающем уме, выделяющем те или иные признаки вещи. Последние тем самым и объективно присущи вещи, и вместе с тем существуют лишь в познающем сознании. Применение этого номиналистического принципа к вопросу о соотношении субстанции и атрибутов позволило Спинозе, полагает Колаковский, укрепиться на позициях монистической интерпретации мира, ибо оно дало ему возможность представить две картезианские субстанции, протяженную и духовную, в качестве признаков всеобщей единой субстанции, превратив эти субстанции в атрибуты 137.
Важнее, чем обзор различных точек зрения, высказанных в истории спинозоведения на вопрос о соотношении субстанции и атрибутов, — а эти точки зрения мы затронули, конечно, не все, — выяснение онтологической функции атрибутов. Впрочем, и здесь наиболее правильный, по нашему убеждению, взгляд был высказан как одна из точек зрения на проблему соотношения атрибутов и субстанции. Мы имеем в виду динамическое истолкование атрибутов как «сил», а точнее потенций, бесконечной природы субстанции, которая без этих потенций оставалась бы мертвым тождеством, совершенно не способным к выполнению тех функций, какие приписывались ей по высшему замыслу спинозовской онтологии, согласно которому субстанция, как производящая природа, порождает мир своих модификаций. Динамическое истолкование атрибутов, высказанцое Куно Фишером 138, Вульфом и некоторыми другими исследователями спинозизма 139, лучше всего согласуется с тем органистическим пониманием субстанции, которое, по нашему убеждению, является единственно адекватным ее истолкованием. Раз бог-субстанция есть производящая причина всех вещей, если «сила, которую субстанция поддерживает себя, есть не что иное, как ее сущность, и отличается от нее только названием».140, а «могущество бога есть сама его сущность» 141, бесконечные атрибуты субстанции должны быть онтологически истолкованы как те бесконечные силы, или способности, потенции, в соответствии с которыми субстанция производит свои бесчисленные модификации.212
Субстанция и бесконечные модусы, органистический и механистический аспекты спинозовской интерпретации
природы
Такими силами, или способностями, являются и два известных нам атрибута — протяжение и мышление. Более пристальным рассмотрением последнего из них, «бесконечной способности мышления», объективно существующей в природе142, в целях более стройной и последовательной интерпретации мы займемся несколько ниже. Сейчас же сосредоточим свое внимание на протяженности как главном факторе телесного мира. Пространство, как потенция, представляет собой континуум, бесконечно. многообразные ограничения которого порождают конкретные конфигурации тех или иных тел. Однако возникает вопрос, каким образом происходит это «порождение» телесных фигур? Само по себе »пространство в качестве потенции представляет собой лишь возможность таких фигур, реализация же их в действительные, реальные тела происходит в силу каких-то других законов. Эти законы, по Спинозе, целиком связаны с движением и покоем, как определяющими принципами индивидуализации тел. «Всякая отдельная вещь, начинающая действительно существовать, становится такой через движение и покой», различие тел, как модусов протяженности, «происходит только вследствие постоянно новой пропорции движения и покоя, благодаря которой это — такое, а не другое, это — то, а не это» 143.
Движение и ¡покой составляют бесконечный модус, возникающий в атрибуте протяженности. Бесконечный потому, что как движение, так и покой принадлежат к числу определяющих характеристик любой единичной, конечной вещи, любого модуса. Хотя бесконечные модусы наряду с движением и покоем есть бесконечный интеллект, о котором речь пойдет ниже, они принадлежат к миру произведенной природы. Они, как «всеобщие модусы», зависят «непосредственно от бога», в отличие от любого единичного модуса, зависимость которого от соответствующего атрибута субстанции опосредствована бесконечным модусом 144. Вопрос о соотношении бесконечных модусов и атрибутов — один из -наиболее темных вопросов спинозовской онтология, очень скупо
213
освещенный в «Этике» 145. Хотя движение и покой определяются Спинозой как бесконечный модус, однако очевидно, что его бесконечность мыслится иначе, чем бесконечность субстанции и атрибутов. Если последняя, как мы видели, есть бесконечность актуальная, то движение и покой бесконечны лишь в потенциальном смысле, это бесконечность совокупности модусов, а точнее, бесконечность совокупности единичных вещей, составляющих «облик всей вселенной», видоизменяемой бесконечными способами и остающейся тем не менее одной и той ж е 146.
Хотя протяжение, как атрибут бесконечной субстанции,. и (представляет собой известную «силу», но в сущности он бессилен объяснить происхождение единичных, вещей, становящихся модусами единой субстанции. В первом разделе этой главы мы видели, что Спиноза в своем последнем письме к Чирнгаусу был вынужден признать свою беспомощность в этом вопросе. Одна из главных причин этой беспомощности — узкое понимание движения лишь как пространственного перемещения тел. Здесь мыслитель всецело находится под влиянием механики своей эпохи, притом в ее до- ныотоновской форме. Принципы так понимаемого движения сформулированы в следующих положениях «Этики»: «все тела или движутся, или покоятся», «всякое тело движется то медленнее, то скорее», благодаря чему «тела различаются между собой по своему движению и покою, скорости и медленности, а не по субстанции» 147. Движение в этом его понимании не может быть атрибутом субстанции, ибо атрибут, говорит Спиноза, «мыслится через себя и в себе», его понятие «не заключает в себе понятия о чем-либо другом. Так, например, протяжение мыслится через себя и в себе. Иначе обстоит дело с движением; ибо движение мыслится в другом, и понятие движения заключает в себе протяжение»148. Движение, кроме того, не является атрибутом субстанции и потому, что бесконечная и вневременная субстанция не может находиться в состоянии какого-либо пространственного перемещения. Она совершенно неподвижна.
Происхождение модусов из субстанции остается поэтому совершенно неясным. Взаимоотношение этих качественно тождественных модусов друг с другом214
является в сущности взаимоотношением единичных вещей, совершающимся по законам механики. Органисти- чески-целостный аспект интерпретации природы сменяется тем самым аспектом плюралистически-механи- стическим. Наиболее полным выражением этого аспекта становится детерминизм Спинозы.
Детерминизм против телеологии и бесконечность мира
Стремление к научно-детерминистическому истолкованию действительности, отвергающее ее антропоморфно-телеологическое истолкование, нашло в лице Спинозы последовательного и страстного поборника, быть может, самого радикального в XVII столетии. Спинозовский детерминизм — один из главных компонентов его материалистических воззрений. Весьма высокая оценка его была дана Энгельсом: «Нужно признать величайшей заслугой, тогдашней философии, что, несмотря на ограниченность современных ей естественнонаучных знаний, она не сбилась с толку, что она, начиная от Спинозы и «ончая великими французскими материалистами, настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, предоставив детальное оправдание этого естествознанию будущего» 149.
Детерминистически-закономерный образ мира, разрушающий многовековые домыслы фантазирующего суеверия, складывался у нидерландского мыслителя, начиная с первых его 'произведений. Уже в «Трактатеоб усовершенствовании разума» он писал, что «чем меньше люди знают природу, тем легче им создавать многие фикции, например, что деревья говорят, что люди мгновенно превращаются в камни, в источники, что в зеркалах появляются призраки, что нечто превращается в ничто или что «боги превращаются в животных и людей, и многое другое этого рода» 150. В дальнейших своих произведениях и особенно в «Этике» Спиноза дал развернутую критику телеологического способа истолкования природы как главной методологической базы подобного рода суеверных домыслов. Знаменитое Прибавление к первой части «Этики», как бы подводящее итог развитому в ней учению о боге, т. е. о природе, почти целиком посвящено разрушающей критике призраков телеологии.
215
п
Сила этой ¡критики заключается ¡прежде всего в том, что автор «Этики» последовательно раскрывает механизм телеологических обобщений. Он справедливо усматривает основу этого механизма в той аналогии, какую люди вольно и невольно постоянно производят между своей деятельностью и действиями природы. Поэтому «люди предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, как они сами, ради какой-либо цели», «они необходимо по себе судят о другом», «по аналогии с теми средствами, которые они сами обыкновенно приготовляют для себя»151. В результате этого и возникает ¡представление о конечных, или целевых, причинах, не дающее никаких реальных знаний о природе, полностью принадлежащее к области человеческих домыслов. Это представление «совершенно извращает природу. На то, что на самом деле составляет причину, оно смотрит, как на действие, и наоборот» 152.
Свою критику телеологии Спиноза направляет как против трансцендентной, так и против имманентной ее разновидности. Трансцендентная телеология, рассматривающая все предметы и все явления природы с точки зрения той пользы, какую якобы они предназначены оказать человеку, является более грубой и примитивной формой телеологии, ведущей к так называемому моральному мировоззрению. Определяющий принцип последнего состоит в том, что явления природы рассматриваются в качестве результата тех или иных, моральных или аморальных, с известной точки зрения, поступков. Сущность и критика этой псевдогуманисти- ческой формы мировоззрения дана Спинозой в следующих словах: «Стремясь доказать, что природа ничего не делает напрасно (т. е. что не служило бы в пользу людей), доказали, кажется, только то, что природа и боги сумасбродствуют не менее людей... Среди стольких удобств природы должны были найти также немало и неудобств, каковы бури, землетрясения, болезни и т. д., и предположили, что это случилось потому, что боги были разгневаны нанесенными им от людей обидами или погрешностями, допущенными в их почитании. И хотя опыт ежедневно заявлял против этого и показывал в бесчисленных примерах, что польза и вред выпадают без разбора как на долю благочестивых, так216
ги на долю нечестивых, однако же от укоренившегося предрассудка не отстали» 153.
Излишне разъяснять, что спинозовская критика трансцендентной телеологии и основанного на ней морального мировоззрения разрушала наиболее популярные основы религиозности. Ту же атеистическую функцию выполняло тесно связанное с этой критикой систематическое разрушение Спинозой антропоморфных представлений о боге. Бог — отнюдь не промыслитель, каждодневно пекущийся о судьбах людей, ибо он «принимает в соображение не один человеческий род, но всю природу», лишь часть которой — и притом далеко не самую главную — составляет человек154. С точки зрения Спинозы, неверна не только популярно-рели- гиозная форма телеологии, -подчиняющая все события в природе и человеческой жизни божественной воле и ставящая их «в зависимость от его благосоизволения», но и более философская точка зрения последователей Платона (прямо не называемых Спинозой), «которые полагают, будто бог все.производит под идеей блага» 155. Наконец, в связи с критикой трансцендентной телеологии Спиноза высказывает и свое знаменитое положение о том, что постоянные стремления людей усматривать во всем происходящем божественную волю сплошь и рядом превращают бога в «убежище незнания» (asylum ignorantiae) 156.
Последовательность антителеологической позиции Спинозы проявляется не только в решительном отказе его от трансцендентной телеологии, но и в критике телеологии имманентной. Последняя, как известно, утверждает, что целереализующая деятельность природы не является результатом -некоего трансцендентного по отношению к природе плана, а имманентно заключена в самой этой деятельности как некая сила, необ- ходимость признания которой становится особенно очевидной при рассмотрении происхождения и жизнедеятельности растительных и животных организмов, не говоря уже о человеческой деятельности, немыслимой вне целеполагания. Пример Аристотеля, одного из главных представителей имманентной теологии, да и других ее сторонников, как уже отмечалось выше, показывает, что и эта точка зрения в качестве своей наиболее общей онтологическо-методологической базы предпола
217
гает представление о конечности мироздания в пространстве. Правда, это заключение как будто опровергается примером Бруно, вернувшимся к идее бесчисленности миров, но вместе с тем не отказавшимся при осмыслении явлений органической жизни и некоторых фактов неорганической природы, необъяснимых при тогдашнем состоянии естественнонаучных знаний, и от представления о целеполагающей деятельности актуально бесконечной субстанции. Органистический взгляд на природу взял у Бруно здесь верх над его убеждением в бесчисленности миров, в принципе не сочетающимся, как мы полагаем, с последовательно органистическим воззрением.
Эта непоследовательность отсутствует в онтологии Спинозы. Став одним из главных представителей механистического детерминизма и сочетая его с убеждением в потенциальной бесконечности мира, нидерландский мыслитель отказывается от имманентной телеологии не менее решительно, чем от телеологии трансцендентной. Если «природа подчинена не законам человеческого разума, которые имеют в виду лишь сохранение и истинную пользу людей, но бесконечному числу других, сообразующихся с вечным порядком всей природы» 157, то она существует и действует «не ради какой- либо цели» 158. То, что для Бруно, как и для многих современников Спинозы, было необходимым результатом имманентно действующей целесообразности, которая, не следует забывать, никогда не была отгорожена китайской стеной от целесообразности трансцендентной, а именно «чудесное» устройство и жизнедеятельность животных организмов и человека, с точки зрения Спинозы, можно вполне объяснить детерминистически. Например, сторонники телеологического объяснения природы «приходят в изумление при виде строения человеческого тела» 159, которое «по своей художественности далеко превосходит все, что только было создано человеческим искусством» 160. «Не зная причин такого искусного 'произведения заключают, что оно создано и устроено таким образом, что одна часть не причиняет вреда другой, не механическими силами (курсив.мой.—В. С.). а божественным или сверхъестественным искусством»161. Всемогущества бесконечной природы, согласно Спинозе, совершенно достаточно, чтобы объяснить любое,218
самое «чудесное» из ее явлений, не прибегая к представлению о конечных причинах.
Детерминистический радикализм Спинозы простирается столь далеко, что он готов отрицать целеполагающую деятельность даже по отношению к человеку. С одной стороны, он констатирует, что «люди все делают ради цели, именно ради той пользы, к которой они стремятся» 162, но так как это часто возводится в методологический принцип три телеологическом истолковании природы, то он в борьбе с этим принципом готов отрицать и сам факт. Люди, как и все прочее, в своей деятельности определяются не той или иной целью — это лишь иллюзия воображения, — а определенной причиной, ибо, указывает философ, решительно отрицающий, как увидим в дальнейшем, возможность поступков, основывающихся на свободе ничем недетерминированной человеческой воли, «под целью, ради которой мы что-либо делаем, я разумею влечение» 163. Специфика человеческой деятельности, выражающаяся в целесообразности, растворяется в связи с этим в универсальном взаимодействии причин и действий. Естественно, что наш философ, всегда стремившийся к последовательно детерминистическому истолкованию процессов природы, был особенно чувствителен к попыткам нарушить этот единственно научный, с его точки зрения, принцип при объяснении не только неорганической, но и органической природы. Поэтому, когда, например, Бойль в объяснении жизнедеятельности птиц, как отмечалось в третьей главе, прибегал к имманент- но-телеологическому аргументу, заявляя, что «природа предназначила их и к летанию и плаванию», Спиноза в одном из своих -писем к Ольденбургу немедленно отметил несостоятельность, с научной точки зрения, такого рода аргументации 164.
Борьба Спинозы против антропоморфно-телеологи- ческих представлений была, естественно, борьбой за чисто физическое истолкование явлений природы. Столь определяющее для схоластики телеологическое истолкование природы весьма часто выражалось, как это отмечалось в третьей главе, в псевдогуманистиче- ском стремлении установить «совершенство», или «ценность», ее явлений. Для Спинозы такой подход к явлениям природы совершенно неприемлем, «ибо о совер-
219
шенстве вещей должно судить по одной только их природе и способности»165, а при таком подходе к ней реальность и совершенство — одно и то же, часто повторяет мыслитель166. Точнее говоря, для Спинозы существует лишь реальность, а «совершенство и несовершенство в действительности составляют только модусы мышления, обыкновенно образуемые нами 'путем сравнения друг с другом индивидуумов одного и того же вида или рода»,б7. Вместе с совершенством и несовершенством, как предикатами действительности, отпадают не только красота и безобразие, но и все те «вторичные качества», о которых шла речь выше. Мыслитель особенно ‘подчеркивает, что такие понятия, как порядок и беспорядок, сочетающиеся у некоторых философов с̂ утверждением гармонии, якобы издаваемой небесными светилами в процессе их движения, не имеют объективной, вне человеческого ума находящейся значимости по отношению к природе.
Таким образом, подобно другим новаторам рассматриваемого столетия, Спиноза, становясь на позиции механистической интерпретации природы, стремится истребить в ней все антропоморфные свойства. Он расширяет область «вторичных качеств», связав их с телеологическим способом истолкования ее явлений. Как и другие новаторы, нидерландский мыслитель в противовес конечным причинам, являющимся лишь продуктом домысла и фантазии людей, выдвигает ближайшие, как единственно действующие причины, установление которых составляет главную задачу научного объяснения бесконечного мира. «Мы должны определять и объяснять вещи посредством ближайших их причин» 168, чего, например, не сделал Декарт в своей попытке объяснения взаимодействия души и тела, вынужденный в результате этой своей неудачи «прибегнуть к причине всей вселенной, т. е. к богу» 169.
Но как, с помощью какого рода знания можно отыскивать ближайшие причины и избавиться о т ' химер конечных причин? И Спиноза указывает прежде всего на математику, имеющую дело «не с целями, а лишь с сущностью и свойствами фигур» 170, устанавливающую совершенно объективное мерило истины. Это указание на роль математики особенно важно в силу отмечавшегося нами принципа спинозовской метафизики, -нан-220
более последовательно выражавшей в этом отношении методологические устремления рационализма рассматриваемого столетия, принципа отождествления логических и онтологических связей. «Для всякой вещи должна быть причина или основание (causa seu ratio) как ее существования, так и несуществования». Однако, поскольку «основание, или причина, должна заключаться или в природе или вне ее» 171, основание совпадает с сущностью вещи, неразрывно связанной в свою очередь с ее определением. Причина же существования единичной вещи, многократно .подчеркивает Спиноза, выступает -прежде всего как внешняя причина. «Все, чьей природы может существовать несколько отдельных единиц, необходимо должно иметь внешнюю причину для их существования»172, поэтому «сотворенные вещи» «все детерминируются внешними причинами к существованию и действованию тем или иным определенным образом» 173.
Эти принципы спинозовской метафизики служат основанием для механистического понимания детерминизма Спинозой в духе картезианской физики. Взаимодействие тел протекает по законам механики, когда «могущество действия определяется могуществом его причины» 174, а результат действия вытекает как из природы тела, подвергающегося действию, так и из природы действующего тела175. Причинные связи тем самым истолковываются чисто механистически, как результат непосредственного столкновения тел, которое у Спинозы, как и у Декарта и у Гоббса, выступает прототипом любого причинно обусловленного события. Вслед за Декартом, давшим одну из первых формулировок закона инерции, Спиноза рассматривает движение как неотъемлемое состояние вещей, но равноправное с покоем, ибо движение вместе с покоем, как мы видели, составляют бесконечный модус в атрибуте протяженности. «Тело, движущееся или покоящееся, должно определяться к движению или покою другим телом, которое в свою очередь определено к движению или покою третьим телом, это — четвертым, и так до бесконечности» 176. Двадцать восьмая теорема первой части «Этики» формулирует ту же мысль в аспекте детерминизма: «Все единичное, иными словами, всякая конечная и ограниченная по своему существованию вещь
221
может существовать и определяться к действию только в том случае, если она определяется к существованию и действию какой-либо другой причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию. Эта причина в свою очередь определяется... третьей причиной... и так до бесконечности (курсив мой. — В. С.)» 177.
В приведенных формулировках обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, говоря о детерминации вещей друг другом Спиноза не определяет их в качестве модусов, а говорит именно о единичных вещах, телах. Во-вторых, взаимная детерминация тел мыслится им как процесс бесконечный в пространстве и во времени, причем бесконечность выступает здесь как бесконечность потенциальная, как бесконечность незамкнутого ни с какой стороны мира, ибо только эта предпосылка позволяет последовательно провести точку зрения механистического детерминизма. «В природе вещей нет ни одной отдельной вещи,— говорит Спиноза, — могущественнее и сильнее которой не было бы никакой другой. Но для всякой данной вещи существует другая, более могущественная, которой первая может быть разрушена» 178.
Случайность, возможность, необходимость и оконечивание мира
Указанная в этОхМ заголовке группа вопросов выражает различные аспекты детерминизма в интерпретации Спинозы. Первый аспект связан с проблемой случайности. Известно, что одна из определяющих черт детерминизма механистического типа, начиная с Демокрита, состояла в отрицании объективности случайности, в признании всех событий, совершающихся в природе, событиями абсолютно необходимыми. Это фундаментальное заблуждение присуще и Спинозе. Оно вытекает из цитированных в предшествующем параграфе слов автора «Этики», указывающих на то, что единичные, отдельные вещи в его понимании связаны между собой единой цепью взаимной детерминации, цепью, в которой нет и не может быть никаких перерывов. Однако решение этой проблемы как в «Этике», так и в других произведениях находится в очевидной222
зависимости от другой фундаментальной онтологической проблемы — проблемы бесконечности мира.
Однако следует указать, что само по себе определение данной вещи, данного события его ближайшей причиной не делает эту вещь или это событие необходимыми. В действительности, когда речь .идет о единичных или отдельных вещах, мы в жизненной практике, да и в научном познании, с полным основанием рассматриваем их как возможные или случайные — у Спинозы эти категории обычно выступают как тождественные. Мы уже приводили его слова, противопоставляющие детерминистическую точку зрения телеологической, о том, что объяснять вещи следует только посредством ближайших причин, «и пресловутое общее рассуждение о судьбе и связи причин,—продолжает автор «Богословско-политического трактата», — меньше всего может послужить -нам для образования и упорядочения наших мыслей об отдельных вещах... поэтому для житейской практики лучше, даже необходимо рассматривать вещи как возможные»179. Именно так и рассматриваются Спинозой единичные вещи: знание их сущности еще ничего не говорит о 'необходимости существования этих случайных для нас вещей, знание же их ближайших причин тоже оставляет нас в недоумении, с какой степенью необходимости определены к существованию эти возможные вещи 180. В повседневной жизни и в значительной мере в научном познании мы руководствуемся более или менее фрагментарными сведениями, рассматриваем вещи только в .их единичном бытии или в сцеплении лишь некоторого, ограниченного ряда причин, следовательно, более или менее изолированно. «Мы знаем вещи только отчасти и в большинстве случаев не знаем порядка и связи всей природы»181. Поэтому у нас не может быть адекватного знания относительно подлинной длительности тех или иных единичных, отдельных вещей, которые в силу этого «случайны и разрушимы» 182.
Категории случайного и возможного рассматриваются Спинозой в тесной связи с категориями необходимого и невозможного. Обе эти категории определяются прежде всего сущностью: необходимой называется та вещь, существование которой полностью вытекает из ее сущности. Такая абсолютная необходимость при
223
надлежит только богу-субстанции. Невозможной — та, сущность которой заключает в себе неопреодолимое противоречие (например, «четырехугольный треугольник», многочисленные химеры). В первом случае не может быть никакой внешней причины, определяющей бога-субстанцию к существованию. Но если такая определяющая причина полностью отсутствует в мире детерминации, то и здесь ничто невозможно. Возможной же Спиноза называет вещь — разумеется, только единичную вещь, — из сущности которой еще не видно, может она существовать или нет. Такая вещь в силу несовершенства нашего знания ни необходима, ни невозможна, следовательно, возможна, т. е. случайна 183. Так определяется любая единичная вещь, ¡поскольку «для нас скрыт порядок причин» и мы знаем мир.только «отчасти», фрагментарно. С первых и до последних своих произведений Спиноза неизменно повторяет, что «человеческая слабость» не в состоянии охватить своей мыслью бесконечное сцепление всех мировых причин 184. В освещенной выше переписке с Ольденбургом Спиноза заявил, что и ему самому неизвестно, «каким образом каждая отдельная часть природы согласуется с ее целым и как она сцеплена с остальными .частями»185. Отсутствие такого знания и не позволило нидерландскому мудрецу до конца удовлетворить любознательность членов лондонского естественнонаучного общества относительно происхождения вещей из первопричины и их необходимой зависимости от нее. Однако отсутствие положительного знания сопровождается у Спинозы категорической уверенностью в существовании такой зависимости. Поэтому существование единичных вещей, а точнее модусов, в принципе вовсе не случайно, а вполне необходимо, что «если бы люди, — заявляет философ уже в «Метафизических мыслях», — ясно познали весь порядок природы, они нашли бы все так же необходимым, как все то, чему учит математика» 186. Тем самым случайность полностью элиминируется Спинозой в отношении мира, взятого как целое. В масштабе всего мира все, что существует, по Спинозе, существует необходимо, необходимое исключает случайное, является прямой противоположностью случайного как единственно действительное недействительного 187.224
Труднейший- вопрос, возникающий здесь, есть вопрос о том, что же такое целостный мир, являющийся в то же время миром бесконечным? Как было установлено выше, механистический детерминизм Спинозы требует бесконечного, потенциально бесконечного, следовательно безграничного, мира, и именно таким миром является мир единичных вещей, последовательная детерминация которых не знает предела. Однако неоднократно констатированный нами метафизический отрыв актуально бесконечной субстанции от потенциально бесконечного мира единичных вещей, мыслимых в качестве модусов этой субстанции, отрыв, доходящий до противопоставления мира субстанции и ее модусов, с одной стороны, и мира единичных, обособленных вещей— с другой, приводит мыслителя к формулированию таких принципов онтологии, которые согласуются только с постулатом оконеченного мира. Именно так, по нашему убеждению, обстоит дело со спинозовским отрицанием случайности в мире и необходимо связанным с этим отрицанием возможного, ибо, по словам Спинозы, «возможное и случайное — лишь недостатки нашего разума», а отнюдь не состояния самих вещей 188. Если с точки зрения диалектики бесконечность и является тем лоном, откуда происходят все новые и новые возможности, становящиеся действительностью, то в метафизической концепции Спинозы бесконечность не играет этой роли: все, что происходит в природе, да и в человеческом мире, является реализацией не возможного, а только необходимого, поэтому «вещи не могли быть произведены богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем произведены» 189.
Гносеологические основания оконеченного мира, коренящиеся в метафизическом представлении Спинозы о природе, рассматривающем ее как совокупность неких неизменных элементов, как вечное настоящее, лишенное всякого развития и прогресса, ибо «в природе ничего нового не случается» 190, ближайшим образом вытекают из абсолютизации нидерландским мыслителем математического метода как единственно научного, с его точки зрения, способа осмысления действительности. Спиноза доводит до крайности ту экстраполяцию логико-математических или, точнее, «геометрических», приемов на весь бесконечный мир, которая, как мы видели,8 Зак. 681 225
составляет одну из определяющих черт рационализма рассматриваемого столетия. Поскольку же все выводы математики носят необходимый характер, а теории вероятности век Спинозы еще -не знал, все процессы природы, считал философ, протекают с такой же однозначной, абсолютной необходимостью: «из высочайшего могущества бога, иными словами, из бесконечной природы его, необходимо воспоследовало или всегда следует в той же необходимости бесконечное в бесконечном многообразии, т. е. все, точно так же, как из природы треугольника от вечности и до вечности следует, что три угла его равны двум прямым» 191. Следование «бесконечного в бесконечном многообразии» а 1а треугольник— не является ли это одним из примеров оконечи- вания мира, распространения некоторых правил математики, имеющих более или менее ограниченную сферу применения, на всю неизведанную бесконечность?
К оконеченному миру Спиноза приходит и в результате своего крайнего механистического детерминизма. Субстанция будучи по природе первее своих состояний, порожденных ею модусов, вместе с тем существует одновременно с единичными вещами, онтологически тождественным модусам. Первенство же субстанции носит не столько временный, сколько логический характер, бог-субстанция не столько предшествует модусам, сколько сосуществует с ними. Поэтому «бог раньше своих постановлений не существовал и без них существовать не может»192. В механистически* истолкованной детерминации единичных вещей бог выступает не столько как актуально бесконечная субстанция, сколько как совокупность единичных вещей, каждая из которых детерминирует другую единичную вещь и сама подвергается детерминации как со стороны детерминируемой ею вещи, так и со стороны третьей вещи. Цепь такой непосредственно механической детерминации уходит в бесконечность, разумеется, в потенциальную бесконечность, поскольку ни одно звено этой цепи нельзя считать последним. «Бог составляет причину не только того, что вещи начинают существовать, но также и того, что их существование продолжается, иными словами (пользуясь схоластическим термином), бог есть causa essendi (при226
чина бытия) вещей»193. Как причина существования вещей бог — актуально бесконечная субстанция, а 'к а к причина их бытия — любая -конечная вещь, а говоря точнее — -совокупность единичных вещей194. Поэтому «вещь, которая определена к какому-либо действию, необходимо определена таким образом богом, а не определенная богом сама себя определить к действию не может» 195 и «только от постановления и воли бога зависит, чтобы каждая вещь была тем, что она есть, так как в противном случае бог не был бы причиной всех вещей» 196.
Таким образом, хотя каждая отдельная вещь и детерминируется в своем существовании другой единичной вещью, но за этой детерминацией любой конкретной вещи другой вещью необходимо видеть мировую совокупность детерминирующихся вещей, внутри которой и совершается конкретная детерминация той или иной вещи. «Хотя каждая' отдельная вещь, — поясняет эту свою мысль Спиноза, — определяется к известного рода существованию другой отдельной вещью, однако сила, с которой каждая из них пребывает в своем существовании, вытекает из вечной необходимости божественной природы» 197. Как можно заключить из всех цитированных здесь слов Спинозы, совокупность энергии детерминирующихся вещей представляется философу как некая постоянная и в этом смысле оконеченная величина. Вслед за Декартом Спиноза считает, что количество движения в бесконечной вселенной есть величина постоянная, следовательно конечная. Поскольку в ми* ровой совокупности тел, составляющих вселенную, «всегда сохраняется одно и то же соотношение между движением и покоем»198, «бог сохраняет в природе одно и то же количество движения. Поэтому если иметь в виду всю материальную природу, то к ней не прибавляется ничего нового» 19Э.
Проблема оконеченного мира находится у Спинозы в очевидной связи с важнейшим вопросом космологии — о единичности мира или множестве и даже бесчисленности миров. В «Кратком трактате» молодой Спиноза явно под влиянием Джордано Бруно выступает против тех философов, «которые сами себя убедили в том, что кроме этого небольшого поля или земного шара, на котором они живут, нет других (так как они ничего8* 227
иного не наблюдали)» 200. Вместе с тем в своей переписке с гаагским мыслителем Чирнгаус и Шуллер уже после окончания «Этики» задали Спинозе вопрос, не следует ли «допустить столько миров, сколько есть атрибутов бога»201. Ответ философа, отославшего своих корреспондентов к схолии седьмой теоремы второй части «Этики» 202, был уклончивым. И. Чирнгаус сделал из этой схолии категорический вывод, согласно которому «существует во всяком случае только один мир» 203. Дошедшая до нас часть ответа Спинозы на это письмо Чирнгауса обходит молчанием вопрос о единичности или множественности миров 204. Впрочем, не совсем ясно, что разумелось под «миром» (типс1и5) и в каком отношении находится он ко «вселенной» (итуегБШп).
Проблема фатализма и метафизическое понимание закономерности
Постоянное подчеркивание Спинозой абсолютной необходимости всех единичных вещей, в процессе которого мыслитель довольно часто употребляет такие выражения, как «все зависит от одной единственной причины», т. е. от бога-субстанции, необходимость существования которой уничтожает иллюзию случайности существования единичных вещей 205, что «ничто не может существовать ни одного мгновения, не будучи каждое мгновение творимо богом» и т. п. 206, дает основание для многочисленных истолкований спинозовского детерминизма как фатализма, усугубляемого еще последовательным отрицанием со стороны нидерландского хмыслителя свободы человеческой воли. Такие истолкования, носившие иногда даже характер обвинений, были выдвинуты уже при жизни Спинозы, «например Блейен- бергом 207 и Вельтгюйзеном 208.
Такую же фаталистическую интерпретацию спин о- зовского детерминизма дал в своем предисловии к «Посмертным сочинениям» и Иеллес 209. С тех пор термин «фатализм» стал одним из наиболее популярных определений спинозовского детерминизма, он часто повторяется не только в буржуазной, но и в марксистской, в том числе и в советской литературе о Спинозе210. Хотя сам мыслитель иногда действительно сбивался на228
такие выражения, как «слово божье», оно «в переносном смысле обозначает самый порядок природы и судьбу (fatum) (потому что это действительно зависит от вечного решения божественной природы и следует из него)»211, но вместе с тем он решительно возражал в одном из писем против того, будто он подчиняет деятельность бога некоему року212. В том же письме Спиноза указывает, что Магомет, с религиозным учением которого -была связана наиболее последовательная форма фатализма, «был обманщиком», полностью лишавшим людей свободы, обоснование возможности которой составляет один из главных принципов онтологии и гносеологии спинозизма, составляющий фундамент его этики.
При решении сложной проблемы спинозовского фатализма или квазифатализма следует иметь в виду охарактеризованное выше важнейшее направление философской мысли, которое уже в эпоху средневековья стремилось ограничить божественный произвол, деисти- 4Jckh или пантеистически истолковывая деятельность бога, чтобы освободить »природу от божественной опеки в меру тех скромных возможностей, которые представлялись в эпоху господства теологической мысли. В XVII столетии эта философская тенденция во много раз усилилась, получив новое содержание с развитием естественных наук. Творчество Спинозы представляет одно из главных проявлений этого процесса.
Господство .религиозной идеологии в рассматриваемом столетии означало и господство различных фаталистических представлений, для которых характерна не только вера в абсолютную власть и могущество бога над природой и человеком, но и вера в то, что это могущество выражается прежде всего в различных «чудесах», поражающих человеческий ум своей полной неожиданностью и непонятных для него. Таким образом фатализм как вера в абсолютное руководство природой и человеком со стороны сверхъестественного начала, находящегося вне природы, сочетается с иррацио- налистическим взглядом на действительность! В XVII в. этот взгляд, между прочим, получал сильную психологическую поддержку от многочисленных хилиа- стических, апокалиптических и мессианистических настроений, которые время от времени с величайшей си
229
лой овладевали умами десятков и сотен тысяч людей, тяготившихся своим безрадостным существованием. Философская форма фатализма, до известной степени учитывавшая достижения современного естествознания, была представлена окказионализмом, столь влиятельным и в Нидерландах. Детерминизм же Спинозы, сочетавшийся у него с рацноналистическо-панлогической интерпретацией всей действительности, своим главным острием был направлен именно против всех разновидностей фатализма. Поскольку все происходящее в природе и в мире человека строго детерминировано, заявляет философ, поскольку «ничего не совершается вопреки природе, но... она сохраняет вечный, прочный и неизменный порядок»213, который если не фактически, то в принципе может быть познан без остатка, всякие «чудеса» абсолютно исключены, они все лишь плод невежества, объясняемого исторически. Отсюда знаменитые слова «Богословско-политического трактата»: «Чудо, будет ли оно противо- или сверхъестественно, есть чистый абсурд»214.
В борьбе за антииррационалистическое, детерминистическое истолкование действительности Спиноза последовательно развивает традицию передовой философской мысли средневековья, подчеркивавшей разумное, протекающее с необходимостью, а не волевое и произвольное содержание божественной деятельности. Традиция эта, наиболее последовательно выраженная в философском творчестве Ибн Сины и особенно Ибн Рушда, стала известна нидерландскому мыслителю из произведений Маймонида, отстаивавшего в своем главном произведении принципы теологического детерминизма в полемике -против фаталистического и ирра- ционалистического креационизма мутакаллимов, а также из произведений Крескаса, у которого теологический детерминизм был соединен с радикальным отрицанием свободы человеческой воли. Указывая на это обстоятельство, вне учета которого невозможно понять генезис спинозовского детерминизма, мы далеки, конечно, от того, чтобы приписывать этому фактору решающее значение, как это склонны делать многие буржуазные спинозисты, особенно из числа иудаистов215. В действительности детерминизм Спинозы со всеми его крайними выводами обязан своим происхождением не только и230
даже не столько философско-теологической традиции, сколько импульсам со стороны механико-математического естествознания, в результате чего детерминизм Спинозы в сущности перестал быть детерминизмом теологическим.
Однако вместе с тем Спиноза, как сын своей эпохи, должен был считаться с представлениями о соотношении божественной деятельности и процессов природы, остававшимися в этом столетии одним из первостепенных факторов, определявших философско-религиозный климат. Отсюда ряд указаний мыслителя, отождествляющих волю бога с божественным разумом21в. Отсюда же постоянное подчеркивание необходимости божественной деятельности, протекающей в соответствии с логико-математическими законами. Отсюда, наконец, новое понимание соотношения необходимости и свободы в божественно-природной деятельности, в котором Спиноза развивает охарактеризованные выше идеи Бруно, Гоббса, частично и Декарта и некоторых других представителей философской мысли рассматриваемой эпохи. С точки зрения продолжавших еще господствовать в рассматриваемом столетии философско-религиозных представлений, свобода божественной деятельности есть свобода именно от необходимости, свобода и необходимость представляют собой поэтому взаимоисключающие противоположности, в то время как случайное и необходимое такими противоположностями не являются217, потому что для бога такой противоположности не существует. По убеждению же Спинозы, как раз наоборот: противоположностями являются необходимое и случайное, первое единственно истинно, второе же в конечном итоге иллюзорно. Необходимое же и свободное — взаимодополняющие понятия, ибо свобода божественной деятельности отнюдь не означает ее произвольности, она есть свобода от принуждения субстанции со стороны вне и над ней стоящей силы, которой не существует. Такая свобода основывается на самой необходимости существования и действия субстанции218.
В свете настойчивой борьбы Спинозы против нрра- ционалистическо-контингентного (случайностного) истолкования действительности с его постоянной ориентацией на неожиданное и «чудесное» становятся понятной историческая обоснованность того «перегиба», который
231
философ осуществил своим радикальным отрицанием случайности. Это отрицание привело Спинозу к концепции сквозной закономерности, которой подчиняется вся бесконечная действительность. Выше мы видели, что понятие закономерности становится в рассматриваемую эпоху основной противоположностью фатали- стическо-иррационалистического истолкования действительности. В отличие от многочисленных деистических представлений, столь распространенных в XVII— XVIII вв., усматривавших источник царящей в природе закономерности в божественном разуме, пребывающем вне природы, Спиноза, проводя свою, пантеистическую установку, превращает этот трансцендентный разум в разум, имманентный самой природе. Последовательная натурализация божественной деятельности приводит мыслителя к истолкованию действительности как закономерной и логически прозрачной по своей структуре. И в советской и в зарубежной спинозоведческой литературе существуют попытки именно в этом усмотреть сущность метафизики спинозизма219.
Спинозе принадлежит несомненная заслуга в разработке самого понятия закономерности, состоящая прежде всего в той дезантропоморфизации закона, которая, как мы видели, отразила эпохальный для развития философско-материалистического мировоззрения факт математического формулирования первых законов природы и которая у Спинозы находилась в гармоническом единстве с его настойчивой дезантропоморфиза- цией божественной деятельности. Нидерландский мыслитель очень четко различает закон, зависящий «от естественной необходимости» (nécessitas naturae), от закона общественного, зависящего «от людского соизволения» (hominum placitum) 220. Эти два ряда законов постоянно смешивались в предшествующем развитии философской мысли. Монистическо-натуралистическая онтология «Этики» делает понятие естественного закона одним ¡из главных своих элементов, что иллюстрируется хотя бы следующими известными словами из предисловия к третьей части: «Природа везде и всегда остается одной и той же; ее сила и могущество действия, т. е. законы и правила природы, по которым все происходит и изменяется из одних форм в другие, везде одни и те ж е»221.232
Нет, конечно, никакого противоречия между рассмотренным выше отрицанием Спинозой «порядка» в природе (вместе с пифагорейской «гармонией мира») и его же утверждением сквозной закономерности. «Порядок», как антропоморфное представление, философ относит к субъективной сфере «вторичных качеств». К тому же на «мировой порядок», установленный в конечном мире бесконечным богом, нередко ссылались— и продолжают ссылаться — теологи. Очевидно, под влиянием Спинозы против понятий «порядка» и «беспорядка» применительно к природе выступил впоследствии и Гольбах (кстати говоря, тоже опиравшийся при этом на методологию номинализма) 222. Содержание понятия закона у Спинозы несомненно навеяно -прежде всего новым механико-математическим естествознанием. «При исследовании естественных вещей, — читаем мы в «Богословско-политическом трактате», — мы стараемся найти прежде всего самое общее и присущее всей природе, именно: движение и покой и их законы и правила -(leges et regulae), которые природа всегда сохраняет и по которым она постоянно действует» 223.
Для уяснения содержания понятия закона у Спинозы очень важно иметь в виду генетически весьма существенную для него зависимость от представлений о разумно-необходимой деятельности божественного всемогущества. С этой точки зрения «законы природы суть решения бога, открытые естественным светом» 224. Еще в «Кратком трактате» Спиноза пытался натуралистически переосмыслить понятия божественного провидения и божественного предопределения 225. В «Бого- словско-политическом трактате» философ хочет сделать своим союзником даже Библию, уверяя, например, читателей, что «писание под решениями и велениями бога (Dei decreta et volitiones), а следовательно, и под промыслом (providentia) разумеет не что иное, как самый порядок природы, необходимо вытекающий из ее вечных законов»22*. Поскольку «решения бога», будучи законами природы, познаются «естественным светом», они тем самым принципиально отличаются от фаталистических предрешений, например, кальвинистского бога, которые не познаваемы ни одним человеческим умом. Поэтому ссылки на неведомую волю бога, являющуюся тем самым asylum ignorantiae, убежищем иеве-
233
жества, суть только пустословие. Что же касается «чудес», которых так много в Библии, то они являлись таковыми лишь в сознании толпы, -не знакомой с принципами естествознания 227. Стремясь наполнить понятие божественного всемогущества и божественного промысла естественнонаучным содержанием, Спиноза заявляет в первой главе «Богословско-политического трактата»: «...мы постольку не понимаем могущества божьего, поскольку не знаем естественных причин» 228. В своих настойчивых попытках обеспечить победу этой точке зрения философ далее уверяет читателя, что «из чудес мы не можем уразуметь ни сущности, ни существования, ни промысла божьего... наоборот, все это гораздо лучше понимается из прочного и неизменного порядка природы» 229.
Генетическая. зависимость спинозовского понимания закона от понятия божественного решения и божественного предопределения все же оказала влияние и на содержание развитого им понятия закона, до предела усилив метафизическо-антиисторическое истолкование законов. Всемерно подчеркивая абсолютную неизменность природы, как результат извечного «решения бо- жия», распространяя действие открытых наукой законов на всю бесконечность, представлявшуюся ему качественно однородной субстанцией, Спиноза был убежден, что законы природы, светя вечным и неизменным светом, «показывают нам бесконечность, вечность и неизменность бога» 230. Будучи подобно самой субстанции выключены из всеразъедающего и всеизменяющего действия времени, спинозовские законы не динамичны, а статичны. Рассматриваемые, как и сама субстанция, sub specie aeternitatis, законы в спинозовской интерпретации выражают актуальную, а не потенциальную бесконечность.
Таким образом,. разрушая фаталистическо-иррацио- налистические представления, ставящие все события природы и человека в зависимость от непостижимой деятельности единого внеприродного начала, Спиноза доводит свой детерминизм до такой метафизической крайности, согласно которой все без исключения, даже самые ничтожные события в оконеченном мире, подчиняющиеся абсолютно неизменным законам, могут происходить только так, как они фактически происходят.234
Подобную точку зрения Энгельс однажды квалифицировал как фаталистическую. В известном фрагменте «Случайность и необходимость», входящем в «Диалектику природы», Энгельс указывает, что, согласно метафизическому пониманию французскими материалистами детерминизма, в природе господствует простая, непосредственная необходимость, однозначно проявляющаяся в самых мельчайших фактах, — числе горошин в данном стручке, длине хвоста данной собаки и т. п. «...Все это факты, — продолжает Энгельс, — вызванные не подлежащим изменению сцеплением причин и следствий, незыблемой необходимостью, и притом так, что уже газовый шар, из которого произошла солнечная система, был устроен таким образом, что эти события должны были случиться именно так, а не иначе. С необходимостью этого рода мы тоже еще не выходим за пределы теологического взгляда на природу»231. Следует также иметь в виду, что проблема фатализма у Спинозы, как определенный аспект развитого им механистического детерминизма, может ¡быть полностью уяснена только в результате рассмотрения спинозовского решения проблемы человеческой воли, что составит предмет следующей главы этой работы.
Границы органического и механического в спинозовской концепции природы
Как ясно из сказанного выше, эти границы пролегают между целостным пониманием природы, рассматриваемой в единстве вездесущей субстанции и порожденных ею модусов, и между ее пониманием в аспекте потенциально бесконечной множественности составляющих природу разрозненных вещей. Постоянное переплетение этих аспектов доставляет читателю особые трудности в понимании спинозовской онтологии. С одной стороны, философ подчеркивает, что «мощь природы есть сама мощь бога, который имеет верховное право на все», и мощь бога здесь должна быть истолкована как мощь актуально бесконечной субстанции, порождающей потенциально бесконечное многообразие своих модусов и бесконечно превосходящей любой из них. А с другой стороны, он утверждает, что «всеобщая
235
мощь всей природы есть не что иное, как мощь всех индивидуумов вместе взятых», и каждый индивидуум рассматривается им как нечто вполне самостоятельное, а вся природа — как сумма детерминирующих друг друга и друг с другом взаимодействующих единичных вещей, как будто потенциальная бесконечность их поддается какому-то суммированию!
Природа, понимаемая Спинозой как совокупность единичных вещей, подчиняется, как мы видели, законам механического детерминизма, исключающим все чудесное, недетерминируемое. Однако зависимость конкретных вещей от внешней детерминации проявляется в отношении начала и конца существования той или иной вещи, существования, длительность которого вытекает не из ее сущности, — ибо из сущности может проистечь лишь вечность, присущая только самой субстанции,— а из совокупности внешних причин, не поддающихся учету. Поскольку же существование любой единичной вещи все же зависит в той или иной мере и от самой этой вещи, постольку «каждая вещь стремится... оставаться в своем состоянии, и притом не сочетаясь ни с чем другим», в чем и состоит даже «высший закон природы» 232. Спиноза, с одной стороны, указывает, что это пребывание, или упорство (регэеуегапиа), вещей в их определенном существовании не зависит от их идеальной и неизменной сущности и не может быть выведено из их определения 233, а с другой—подчеркивает, что «стремление вещи пребывать в своем существовании есть не что иное, как действительная (актуальная) сущность самой вещи» 234, и поэтому «мощь какой бы то ни было вещи определяется только ее сущностью» 235. В первом случае юпять-таки акцентируется внешняя детерминированность вещи, а во втором — ее относительная самостоятельность.
Последняя и представляет сейчас для нас наибольший интерес, поскольку подчеркивание Спинозой стрем- ления '(сопаЫэ) вещи пребывать в своем существовании проходит через все его произведения и служит одним из главных онтологических обоснований его этической доктрины. В первом своем произведении, натурализируя понятие божественного провидения, или промысла, мыслитель пришел к выводу, что последний «является только стремлением к поддержанию и сохранению своего236
существований» и может быть всеобщим и особенным. «Всеобщее провидение, — говорит он, — это то, которым всякая вещь произведена и поддерживается, поскольку она есть часть всей природы. Особенное провидение есть стремление, которое ¡имеет каждая вещь отдельно к сохранению своего бытия, поскольку она рассматривается «не как часть 'природы, а как целое». Характерен также и следующий пример: человеческий организм со всеми своими членами, гармонизированными в своем функционировании с целым, иллюстрирует всеобщее провидение, в то время как каждый из этих членов, рассмотренный в качестве относительно самостоятельной целостности и заботящийся о сохранении и поддержании своего благосостояния, может иллюстрировать частное провидение235. Как этот пример, так и весь контекст спинозовской онтологии убеждают нас, что понятие стремления, которое наполнялось у некоторых новаторов столетия механистическим содержанием, связанным с возникновением понятия инерции, у Спинозы обнаруживает свое органистическое происхождение, а в значительной мере и содержание, какого уже не могло быть, например, у Гоббса.
Органистический характер «стремления» у Спинозы должен быть поставлен в связь с атрибутом мышления, в принципе распространяющимся на все предметы природы. Поэтому наиболее четкая граница между органическим и механическим пролегает в спинозовской онтологии между двумя атрибутами -субстанции-природы. В отличие от Декарта, оказавшего на Спинозу могучее влияние в понимании содержания мыслительной деятельности человека, атрибутивность мышления у нидерландского мыслителя означает в онтологическом плане нечто большее, чем субстанциональность мышления в системе французского. Это «большее» и связано с тем, что в отличие от Декарта Спиноза примкнул к органистическо-шлозоистической традиции, во многом совпадающей, как не раз подчеркивалось, с пантеистической традицией. Отсюда элементы гилозоизма, которые мы находим в онтологии Спинозы. Например, в «Метафизических мыслях», раннем произведении философа, в главе «О жизни бога», автор отвергает перипатетическо-схоластическое учение о трех разновидностях души, наделяющее жизнью человека, расте
237
ния и животных, но лишающее жизни всю остальную природу. Согласно же Спинозе — и здесь он выражает несомненно картезианскую идею, — в материи действительно «нет ничего, .кроме механических соединений и операций», но такого рода материя, как мы уже знаем, далеко не исчерпывает всей природы и составляющих ее вещей. Вот почему «обыкновенно слово «жизнь»,— говорит Спиноза, — имеет более широкий смысл» и в принципе должно быть приписано всем вещам, потому что «под жизнью мы разумеем силу, посредством которой вещи сохраняются в своем бытии» 237. Гилозоистическая точка зрения на природу категорически сформулирована Спинозой в известных словах «Этики»: индивидуумы природы, «хотя и в различных степенях, однако же все одушевлены» 238.
Констатируя, таким образом, наличие элементов гилозоизма в онтологии Спинозы, мы видим, что гилозоизм этот не носил такого всеобъемлющего и определяющего характера, какой мы находим в произведениях подавляющего большинства натурфилософов эпохи Ренессанса, например у Бруно. У Спинозы полностью отсутствует, в частности, идея мировой души, являвшейся необходимым элементом упрощенно-органисти- ческой, пантеистической натурфилософии Возрождения. Ведущими принципами спинозовской онтологии становятся ттринципы механистическо-детерминистические, и тот факт, что каждая вещь является в принципе модусом не только атрибута протяжения, но и атрибута мышления в сущности никак не отражается на поведении вещей. Например, если камень находится в покое, то он не может быть приведен в движение силой мышления, а только другим камнем, момент движения которого превосходит момент движения движимого камня 239. Выше мы видели, как радикально была разрушена в онтологии Спинозы .механистически понимаемым детерминизмом телеологическая точка зрения на природу, составлявшая почти необходимый компонент органистнческо-гнлозоистической ее интерпретации. Несмотря на это, мы можем все же говорить о гилозоизме Спинозы, но в смысле, значительно отличном от того, в каком этот термин применим к характеристике ренессансной натурфилософии.
Смысл спинозовского <годухотворения» вещей в дей238
ствительности состоит не столько в том, чтобы подчеркнуть родство психической сущности человека в принципе одухотворенной природе, бесконечно малую частицу которой он составляет, сколько в том, чтобы подвести онтологический фундамент под идею сквозной и абсолютной познаваемости мира, которая, как мы видели, составляет стержень рационалистической методологии и которая наиболее последовательно и типично была выражена именно Спинозой. Душа, в принципе присущая каждой вещи, есть не что иное, как идея этой вещи 240. Идеи же — не просто и не только продукт познающего человеческого ума, они существуют объективно, совершенно независимо от того, познает их кто- нибудь или нет241. Тем самым панпсихизм, как необходимый компонент гилозоизма, в онтологии Спинозы становится панлогизмом, как необходимым компонентом рационализма. При этом, разумеется, спинозовский панлогизм должен 'быть охарактеризован как панлогизм материалистический, ибо философ не мыслит идеи, отделенной от своего объекта, от того или иного тела 242. Идея в действительности выражает познаваемость любой вещи, доступность ее человеческому уму, ее способность быть предметом человеческого познания, способность стать идеатом, т. е. содержанием той или иной составляемой о ней идеи, ибо «нет предмета в природе, о котором в мыслящей вещи не было бы идеи, исходящей из сущности и существования ©того предмета» 243.
Трудность спинозовской метафизики состоит также в том, что познаваемость мира мыслится автором «Этики» не только как факт гносеологический, но и. как онтологический принцип, вытекающий, из объективно существующего атрибута мышления бесконечной -природы. Тот перелив методологии »и гносеологии в онтологию, который, как отмечалось выше, создает особые трудности при интерпретации спинозовской метафизики, наиболее выпукло проявляется в учении Спинозы об объективном существовании идеальной, интеллигибельной стороны действительности, всех ее вещей и явлений, существующих и как реальные предметы и как объекты познания. Два атрибута единой субстанции оказываются, таким образом, лишь двумя аспектами одной и той же действительности. «Субстанция мыслящая и суб
239
станция протяженная составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, в другом под другим» 244.
Последовательная рационализация мира, достигаемая в панлогизме Спинозы путем отождествления реальных, онтологических связей и связей идеальных, логических, приводит философа, как известно, к отождествлению причины с основанием, а действия со следствием и выражена в его знаменитой седьмой теореме второй части «Этики»: «порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей» 245. Поэтому связь понятий отождествляется с причинно-детерминистической связью явлений. Для Спинозы, как для классического рационалиста XVII столетия, тождественность логики и мира представляется чем-то само собой разумеющимся. В последующей истории философии, которая начиная с Юма подвергала критике тезис классического рационализма, отождествляющий реальные и логические связи, следует особо отметить иррационалистическую критику этого тезиса, впервые предпринятую едва ли не Шопенгауэром 246. Конечно, и с точки зрения теории отражения диалектического материализма главный тезис классического -рационализма представляет упрощение более сложных познавательных отношений мысли к бытию, ио в принципе этот тезис приемлем. Что же касается крайней и упрощенной версии, в какой он был сформулирован Спинозой, то она глубоко оправдана исторически: последовательной защитой познаваемости мира, убеждением в неограниченных возможностях суверенного человеческого разума, который, сбросив иго откровения, выступил с оптимистическим притязанием на познание всего мира.
Ведущая роль механического в метафизике Спинозы проявляется и в сфере «органического» — в области идеальных явлений, вытекающих из атрибута мышления. Идеи для философа — лишь отдельные мысли, идеальные корреляты реальных предметов, подчиняющиеся тем же законам механистического детерминизма, ибо «могущество бога в мышлении равно его актуальному могуществу в действовании, т. е. все, что вытекает из бесконечной природы бога формально (т. е. объективно, предметно. — В. С.), все это в том же порядке и той же самой связи проистекает в боге из его идем240
объективно (т. е. субъективно, идеально. — В. С.)» 247. Бесконечная способность мышления, существующая в природе, направлена на ту же природу, как на своей идеат, а составляющие ее отдельные мысли развертываются точно так же, как и -составляющие природу вещи 248, потому что «в боге необходимо существует идея всякой вещи, причину которой он составляет» 249.
Для ¡механистического детерминизма, перенесенного в плоскость объективированной мысли, характерно, что причинность 'бога по отношению к каждой идее-мысли не есть непосредственная причинность самого бесконечного атрибута, «абсолютного мышления», а только опосредствование другой идеей 250, как это имело место и при обосновании детерминации отдельных вещей. Эта параллель мысленной детерминации предметно-физической доходит у Спинозы до конструирования понятия бесконечного модуса в сфере атрибута мышления, аналогичного бесконечному модусу в сфере атрибута протяжения, ибо «воля и ум относятся к природе бога точно так же, как движение и покой ¡и вообще все естественное... потому что воля, как и все остальное, нуждается в причине, которой она определялась бы к существованию и действию по известному образу» 251. Здесь имеется в виду детерминированность человеческой воли, приравненной, как увидим, к »мысли не только в боге, но и в человеке.
Бесконечным модусом в атрибуте мышления является, как известно, бесконечный разум, бесконечный интеллект (МеНесЬк шИшЬ»), который по аналогии с движением и покоем следует рассматривать как совокупность всех идей-мыслей, развертывающихся в природе параллельно детерминирующимся вещам. Отношение бесконечного разума к атрибуту мышления, к «абсолютному мышлению» столь же — если не более — неясно, сколь неясно отношение движения и покоя к атрибуту протяженности. Мы встречаем в «Этике» такие выражения, как «идея бога» и «идеи атрибутов бога» 252, но, 'конечно, не может быть речи о том, что актуально мышление принадлежит богу-субстанции. Присущий ей атрибут мышления обусловливает как наличие в природе всеобщего стремления ее вещей к поддержанию своего существования, так в конечном итоге и объективное существование идей, как мыслен
241
ных коррелятов вещей, но реальное мышление принадт лежит только человеку 253. Не раз Спиноза -подчеркивает, что не только »конечный, но и бесконечный ум принадлежит природе произведенной, а не производящей254. Говоря об этом и желая избежать «всякой запутанности», автор «Этики» указывает, что речь идет «о самом умственном 'Процессе» 255. В этой связи уточняются и функции бесконечного ума, состоящие в том, чтобы «познавать всегда все ясно и отчетливо» 256, в частности постигать атрибуты бога, образуя его <идею 257.
Таким образом, органистическая интерпретация ми- ра, проявляющаяся с наибольшей силой в спинозовской идее об атрибутивности мышления, оборачивается как проблема познаваемости мира, рассмотрение которой должно составить предмет следующей главы.
VI. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ, ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМЫ
Указанная проблема представляет собой тесно связанную группу вопросов, объединенных идеей истинного познания и достигаемой на его основе свободы. В этой части спинозовской системы становится особенно очевидной ее этическая интенция. Вопрос о познаваемости мира и о человеческой душе, как субъекте познания, принадлежал, как мы видели, к числу первостепенных философских проблем интересующего нас столетия. У Спинозы сугубый интерес к этим вопросам проявляется во всех его произведениях1.
Человек как часть природы и как субъект познания.Соотношение телесных и духовных факторов
человеческой деятельности
Одна из определяющих идей спинозовского натурализма состоит в проходящем через все написанное философом утверждении, что человек не образует в природе «государства в государстве»2, но, будучи интегральной частью и даже частичкой (partícula) 3 природы, полностью подчиняется действию ее всеобщих законов. Последние обнимают собой «общий естественный порядок, часть которого составляет человек»4. В третьей главе настоящей работы мы видели, как механистическая картина природы, сменявшая органистическую, приводила и к механистическому представлению о человеческом организме. Этот процесс нашел свое отражение и в произведениях Спинозы.
Мы встречаемся здесь с аналогией между человече243
ским организмом и всей остальной природой, представляющей собой, хотя и очень сложный, но все же единый индивидуум, в целом неизменный, несмотря на бесконечно многообразные изменения в своих частях. Вместе с тем сам человеческий организм, как один из модусов атрибута протяженности, получает у Спинозы истолкование в категориях механистического детерминизма. Уже в «Кратком трактате» философ заявлял, что «человеческое тело есть не что иное, как известная пропорция движения и покоя»5. В «Этике» понимание человеческого тела, как целиком находящегося в сфере механистической детерминации, получает дальнейшее развитие. Наиболее значительная часть рассмотренных в предшествующей главе положений Спинозы относительно механистически понимаемой детерминации тел заимствована из второй части главного произведения философа, трактующей «о природе и происхождении души». Однако в целях лучшего понимания души философ обращается здесь к рассмотрению природы тел, как идеатов неразрывно связанных с ними душ. В конце этого вставного очерка о природе тел Спиноза предупреждает, что «все сказанное касается тел простейших, именно тел, различающихся между собой только движением и покоем, скоростью и медленностью»6. Человеческий же микрокосм, как и вселенский макрокосм, отличается наибольшей сложностью, потому что человеческий индивидуум заключает в себе целую систему менее сложных индивидуумов, сводящихся в конечном итоге к простейшим телам7. Не будучи физиком, Спиноза еще менее того является физиологом, и мы не находим в его произведениях почти никаких конкретных естественнонаучных соображений8.
Взаимодействие человеческого тела с окружающими его телами определяется прежде всего тем, что «человеческое тело нуждается для своего сохранения в весьма многих других телах, через которые оно беспрерывно как бы возрождается»9. Сложный состав человеческого тела определяет и сложность его причинных взаимодействий с окружающими телами. И эта усложненность детерминации человеческого тела усугубляется тем, что именно в человеке реально проявляется второй атрибут субстанции-природы, атрибут мышления. Результатом этого проявления и становится человеческая душа.244
Характерная особенность спинозовской интерпретации души, являющейся типичным проявлением рассмотренного выше состояния психофизической проблемы в XVII в», состоит в определении души как идеи, объектом, или идеатом, которой служит человеческое тело 10. Успехи физиологических знаний в интересующем нас столетии привели к механистическому истолкованию человеческой психики и в связи с этим к фактическому «рассасыванию» перипатетическо-схоластической души (anima), в особенности в ее растительных и чувствительных функциях. С другой стороны, усложнение и углубление познавательных функций человеческого духа не позволяло достичь сколько-нибудь эффективного объяснения этих функций .в категориях механицизма. Отражение этого противоречивого прогресса мы и видим в спинозовской психологии и гносеологии.
Традиционная душа как anima, невольно вызывающая некий телесный образ, совершенно не интересует Спинозу-психолога, объявляющего такую душу простой фикцией п. Весь его интерес сосредоточен на душе как духе (mens), наделенном познавательными функциями. Отсюда определение души в качестве идеи, под которой философ разумеет «понятие (Mentis conceptum), образуемое душой в силу того, что она есть вещь мыслящая» 12. Будучи модусом, душа постигает не всю бесконечную природу, а только свой идеат, т. е. человеческое тело13. Поскольку «сущность нашей души состоит в одном только познании» 14, понятие, образуемое душой, предупреждает философ, свидетельствует об ее активности; напротив, если бы понятие души истолковыва- лось как восприятие (perceptio), это свидетельствовало бы о пассивности человеческого духа15. В отличие от только рецептивных образов, сравниваемых философом с немыми рисунками картины, идея, или понятие, «заключает в себе утверждение или отрицание» 16.
В противоположность сенсуалистической традиции, укрепившейся в английской философии и нашедшей себе наиболее полное выражение в произведениях Гоббса, Локка, Беркли и Юма, традиции, подчеркивающей чувственную природу идей, Спиноза как рационалист видит в идеях лишь их логическую природу. «Под идеями, — поясняет он, — я разумею не образы, получающиеся в глубине глаза и, если угодно, внутри мозга,
245
а понятия мышления (conceptus Mentis)»17. Идея — это не «что-то немое, наподобие рисунка на доске», а «модус мышления, именно само разумение»18. Как «рассказы или умственные истории природы»1Э, идеи заключают в себе функции суждения — утверждение или отрицание. Однако вместе с тем нидерландского мыслителя сближает с названными английскими философами и отделяет от Декарта номиналистическое истолкование человеческого духа. Многократно подчеркиваемая Спинозой несостоятельность картезианского принципа субстанциальности человеческой души в ее высших познавательных функциях приводит его к убеждению, в том, что душа, как одна из модификаций атрибута мышления, как та или иная идея того или иного человеческого тела, является познанием этого тела20, т. е. познанием тех конкретных детерминаций, тех аф- фекций, которые постоянно испытывает человеческое тело в своем повседневном взаимодействии с окружающими его телами. «Мы не чувствуем и не воспринимаем никаких других отдельных вещей, кроме тел и модусов мышления»21, ибо «первое, что составляет действительное (актуальное) бытие человеческой души, есть не что иное, как идея некоторой отдельной вещи, существующей в действительности (актуально)»22. Поэтому и душа, как идея соединенного с ней тела, оказывается не единственной идеей, а некоей их совокупностью, изменяющимся множеством идей, она, говорит Спиноза, «не проста, но слагается из весьма многих идей»23. Как тело человека состоит из множества более простых тел, так и душа распадается на множество единичных идей. Человеческий дух, как «часть бесконечного разума бога», оказывается более или менее значительным собранием идей, как интеллегибельных коррелятов соответствующих им вещей, коррелятов, составляющих, как мы видели, логическую структуру мира. Тем самым дух, подобно телу, является частицей природы. Как на тело, так и на дух Спиноза распространяет законы механистического детерминизма, исключающие их субстанциальность. «Поэтому, как человеческое тело не представляет безусловного протяжения, но ограничено определенным образом по законам протяженной природы движением и покоем, так... и дух, или душа человека, не является мышлением безусловным, а известным обра246
зом ограниченным идеями по законам мыслящей природы» 24.
Но если, таким образом, все идеи человеческого духа только интенциональны, если духу ни в какой степени не присуща субстанциальность, то не происходит ли в результате этого утрата самого понятия индивидуального человеческого духа, понятия субъекта, вне которого немыслим никакой процесс познания, а тем более познание, обладающее активной природой, поднимающей человека до свободы? Не будучи в состоянии теоретически обосновать понятие субъекта, Спиноза не может без него и обойтись. Онтологической основой, дающей возможность объяснения познающего субъекта, является принцип атрибутивности мышления. Однако в условиях антиэволюционной интерпретации природы, при полном отсутствии исторического подхода к человеческому сознанию и при антидиалектической интерпретации достоверного познания, полностью оторванного от своих опытно-сенсуалистических корней, такой онтологической основы было слишком мало для объяснения как генезиса, так и, главное, сути человеческого сознания, способного к непрерывному мышлению и вместе с тем в каждый данный момент обладающего только дискретными, вполне конкретными мыслями. Кроме того, если в сфере протяженности движение и покой, как принцип индивидуации тел, не в состоянии эффективно связать эти тела с нераздельной и неподвижной субстанцией, то тем более непонятно сосуществование познающих и самосознающих духовных единиц с нераздельной и неподвижной субстанцией, рассматриваемой в аспекте атрибута мышления. Указанные затруднения, объективация и онтологиздция мыслительной деятельности человека, становящейся тем самым безличной, объясняют, почему некоторые философы, начиная с Гегеля, отказывают спинозовской философии в понятии субъекта25. Между тем это понятие совершенно необходимо в спинозовской системе хотя бы потому, что без него немыслима «рефлективная идея, или самопознание, опыт и деятельность разума»26, ибо «метод есть не что иное, как рефлексивное познание (cognitio reflexiva) или идея идеи» 27. А вне метода неосуществимо усовершенствование человеческого разума, без чего, в свою очередь, невозможно встать на путь, ведущий к
247
свободе, которая составляет фундамент развитой Спинозой моральной доктрины.
Попытка Спинозы сконструировать понятие субъекта приводит его к положению, о том, что душа является не только идеей тела, но и идеей этой идеи (idea ideae corporis), называемой им также идеей души (idea mentis). Это понятие должно выразить самонаправлен- ность человеческого сознания, которое в качестве активного свойства человеческой сущности не только воспринимает аффекции своего тела, но и идеи этих состояний и в меру этого обладает самопознанием28. Разумеется, подобно самой душе, идея души может быть представлена только под атрибутом мышления, потому что она, как «идея идеи, есть не что иное, как форма идеи, поскольку она рассматривается как модус мышления безотносительно к объекту. Ибо раз кто-нибудь что-либо знает, он тем самым знает, что он это знает, и вместе с тем знает, что он знает, что он это знает, и так до бесконечности»29. Онтологическое «обоснование» идеи души производится Спинозой обычным путем: поскольку «в боге» все есть, в нем «существует также идея, иными словами, познание человеческой души, проистекающая в боге таким же образом и относящаяся к богу точно так же, как идея, или познание человеческого тела»30. Панлогический характер спинозовского гилозоизма, как и всей его системы, в этой связи еще более усиливается.
Не менее трудной, чем проблема познающего субъекта, была вставшая перед Спинозой, как л перед другими новаторами интересующего нас столетия, проблема единства тела и духа человека, гармонии всех его действий и мыслей, которые эти действия, с одной стороны, сопровождают, а с другой — вызывают. Проблема эта имела и более широкий аспект, особенно существенный для развития материализма, а именно: чем можно объяснить мысли человека, особенно те из них, которые образуют достоверное знание?
Гоббс и Леруа дали на этот вопрос последовательно механистический ответ, объявив мышление во всех, даже самых высших его разновидностях, результатом движений известных элементов тела и превратив его тем самым в эпифеномен телесных процессов. С другой стороны, Декарт «отрубил» мышление от этих процес248
сов, хотя и пытался поставить действия тела в зависимость от мыслей души своей неудачной гипотезой о роли шишковидной железы. Спиноза не пошел ни по одному из этих путей. Уже в одном из своих первых писем к Ольденбургу31 философ категорически отрицает, что мышление — телесный процесс. В «Этике» эта точка зрения проводится настолько последовательно, что Спиноза подвергает Декарта язвительной критике за его попытку представить мышление «самым тесным образом соединенным с.какой-то частицей количества»32 (имеется в виду картезианская гипотеза о роли шишковидной железы). Согласно Спинозе, не может быть речи о сведении мыслительных процессов к телесным уже потому, что «мы имеем лишь весьма смутное познание о нашем теле»33, что «до сих пор никто еще не изучил устройства тела настолько тщательно, чтобы мог объяснить все его отправления»34. Но главное — принципиально не может быть речи о порождении мыслительных процессов процессами телесными, ибо это явления двух противоположных атрибутов. Природа мышления «никоим образом не заключает в себе понятия протяжения». Например, слова и образы состоят только из телесных движений и отнюдь не заключают в себе понятия мышления35. Поэтому и вообще «ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому»36. Тело и душа, таким образом, независимы в своей деятельности друг от друга.
В буржуазной истории философии, особенно в произведениях эмпириокритиков, широко распространена квалификация спннозовского решения психофизической проблемы как типичного проявления психофизического параллелизма37. Согласно этой квалификации, психические и физиологические процессы, абсолютно не связанные друг с другом и совершенно свободные от взаимовлияния,— явления принципиально различного характера. Из выясненного нами очевидно, что спинозовское решение психофизической проблемы не подходит под этот явно идеалистический эталон. Ибо хотя тело и душа и независимы друг от друга, тем не менее в своей деятельности они идентичны, как проявления одной и той же субстанции. Они представляют собой не два разных процесса, а один и тот же, «двуединый» процесс — два
249
аспекта деятельности субстанциально тождественного начала. «Душа и тело составляют одну и ту же вещь, в одном случае представляемую под атрибутом мышления, в другом под атрибутом протяжения»38.
В этой связи возникает вопрос: в каком же смысле мы говорим обычно о преодолении Спинозой декартовского дуализма. Ответ на этот вопрос может быть только один: лишь в самом общем, философском смысле, в смысле разработки Спинозой учения о единой субстанции, как носителе атрибутов протяжения и мышления. Взаимонепроницаемость этих атрибутов не дает возможности говорить о полном преодолении картезианского дуализма в решении психофизической проблемы, поскольку автор «Этики» не пошел по пути вульгарномеханистического «преодоления» противоположности духа и тела. Мы считаем вполне приемлемой формулу о параллелистическом монизме, выдвинутую в свое время Б. Э. Быховским39. В противоположность идеалистическо-агностической формуле о психофизическом параллелизме, доказывающей постоянную невозможность объяснить взаимодействие тела и духа, подчеркивание монизма в психофизическом учении Спинозы открывает принципиальную возможность объяснить это взаимодействие, хотя эта возможность становится действительностью лишь в условиях больших успехов материалистической психологии.
Но материалистическая тенденция в объяснении мыслительной деятельности человека получает несомненный перевес и в «Этике», несмотря на сформулированное в цитированной выше второй теореме третьей части утверждение о принципиальной независимости телесных и духовных действий, вытекающей из онтологической независимости двух атрибутов. Эта тенденция бросается в глаза читателю в обширной — одной из самых боль- ших в «Этике» — схолии к этой теореме, явно полемически заостренной против тех идеалистически мыслящих ученых, которые склонны ставить деятельность тела в исключительную зависимость «от воли души и ее искусства измышления». Опровергая эти мнения, чрезвычайно распространенные в его эпоху и несомненно далеко выходящие за пределы только философских мнений, автор «Этики» всемогущество природы приписывает прежде всего телу, фактически ставя деятельность ду-250
ши в зависимость от его действии. Хотя устройство тела и далеко еще не изучено, все же оно «в силу одних только законов своей природы способно ко многому, от чего приходит в изумление его душа». Примерам, как будто свидетельствующим о власти души над телом, Спиноза противопоставляет противоположные примеры, подтверждающие, что «если тело недеятельно, то и душа неспособна к мышлению»40. Само мышление души, как идеа- та своего тела, находится в прямой зависимости от того, насколько это тело способно к тому, чтобы в нем возник тот или иной образ того или иного взаимодействующего с ним предмета, в результате чего душа оказывается в состоянии образовать его идею-понятие. Поэтому вообще «человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее, чем в большее число различных состояний может приходить ее тело»41. Эти слова «Этики» подводят нас к вопросу о чувствен- ном познании, играющем большую роль в спинозовской системе.
Познание недостоверное, номинализм Спинозы и его интерпретация опытного и абстрактного знания
,/Г Основополагающая идея спинозовской теории познания состоит (В сугубо рационалистическом. противопоставлении представления (воображения — \magina- Но), целиком связанного с деятельностью органов чувств и являющегося единственным источником смутных идей, составляющих недостоверное знание, и пони- мания (¡гиеИесИо) как единственного источника достоверных истин. К тщательному различению этих способностей человеческого интеллекта философ неустанно призывает во всех своих произведениях, в значительной степени сводя к этому свою методологию42." Все идеи, возникающие в душе,— лишь мысленные корреляты телесных состояний человека и, следовательно, все знание внешнего мира опосредствовано телом человека, т. е. его чувствами43. Контакты человека_в_его повседневной жизни с многообразием окружающих его тел порождают _в_ его .чувственном сознании многочис?.. ле1шы^образы,. идеи „которых имеют "’~слЪ заключающий в себ€^_к;ак^риррду самого человеческого телартак и природу внешних, аффицирующих и детер
251
минирующих»его_тел 44. И образы и тем более их идеи— не^подобия внешних вещей, как это представлялось схоластикам, а механические процессы в теле — органах чувств, мозгу,— порождаемые механическим воздействием внешних вещей. Эти более или менее случайные детерминации человеческой души порождают в ней явление памяти, представляющей собой «некоторое сцепление (сопса1епа1:ю) идей», т. е. ассоциацию их45. Память„выступает. у Спинозы тем психическим звеном, которое..соединяет.в своей деятельности как явления его телесной, так и духовной природы. Разум, как источник достоверных истин, сам по себе лишен памяти, представляющей собой «не что иное, как ощущение мозговых в п е ч а т л ений», но он может воздействовать на нее/ Сводной стороны', «чем единичнее вещь, тем легче она удерживается в памяти», а с другой, чем более понятна она, тем легче сохраняется в памяти46. Но поскольку воздействие разума на память требует немалых интеллектуальных усилий и доступно далеко не всем людям, постольку в явлении памяти преобладает ее телесная природа и ее ассоциации носят сугубо индивидуальный характер в соответствии с привычками, так или иначе сочетающими в теле человека образы вещей. Конские следы вызывают у солдата мысль о всаднике и о войне, а у крестьянина — мысль о плуге и пашне47.
Таким образом, ¡представление — это созерцание человеческим духом внешних тел через посредство идей о состояниях: собственного .тела48. Такое созерцание, основанное на нелогических, случайных и индивидуальных ассоциациях памяти, может породить лишь смутное, неадекватное знание как внешних тел, так и человеческого тела, а равным образом и самой человеческой души, как идеи телесных состояний49. В частности, весьма неадекватно наше знание того, как долго может существовать наше собственное тело50. Принципиальную важность имеет развитая в этой связи концепция заблуждения.
Ложь, согласно Спинозе, не является чем-то положительным, ^заключенным^ в самой природе вещей. Заблуждение —это «сновидение' бодрствующего»51 — не может быть абсолютным; в той или иной степени оно всегда истинно.УЛожная идея 'является 'неадекватной идеей именно потому, что она отражает свой объект252
лишь частично, в том или ином аспекте — в соответствии с чувственной детерминацией. Такая фиктивная идея не ясна и не отчетлива, а смутна. Посредством такой идеи «дух частично усваивает вещь, которая на самом деле является цельной или составленной из многого» 52. Ложное суждение и возникает тогда, когда частичная истина провозглашается полной и завершенной. Тот факт, что мы представляем Солнце отстоящим от Земли на 200 шагов, приводит нас к ложному заключению лишь в результате того, что мы, не зная его истинного расстояния, утверждаем, что это так и есть, а не благодаря самому факту такого представления, заключающему известный элемент истины: существование Солнца и его действие на нас. Ведь само это действие не исчезнет и после того, когда мы узнаем истинное расстояние до Солнца53. Аналогичным образом и другие ощущения, или «представления, обманывающие душу», сами по себе не противоречат истине. Их ложность, однако, обнаруживается, когда «являются другие, более сильные представления», слагающиеся в более связную систему идей54. «Когда мы о какой-либо вещи утверждаем нечто, не содержащееся в понятии, которое мы о ней образуем, то это указывает на недостаток нашего вое- приятия, то есть на то, что наши мысли, или идеи, как бы отрывочны или неполны»55.
Спинозовская концепция заблуждения неотделима от присущего ему онтологического понимания истинно- стй, отождествляющего логические связи с природными, от панлогизма нидерландского мыслителя. Идеи в своем онтологическом, существовании, будучи отнесены к богуг~ с необходимостью являются истинными56. Но «посколь: ку они относятся к одной только чёловеческой"душе» 5V находящейся в более_ или менее случайном взаимодёи- ствии^с~окружающимй ее "т^л^ш, они выступают как неясные, неотчетливые, смутные. / Такое фрагментарное... ~позна ниеППйляется ложным, но не абсолютно, как рассматривал заблуждение Декарт, а только относительно. Оно состоит в недостатке знания, в его неадекватности, иедостовер^юсти..^ Недостоверностью характеризуется прежде всего знание опытное. Таким знанием, по Спинозе, является «познание через беспорядочный опыт» (ab experientia vaga), составляющее один из способов восприятия,
253
характерный для первого рода познания. ^Сфера деист- Твия этого вида познавательной деятельности людей очень велика, она едва ли не наиболее обширна, ибо имеет непосредственное отношение к жизненному обиходу всего человечества58. Хотя опытное знание и ненадежно, но в повседневной жизни, в которой «мы многое делаем на основании (простого) предположения», «нам приходится следовать тому, что наиболее вероятно», ибо «человек умер бы от голода и жажды, если бы не захотел пить и есть до тех пор, пока у него не было бы совершенного доказательства того, что пища и питье пойдут ему на пользу»59. Спиноза признает .немаловажную значимость И^а^такими науками, основывающимися на опытном изучении явлений и необходимыми для усовершенствования человеческой жизни, как педагоги- каГи медицина60. И тем не менее, собственно теоретическая ценность опытного знания, согласно Спинозе, сравнительно невелика. Прежде всего потому, что с помощью опыта мы не в состоянии открыть сущность ни одной вещи. Опыт свидетельствует нам лишь о ее существовании, не выводимом из определения вещи, образующего ее сущность61.
Критика опытного знания связана у Спинозы также с его недооценкой опытно-экспериментального естествознания _ и_с переоценкой,дедуктивно-математическойстороны,знания. Приступая в «Трактате об усовершенствовании разума» к изложению того способа восприятия, который связан с опытом, его автор специально сговаривается, что он имеет в виду «метод эмпириков и новых философов», явно намекая на Бэкона. Конечно, «оправданием» для Спинозы в его недоверии к опытному исследованию может служить то обстоятельство, что индуктивные методы в интересующем нас столетии только еще начинали складываться и о несовершенстве их свидетельствуют произведения того же Бэкона. Достаточно напомнить в этой связи пренебрежительное замечание Гоббса по поводу его индуктивного метода, который пригоден будто бы лишь для аптекарей. Это обстоятельство усиливало разрыв между достоверным знанием, прежде всего математикой, и недостоверным знанием, получаемым в опыте, и даже привело нидерландского мыслителя к противопоставлению их. Индуктивные методы обобщения просто не существовали для254
Спинозы, они сводились для него к индукции через простое перечисление, не отличаемой философом от восприятия через беспорядочный опыт. С помощью такого рода индукции и такого опыта можно выяснить те или иные случайные признаки вещей — в меру их чувственной детерминации, — но, поскольку «это вещь весьма недостоверная и не имеющая конца»62, никогда невозможно прийти ни к какому достоверному выводу. Даже эксперимент, свидетельствующий об активности познающего субъекта, по убеждению Спинозы, может лишь подтвердить до некоторой степени истины, сформулированные a priori. Так именно отзывается философ о своих экспериментах с селитрой в переписке с Ольденбургом (а через него с Бойлем)63.
В третьей главе работы было установлено, что при всем недоверии новаторов-рационалистов к теоретической ценности опытного знания никто из них не приходил к игнорированию его. Достоверность истин, устанавливаемых a priori, должна получать подкрепление и опытным путем, в чем собственно и заключалась жизненная проверка этих истин. Именно так решал эту проблему и Спиноза: хотя опыт сам по себе и ничего еще не доказывает, но он постоянно подтверждает положения, сформулированные a priori. Отсюда непрерывные указания философа: как свидетельствует опыт, если обратиться к опыту и т. п., которыми пестрят все его произведения.
Развитая Спинозой концепция недостоверного знания лежит,и в основе.его_трактовки .^абстрактного, познания.^ Здесь мы снова встречаемся — теперь уже в гносеологическом плане — с номинализмом Спинозы. Последовательное применение принципов номинализма помогает Спинозе, как и Гоббсу, и Декарту, изгонять химеры схоластического вербализма из всех разделов научно-философского знания, избегая ошибки тех философов, «которые держатся только слов и форм речи» и «судят о вещах по их именам, а не об именах по вещам»64. Плодотворность номинализма нидерландский мыслитель демонстрирует в различных разделах своего философского учения. Например, в связи с упомянутым выше выступлением философа против иудаистских притязаний на исключительность, «богоизбранность» евреев по сравнению с другими народами, притязаний, связы-
255
вавшнхся их защитниками с особенностями еврейской нации. Между тем, по убеждению автора «Богословско- политического трактата», природа «создает не нации, а индивидуумов, которые разделяются на нации, конечно, только вследствие различия в языке, законах и усвоенных нравах». Противное мнение, согласно которому «природа некогда произвела различные роды людей», он называет грезами и ребячеством65.
Номинализм, положенный Спинозой в основу его объяснения абстрактного знания, привел мыслителя к концептуалистическому истолкованию общих понятий, бЛи^ишим .образом восходящему, по-видимому, к Гоббс у ^ На ‘ представление может воздействовать только единичное6,6, всеобщие же понятия, или универсалии (notiones universales), складываются только в сознании человека./Ограниченность человеческого тела позволяет
~'ему чётко создать лишь некоторое, сравнительно небольшое количество образов. Слияние последних по мере их увеличения устраняет все индивидуальное в содержании воспринятых впечатлений. Душа воспринимает только некоторые черты образов, наиболее поразившие воображение данного человека, в результате чего возникают всеобщие понятия. Содержание таких понятий — например, человек, лошадь, собака и т. п., которые лучше бы назвать общими представлениями,— всецело связано с индивидуальными особенностями памяти. Поэтому для одного человек — это животное прямоходящее, для другого— животное, способное смеяться, для третьего — животное разумное и т. п. Смутность в содержании универсальных понятий особенно возрастает в наиболее широких и неопределенных из них, называемых трансцендентальными терминами, каковы: сущее (Ens), вещь (res), нечто (aliquid)67, весьма характерных для схоластической философской мысли. Наиболее общие понятия оказываются наиболее неотчетливыми и темными, а процесс обобщения с этой точки зрения — лишь затемне- ние более или менее ясных образов. Ошибочность всеобщих, или родовых, понятий в особенности связана с постоянной склонностью человеческого ума трактовать их «шире, чем могут действительно существовать в природе соответствующие им частные вещи»68. Поэтому «чем более обще понимается существование, тем оно понимается более смутно и легче может быть фиктивно при256
дано любой вещи; и, напротив, чем оно понимается уже, тем оно яснее познается и тем труднее фиктивно придать его чему-либо, кроме самой вещи»69. Возможность образования фикций вытекает, таким образом, из способности универсального имени прилагаться не только к одному или нескольким предметам, но и к бесконечному числу их.
Острие спинозовской критики универсалий несомненно направлено, против схоластического вербализма, но вместе с тем «критика схоластики» означает у нидерландского мыслителя, как и у других новаторов эпохи, стремление к усовершенствованию знания, освобождению его от множества предрассудков, связанных с обычными, некритическими мнениями людей, широко распространенными в человеческом общежитии и являвшимися одним из питательных источников схоластического философствования. Материализирующая сущность номиналистической методологии в особенности проявляется у Спинозы в его постоянном предостережении от тех ошибок, в результате которых смешивается «универсальное с единичным, и вещи, лишь мыслимые, или сущности абстрактные — с реальными существами»70. Выше мы уже видели, сколь далеко заходит философ в этой своей критике, отрицая объективное природное существование не только объектов таких понятий, как совершенное и несовершенное, добро и зло, порядок и беспорядок, красота и безобразие, но и всех чувственных качеств, а так же таких категорий, как время, мера и число. Радикализм Спинозы, объявляющий решительную борьбу многочисленным мнениям людей, которые не столько познают природу, сколько фантазируют о ней «сообразно с устройством собственного мозга»71, приводит его к чрезмерному расширению области entia imaginationis, «воображаемых сущностей», являющихся только модусами мышления, пригодными для объяснения вещей путем сравнения их друг с другом. Таковы именно время, служащее для объяснения длительности, число — для объяснения раздельного количества и мер а— для непрерывной величины72. Эти абстрактные понятия образуются человеческим умом в результате невозможности для его представления охватить беско-
' печное многообразие единичных вещей; они являются лишь auxilia imaginationis, «вспомогательными средст9 Зак. 681 257
вами представления»73, пригодными для осмысления единичных вещей, но не субстанции и модусов.
Один из наиболее существенных и плодотворных в научном отношении аспектов спинозовского номинализма в его борьбе против схоластического вербализма, усиливающего некритические и иллюзорные мнения обыденного мышления, состоит в его стремлении критически относиться к словесному материалу, в котором реализуется человеческое познание. В этой связи следует напомнить, что первый род познания, о котором идет здесь речь, определяется философом не только как представление, но и как мнение (opinio), потому что другим способом восприятия, лежащим в основе этого рода познания, наряду с восприятием через беспорядочный опыт, является пассивно воспринимаемая словесная информация (ex auditu), к которой присоединяется восприятие, делающее вывод на основании какого-либо произвольного знака (ex aliquo signo)74. Последние обычно тоже слова, которые помогают нам вспоминать о вещах и образовывать о них те или иные идеи. Слова ведь сами по себе ничего общего с вещами не имеют, и когда, например, римлянин, слышит слово pomum, то мысль его обращается к образу яблока, ничего общего не имеющего с этим членораздельным звуком, за исключением того, что слух и зрение древних римлян много раз подвергались совместному воздействию этого звука и этого плода75.
Отсюда ясно, что «слова составляют часть воображения», «они — только знаки вещей, как последние существуют в представлении, а не в разуме», а потому они могут беспорядочно складываться в памяти и приводить к большим заблуждениям76.
Исходя из того, что «слова сначала находятся толпой, а затем употребляются философами»77, Спиноза призывает к тщательному и критическому отношению к словесному материалу, в частности к его этимологическому анализу, выявляющему первоначальное значение слова и т. п. Совершенно очевидно, что нидерландский мыслитель в своем стремлении к усовершенствованию научного знания идет по тому же пути, на который до него уже вступил Френсис Бэкон в своей критике призраков рыночной площади. Уточнение научно-философской терминологии, достигаемое в результате критиче258
ского отношения к словесному материалу, должно принести большую пользу философии, помогая тщательно различать «образы, слова и идеи» и избегать тем самым многочисленных ошибок, возникающих вследствие неправильного применения названий к вещам. Польза эта совершенно очевидна, если учесть, что большая часть философских разногласий, по убеждению Спинозы, появляется «или вследствие того, что люди неправильно выражают свои мысли, или вследствие того, что неверно истолковывают чужие»78.
Познание достоверное, рационализм, интуитивизм и «геометрический метод» Спинозы
Важнейший порок и опытного и основанного на нем абстрактного познания состоит по Спинозе в том, что оно ведет к бесплодным спорам, а затем и к скептицизму79. В последнем Спиноза видит одного из главных своих врагов, ближайшего союзника откровения80. Будучи в рассматриваемом столетии главным представителем концепции «естественного света», более последовательным и решительным, чем Декарт, Спиноза, рассматривавший выражение «сверхъестественный свет», широко употреблявшееся церковниками, как соп1гасПсио т асЦе^о81, усматривал главную задачу своей методологии и своей гносеологии в разработке принципов абсолютно достоверного знания. Если в обыденной жизни мы вынуждены следовать тому, что наиболее вероятно, то «в сфере созерцания это не имеет места. Напротив, здесь мы должны остерегаться принимать за истинное то, что является только вероятным, ибо стоит нам допустить одну неверность, чтобы за ней последовало бесконечное множество других»82. Неприязнь к скептицизму и отвержение его, начавшись в первом произведении философа83, проходят через все последующие, но наиболее подробно они выражены в «Трактате об усовершенствовании разума», методологические принципы которого формулируются в значительной степени как антитеза скептицизма. Скептики, говорится здесь, — это «люди, глубоко пораженные духовной слепотой от рождения или вследствие предрассудков», в обыденной жизни они вынуждены «допускать свое существование и искать своей пользы и клятвенно утверждать и отри9* 259
цать многое», но в сфере теории ничего сколько-нибудь категорически ни утверждают, ни отрицают. Поэтому «с ними... не может быть речи о науках»84.
Но, как мы видели, о науках, строго говоря, не может быть речи и на основе опытного знания, ибо оно никогда не в состоянии привести нас к безошибочным и абсолютно достоверным истинам. В этой связи возникает вопрос, как возможно достоверное знание, прообраз которого дан в математике, если человеческая душа, как идея тела, не имеет никаких иных контактов с миром, кроме тех, какие она осуществляет через посредство органов чувств, снабжающих ее недостоверными идеями представления?
На этот вопрос Спиноза, подобно Декарту, а затем и Лейбницу, дает ответ в априорно-рационалистическом духе: мы обладаем такими основоположными понятиями и такой их связью, которая не порождается опытом, а присуща самому человеческому уму. Однако в отличие от Декарта, возводившего достоверные истины к врожденным понятиям нашего ума, Спиноза видит в них «отражение» природы, как она существует «в себе», не искажаясь в кривом зеркале человеческого представления. На стадии представления человеческая душа, как бесконечно малая частица бесконечно большого божественного интеллекта, может обладать лишь смутными, неадекватными идеями, являющимися лишь частичными истинами. На стадии рассудка, или разума (ratio), составляющего второй род человеческого познания85, она поднимается до полных, адекватных истин в силу своего принципиального тождества с природой, тождества части и целого, в силу того, что человеческое тело представляет собой модус атрибута протяжения, а душа — модус атрибута мышления. Тождество мышления и бытия, как последняя основа рационалистической методологии спинозизма, не может не привести к достоверным познавательным результатам, потому что само оно было порождено в значительной степени необходимостью дать онтологическое обоснование достоверным знаниям в условиях почти полного отсутствия исторического подхода к ним. «То, что обще всем вещам... и что одинаково находится как в части, так и в целом, не составляет сущности никакой единичной вещи»86. Сколь бы ни разнообразны были бесчисленные единичные вещи,260
детерминирующие человеческое воображение, все они являются модусами протяженности и не отличаются в этом отношении от самого человеческого тела. Поэтому и в душе они порождают — не в силу причинной зависимости, а в силу совместности мышления и бытия — только адекватные, т. е. ясные и отчетливые идеи87. И чем больше общего у человеческого тела с другими телами, тем больше способность его души к таким адекватным восприятиям88.
Последние получают у Спинозы наименование общих понятий (notiones communes), принципиально отличающихся от чувственных, имагинативных идей тем, что они относятся к геометрическим и механическим свойствам тел, т. е. к их подлинным, «первичным» качествам, в то время как понятия воображения выражают лишь наше чувственное отношение к ним. Если неясные и смутные идеи представления являются искусственными продуктами абстракции, образующимися из единичных постижений органов чувств, то ясные и отчетливые идеи рассудка, или общие понятия, представляются Спинозе чисто интуитивным достоянием человеческого ума, ничего общего не имеющим с абстрагирующей деятельностью представления. С метафизическо-антиисторической точки зрения Спинозы, они появляются не в результате развития человеческих знаний, а предшествуют им, лежат в основе всякого подлинно научного познания. Если универсальные понятия воображения, отражая колеблющийся опыт индивида, носят субъективный характер, то общие понятия являются таковыми не только потому, что выражают свойства, общие всем вещам, но и потому, что им присуще сверхиндивиду- альное содержание89, вынуждающее к безусловному согласию всякого, кто поднимается до осознания их.' Единство человеческого разума, представлявшее, как мы видели, один из главных устоев рационализма новаторов и в принципе выражавшее демократическую тенденцию их научно-философской деятельности, имеет свою основу именно в общих понятиях.
Ценность этой основы состоит в том, что она дает начало всему процессу адекватного познания, ибо «все идеи, которые вытекают в душе из находящихся в ней адекватных идей, также адекватны»90. Как рационалист Спиноза высоко оценивает — и, конечно, переоценива
261
ет — дедуктивный процесс познания. Человеческий дух, развивающий его, представляется философу quasi aliquot automaton spirituale, как бы некиим духовным автоматом, поскольку он действует по определенным и твердым законам, чего еще не понимали древние, близко подошедшие к аналогичной точке зрения91.
Дедуктивно-«автоматическая» деятельность рассудка в противоположность беспорядочной и хаотичной деятельности представления, доставляющей случайные и бессвязные знания, поднимает нас до системы связных истин. Если деятельность представления подчиняется случайным правилам психологических ассоциаций, то деятельность разума — а Спиноза то различает рассудок (ratio) от разума (intellectus), то сливает их в последнем понятии — совершается по строгим законам логического следования. Отвечая на вопрос одного из своих учеников, возможен ли метод строгого, связного и последовательного рассуждения в области умозрения, философ отмечает, что такой метод должен существовать с необходимостью, ибо «разум не подвержен случайностям так, как тело». Поэтому «образуемые нами ясные и отчетливые перцепции зависят от одной только нашей природы и ее определенных и твердых законов, т. е. от нашей абсолютной мощи (potentia), а не от случая (fortuna), т. е. от причин, которые хотя и действуют тоже по определенным и твердым законам, но нам неизвестны и чужды нашей природе и нашей мощи»92. Логическая связность, системность с точки зрения рационалистической методологии Спинозы представляется важнейшим критерием, отличающим адекватную истинность рассудка от неадекватной, только частичной истинности представления.
Другая решающая особенность деятельности человеческого разума, многократно подчеркиваемая Спинозой, состоит в нечувственном ее характере. На этой стадии своей деятельности человеческая душа «определяется к уразумению сходств, различий и противоположностей между вещами изнутри», а не «извне, случайно встречаясь с вещами», как это имеет место на стадии воображения93. Если на стадии представления деятельность души была прямо пропорциональна количеству ее чувственных контактов с другими телами, то на стадии «автоматически» действующего ,рассудка, наоборот, эта262
зависимость становится обратно пропорциональной, ибо «чем более действия какого-либо тела зависят только от него самого и чем менее другие тела принимают участие в его действиях, тем способнее душа его к отчетливому пониманию»94. Конкретно-историческая диалектика развития научно-философской методологии в рассматриваемом столетии, необходимость отстоять абсолютную суверенность «естественного света» от «света» сверхъестественного, а также доказать в борьбе против скептицизма абсолютную достоверность подлинно рациональных истин привела нидерландского мыслителя к последовательному утверждению нечувственности этих истин. «Вещь тогда постигается, когда она усваивается чистой мыслью помимо слов и образов»95, «ибо невидимые вещи и те, которые суть объекты только духа, могут быть видимы не иными какими очами, как только посредством доказательств»96.
Однако нечувственный характер деятельности чело- веческого разума вовсе не означает полного игнорирования словесно-образных средств человеческого познания, поскольку рационализм Спинозы, подобно рационализму и других новаторов, вовсе не приводил его к игнорированию опытных данных, почти постоянно подтверждающих истины, сформулированные a priori. Спинозовская рационалистическая спекуляция никогда не становилась «пьяной» спекуляцией, вращающейся только в эфире чистого разума, предающей полному забвению реальный, жизненный и общественный контроль ее положений. Философ развивает интересную концепцию соотношения чувственно-созерцательной и умозрительно-логической сторон человеческого интеллекта, к которой mutatis mutandis может быть применено различение павловской психологии относительно первой и второй сигнальных систем. Действительно, учит Спиноза, одни люди больше наделены способностью представления, а другие — способностью к отвлеченному мышлению. И тот, «кто более всего наделен разумом и более всего изощряет, тот обладает более умеренною способностью представления и более подчиняет ее, держит как бы в узде, дабы она не смешивалась с разумом»97. Но как бы ни сдерживал философ свое воображение, стремясь к более глубокому, более связному, более адекватному познанию того пли иного
263
предмета, он не в состоянии удержать свой интеллект по окончании процесса размышления от конструирования тех или иных образов и подбора тех или иных слов, облекающих во внешнюю форму чистым разумом найденную истину. Явления представления могут порождаться и только телесным состоянием человека, но в этом случае они возникают обычно в сознании больного человека. У здорового же человека, развивающего связную систему истин, «мы знаем из опыта,— подчеркивает философ,— что представление во всем следует по следам ума, сцепляя по порядку свои образы и слова (подобно тому как ум сцепляет свои доказательства)... Так что мы почти ничего не можем постигать разумом без того, чтобы представление тотчас же не образовало бы какого-нибудь образа об этом предмете»98. Таким образом, соотношение умозрительно-логической и чувственно-созерцательной сторон человеческого' интеллекта, по Спинозе, таково, что первой принадлежит открывающая и направляющая роль, а второй — подтверждающая и иллюстрирующая, что вполне соответствует принципам спинозовского рационализма и рассмотренной выше роли опыта в его системе.
Рациональное познание, или познание второго рода, еще довольно туманно сформулировано в «Трактате об усовершенствовании разума» как третий способ восприятия, «при котором мы заключаем о сущности вещи по другой вещи, но не адекватно... когда мы по некоторому следствию находим причину или когда выводится заключение из какого-нибудь общего явления»99. Однако, как ясно изо всего вышесказанного, суть рационального познания заключается в дедуктивном процессе выводного знания, образец которого был дан в труде Эвклида. Как было показано в третьей главе работы, дедуктивное знание у рационалистов рассматриваемого столетия с необходимостью требовало знания интуитивного, являющегося его фундаментом. Как ни у одного из великих рационалистов этого столетия, интуиция играет* в гносеологии и методологии гаагского мыслителя первостепенную роль.
Выяснение роли интуиции в философии Спинозы представляет чрезвычайно важный пункт при ее исследовании не только потому, что роль эта весьма велика, но и потому, что в буржуазном спинозоведении пробле264
ма интуиции у автора «Этики» стала одним из главных поводов для иррационалистического истолкования его философии 10°. Сложность проблемы спинозовской интуиции возрастает в связи с тем, что теоретический источник ее не один; наряду с картезианским учением об аксиомах «ясного и внимательного ума», как выражении его «естественного света» и фундаменте всего прочего знания, таким источником стали также рассмотренные выше пантеистические воззрения многочисленных сектантов о «внутреннем свете», как главном, если не единственном, средстве непосредственного, недискурсивного общения с бесконечным богом. Наибольшие следы такого понимания интуиции, заключающего в себе известные элементы иррационализма, содержатся в первом произведении философа, написанном в среде рейнсбургских коллегиантов. Здесь мы не только встречаемся с элементами мистического сентиментализма, полагающего, что ясным познанием называется «то, что происходит не из разумного убеждения, но из чувства и наслаждения самими вещами» 101, но и с уверенностью, согласно которой знание «состоит не в убеждении путем доказательства, но в непосредственном соединении с самой вещью» 102. Этой «вещью» является бог, ибо из того, «что между богом и нами существует такая тесная связь, вытекает, что мы может познать его только непосредственно» 103.
Однако картезианско-рационалистическое содержание интуиции несомненно брало верх в философском развитии Спинозы. Об этом свидетельствует известный пример, иллюстрирующий все три рода познания и четыре способа восприятия,— правило пропорции («тройное правило»). Появившись в «Кратком трактате»104, он повторяется затем в «Трактате об усовершенствовании разума» 105 и в «Этике» 106. Суть примера состоит в различных способах отыскания четвертого пропорциональ^ кого числа по трем данным. Купцы, не мудрствуя лукаво, отыскивают это число, «так как они еще не забыли то действие, которое в голом виде, без доказательств, узнали от своих учителей». Это и будет способ восприятия «по-наслышке», к которому, кстати говоря, в значительной степени и сводится методология древнеегипетской и древневавилонской математики. Другие же из этих простых примеров выводят общее положение, что
265
если умножить второе число на третье и полученное произведение разделить на первое, то в частном получится искомое число. Это будет познание «из беспорядочного опыта» (не так ли, возвращаясь к той же математике, было открыто подавляющее большинство ее истин?). Математики же, в силу одного из положений Эвклида относительно природы пропорции, знают, какие числа пропорциональны между собой, и находят искомое число без всякого затруднения.
Знание этого правила, свидетельствующее о значительном уровне обобщения, иллюстрирует третий способ восприятия и второй род познания. Но и оно, согласно Спинозе, не является высшим видом знания, каким выступает интуитивное познание, сразу схватывающее соразмерную пропорциональность заданных чисел, «не производя никакого действия». Совершенно очевидно, что, хотя в этом примере четвертого способа восприятия и третьего рода познания не требуется никакого действия и искомая истина усматривается непосредственно, тем не менее эта непосредственность опосредствована предшествующим знанием математика, который был бы не способен ни к какому интуитивному решению этой несложной задачи, если бы предварительно не узнал правила пропорциональности и не пользовался им. Тем самым интуитивный акт не только связан с актами дискурсивными, но и по своему результату ничем от них не отличается. Тождественность этих результатов проявляется не только в одинаковой возможности их практической проверки, но и в том, что интуитивное знание выразимо в словах. Тем самым уже этот простой пример, которому Спиноза придавал принципиальное значение, говорит о рационалистическом понимании нидерландским мыслителем интуиции. Ведь ее нррационалистическое истолкование, наиболее последовательно сформулированное в новейшее время Бергсоном, заключается не только в противопоставлении интуиции демонстрации, но и в связанном с этим противопоставлением утверждении, согласно которому результаты интуитивного «знания» невыразимы в словах.
Необходимо подчеркнуть, что мы не находим у Спинозы ни четкого размежевания сфер дедуктивно-демонстративного знания, с одной стороны, и интуитивного —266
с другой, ни достаточно ясного и однозначного определения сущности последнего 107. В «Этике» оба эти рода познания, обозначенные как второй и третий, противопоставляются первому, имагинативному способу познания, как источник необходимо истинного знания единственному источнику ложности 108. Взаимопроникновение интуиции и демонстрации проявляется уже в рассмотренных выше общих понятиях. Не являясь продуктами абстрагирующей деятельности представления, эти понятия, непосредственно данные уму, тем самым интуитивны, но именно в силу этой интуитивности они составляют fundamenta ratiocinii, условия всякого безошибочного умозаключения, составляющего демонстрацию.
Рационалистическое понимание интуиции Спинозой последовательно проявляется и в его трактовке сущности, онтологический аспект которой рассмотрен нами в предшествующей главе. Это понимание сформулировано в «Трактате об усовершенствовании разума» как четвертый способ восприятия, согласно которому «вещь воспринимается единственно через ее сущность или через познание ее ближайшей причины» 109. Но через свою сущность, как выяснено, воспринимается только субстанция, в то время как бесконечное многообразие единичных вещей может быть познано лишь путем выявления детерминирующих их ближайших причин. Вместе с тем в принципе каждая единичная вещь, поскольку она является модусом, обладает сущностью. Сущность же, или природа, вещи ни в коем случае не может быть определена, исходя из абстрактных концептов, из универсалий, как это было свойственно схоластике. Путь к познанию сущностей заключается в составлении конкретных, единичных определений, «ибо чем более специальна идея, тем она отчетливее и тем самым яснее». Сущности совпадают с такими определениями. Из них могут быть выведены все свойства вещей, так как «нельзя ясно понять свойства вещей, пока не узнаем их сущностей»110. Подобно субстанции, атрибутам и модусам, сущности — вечные, вневременные истины111, являющиеся как бы ближайшими причинами вещей112.
Таким образом, сущности вещей, т. е. существенные черты объективного, или «формального», бытия вещей, при их познании выступают как определения. Совершен
267
ство последних находится в прямой зависимости от того, насколько они способны «выразить внутреннюю сущность вещи» пз. Правильному составлению определений Спиноза уделяет очень большое внимание114. Он стремится «объяснять не значение слов, а сущность вещей», давать не словесные, а предметные определения115, понимая под ними «возможно точные объяснения знаков и имен, которыми обозначаются соответственные предметы»116. Такие дефиниции, становящиеся важнейшим проявлением интуитивного знания, являются вместе с тем аналитическим знанием, в котором необходимая истинность вытекает из содержания понятий субъекта и предиката и нисколько не зависит от полного случайностей и противоречий эмпирического обобщения. Из самого определения треугольника вытекает равенство трех его углов двум прямым. Если Декарт считал интуитивным такое простое и отчетливое суждение, которое «не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим»117, то с точки зрения рационалистической гносеологии Спинозы такого ощущения истинности, таящего в себе возможности субъективизма, еще недостаточно. Абсолютно бесспорная истинность, совершенно не зависящая от субъекта, может быть достигнута лишь путем выявления аналитической природы выражающих ее суждений. Только такое выявление спасает нас от всякого скептицизма и вместе с тем доставляет имманентный критерий истинности.
Поскольку истина — это утверждение (или отрицание) о вещи, совпадающее с самой вещью 118, то истинная идея та, которая согласуется со своим предметом, со своим идеатом 119, которая выражает, таким образом, объективные, «формальные» свойства и связи вещей. Но Спиноза предпочитает называть ее адекватной идеей (idea adaequata), «которая, будучи рассматриваема сама в себе без отношения к предмету, имеет все свойства или внутренние признаки истинной идеи» 120. Адекватная идея, не требующая соотнесения ее с предметом, аналитически выражающая свою истинность, является основным устоем имманентного критерия истинности., Отсюда знаменитое положение Спинозы, центральный принцип его рационализма: «Как свет обнаруживает и самого себя и окружающую тьму, так и истина есть мерило и самой себя и лжи», потому что2G8
«тот, кто имеет истинную идею, вместе с тем знает, что имеет ее и в истинности вещи сомневаться не может» 121. В своем ответе католическому фанатику Бургу, спрашивавшему философа, на каком основании он считает свою философию наилучшей, последний гордо заявил: «...я вовсе не претендую на то, что открыл иаилучшую философию, но я знаю, что постигаю истинную», потому что «истинное есть показатель как самого себя, так и ложного» 122.
Сформулированная таким образом спинозовская концепция истины ясна: если ложь относительна, то истина абсолютна. Только в силу этой абсолютности она и может служить критерием степени истинности, показателем правдивости наших знаний — в меру их приближения к аналитическим суждениям, составляющим правильные определения. Доставляя в некотором роде эталон самоочевидности и достоверности, эталон, с помощью которого подлинное знание легко отличается от смутных и недостоверных суждений обманчивого представления и некритических мнений повседневного опыта, спинозовская концепция истины, столь далекая от понимания практических и общественных критериев истинности, стремится опровергнуть пирронистско-скептнче- ские аргументы: познание истины невозможно в силу того, что мы, устанавливая тот или иной критерий, должны оправдывать последний каким-то другим критерием и так до бесконечности 123.
Интуитивное познание не исчерпывается у Спинозы познанием только сущностей вещей, выражаемых в определениях. К усовершенствованному нидерландским мыслителем картезианскому пониманию интуитивного знания как порождения абсолютно ясного и отчетливого «естественного света», присоединяется идущее из пантеистической традиции понимание интуиции как целостного знания, охватывающего весь мир. К такому пониманию интуиции подводит то определение третьего рода познания, какое мы находим в «Этике»: она «ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов бога к адекватному познанию сущности вещей» ,24. Интуитивное постижение субстанции и ее атрибутов дает, таким образом, человеку возможность постичь сущности единичных вещей как модусов единой и вечновневременной субстанции бога-
269
природы. Это и есть знаменитое спннозовское познание вещей разумом sub specie aeternitatis |?5, т. е. с точки зрения вечности: не как случайных и разрозненных предметов, изменяющихся во времени и так представляющихся нашему воображению, а как абсолютно необходимых модусов единой и единственной субстанции, т. е. ее частей, в принципе тождественных своему целому. Лишь с точки зрения вечности завершается мировая связь всех истин и полностью выявляемся абсолютный характер истины, освещающий все бесчисленные ступени ложности-истинности; ведущие к ней.
Сформулированную здесь спинозовскую идею, согласно которой адекватное знание частного возможно лишь при условии познания общего, элементом которого она является, следует признать диалектически ценной и методологически весьма плодотворной. Высшая ступень всегда освещает низшую. Даже путник, с трудом поднявшийся на гору, видит все лишние зигзаги своего пути, которых он уже не совершит следующий раз. Спн- нозовская концепция целостного знания, в свете которого -становятся до конца ясными все его составные элементы, сравнивается иногда с этапами в изучении нового языка: от букв алфавита изучающий переходит к словам, а затем к предложениям в соответствии с определенными грамматическими правилами. Наконец, достигается ступень совершенного знания языка, в свете которого полностью уясняются все его особенности, до тех пор представлявшиеся крайне трудными 126. Известное положение Маркса, согласно которому ключ к анатомии обезьяны следует искать в анатомии человека 127, тоже следует связывать с этой диалектической познавательной закономерностью.
Поскольку истина состоит в полноте знания, чем проще вещь, тем яснее и отчетливее она познается. По* этому, заявляет Спиноза вслед за Декартом, «если вещь, составленную из многого, разделить мышлением на простейшие части и обратиться к каждой в отдельности, то исчезнет всякая смутность» 128. Но так обстоит дело в различных «частных» вещах, спинозовская же метафизика в своей трактовке интуиции, как высшего рода познания, как познания целостности, имеет в виду постижение актуально бесконечной субстанции, дающее возможность познать всю потенциально бесконечную270
природу. На этом пути мы опять встречаемся с противоречиями бесконечного и оконеченного, уже рассмотренными нами в онтологическом плане.
Разум, как интеллект, обладающий интуицией и заключающий в себе достоверность, некоторые идеи образует «абсолютно, а некоторые из других». Первыми являются все идеи, выражающие бесконечность, а вторыми— все идеи количества, которые всегда ограничены другими идеями: тело воспринимается как возникшее из движения некоторой плоскости, плоскость — из движения линий, а линии — из движения точки 129. Наибольший интерес представляет собой идея абсолютной бесконечности, т. е. идея субстанции-бога. Постижение этой «первой причины» означает постижение главной идеи, являющейся началом всех других идей 130, исключающей всякие фикции|31, становящейся фундаментом достоверного знания 132, «идей бога». Эта «бесконечная идея... заключает в себе объективно всю природу, как она реально существует в себе» 133. Исходя из нее и развертывая всю цепь истин, достигая, таким образом, высшей связности их, человеческий разум, являющийся лишь частицей бесконечного разума, как бы уподобляется ему, начиная понимать все абсолютно ясно и отчетливо: «необходимо, чтобы ясные и отчетливые идеи нашей души были так же истинны, как идеи бога» 134. Человеческое познание на этой стадии обнаруживает себя как самопознание бога, т. е. самопознание природы, наделяющей этим свойством в принципе каждую вещь, фактически же только человеческую душу. «Вечная мудрость бога» «проявила себя во всех вещах и особенно в человеческой душе и больше всего в Иисусе Христе» 135.
Метафизический идеал завершенного в масштабе всего мира знания свою онтологическую проекцию находит в понятии бесконечного разума, бесконечного интеллекта, который все и всегда познает абсолютно ясно и совершенно отчетливо. Спиноза предвосхищает здесь тот интуитивно мыслящий и все постигающий «первообразный интеллект» (МеНесЫз агсЬе1уриз), о котором впоследствии мечтал К ант,36. Эта онтологическая проекция представляет собой в спинозизме один из отзвуков понятия бога-всезнайки, о котором шла речь в третьей главе. «Бог знает самого себя и все
271
остальное, т. е. он имеет в себе все объективно (т. е. субъективно.— В. С .)»137. Но если рассмотренные выше деистические концепции, отчуждавшие интуитивную способность человеческого ума и приписывавшие ее отделенному от природы богу, до известной степени сближались на этом пути с теизмом, то ничего подобного не могло быть в спинозизме, дезантропорфизировавшем бога и отождествляющем его с природой.
И все же объективизация интуиции становится возможной в спинозизме в результате того оконечивания мира, онтологический смысл которого был выяснен в предшествующей главе. Но нельзя ли поставить этот вопрос еще шире: не сопровождается ли всякое стремление к рационализации мира оканчиванием его и не дана ли уже эта противоположность бесконечного и оконеченного, иррационального и рационального в пифагорейском противопоставлении беспредельного и предела, хаоса и космоса? Не об этом ли свидетельствуют также антиномии бесконечного и оконеченного, бегло отмеченные нами — от Аристотеля до XVII в.— в предшествующем изложении? Не является ли, далее, непрерывное стремление человеческого познания к целостно-интуитивному охвату предмета с его бесконечным числом аспектов, подлинным ядром диалектического понимания истинности? Не об этом ли свидетельствует история диалектики от Николая Кузанского до немецких диалектиков конца XVIII — начала XIX в., в методологии которых такую огромную роль играла проблема интеллектуальной интуиции?
Интуитивное познание, постигающее бога-субстан- цию, а с ней и весь мир, по категорическому утверждению Спинозы, не может возникнуть из первого рода познания, а только из второго138. Подчеркивая тем самым интеллектуальный характер интуиции, философ вместе с тем полностью разрывает и даже противопоставляет основывающееся на опыте и на абстракции недостоверное знание достоверному знанию, состоящему из интуиции и демонстрации. Гносеологические предпосылки этого разрыва, глубоко коренящиеся в сугубо неисторическом понимании достоверного знания, понимании, присущем не только веку Спинозы, были раскрыты в третьей главе работы. Нечувствительный характер достоверного знания еще более усугубляется272
в связи с энергичным подчеркиванием Спинозой роли интуиции, как сверхчувственного приобщения человеческой души к богу. Это составляет главное наследие пантеистической мысли меннонитов, коллегиантов и других радикальных сектантов в философском мировоззрении Спинозы. «Знание единства, которым дух связан со всей природой»139, представляется нидерландскому мыслителю знанием, совершенно свободным от какой бы то ни было чувственной примеси. «Бог может сообщаться с людьми непосредственно, ибо он, не употребляя никаких телесных средств, сообщает нашей душе свою сущность» 14°. Вечная и бесконечная сущность бога, таким образом, непосредственно запечатлена в любой индивидуальной человеческой душе, «бесконечная сущность бога и его вечность всем известны» 141, хотя далеко не все люди, отягченные привычками представления, поднимаются до такого осознания. Только в силу этого обычно не соблюдается «порядок в ходе философской мысли. Божественную природу, которую должно было бы рассматривать прежде всего в силу того, что она в порядке познания предшествует как дознанию, так и природе, поставили последней, вещи же, называемые объектами чувств,— самыми первыми» 142.
Основной вывод, делаемый Спинозой из этих положений, состоит в доказательстве, согласно которому достоверное познание действительности достигается не тогда, когда мы начинаем с познания внешних тел, хотя и этого вида познания он вовсе не игнорирует, а когда мы отправляемся от познания самих себя, ибо «то, что заключается в уме объективно (т. е. субъективно.— В . С.), необходимо должно существовать в природе» 143. Спинозовский культ разума, свободного от контроля опыта, вызвал в дальнейшем, в XVIII и в начале XIX в., прямо противоположное отношение: обвинение в спекулятивности и догматизме со стороны французских эмпириков и сенсуалистов и полное одобрение со стороны немецких идеалистов144. В свете вышеизложенного совершенно понятен raison d’être этого культа разума, исторически оправданного той страстной защитой его суверенности перед лицом сверхъестественного откровения, в отношении которой в интересующем нас столетии нидерландский мыслитель был наиболее последовательным и радикальным.
273
Следует также иметь в виду, что подчеркивание Спинозой самодостаточности разума, имеющего в ин-
/ туиции непоколебимый фундамент достоверности, отнюдь не приводило его на позиции субъективизма, как это имело место, например, у окказионалистов, последовательно развивших субъективистские элементы картезианского рационализма и сводивших всякое познание к самопознанию души. По убеждению же Спинозы, именно интуиция в силу единства человеческого духа с природой выводит человеческое сознание из пещеры субъективности на просторы объективного мира, ибо, познавая себя как модус, частицу, субстанции-природы, мы познаем тем самым всю природу. В основе этого воззрения лежит, таким образом, древнейшая органистическая идея о тождестве микро- и макрокосмоса. Ясные и отчетливые идеи, возникшие «из чистого разума, а не из случайных движений тела», возведенные к единой и единственной идее бога-субстан- ции, направлены к тому, «чтобы наш дух, насколько для него возможно, объективно передавал то, что существует формально в природе, в ее целом и в ее частях» 145. Отсюда выступление философа против тех мыслителей, которые утверждают, будто «душа может чувствовать и многими способами воспринимать не себя самое и не вещи, которые существуют, но только то, чего нет ни в ней, ни где бы то ни было, т. е. что душа может одной своей мощью создавать ощущения или идеи, которые не принадлежат вещам» 146. В противоположность такого рода мыслителям Спиноза твердо убежден, что «наш разум был бы менее совершенен, если бы душа оставалась одинокой и не познавала бы ничего, кроме самой себя» 147.
Утопичность спинозовской гносеологической программы, заключающейся в мысли о возможности исчерпывающего знания бесконечной Вселенной, исходя из интуитивно постигаемой идеи субстанции и используя безошибочность дедуктивной последовательности мыслей, вопреки его же убеждению в невозможности такого знания для «конечного разума» с его средствами чувственного и абстрактного познания, с очевидностью проявляется в знаменитом геометрическом методе Спинозы. Будучи продолжением рационалистической метафизики в сфере методологии, последний представляет274
собой грандиозную попытку применения аксиоматического метода к демонстративному изложению всего круга философских знаний, включая и наиболее сложную, труднее всего поддающуюся обобщению область «человеческих пороков и глупостей», область частной и общественной жизни человека.
Когда-то в нашей литературе дебатировался вопрос, является ли геометрический метод у Спинозы методом исследования или лишь способом изложения 148. Конечно, «исследовать» с помощью этого метода ничего невозможно. В изложении его сути, сделанном от имени Спинозы Людовиком Мейером в написанном им Предисловии к «Основам философии Декарта», подчеркиваются именно демонстративные преимущества «математического метода». Поскольку большинству людей чужды математические науки, «они не знакомы ни с синтетическим методом, которым они излагаются, ни с аналитическим методом, которым они открыты» 149.
Универсализация этого метода, распространенного Спинозой и на сферу философии, против чего предостерегал Декарт, свидетельствовала о большей смелости рационалистической программы нидерландского мыслителя по сравнению с французским, что нашло свое прямое выражение и в онтологии обоих мыслителей. Стремление к «достоверности, стоящей вне всякого сомнения», способной привести читателя в надежную гавань, защищенную от «бурь споров и волн недостоверности», характерных как для скептицизма, так и для схоластического пустословия, о чем свидетельствует тот же Мейер 15°, освещает и другие немаловажные причины, направившие Спинозу на via geométrica.
Однако, будучи оправдан исторически, геометрический метод страдает неустранимыми изъянами. Решающий порок этого метода, использующего приемы эвклидовой геометрии, состоит в том, что строго однозначные термины, составляющие абсолютно точную науку именно в силу этой однозначности, не применимы в области, где такая однозначность является скорее исключением, чем правилом. Всякому философски грамотному человеку хорошо известно, сколь незначительно число аксиом или постулатов в области самой философии и тем более в человеческой жизни, становя
275
щейся предметом философского анализа, и насколько трудно доказать на их основе хотя бы одну «теорему». Сам Спиноза был уверен в доказательных, демонстративных преимуществах геометрического метода. Его предубежденность приобретала иногда характер догматической самоуверенности, когда, например, в одном из своих писем Ольденбургу он отказался даже рассматривать доказательства Бойля относительно зависимости всех чувственных качеств от движения, фигуры и прочих механических состояний на том основании, что автор не прёдставил этих доказательств «в качестве математических» 151. Философ, по-видимому, задержал окончательную редакцию своего главного труда не потому, что ему были неясны какие-то принципиальные идеи, которые сложились, конечно, независимо от геометрического метода, а потому что нередко затруднялся вставить их в его узкие рамки 152. Вместе с тем мыслитель нередко ощущал обременительность навязанного им себе способа изложения и охотно покидал его в многочисленных схолиях, а также в прибавлениях и предисловиях, обычно более вразумительно и более связно излагающих его принципиальные мысли. Таким образом, многозначность философской терминологии, тем более в век Спинозы, легко разрывала прокрустово ложе его «геометрического метода», псевдодедукция которого давно стала ясной для исследователей этой философии 153. То, что мыслителю представлялось «последним словом» философской науки, образцом ясности и точности, ныне лежит перед читателем как весьма затрудняющий адекватное понимание текст, многие принципиальные мысли которого нередко формулируются в случайном контексте. Все это еще более способствует тому разнобою интерпретаций, в отношении которого спинозизм побивает все рекорды.
Идея «геометрического метода», излагающего по высшему замыслу автора вневременную логику мира и человека, порождена тем внеисторическим пониманием человеческого познания, которое было присуще Спинозе вместе с другими философскими новаторами его века и которое видело свой образец в достоверности эвклидовых «Начал». Последние понятны для каждого человека, способного к элементарному логическому мышлению, они не требуют знания «жизни, занятия, характера ав276
тора, на каком языке и когда он писал, ни судьбы книги, ни различных ее чтений» 154.
Однако, подчеркивая внеисторическое понимание знания Спинозой, нельзя на этом ставить точку, так как известные, хотя в общем и незначительные, элементы исторического подхода к знанию у него имели место. Об этом в особенности свидетельствует рассматривавшееся выше отвержение философом аргументации скептиков, доказывавших невозможность достоверного знания на том основании, что нет хотя бы одного устойчивого критерия его, и отодвигавших этот критерий в бесконечность. По мысли Спинозы, эта аргументация совершенно неубедительна, так как она легко опровергается самой практикой человеческого познания и деятельности. С таким же успехом, говорит философ, можно было бы доказать, что люди не в состоянии начать ковать железо, ибо прежде чем приступить к этому, они должны сделать молот, который, в свою очередь, должен быть сделан другим молотом, и т. д. до бесконечности. Между тем, люди начинают с того, что создают какие-нибудь простые орудия, с помощью которых создают более сложные и постепенно совершенствуют их. Точно так же обстоит дело с «умственными орудиями», которые тоже совершенствуются в процессе познания, ибо человеческий дух, «больше понимая, тем самым приобретает новые орудия, при помощи которых еще легче расширяет понимание» 155.
Воля, аффекты и порабощенность человека
Проблема воли, связывающая гносеологию с антропологией и этикой, привлекала Спинозу с самого начала сто философских размышлений. Отвергнув учение Декарта о свободе человеческой волн, как решающей причине заблуждения, Спиноза и здесь пришел к более последовательному рационализму. Радикальная рационализация мира сопровождалась у Спинозы такой же рационализацией человеческого 'сознания. Как мы видели, именно в представлении о свободе человеческой воли, господствовавшем в христианской философии в течение многих столетий, было сконцентрировано иррационалистическое понимание «греховной» человеческой природы. Этот августннианский элемент, сохра-
277
ненныи в гносеологии Декарта, исходившего из того, что свободная воля, будучи шире разума, приводит последний к заблуждению, многократно отвергался Спинозой. Уже в первом своем письме к Ольденбургу философ, отмечая главные пункты своего расхождения с Декартом и Бэконом, в качестве третьего указывает на то, что эти философы «не постигли истинной причины заблуждений» ,56. Здесь Спиноза объединяет Бэкона с Декартом на основании известного афоризма «Нового Органона», согласно которому «человеческий разум «не холодный свет, а свет, питаемый волей и чувствами» 157.
Понимание воли как иррационального и при том определяющего начала человеческого сознания, оказывающегося — хотя и не всегда — более могущественным, чем разум, было неприемлемо с точки зрения рационализма Спинозы. Методология номинализма с особой силой проявилась у него в интерпретации воли, приведшей к радикальному отказу от понятия свободы воли. Всеобщее убеждение людей в наличии у них воли с ее свободой как особой способности души Спиноза считает типичным с п б тадтаН ош э, воображаемой универсальной сущностью 158. Представление о свободе воли — первое и наиболее живучее из человеческих заблуждений, первая из абстрактных универсалий, полуправда, основывающаяся на том, что люди сознают только свои желания, но обычно весьма далеки от того, чтобы понимать их подлинные причины. Даже грудные младенцы убеждены, что они свободно просят молока, разгневанные люди «свободно стремятся к мщению, трусы — к бегству, пьяницы, помешанные и болтуны тоже убеждены, что они свободно говорят то, в чем впоследствии нередко раскаиваются» 159. Отказ Спинозы от идеи об обособленном положении человека в природе, от тесно связанного с этой идеей представления о субстанциальности человеческой души, а также номиналистическое понимание человеческого сознания как совокупности обособленных идей приводит его к решительному отвержению свободы человеческой воли. «В душе,— говорит Спиноза,— нет никакой абсолютной или свободной воли», как нет в ней «никакой абсолютной способности разумения, желания, любви», ибо все это — лишь «метафизические, или универсальные сущности, обыкновенно образуемые нами из единичных явлений». Воля и ум
относятся к отдельным своим проявлениям точно так же, как белизна к отдельным предметам белого цвета, как каменность к тому или иному камню или человечность к Петру и Павлу 160. Свободы воли не может быть хотя бы потому, что нет воли как особой' способности человеческого духа. Так как «воля не есть вещь в природе, но лишь фикция, то я думаю,— говорит философ уже в первом своем произведении,— что нечего и спрашивать, свободна она или нет» 161.
Но как же образуется абстракция воли? Каковы те единичные явления, которые приводят к этой универсалии? Такие явления — только идеи, совокупность которых образует человеческое сознание. Ведь каждая идея, как мы видели, представляет собой не немое подобие картины, но заключает в себе природу суждения — утверждение или отрицание. В силу этого лю бая идея не просто репрезентативна, но и активна — в меру своей истинности, в соответствии с той степенью света, какой светит любая идея, ибо ни одна из них не является абсолютно ложной. Если, по Декарту, заблуждение носит абсолютный характер и поэтому, например, воздержание от суждения — результат проявления свободы человеческой воли, то с точки зрения Спинозы, отвергающего абсолютность заблуждения, «воздержание от суждения на самом деле есть восприятие, а не свободная воля», результат того, что воздерживающийся от суж дения видит неадекватность соответствующей идеи162. Таким образом, в активности идеи аффирмативной или негативной — и заключена ее волящая природа, ибо «в душе не имеет место никакое волевое явление, иными словами — никакое утверждение или отрицание, кроме того, какое заключает в себе идея, поскольку она есть идея» 163.
Здесь мы подошли к основному положению спино- зовского рационализма в его учении о воле, к известному принципу, гласящему, что voluntas et intellectus unum et idem sunt (воля и разум — одно и то же) 164. Правда, с этим принципом мы уже встречались в онтологии Спинозы, когда шла речь о божественной деятельности, совершающейся не на основе произвола и случайности, которую человек не способен предвидеть, а на основе разумной необходимости. Гносеологическо-психо- логпческой предпосылкой этой онтологической идеи
279
служило представление о человеке, в сознании и деятельности которого не должно быть никаких элементов произвола, коренящихся в мнимой свободе его воли,— одно из доказательств той истины, согласно которой бог представляет собой лишь отчужденную сущность человека, как она истолковывается в данную эпоху.
Когда мы говорим о рационализме Спинозы, проявляющемся в идее тождества воли и разума, то под разумом — или, быть может, лучше говорить в данном случае «под интеллектом», оставляя, таким образом, без перевода этот латинский термин,— следует иметь в виду не «чистый разум» (intellectus purus) как совокупность адекватных идей и источник достоверного знания, а всю область человеческого сознания. В последнем в подавляющем большинстве случаев преобладают неадекватные идеи, составляющие недостоверное знание. Но и они заключают в себе известные элементы истины и делают возможной как деятельность человека, так и самое человеческую жизнь, ибо «если бы мы не могли распространять нашу волю за пределы нашего весьма ограниченного разума, то мы были бы весьма жалкими существами: мы не могли бы ни съесть куска хлеба, ни сделать ни одного шага, ни даже стоять на месте; ибо все полно неизвестности и разных опасностей» 165. Очевидно, под волей Спиноза разумеет здесь недостоверное, чувственно-имагинативное знание. Конечно, указывает философ в «Этике», можно согласиться с тем, что воля простирается далее разума, если под последним понимать «одни только ясные и отчетливые идеи», но воля никак не может простираться далее, чем восприятия, или способность составлять понятия (представления — facultas concipiendi)», т. е. способность к чувствованию. Последняя же всегда заключает в себе известный элемент истины, в силу чего в конечном итоге воля и равна разуму. Потенциально она бесконечна, как бесконечна и способность чувствования, но актуально воля и разум одинаково ограниченны 166.
В связи с отказом от субстанциональности человеческой души и свободы человеческой воли, как одном из главных ее проявлений, находится и изложенная выше полемика Спинозы с теми мыслителями, которые ставят деятельность человека в исключительную зависимость от его сознания, главное свойство которого они усмат
280
ривают в свободе воли. Отвечая таким мыслителям, философ, как мы видели, склонен скорее приписать решающую роль в этой деятельности телу человека, а в воле, как и вообще в сознании, усматривать фактор вторичного порядка, хотя и не связанный с первым функционально, а только с необходимостью сопровождающий его в силу совместности двух атрибутов. Поэтому «как решение души, так и влечение и определение тела по природе своей совместны, или, лучше сказать,— одна и та же вещь, которую мы называем решением (¿есгеипп), когда она рассматривается и выражается под атрибутом мышления, и определением (с1е1егттаио), когда она рассматривается под атрибутом протяжения и выводится из законов движения и покоя» 167. Человеческое тело, как частица бесконечной природы, включено в цепь мировой детерминации. В соответствии с этим и человеческая душа, как частица бесконечного интеллекта, развивает определенную последовательность тех или иных идей. Отсутствие в душе свободной воли — прямой результат того, что «к тому или другому хотению душа определяется причиной (т. е. в данном случае идеей.— В. С.), которая в свою очередь определена другой причиной, эта — третьей и так до бесконечности» ,68. В своем отрицании свободы человеческой воли, основывающемся на механическом детерминизме, Спиноза заходит столь далеко, что сравнивает поведение человека с камнем, получившим некоторое количество движения от какой-нибудь внешней причины и двигающимся в определенном направлении. Если теперь представить, что этот камень осознает — а в принципе ведь каждая вещь способна к такому осознанию— этот свой импульс, или стремление (сопаЫэ), то он будет думать, что его движение совершенно свободно и зависит только от него самого. «Такова же та человеческая свобода,— продолжает мыслитель,— обладанием которой все хвалятся и которая состоит только в том, что люди сознают свое желание, но не знают причин, коими они детерминируются» 169.
Непрерывное стремление каждой вещи поддерживать свое существование, отстаивать его перед лицом других вещей наиболее очевидным образом проявляется в деятельности человека. Это стремление лежит в основе всей его внутренней жизни, его эмоций и мыслей, со-
281
ставляющих аффекты, в которых конкретизируется детерминация человека, подвергающегося воздействию внешних причин 17°.
Аффектом Спиноза называет как состояние тела, так и души, имеющей те или иные идеи. Аффекты увеличивают или уменьшают способность тела к действию; благоприятствуют ей или ограничивают ее 17Х. В этом контексте стремление человека к сохранению своего существования, поскольку оно относится к его душе и выражается в идеях, Спиноза называет волей, а поскольку оно относится и к телу — влечением (арреШиэ), которое ближайшим образом и выражает сущность человека. То же влечение, будучи осознано, становится желанием (с^ сШ аэ), обнимающим «все стремления человеческой природы», многообразные и часто противоположные «побуждения, влечения и хотения» человека 172. Кроме желания, к числу основных, первоначальных аффектов относятся также удовольствие (или радость— 1аеИиа) и неудовольствие (или печаль — Ыэи- Иа). Первое представляет собой переход от меньшего совершенства к большему, второе— обратный переход ^гапзШо). Автор «Этики» подчеркивает, что удовольствие и неудовольствие возникают в человеке вследствие изменения данного его состояния в ту или иную сторону 173.
Названные аффекты являются основными. К ним в соответствии с аналитическо-механической методологией своего столетия Спиноза стремится свести всю душевноэмоциональную жизнь человека. Существует бесчисленное множество аффектов — в соответствии с бесчисленным множеством тех объектов, которые вызывают те или иные состояния человеческого тела. Так, чревоугодие, пьянство, скупость, разврат и честолюбие являются лишь частными случаями любви и желания — в соответствии с природой своих объектов 174. В свою очередь, любовь и ненависть есть удовольствие или неудовольствие, сопровождаемое идеей внешней причины175. Ревность же определяется Спинозой как «колебание души, возникшее вместе и из любви и из ненависти, сопровождаемое идеей другого, кому завидуют» 176. В своем анализе эмоциональной жизни человека и в особенности в анализе многообразных проявлений и переплетений любви и ненависти у одного и того же лица автор
282
«Этики» проявляет большую психологическую проницательность, выделяющую его среди психологов столетия, не исключая и Декарта (у которого Спиноза, однако, многое заимствует, прежде всего определение основных страстей).
Ревность является примером того, как порожденные теми или иными объектами аффекты могут слагаться друг с другом бесчисленными способами, давая все новые видоизменения 177. Аффектов существует так много, что нет слов для обозначения каждого из них, а сами «названия аффектов возникли скорее из обыкновенного словоупотребления, чем из точного их познания»178. Сложность аффектов усугубляется тем, что их разнообразие вызывается не только природой того или иного объекта, но и природой самого субъекта, в котором аффекты возникают 179. Хотя аффект представляет собой состояние как тела, так и души человека, Спиноза в соответствии с рационалистической методологией своей философии нередко склонен представить идеи в качестве определяющих причин аффектов. Поскольку же идеи могут быть адекватными и неадекватными, ясными и смутными, то и сами аффекты подразделяются на аффекты, порождаемые смутными идеями, т. е. страсти души (ашпи раШеша), в которых «душа утверждает большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела или какой-либо его части» 180. Д аже животные, хотя они и лишены разума (¡ггаКопаНа), наделены страстями, различающимися друг от друга в соответствии с различием сущности соответствующих индивидов 181. Таким образом, низшие проявления психической жизни свойственны всему животному миру, но высшие, связанные с деятельностью разума, образующего ясные и отчетливые идеи,— присущи только человеку. Понятие аффекта шире, чем понятие страсти, под которыми Спиноза разумеет пассивные состояния человеческой души, связанные с неадекватными, смутными идеями. Впрочем, эта точка зрения не всегда последовательно выдерживается философом 182.
Поскольку пассивные аффекты, или страсти, необходимо связаны с имагннативным, недостоверным познанием, имеющим бесчисленное количество степеней, в бесконечном разнообразии этих аффектов находит свое выражение многообразие духовного облика людей и
283
громадное различие их мнений. Люди, говорит философ, часто судят о вещах в соответствии со своими аффектами, поскольку аффекты (имеются в виду страсти) смутность связанных с ними идей черпают и в телесной организации людей 183. Пассивность аффектов-страстей и их власть над людьми увеличивается вследствие всеобщего предрассудка, будто люди свободно избирают те или иные аффекты. Страсти могут заполнять все сознание человека, подавлять его действительно сознательные стремления и действия, упорно преследовать его и приводить к тому, что находящийся под их исключительным воздействием человек «уже не владеет сам собой, но находится в руках фортуны, и притом до такой степени, что он, хотя и видит лучшее, однако принужден следовать худшему», повторяет философ слова древнего поэта 184.
Бессилие человека в борьбе со своими стремлениями Спиноза называет рабством (зегуИиз). В этой связи находятся и знаменитые слова «Этики»: «мы различным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем исходе и судьбе» 185. В аффектах- страстях выражается не столько человеческое могущество. сколько могущество и власть над людьми природы 186, что многократно подчеркнуто в «Этике»; пассивность человека с необходимостью порождается тем, что он представляет собой только частицу природы, которую «бесконечно превосходит могущество внешних причин», не дающих человеку возможности быть адекватной причиной своих действий ,87.
Царящая в природе абсолютная необходимость, составляющая один из главных принципов онтологии Спинозы, распространяется им и на сферу человеческой деятельности, из коей полностью устранена свобода воли. Это способствовало тем выводам фатализма, которые сделали из его философского учения большинство современников. Самый активный из его корреспондентов, Ольденбург, подытоживая многочисленные недоумения читателей Спинозы, писал, что эти недоумения связаны с утверждаемой якобы гаагским мудрецом фатальной необходимостью, которая «подрывает силу всех законов, всей добродетели и религии и делает напрасными все награды и наказания». Как видно из
284
контекста этого и других писем, реакция Ольденбурга, совершенно не понимавшего, «как распутать этот узел» ш , была реакцией не столько против фатализма, сколько реакцией в пользу свободы воли, без наличия которой казались невозможными ответственность, мораль и наказуемость людей. Спиноза, разумеется, никак не мог согласиться с подобной точкой зрения. В ответе другому своему корреспонденту философ констатировал старое, противоречие теологической мысли, присущее и философии Декарта: каким образом примирить добродетель, якобы происходящую из совершенно свободного решения человеческой души, с божественным предопределением судьбы любого человека?,8Э. Подчеркивая необходимость человеческих действий, обусловленных страстями людей, решительно отрицая свободу человеческой волн, нарушающую эту необходимость, Спиноза вместе с тем сформулировал один из главных принципов своего философского учения, согласно которому, хотя и нет свободы воли, возможна свобода на основе самой необходимости.
Познание и свобода, познание и бессмертие
К идее о совместимости необходимости и свободы, как было выше установлено, пришел ряд передовых мыслителей рассматриваемой эпохи — Бруно, Гоббс, Декарт. Спинозе принадлежит первостепенное место в ряду этих мыслителей. При рассмотрении его онтологии мы уже убедились, сколь значительную роль играет эта идея в осмыслении божественно-природной деятельности, совершающейся как causa sui,— одновременно и независящей ни от какого другого источника и, следовательно, свободной, и подчиняющейся строгой закономерности математического типа и, следовательно, необходимой. Но поскольку центр тяжести спинозовской системы находится в области антропологии и этики, главным предметом разработанного философом понятия свободы становится человек. Свободу мыслитель противопоставляет не необходимости, а принуждению. или насилию. «Стремление человека жить, любить и т. п. отнюдь не вынуждено у него силой, и, однако, оно необходимо» ,90. В противоположность понятию свободной воли, образованному деятельностью представления, вы
285
двигается понятие свободной необходимости (libéra nécessitas) 191, принадлежащее к числу понятий достоверного знания.
Понятие свободы, как и неразрывно связанное с ним этическое учение философа, неотделимо от его гносеологических и методологических принципов. Уже недостоверное знание, как чувственное, так и абстрактное, является, по Спинозе, обоснованием и практической жизни люден и наук, облегчающих и совершенствующих эту жизнь. Но рассмотренное в качестве основы моральной жизни недостоверное знание ведет только к пассивным состояниям человека, выражающимся в его аффектах-страстях. «Все страсти, противоречащие здравому разуму,— читаем мы в первом произведении философа,— происходят... из мнения» 192. Роль достоверного знания иная. Имея своим прототипом математику и получая свое наивысшее обоснование в интеллектуальной интуиции, свое практическое назначение оно получает фактически лишь в области этики. Здесь роль знания a priori исключительно велика — только оно дает возможность достижения свободы. Поскольку «сила каждого аффекта определяется соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью» 193, а последняя в наибольшей степени проявляется как способность к достоверному, адекватному познанию, то только эта разновидность знания дает человеку возможность достичь свободы. Если недостоверное, неполное познание влечет за собой сомнения, колебания и даже апатию, то из достоверного, абсолютно ясного знания следует совершенно свободное утверждение или отрицание. «Свобода наша заключается не в случайности и не в безразличии,— писал философ Блейенбергу,— но в способе нашего утверждения или отрицания чего-нибудь, так что чем с меньшим безразличием мы что-нибудь утверждаем или отрицаем, тем более мы свободны». Хотя все, что мы делаем, совершается по необходимости, мы тем не менее действуем свободно, если ясно постигаем эту необходимость. Если же у нас нет такого постижения и мы «допускаем, чтобы воля наша переступила границы нашего разума» 194, то в этом случае мы усматриваем не необходимость, присущую всем вещам, а делаем ложное предположение о свободе нашей воли. Тогда мы определяемся в нашей
286
деятельности не необходимостью собственного существа, сконцентрированной в нашем разуме, а силой внешних вещей, действующей на нас через наши аффекты- страсти.
В этой связи нельзя не вспомнить суждения Энгельса относительно свободы: «Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет определяться содержание этого суждения; тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз и должна была бы подчинить себе»195. Именно так понимал свободу и Спиноза: совершенно свободное суждение человека возможно лишь при условии ясной перцепции, предельно отчетливого понимания необходимости, лежащей в основе этого суждения. Противоположное состояние человека, недостаточное познание им этой необходимости может породить или апатию, или, в большинстве случаев, такое действие, которое, хотя и кажется действующему субъекту выражением его свободы, в действительности же свидетельствует о несвободе, и даже «рабстве». Ведь такого рода действие определено не столько самим субъектом, сколько навязано ему объектом, вызывающим пассивный аффект, страсть, которая и определяет в этом случае действие человека.
Зависимость и принужденность человека, находящая свое выражение в аффективном его состоянии, заключается в том, что человек, дух которого скован страстями, не является адекватной причиной своей деятельности, а лишь частичной и тем меньшей, чем большую роль в этом определении человека к тем или иным действиям играют его аффекты, а не разум. Скованность человеческого сознания аффектами имеет место тогда, когда он мыслит только то, что ощущает; он обладает тогда неясными, неадекватными идеями, будучи лишь частичной причиной этих идей. Своей полноты деятельность духа достигает в адекватных идеях, ибо дух яв
287
ляется тогда их единственной причиной. «Аффект лишь постольку бывает дурен или вреден, поскольку он препятствует душе в ее способности мыслить»196. Для достижения подлинной свободы мы должны ясное, постигающее познание нашего разума распространять не только на область внешних вещей, но и на совокупность наших собственных аффектов. Разум, как единственный источник достоверного знания, призван распутать тот узел аффектов-страстей, которым связана вся наша деятельность.
В этих аффектах выражается страдательность человеческого существа, его подчиненность универсальной мировой детерминации. Вообще говоря, эта зависимость человеческого тела и человеческого духа неустранима. Но тем не менее возможна такая деятельность, которая, не выходя за пределы этой детерминации, делается свободной благодаря разуму. Пассивный аффект, или страсть, когда человек является лишь частичной причиной своих действий, означает, что его идеи, порожденные ощущениями, располагаются в соответствии с порядком его телесных состояний. Однако возможно и обратное отношение, когда «телесные состояния, или образы вещей, располагаются в теле точно в таком же порядке и связи, в каком в душе располагаются представления и идеи вещей» 197. Оно вполне осуществимо, если мы развиваем только разумно-логическую деятельность, ибо «пока мы не волнуемся аффектами, противными нашей природе, до тех пор мы сохраняем способность приводить состояния тела в порядок и связь сообразно с порядком разума»198, который, как мы видели, в принципе совершенно независим от чувств. Непременным условием регулирования аффектов является, таким образом, ясное и отчетливое познание их. Всякий обладает способностью к такому познанию, «если не абсолютно, то по крайней мере отчасти». Осу- ществление его приводит не к абсолютному устранению аффектов, а к тому, что они вводятся в норму, так что влечения и желания, вытекающие из познанных аффектов, «не будут чрезмерными» 199.
Но что значит познать аффекты, составить о них ясную и отчетливую идею? Каждый аффект, как состояние и тела и души человека,— необходимое звено в цепи мировой детерминации. Пока мы познаем вещь через
288
наше представление как свободную, или хотя бы возможную или случайную, мы бываем поражены наиболее сильными, аффектами 200. Поскольку же разум, в отличие от представления, рассматривает вещи «в аспекте вечности», т. е. не как случайные, а как необходимые, то и сам аффект выступает тогда в духе человека ясно, как звено в цепи всеобщей детерминации. Тогда становится очевидным, что аффект вызван не отдельной причиной, а рядом причин, и могущество причины, вызвавшей аффект, будет представляться тем меньшим, чем более ее действие мы будем относить и к другим причинам. Следовательно, познание единичных вещей, включая наше тело и его аффекты, в качестве необходимых модусов единой субстанции доставляет человеку власть над его аффектами. Здесь, как почти и повсюду, Спиноза ссылается на свидетельство опыта, который показывает, что «неудовольствие вследствие потери какого- либо блага утихает, как скоро человек, потерявший его, видит, что это благо никоим образом не могло быть сохранено» 201 и т. п.
Механизм душевной деятельности, приводящей к упорядочению аффектов и введению их^в норму, состоит в том, что, познавая аффект как вызванный не той или иной отдельной причиной, воображаемой нами, а бесконечным сцеплением причин, мы получаем возможность отделить «душевное движение, т. е. аффект», от представления этой причины и соединить с другими представлениями в соответствии с порядком разумных связей 202. Познание аффектов, подчеркивает автор «Этики», приводит не к полному их устранению и освобождению от них человека, как учили стоики 203, а лишь к упорядочению их и изменению их действия. «Одно и то же влечение делает человека и активным, и пассивным» 204. Аффект, вытекающий из неадекватных идей, т. е. аффект непознанный, или страсть, выражает пассивное состояние человека. Аффект же, вытекающий из адекватных идей и, следовательно, ясно познанный, является выражением активного состояния человека. Этическая доктрина Спинозы теснейшим образом связана с проблемой превращения пассивных аффектов, или страстей, в активные аффекты-действия 205. Если в пассивных аффектах находит свое выражение бесконечное многообразие человеческих страстей и характеров,
10 Зак. 681 289
то в активных, порождаемых единым для всех разумом, выражается тождество человеческой природы 206.
Свобода, достигаемая деятельностью сознания, способностью человека развивать достоверное знание, противоречива по своей сути. С одной стороны, она пассивна, ибо первая ступень к свободе заключается в том, что человек приводит свой субъективный ordo et connexio idearum, порядок и связь своих идей, с ordinem et connexionem rerum, с порядком и связью вещей. Люди поэтому «стараются не о том, чтобы природа им повиновалась, но, напротив, они природе» 207. Но, когда человек добивается совпадения своего порядка идей с порядком самой природы, он получает возможность привести состояния своего тела в соответствие с порядком своих идей и тем самым добивается господства над своими аффектами-страстями. «Дух тем лучше понимает себя, чем больше он понимает природу... чем больше познал дух, тем лучше он понимает и свои силы и порядок природы, тем легче он может сам себя направлять и устанавливать для себя правила; и чем лучше он.понимает порядок природы, тем легче может удержать себя от тщетного». В этом, подчеркивает мыслитель этическую интенцию своей методологии, и «состоит весь метод» 208. Здесь, таким образом, выражена активная сторона спинозовского учения о свободе как важнейшего следствия его рационалистической методологии, последовательно подчеркивающей значение достоверного знания, способного к познанию не только необходимых вещей, но также и человека как одного из звеньев этой необходимости. Но в конечном итоге, приводя состояния своего тела в соответствие с порядком своих идей, а порядок своих идеи — в соответствие с порядком вещей, человек добивается не господства над природой, но лишь господства над собой путем приспособления к природе. Ведь человек «составляет часть всей природы, законам которой человеческая природа принуждена повиноваться и приспособляться едва ли не бесчисленными способами» 209, ибо «человеческая способность весьма ограниченна, и ее бесконечно превосходит могущество внешних причин; а потому мы не имеем абсолютной возможности приспособлять внешние нам вещи к нашей пользе»210.
Возвращаясь к- определению свободы, сформулиро
290
ванному Энгельсом, напомним, что, согласно этому определению, «Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов», она «состоит в основанном на познании необходимостей природы... господстве над нами самими и над внешней природой; она поэтому является необходимым продуктом исторического развития»211. Как очевидно из всего вышеизложенного, вне познания внешних, природных обстоятельств человеческой жизни невозможна свобода и по Спинозе. Но вместе с тем господство • над собой, достигаемое на основе познания природы, возникает в результате не подчинения внешней необходимости, но приспособления к ней, когда человек не подчиняет природу, а подчиняется ей. Однако в этом состоит суть не только спинозовского решения проблемы необходимости и свободы, но и всех других домарксовских решений ее. В свете изложенной выше онтологии и методологии Спинозы, в которой историзм занимал столь ничтожное место, совершенно очевидно, что понятие свободы в интерпретации Спинозы не за ключает в себе никаких элементов историзма, так как свободы достигает любой человек и в любых обстоятельствах своей жизни. История не имеет здесь силы ни по отношению к обстоятельствам, ни по отношению к человеческому сознанию.
В целом спинозовское решение проблемы необходимости и свободы не выходит за пределы знаменитой формулы стоиков dicunt volentem fata nolentem trahunt (того, кто соглашается, судьбы ведут, а того, кто сопротивляется, они тащат). Здесь проявляется, таким образом, фаталистический аспект доктрины: ведь свобода в ее спинозовском истолковании достигается простым пониманием необходимости, в сущности автоматически вытекающим из достоверного познания. Вся активность, какую должен развить субъект на основе этого познания необходимости, заключается в усовершенствовании своих аффектов. Спинозовская концепция свободы представляет собой, таким образом, одну из иллюстраций созерцательности домарксовского материализма. Если мы ясно и отчетливо познаем природную необходимость, включая и собственное существование, «то та наша часть, которая определяется как познавательная способность... найдет в этом полное удовлетворение и будет
10* 291
стремиться пребывать в нем. Ибо, поскольку мы познаем, мы можем стремиться только к тому , что необходимо, и находить успокоение только в том, что истинно»212.
При изменении аффектов из пассивных в активные недостаточно одного их рассудочного познания. Видя лучшее, мы сплошь и рядом следуем худшему, ибо непосредственное обладание объектом, пусть даже направляемое неистинным познанием, может оказаться очень сильным. Поэтому желание, возникающее из такого познания, особенно если это познание относится к будущему, может быть подавлено аффектом от тех вещей, которые приятны для нас в настоящем213. Чтобы познание могло противостоять аффектам, оно само должно стать аффектом, ибо «аффект может быть ограничен или уничтожен только противоположным и более сильным аффектом, чем аффект, подлежащий укрощению»214. Познание должно стать сильнейшим из аффектов, оттесняющим все другие. Таким познанием может быть только интуитивное, активно-волевая сторона которого больше, чем у любого другого рода познания. «Это познание, если и не совершенно уничтожает аффекты, составляющие пассивные состояния, то по крайней мере достигает того, что они составляют наименьшую часть души» 215.
Активная природа интуиции, постигающей бога-суб- станцию, выражена у Спинозы знаменитым понятием познавательной любви к богу (amor Dei intellectua- l i s ) 216. He вдаваясь в сложную историко-философскую родословную этого понятия, которую через множество посредствующих звеньев можно возвести к платоновскому эросу, следует указать, что один из наиболее существенных его аспектов состоит в рационализации, интеллектуализации традиционного понятия «божественной любви», столь популярного и в сектантско- пантеистических кругах. Но если там преобладали эмоциональный и сентиментальный аспект «божественной любви», то у Спинозы выдвинут на первый план интеллектуальный ее аспект, что вовсе не значит, конечно, что аспект эмоциональный уже не играет здесь никакой роли: понимание единства человека*и человеческого духа с природой, появляющееся в результате трудных познавательных усилий, порождает у философа, осознающего себя полноценным участником жизни
292
природы, космоса, чувство глубокого удовлетворения и счастья. Такое удовлетворение особенно возрастает в связи с тем, что, познавательная любовь к богу неразрывно связана с убеждением в вечности человеческой души, поднимающей до такой любви217.
Как следует расценивать это спинозовское учение о вечности человеческой души, сформулированное во второй половине последней части «Этики» и представляющее одно из общепринятых оснований для идеалистической интерпретации спинозизма? Конечно, не может быть речи о том, что Спиноза был в какой-то степени убежден в личном бессмертии человека, якобы имеющего нематериальную душу. Философ недвусмысленно высказывался на этот счет в одном из своих писем к Бокселю, утверждавшему, что «как тело может существовать без души, так и душа — без тела». По убеждению Спинозы, подобное умозаключение совершенно абсурдно, оно столь же правдоподобно, как «заключение о существовании памяти, слуха, зрения и т. п. без тела на том основании, что есть тела, не имеющие памяти, слуха и зрения, или заключение о существовании шара без круга на основании того, что существует круг без шара»218. Отвергая, таким образом, господствовавшие религиозные представления о немате- риальности человеческой души и об ее обособленном существовании, Спиноза вместе с тем должен был дать свою интерпретацию бессмертия души. Идеологический климат эпохи, да и сам характер философской проблематики, ей присущий, не позволили Спинозе просто «отмахнуться» от представлений о бессмертии души, имеющих многовековые и даже тысячелетние традиции.
Следует иметь в виду, что и христианская, и мусульманская, и иудейская эсхатология базировались на представлениях о бессмертии индивидуальных человеческих душ. На них основывалась в сущности вся их моральная проблематика. Оппозиция этим доктринам со стороны передовой философской мысли в эпоху средневековья приняла в духе платонизирующего ари- стотелизма форму учения о безличном бессмертии коллективного человеческого разума. Известно, сколь большое место занимало это учение в философской доктрине Аверроэса и какое огромное влияние оно ока
293
зало на передовую мысль средневековой Европы. Менее решительным сторонником идеи безличного и бессмертного космического разума, участниками которого становятся индивидуальные человеческие души, был и Маймонид. В сущности та же идея разделялась и большинством пантеистических направлений, рассматривавших человеческую душу как индивидуализацию безличного природного духа, а смерть ее и, таким образом, прекращение индивидуального существования — как возвращение в единую и родную стихию. Многие историки философии отмечают родство спинозовского понимания бессмертия с этими концепциями 219.
Однако, вчитываясь в «Этику», убеждаешься, что учение Спинозы о бессмертии, точнее, о вечности души, имело своей целью освобождение людей от религиознодогматических представлений о бессмертии индивидуальных человеческих душ. С одной стороны, двадцать первая теорема пятой части «Этики» гласит, что «душа может воображать и вспоминать о вещах прошедших, только пока продолжает существовать ее тело», а с другой — двадцать третья утверждает, что «человеческая душа не может совершенно уничтожиться вместе с телом, но от нее останется нечто вечное» 220. Между двумя этими утверждениями нет противоречия, в них вкладывается различный смысл. Вечная часть души — это разум (Ы еНесЬ«), а преходящая и смертная — представление221. Вечность разума есть вневременность, присущая богу-субстанции. Между тем подавляющее большинство людей смешивают вечность души с временным ее существованием, приписывая вечность представлению и памяти, которые, по их убеждению, сохраняются и после смерти 222. Согласно Спинозе, невозможно помнить о своем существовании прежде тела 223, смерть которого, означающая, что его части принимают относительно друг друга новый способ движения и покоя224, приводит к полному прекращению деятельности памяти, т. е. того фактора, который объединяет все идеи в самосознание личности. Тем самым смерть есть прекращение существования самосознающей личности, но отнюдь не идей, составляющих вечную часть души 225. Идеи, как вечные сущности вещей, элементы логической'структуры природы, не могут погибнуть, хотя и гибнет со смертью человека их конкретное сочетание в294
его душе. Очевидно, спинозовское учение о бессмертии души гносеологически порождено тем неисторическим, сугубо метафизическим пониманием достоверного знания, о котором не раз шла речь.
Таким образом, познание третьего рода, знание интуитивное, постигающее сущности вещей через сущность бога 226, не только избавляет нас от дурных аффектов, но и поднимает до осознания вечности нашей души, как частицы бесконечной мыслящей природы. Такое осознание избавляет человека от страха смерти 227. Тем самым конкретная функция и этого спинозовского учения оказывается атеистической. Правда, до этого сознания поднимаются далеко не все люди, а лишь немногие философы, мудрецы.
VII. ЭТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ИТОГ СПИНОЗИЗМА
Обоснованность такой постановки вопроса очевидна из всего предшествующего изложения. Сам Спиноза в первых своих произведениях *, а затем и в «Этике» подчеркнул «практическую», т. е. этическую направленность своих философских принципов. Связь своего учения с жизнью мыслитель усматривал в том, что «оно дает совершенный покой духу» и «учит нас, в чем состоит наше величайшее счастье и блаженство»2. Этическая интенция спинозизма отличает его от других великих рационалистических систем этого насыщенного философской мыслью столетия. Вместе с тем этические вопросы решаются философом в неразрывной связи с вопросами социологическими, ибо у него индивид всегда выступает как индивид общественный.
Преломление методологии спинозизма в сфере этики, разработка полностью секуляризированной морали
Отмечавшееся выше применение новаторами рассматриваемого столетия методологии номинализма в их борьбе против теологическо-схоластического мировоззрения, отчуждавшего от человека и противопоставляющего ему продукты его же познавательной деятельности и обожествлявшего их, присуще не только спинозовско- му учению о бытии и о познании, но и разработанной им концепции морали.
Критика Спинозой схоластического универсализма, объективирующего среди других понятий и моральные нормы, концентрируется прежде всего в его стремлении
296
лишить вне и дочеловеческой значимости высшие моральные категории — категории добра и зла. Если в природе нет родов и видов, если реальность и совершенство совпадают в ней в понятии естественной необходимости, то, пишет философ в своем первом произведении, «в природе нет ни добра, ни зла»3. Понятия добра и зла, подобно понятиям заслуги и греха, похвального и постыдного, порядка и беспорядка, красоты и безобразия, принадлежат к числу «вторичных качеств», находящихся лишь в субъективной сфере, а отнюдь не в самой природе4. Образование моральных универсалий, особенно понятий добра и зла, приписываемое божественному руководству, связано с убеждением людей в наличии у них свободной воли и в объективности той целесообразности, которая в действительности представляет собой только субъективный продукт этой иллюзии. Как и другие универсалии, понятия добра и зла образуются смешивающей деятельностью представления, выхватывающего те или иные черты человеческого поведения. Поэтому «о добре и зле можно говорить только относительно, так что одну и ту же вещь можно назвать хорошей и дурной .в различных отношениях»5. Тем самым добро и зло из объективных и неподатливых свойств природы становятся ситуациями, переживаемыми оценивающим их человеком в постоянно меняющихся обстоятельствах его жизни.
Номиналистическое преодоление отчуждения моральных норм, которые из божественных становятся человеческими,— процесс, начатый еще первыми философами- гуманистами,— доводится Спинозой до крайней степени, что приводит его, с одной стороны, к разрушению теологическо-схоластической морали, а с другой — к субъективизму в трактовке моральных оценок и моральных норм. Сугубо индивидуальный характер человеческого поведения, находящий свое выражение в бесконечном многообразии человеческих аффектов, с необходимостью связан с неповторимостью индивидуальной сущности- человека6. Поэтому и удовольствие, например, носит сугубо индивидуальный характер, несмотря на то же имя, прилагаемое в бесчисленных случаях7. Отвергая абсолютность добра, составляющую стержень теологи- ческо-схоластического морализирования, Спиноза подчеркивает, что «мы стремимся к чему-лпбо, желаем чего-
297
нибудь, чувствуем влечение и хотим не вследствие того, что считаем это добром, а наоборот, мы потому считаем что-либо добром, что стремимся к нему, желаем, чувствуем к нему влечение и хотим его»8. Отражая тем самым расширение сферы индивидуальных интересов человека, составляющее одну из определяющих черт буржуазного общества, нидерландский мыслитель отождествляет добро с той или иной пользой, а зло — с тем или иным препятствием на пути к обладанию им9.
Не означает ли такая позиция абсолютного морального релятивизма, отрицающего самое возможность этики в качестве науки, оперирующей понятиями нормы и цели человеческих поступков и человеческого поведения вообще? Не противоречит ли она задаче, поставленной философом, озаглавившим главный свой труд «Этикой»? Забегая вперед, отметим, что моральный релятивизм, демонстрируемый Спинозой, выполняет функции, аналогичные функциям картезианского скептицизма. Как последний служил разрушению здания схоластической псевдонауки, так и первый последовательно формулировался лишь для того, чтобы покончить с абстрак- тно-теологическим морализированием, лишавшим человеческое поведение самостоятельной значимости перед лицом неких трансцендентных ценностей. Как и у других новаторов столетия, развивавших разрушительную, антисхоластическую часть своих философских концепции для того, чтобы воздвигнуть здание собственной, рационализированной науки, моральный релятивизм Спинозы служил лишь введением в его новую концепцию морали. Эта концепция полностью вытекает из рассмотренных нами в предшествующей главе принципов гносеологии и антропологии.
Поскольку добро представляет собой ту или иную разновидность удовольствия, а зло — неудовольствия 10, — этих основных аффектов человеческой природы, то именно в закономерностях последней и нужно, по Спинозе, искать принципы научной морали. Пафос спинозовской критики религиозно-схоластической морали основан прежде всего на обнаружении того факта, что многочисленные церковные моралисты, поносящие «греховную» природу человека и рассматривающие человеческие пороки в качестве результатов свободной человеческой воли, просто не знают ее . Теологическо-
298
аскетическая интерпретация моральной сферы человеческой деятельности — плод социально-экономического кризиса рабовладельческого общества — господствовала и в условиях феодального общества, когда подавляющее большинство людей продолжало влачить существование в условиях перманентного недостатка. Но это истолкование стало быстро терять кредит в условиях буржуазного общества, когда все большее количество людей, разумеется, принадлежащих прежде всего к господствующим классам, благодаря значительному росту производительных сил, поднималось к новым вершинам жизни. Естественно, что у этих людей развивались другие взгляды на добродетели и пороки.
Отражая эти взгляды и доказывая полную несостоятельность теологическо-аскетических моралистов, Спиноза мог с полным основанием писать в известном «Введении» к «Политическому трактату»: «Превознося, таким образом, на асе лады ту человеческую природу, которой нигде нет, и позоря ту, которая существует на самом деле, они убеждены, что предаются самому возвышенному делу и достигают вершины мудрости. Ибо людей они берут не такими, каковы те суть, а какими они хотели бы их видеть»11. Сам же мыслитель ставит эффективность разрабатываемой им моральной доктрины в прямую зависимость от того, насколько правильно она исходит из действительных, а не из воображаемых свойств «человеческой природы». Философ высказывает в этой связи свои знаменитые- слова о том, что он постоянно стремится «не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать» 12.
Как мы установили, натурализация этических категорий составляет одну из определяющих черт философской теории новаторов. И именно Спиноза развивает эту тенденцию до ее крайних результатов. Любовь, ненависть, гнев, зависть, честолюбие, сострадание и другие аффекты философ рассматривает «не как пороки человеческой природы, а как свойства, присущие ей так же, как природе воздуха свойственно тепло, холод, непогода, гром и все прочее в том же роде» 13. Устанавливая связь между разрабатываемой им этической доктриной и физикой, механикой, медициной и педагогикой 14, наиболее глубокое ее обоснование мыслитель
299
ищет в принципах своей метафизики. Человек — часть природы, он с необходимостью подчиняется ее законам. И в-этом состоит его «богослужение», говорит Спиноза в первом своем произведении, вступая, таким образом, на путь секуляризации богословских терминов применительно к морали 15. Наиболее общим принципом спи- нозовской метафизики, в котором объединяются понятия человека, как природного, так и морального существа, является стремление к самосохранению (conatus esse conservandi) как «первое и единственное основание добродетели» 16. Именно этот принцип служит онтологическим обоснованием индивидуализма буржуазного общества. Ведь «никто, — говорит Спиноза,— не стремится сохранить свое существование ради другой вещи» 17 и «никто не пренебрегает влечением к собственной пользе, иными словами — сохранением своего существования, разве только побежденный внешними, противными его природе причинами». Добродетель человека ставится, таким образом, в прямую зависимость от способности достигать собственной пользы 18.
Поскольку люди во всех обстоятельствах их жизни в поисках собственной пользы безусловно подчиняются действию принципа самосохранения, их поведение в сущности вовсе не зависит от химер потустороннего мира. К тому же поступки человека, лишенного свободы воли, вытекают из необходимого сцепления причин. Ведь Спиноза не признает целеполагания даже в сфере человеческой деятельности: «...никто не стремится сохранять свое бытие ради какой-либо цели» 19. Поскольку каждый человек подчиняется закону самосохранения, все цели растворяются в бесконечном взаимодействии причин и действий. Принцип детерминизма, играющий такую роль в спинозовской онтологии, в полной мере распространяется и на сферу морали; все действия человека, как бы мы их ни оценивали, имеют свои естественные последствия. Такая постановка вопроса Спинозой, проводимая с большой последовательностью, вызывала протест со стороны сторонников традиционнотеологических представлений.
Один из них, дордрехтский хлебный торговец Виллем ван Блейенберг, в своих длиннейших посланиях к Спинозе недоумевал: подчинение человеческих поступков необходимости снимает различие между добром и
300
злом, заслугой и грехом, уподобляет людей «деревянным чурбанам», а их действия — «движениям заведенных часов» 20. К тому же рассмотрение всех человеческих поступков как одинаково необходимых налагает на бога ответственность не только за моральное, но и за аморальное поведение людей, не только за добро, но и за зло — проблема, над решением которой бились многие христианские теологи, начиная с Августина.
В своих ответах Спиноза подтверждает принцип детерминизма, отделяющий человеческую моральность от божественной санкции. «Бога — писал он, — я не представляю наподобие судьи, а потому поступки я оцениваю, исходя из качества самого поступка, а не из способности того лица, которое совершает этот поступок, и награда, которая следует за поступком, вытекает из него столь же необходимо, как из природы треугольника следует, что сумма трех углов его должна быть равна двум прямым»21. Необходимость человеческих действий, доказывает Спиноза, вовсе не снимает моральной ответственности с людей и не отменяет их нравственной оценки (хотя, конечно, и изменяет характер ее), ибо «действуем ли мы по необходимости или свободно, — писал философ в своем ответе Вельтгюйзе- ну, выдвигавшему возражения, аналогичные возражениям Блейенберга,— мы во всяком случае руководствуемся в своих действиях надеждой или опасением». Хотя преступник, как и добродетельный человек, совер-
'*шает то или иное преступление, вовсе не обладая свободой воли, тем не менее наказание с необходимостью постигает его22. «Если бы, — писал Спиноза в другом своем произведении, — наказывались только те, о которых мы думаем, что они грешат добровольно, то зачем люди стараются истреблять ядовитых змей? Ведь они также грешат по своей природе и не могут иначе»23.
Натуралистическая и детерминистическая теория морали, упразднявшая бога как высший источник моральных норм и ценностей человеческой жизни, привела Спинозу к формулированию принципов полностью секуляризированной морали, не заинтересованной ни в каких наградах, кроме тех, какие с необходимостью вытекают из самих человеческих поступков, если они действительно добродетельны. Иронизируя над теми
301
людьми, «которые за свою добродетель и праведные действия ожидают себе от бога величайших наград, как за величайшие услуги»24, Спиноза формулирует центральное положение незаинтересованной морали: «блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель»25. Поэтому мораль, которая рассчитывает на вознаграждение, — а это прежде всего мораль религиозная,— не может рассматриваться как подлинная мораль. Религиозные поощрения к добродетели, прельщающие химерами потустороннего воздаяния, могут пробудить лишь наименее ценные стороны моральной жизни человека, они соответствуют самым низким ее ступеням. Подлинная, незаинтересованная мораль не нуждается ни в какой оплате, и «кто любит бога, тот не может стремиться, чтобы и бог в свою очередь любил его»26. Ведь безличный бог, имманентный самой природе, «собственно говоря, никого ни любит, ни ненавидит»27. Конечно, «бог любит самого себя», но «не поскольку он бесконечен, но поскольку он может выражаться в сущности человеческой души»28, которой единственно и присуща любовь как этическо-гносеологиче- ская категория.
Такая любовь свободна от расчета на потустороннее воздаяние. Хотя высший, интуитивный род познания и поднимает человека до осознания вечности его души как частицы логической структуры мира, но если мы еще не знаем об этом, стремление к добродетелям подлинно человеческой морали будет составлять главное содержание этой любви, ценное само по себе29. Спиноза провозглашает, что только «рабам, а не свободным назначаются награды за добродетель»30, ибо высшие человеческие добродетели «они считают бременем, от которого после смерти они надеются избавиться и получить награду за свое рабство», а к более или менее добродетельной жизни их побуждает «главным образом страх подвергнуться после смерти тяжким наказаниям»31. Тем самым нидерландский мыслитель продолжает вековечную традицию материалистической мысли, важнейшая общественная функция которой состояла в освобождении людей от страха смерти, развивая и укрепляя незаинтересованную мораль. Этой эпикурейско- стоической традиции, возобновленной гуманистами эпохи Возрождения, придал тогда особенно яркую форму
302
Пьетро Помпонацци, оказавший большое влияние на последующие поколения передовых мыслителей-морали- стов. В XVII в. моральная проблематика приобрела особую силу и остроту. Не только философы, но и некоторые теологи, сводя к минимуму догматическое содержание религии, сущность последней усматривали именно в морали. Спиноза же, в сущности, ликвидировал всякую связь между моралью и религией.
Незаинтересованная мораль, полностью повернутая к человеку, обосновывается Спинозой сугубо рационалистически. Рационализм составляет наиболее характерную особенность как формы, так и содержания моральной доктрины спинозизма. Секуляризация теоретического мышления, осознание суверенности человеческого разума, естественно, в полной мере проявлялась у Спинозы и в разработке им моральной доктрины. Нравственные правила, хотя и содержатся в Библии — о чем будет еще речь ниже,— могут быть совершенно независимо от нее «доказаны из общих понятий»32. Отсюда демонстрируемое в «Этике» стремление философа «исследовать человеческие пороки и глупости геометрическим путем»33. Еще важнее обнаруживаемое во всех произведениях Спинозы стремление связать уровень моральности человека с состоянием его знаний. Ведь ко всем без исключения действиям, к которым человек определяется пассивным аффектом, он может определяться и разумом34. Моральная ценность человеческих поступков, таким образом, непосредственно детерминируется характером его знаний о мире. Спинозовская концепция свободы, столь интимно связанная с его гносеологией, насквозь рационалистическая, составляет наиболее широкую базу моральной доктрины спинозизма. Поскольку «разум не учит ничему направленному против природы»35, требуя, «чтобы каждый любил самого себя, искал для себя полезного... и вообще чтобы каждый, насколько это для него возможно, стремился сохранить свое существование»36, эгоизм, лежащий в основе поведения любого индивида, является подлинна моральным лишь как разумный эгоизм. Поскольку же, далее, стремление познавательной способности как «лучшей части» человеческой души «согласуется с порядком всей природы»37, этический рационализм Спинозы совпадает с натурализмом, что представляет собой
303
один из результатов их совпадения в онтологическо- гносеологическом плане.
Изложенные принципы моральной доктрины спинозизма и, прежде всего, требование жизни, сообразной с природой, а значит, и с разумом, обнаруживают зависимость его от наиболее разработанной в теоретическом отношении моральной теории древности — концепции стоиков. Известно, какую большую роль играла эта концепция в Западной Европе в явной или скрытой оппозиции христианской морали (хотя последняя стремилась использовать некоторые моменты этики стоицизма). В Нидерландах максимы стоической морали стали особенно популярны с начала рассматриваемого столетия благодаря книгам филологов Юстуса Липсиуса и Гаспара Сциоппнуса. В период правления республиканской партии мораль стоицизма стала чем-то вроде государственной философии. Величие ее принципов, возвышавших духовное достоинство человека, было с большой силой продемонстрировано братьями де Витт, когда наступил их смертный час36. Спинозовская концепция мудреца, или свободного человека — оригинальный термин этики спинозизма, — находится в очевидной зависимости от стоического идеала.
Натуралистическая этика Спинозы, стремившаяся прежде всего к адекватному описанию законов человеческой природы, не является по первому замыслу этикой нормативной: ведь поступки любого человека с необходимостью вытекают из его стремления к самосохранению. Даже познание, как высшее свойство человеческой природы, первоначально выступает в ней не как нравственная цель, а как необходимое следствие из этого стремления. Однако констатация порабощенностн подавляющего большинства человечества пассивными аффектами-страстями привела автора «Этики» к понятию человека, определяемому ко всем своим действиям разумом, — а утверждение о совпадении добродетели с разумностью представляло собой продолжение сократовско-стоической традиции; она привела к истолкованию познания как способа достижения высшего нравственного идеала. Сама способность человека подниматься от низших ступеней познания к высшей, интуитивной ступени является с этой точки зрения своего рода моральным его совершенствованием.
304
Таким образом, если номинализм и натурализм Спинозы приводили его к разрушению идеалов, оказывавшихся при ближайшем рассмотрении химерами представления, которым приписывалось трансцендентное происхождение, то рационализм приводил его к конструированию идеала человека, во всем руководствующегося разумом, образующего норму морального поведения для любого человека. Уже в первом своем произведении философ, осознавая, что родовая идея человека представляет собой только «мысленную сущность», тем не менее предвидит необходимость сохранить ее в интересах построения своей моральной доктрины39. Еще более четко этот вопрос поставлен в «Этике»: хотя добро и зло, совершенство и несовершенство представляют собой только модусы мышления, тем не менее в интересах создания этической доктрины эти термины следует удержать. И называть людей «более или менее совершенными», говорит автор, следует в зависимости от того, насколько они приближаются «к предначертанному нами образцу человеческой природы (exemplar humanae naturae)»40. Мудрец, или свободный человек, многократно повторяет Спиноза, — тот, кто живет по руководству разума (ex ductu ration is)41, по совету разума (ex rationis consilio)42, по предписанию разума (ех rationis praecepto)43, по повелению разума (ex rationis dictamine, imperio) 44. Но и при наивысшей степени руководства разумом, достигаемой на ступени интуиции, мудрец не освобождается от действия аффектов, не может абсолютно возвыситься над ними, чему учили стоики, хотя и освобождается от действия дурных страстей, вроде печали, отчаяния, зависти, страха, которые «представляют собой настоящий а д » 45. Превращая тем самым аффекты-страсти в аффекты-действия, познающая душа обладает прежде всего твердостью духа (forti- tudo), подразделяемой на мужество (animositas) и великодушие (generositas) 46.
Констатируя, с одной стороны, тот факт, что подавляющее большинство людей не следует в своей жизни указаниям разума, и рассматривая, с другой, эти указания как идеал моральных стремлений человека, спи- нозовская этика покидает почву простого описания законов «человеческой природы» и принимает характер долженствования. Она вынуждена представлять эти за
305
коны не так, как они проявляются в действительности, а так, как они должны проявляться, чтобы человек был подлинно свободным. В числе императивов, обращенных к «свободному человеку», формулируются и такие, как «живущий по руководству разума стремится, насколько возможно, воздавать другому за его ненависть, гнев, презрение к себе и т.д., напротив, любовью или великодушием»47. «Человек свободный, — читаем мы, кроме того, — никогда не действует лживо, но всегда честно»43.
Конечно, в условиях классового общества и тем более общества товаровладельцев, когда, выражаясь словами Энгельса, «рычагами исторического развития сделались дурные страсти людей: жадность и властолюбие» 49, свободный человек является абстракцией, осуществляющейся в действительности как исключение. Показав несостоятельность абстрактно-теологической морали, обнаружив мнимотрансцендентный характер ее универсалий, Спиноза, как и другие философы-новато- ры столетия, заменяет их одной универсалией — универсалией человеческой природы — и пытается выявить те всеобщие нормы нравственности, которым она должна следовать. Конечно, в принципе такие «простые нормы нравственности и справедливости», «общечеловеческие моральные нормы», записанные в новой Программе КПСС50, возможны, но только в условиях действительно свободного, полностью бесклассового, коммунистического общества. Формулирование этих норм стало возможным в ходе исторического развития, которое по мере исчезновения классовых различий и по мере социально-экономического прогресса общества выявляет действительные свойства «человеческой природы». В условиях же классового общества Спинозе, как затем Канту или Фейербаху, приходилось умозрительно конструировать моральные законы, становясь на почву абстрактного долженствования.
Естественно, что в этих условиях «свободный человек» Спинозы оставался абстрактным человеком. Однако при всей его абстрактности социальная детерминация этого идеала имела совершенно конкретное содержание и выполняла конкретные общественные функции. Выявление их должно составить задачу следующих разделов этой главы.
306
Социальная детерминация этических воззрений Спинозы и ее противоречия
Методология моральной доктрины спинозизма при всей ее зависимости от традиции стоицизма, как это очевидно из изложенного выше, не может быть исчерпана только этой традицией. Не менее важным, чем стоицизм, составным элементом оппозиции и критики господствующей теологической морали со стороны передовых мыслителей начиная с первых итальянских гуманистов стал эпикуреизм . В рассматриваемом столетии моральная доктрина эпикуреизма в отношении своей влиятельности едва ли уступала доктрине стоицизма. И это совершенно естественно, поскольку осознание мыслителями-новаторами материальной заинтересованности людей, как важнейшего фактора личной и общественной жизни, находило в эвдемонизме и гедонизме эпикурейства свою наиболее естественную базу. Если возвращ ение к принципам стоицизма отражало рост морального самосознания личности, решительно протестовавшей против феодально-теологического игнорирования ее интересов, то возрождение эпикуреизма свидетельствовало о возрастании жизненности этих интересов,. Оригинальное сочетание принципов стоицизма и эпикуреизма представляет собой и моральная концепция Спинозы, на что давно обратили внимание ее исследователи 51.
Влиянию эпикуреизма, по-видимому, следует в значительной степени приписать отвержение Спинозой категорического убеждения стоиков в возможности для мудреца абсолютного господства над своими страстями 52. Но особенно важны те эпикурейские поправки, какие Спиноза вносит в восходящий к стоицизму принцип самосохранения, как последнего основания жизненного поведения каждого человека. Как было выяснено выше, в учении о стремлении вещи сохранять свое бытие, свойственном онтологическим построениям некоторых новаторов рассматриваемого столетия, перекрещивались органистическая тенденция, представленная в древности натурфилософией стоиков, и сменившая ее в XVII в. механистическая интерпретация бытия, в древности сформулированная атомистической физикой эпикурейцев, а теперь опиравшаяся на складывавший
307
ся принцип инерции. Последняя интерпретация гармонировала с развивавшимся в том же столетии механистическим истолкованием общества как совокупности самостоятельных человеческих единиц, энергично отстаивавших свои интересы. Индивидуалистическая интерпретация общества, отражавшая возрастание власти человека над природой и его стремление поставить под свой контроль общественную жизнь, решая задачу наиболее рационального построения государственной власти, находилась в очевидной связи с прогрессом капиталистического способа производства. Естественно, что мы находим ее и у Спинозы, дополнившего стоический принцип самосохранения эпикурейским по своей сущности принципом пользы и 'выгоды . «Расчет выгоды», — учит он, — составляет «рычаг и жизненный нерв всех человеческих действий»53, ибо «каждый с величайшим жаром ищет своей личной пользы и за справедливейшие считает те законы, которые необходимы для сохранения и приумножения его достояния, чужой же интерес защищает лишь постольку, поскольку рассчитывает тем самым упрочить свой собственный» 54.
Этот «расчет выгоды», конкретизируемый еще более осязательно как эпикурейский принцип наслаждения, Спиноза — философский идеолог республиканско-олигархической партии — направляет против клерикальнотеологической моральной доктрины, представленной прежде всего кальвинистскими церковниками, союзниками ораиско-монархической партии. Философ, в частности, подвергает критике христианско-иудейский догмат первородного греха, который привлекался церковниками и для того, чтобы объяснить тот факт, что «каждый влеком своею страстью»55. Антиклерикальная направленность этической доктрины Спинозы носит принципиальный характер. Она достигает большой обобщающей силы в разоблачении тех, «кто не прочь надеть личину святости» 5б. Ханжеский характер морали, свидетельствующий о возрастании конфликта между официально провозглашаемыми моральными принципами и противоречащими им поступками люден — в первую очередь тех, кто эти принципы ревностно пропагандирует, — не раз констатируется теоретиком новой моральности, требующей постоянной гармонии слов и дел.
308
«Всего более алчными к славе являются те, — говорит мыслитель о честолюбцах и всех «бессильных духом», — которые наиболее кричат о злоупотреблениях ею и о суетности мира»57. Теологи, эти «суеверные люди», «умеющие больше порицать пороки, чем учить добродетелям, и старающиеся не руководить людей разумом, но сдерживать их страхом... стремятся лишь к тому, чтобы и другие были так же жалки, как они сами. Поэтому не удивительно, что они большей частью бывают тягостны и ненавистны людям» 58. Между тем в существующем обществе и государстве они несут основную ответственность за моральное состояние народа, слепо следующего за ними.
В центре кальвинистской — как в сущности и любой религиозной — морали стоит страх смерти и сопутствовавшая ему боязнь потусторонних наказаний. Свободному человеку, постигающему себя частицей беско- печного бытия, не способной превратиться в ничто, чужды такого рода переживания. Отсюда знаменитый афоризм Спинозы: «Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни» 5Э. Свободный человек отвергает «мрачное и печальное суеверие», которое препятствует людям наслаждаться. Если «суеверие... признает, по-видимому, хорошим то, что приносит неудовольствие, а злом то, что приносит удовольствие»60, то свободный человек хорошо знает, что «чем большему удовольствию мы подвергаемся, тем к большему совершенству мы переходим, тем более мы становимся необходимым образом причастными божественной природе». Сознание «божественности» своей природы сочетается у свободного человека с вполне материалистическим пониманием того, что способность души к мышлению требует здорового тела, беспрепятственно нуждающегося в новом и разнообразном питании. Мудрец не только обязан «поддерживать и восстанавливать себя умеренной и приятной пищей и питьем», но и наслаждаться «благовониями, красотой зеленеющих растений, красивой одеждой, музыкой, играми и упражнениями, театром и другими подобными вещами» 6!. Между тем нидерландские кальвинисты, подобно самому «женевскому папе», взывая к библейским образцам, с упрямством фанатиков подвергали гонению театр
309
и другие развлечения «свободных люден» — голландских республиканцев и передовой нидерландской интеллигенции вообще62. Сам Спиноза в своем ответе Блей- енбергу, одному из кальвинистских святош, писал о себе в возвышенно-эпикурейском духе: «Свою жизнь я стараюсь проводить не в печали и воздыханиях, но в спокойствии, радости и весельи, поднимаясь с одной ступеньки на другую, более высокую» 63.
Гедонизм, необходимый элемент морального учения эпикуреизма, как известно, многократно акцептировался в истории его неоднократного возобновления как главный и даже исчерпывающий элемент всей моральной доктрины. Так именно обстояло дело и в рассматриваемом столетии, когда материализм представлял собой в значительной мере аристократическое учение, чуждое не только народным массам, но и большинству буржуазного класса64. Еще в большей мере это относится к гедонистически истолкованному эпикуреизму, ставшему своего рода «символом веры» французских «вольнодумцев» и английских «свободомыслящих», пользовавшихся наибольшим влиянием именно в аристократических салонах. Немаловажным фактом, определявшим философское кредо либертинов и отношение к нему Спинозы, был их скептицизм, отчетливо выраженный, например, французскими лидерами «вольнодумцев», Франсуа Ламот Левайе и Шарлем Сент-Эвре- моном, видавшимся со Спинозой в Гааге65.
• Стремление к наслаждению ради наслаждения, да еще соединенное со скептическим неверием в возможности человеческого познания, подчеркивавшее только сенситивную его сторону, было совершенно чуждо Спинозе. Отражая стремления более развитых слоев буржуазии и возвращаясь к историческому эпикуреизму, гаагский мудрец не раз высказывался против упрощенного гедонистического понимания удовольствия. «Дело мудреца, — читаем мы в «Этике», — пользоваться вещами и, насколько возможно, наслаждаться ими (но не до отвращения, ибо это уже не есть наслаждение»66. Наслаждение — необходимое средство в жизни человека, но оно отнюдь не должно становиться целью ее. «Наслаждениями пользоваться настолько, — писал мыслитель уже в «Трактате об усовершенствовании разума», — насколько это достаточно для сохранения здо
310
ровья»С7. Утонченные наслаждения праздных классов, с точки зрения автора «Этики», являются пустым и д а же вредным времяпрепровождением, они приятно возбуждают одну часть тела, но не захватывают всей личности. Если веселость (ЬПагИаБ) никогда не может быть чрезмерной и в противоположность меланхолии всегда хороша, то приятность (ШПЫю) может быть и чрезмерной и дурной, как могут быть чрезмерными любовь и желание, нередко сопровождаемые тем или иным порабощающим человека аффектом. Поэтому честолюбие и разврат, как разновидности любви, «составляют виды сумасшествия, хотя и не причисляются к болезням» 68. В противоположность развращенно-гедонистическим воззрениям праздных классов Спиноза формулирует высоко моральный взгляд на брак: «Что касается супружества, то оно, конечно, согласно с разумом, если только стремление к половому совокуплению порождается не одним только внешним видом, но также и любовью к рождению детей и мудрому воспитанию их и, кроме того, если обоюдная любовь мужа и жены имеет своей причиной не одну только внешность, но в особенности свободу духа» 69.
Когда мы расцениваем эти этические принципы спинозизма как отражение стремлений буржуазии, то этим не может быть исчерпана вся сложность их социальной детерминации, социально неоднородной и неоднозначной, как это выяснено в четвертой главе. Наряду со стремлениями буржуазии в этических воззрениях Спинозы находили свое отражение и стремления мелкобуржуазно-сектантских кругов, к которым мыслитель был столь близок в течение всей своей жизни. Следует принимать во внимание неоднородность и самой буржуазии, значительные массы которой находились в рассматриваемом столетии в плену у религиозной идеологии кальвинизма, этой идеологии первоначального накопления капитала70. Враждебное отношение Спинозы к кальвинизму, как и к любому другому «суеверию», отразилось в его этике в резко отрицательном отношении к скопидомству и морали накопления, отличавшей значительные массы буржуазии этой эпохи и противостоявшей гедонистической морали многих представителей праздноаристократического класса. Как единомышленник коллегиантов и квакеров, Спиноза развивает
311
пассивно*-морализирующую критику современного ему буржуазного общества, в котором «благодарность людей, руководящихся слепым желанием, в большинстве случаев есть не благодарность, а торгашество или плутовство»71. Скупость, подобно честолюбию и разврату, принадлежит, по Спинозе, к числу неадекватных идей и тоже представляет собой разновидность сумасшествия, хотя и не причисляется к болезням 72. Этот порок, говорит философ, свойствен только тем, кто домагает- ся денег лишь ради наживы, пренебрегая при этом даже потребностями своего тела. Такого рода неразумному скопидомству Спиноза также противопоставляет свой идеал мудреца, который «знает истинное употребление денег и меру богатства определяет одной только нуждой» и который «живет, довольствуясь малым» 73. Близкое выражение той же мысли в начале «Трактата об усовершенствовании разума», где решается проблема «высшего блага» 74, показывает, что этот аспект спино- зовского мудреца создавался под влиянием стоическо- аскетических настроений, которыми мыслитель проникался в мелкобуржуазно-сектантских кругах.
Сказанным не может быть исчерпана социальная характеристика спинозовского идеала свободного человека, или мудреца. Необходимо в этой связи особо подчеркнуть, что при выяснении конкретно-историче- ской детерминации этического мировоззрения личности последнее не может быть совершенно точно и однозначно зафиксировано только в данной и ни в какой другой точке социальной системы координат, даже если бы мы более точно, чем в случае со Спинозой, знали социаль- но-идеологический и исторический генезис ее интересов. Очевидно, личность потому и является личностью, что она кладет известный — различный в разные исторические эпохи и в различные периоды жизни одного и того же человека — предел социальной детерминации своего мировоззрения . Вполне сознавая решающее значение этой детерминации для становления мировоззрения любого человека, нельзя вместе с тем приписывать ей абсолютное и исчерпывающее значение, не вставая на позиции социального фатализма и не игнорируя творческих возможностей самой личности. Эти возможности не вытекают, конечно, из иррациональных глубин «свободы воли» и нигде не разрывают цепь причинной обу
312
словленности, но бесконечная сложность последней, растворяющаяся сплошь и рядом в незримых деталях, далеко не всегда позволяет возвести эту цепь только к социальному ряду. Поэтому определение социальной детерминации этического мировоззрения личности нередко должно констатировать не столько строго определенную классовую зависимость, сколько наличие более или менее определенных социальных тенденций. В этом мы в особенности убеждаемся, переходя к рассмотрению наиболее определяющих черт спинозовского мудреца.
Через все произведения мыслителя проходит идея о том, что нет более высокой человеческой добродетели, чем добродетель познания — это поистине высшее благо. Поскольку разум составляет самую сущность человека 75, «самое полезное в жизни — совершенствовать свое познание или разум, и в этом одном состоит высшее счастье или блаженство человека». «Поэтому,— продолжает философ, — нет разумной жизни без познания, и вещи хороши лишь постольку, поскольку они способствуют человеку наслаждаться духовной жизнью, состоящей в познании» 76. Обращаясь к юному фанатику Альберту Бургу, перешедшему в католичество и обратившемуся к Спинозе с бестактнейшим письмом, мыслитель, заметив, что Бург сделался «рабом этой церкви не столько из любви к богу, сколько из страха перед адом, каковой страх есть единственная причина суеверия», восклицает: «Долой это пагубное суеверие! Признайте разум, данный Вам богом, и развивайте его, если не хотите быть причисленным к животным!»77. Поскольку совершенствование разума составляет главный смысл этического существования личности, все остальные условия этого существования рассматриваются только как средства для достижения этой цели. Гипертрофируя интеллектуальную сторону человеческой жизни, мыслитель заявляет, что «в этой жизни прежде всего должно стремиться к тому, чтобы тело, соответствующее детству... изменилось в другое тело, способное ко многому и соответствующее душе, обладающей наибольшим познанием себя, бога и вещей; и притом таким образом, чтобы все то, что относится к ее памяти и представлению, не имело бы почти никакой цены в сравнении с разумом» 78.
313
Высшая этическая ценность разумного познания с наибольшей силой концентрируется в третьем роде его79, ибо вне интуиции невозможна интеллектуальная любовь к богу-природе. Интеллектуальная любовь к богу, генетически связанная, как мы видели, с мистическим пантеизмом сектантов, в подавляющем большинстве идеалистических истолкований спинозизма обычно рассматривается как наиболее оригинальная черта спинозизма и характеризуется как интеллектуальная мистика 80. Соответственно и этика Спинозы истолковывается как вполне религиозная, как призыв к мистическому самоуглублению и созерцанию бога. Одним из последних высказался на эту тему Рихард Кронер, утверждающий, что спинозовская этика «в сущности мегаэтика», даже не этика, а «наставление в том, как достичь единства с богом». «Натуралистический детерминизм и безличный рационализм», развиваемый Спи нозой, — своего рода «ад», который необходимо миновать, «чтобы достичь в конце концов небес божественной любви». Соответственно и спинозовская свобода, по Кронеру, — не моральная, а религиозно-метафизи- ческая идея81. Молодой Маркс безусловно глубже и историчнее понял сущность спинозовского познания «под углом зрения вечности». «В «Тетрадях по истории эпикурейской, стоической и скептической философии» он справедливо расценил спинозовскую интеллектуальную любовь к богу как воодушевление, порождаемое у философа самозабвенным познанием истины. «Поэтому, — говорит здесь Маркс, — платоновское воодушевление, в своей предельной стадии, перешло в экстаз, а воодушевление Аристотеля, Спинозы, Гегеля — в чистое, идеальное пламя науки; поэтому первое было лишь грелкой для отдельных умов, а последнее оказалось животворящим духом всемирно-исторических процессов» 82.
Спинозовское прославление знания, как высшей цели человеческого существования, отразило факт резкого отделения умственной деятельности от физического труда, достигшего в условиях общества капиталистического особенно большой остроты. Это прославление сконцентрировало в себе особенно глубокие противоречия социального и научно-философского развития своей эпохи. С одной стороны, оно стало возможно в резуль
314
тате общего прогресса производства и научно-философского знания и было одним из компонентов идеологии капиталистического общества в его борьбе против общества феодального. И без известной степени материального благополучия, без понимания значения «удовольствия», как жизненного фактора первостепенной важности, понимания, направленного, как мы видели, против изживавшей себя теологическо-аскетической морали, не могло бы быть и стремления к культивированию интеллектуальных добродетелей. Здесь, таким образом, этическая интерпретация знания выражает активное содержание человеческой жизни, повышает уверенность в своих силах человека — творца и покорителя природы. Вместе с тем отказ Спинозы от упрощенногедонистического истолкования удовольствия и тесно связанное с ним отвержение поверхностно-скептического отношения к знанию, глубокая убежденность философа в самоценности достоверного знания, не заинтересованного ни в чем, кроме обладания самим этим знанием, генетически оказалось связанной с мелкобуржуазным сектантско-пантеистическим движением. Пассивный протест против эксплуататорского общества и обслуживавшей его церковно-бюрократической машины, протест, не чуждый некоторых смутных утопическо- коммунистических идей, приводил к стремлению непосредственного контакта с пантеистически понимаемым богом. Будучи предельно рационализировано в системе Спинозы, это стремление проявилось в той стоическо- фаталистической окраске, которая многими исследователями этой философии истолковывается как одна из ее определяющих черт. Отсюда спинозовские рекомендации «свободному человеку» следовать «общему порядку природы», повиноваться ему и приспосабливаться к нему83. Если мы, исполнив свой долг, ясно и отчетливо сознаем органиченность* своих возможностей в де ̂ле подчинения природы, то наша познавательная с п о собность, т. е. лучшая наша часть, найдет в этом полное удовлетворение и будет пребывать в нем 84.
Таким образом, основное противоречие, проявляющееся в спинозовской моральной доктрине и отражающее неоднородность ее социальной детерминации, сводится к противоречию между человеком, активно от- стаивающим свое индивидуальное существование и под-
315
нимающимся до глубокого постижения своей свободы, и человеком, который, достигая высших ступеней этого познания, усматривает в единении с субстанцией-приро- дой-богом и в утрате своей индивидуальности высшую цель земного существования. Возведенное в сферу метафизики и вытекающее из нее, это противоречие, на которое обращают внимание многие исследователи спинозизма85, выступает как противоречие между понятием самодостаточной единичной вещи, вступающей в пространственно-временные отношения с другими вещами, и понятием модуса как вневременного проявления вечной субстанции. Проявление этого противоречия мы увидим и в социологической концепции Спинозы.
Однако прежде чем переходить к ней, необходимо указать еще на один аспект спинозовской оценки знания как высшего этического идеала. Хотя этот идеал сложился не без серьезного влияния демократических симпатий философа, близкого к сектантско-мелкобур- жуазным кругам и враждебного дворянско-аристокра- тическому легкомыслию, темнота народных масс, ведомых фанатичными и лживыми апологетами «суеверия», породила у Спинозы своего рода аристократическое недоверие к «толпе». Будучи далеким от понимания социальных источников разрыва между физической и умственной деятельностью, философ воспринимает этот факт как некое неизменное явление природы. «Для вывода положений из-одних рассудочных-понятий весьма-----часто требуется длинная цепь понятий и, кроме того, еще величайшая осторожность, острота ума и весьма большое самообладание — а все это редко встречается у людей...» 86. Впрочем, как уже замечено выше, понятие «толпы» у Спинозы не столько социальная категория, сколько категория этическая, распространяемая в этом случае и на представителей высших классов. Понятие «толпы», или «черни», конкретизируется здесь как понятие «плотского человека» (homo carnalis), который чужд подлинного познания бога и любви к нему, ибо «ему кажется это нестоящим, потому что он в этом высшем благе не находит ничего, что можно было бы осязать, съесть или, наконец, что могло бы вызвать плотские удовольствия». Такой человек не может понять, «что это благо состоит только в размышлении и чистой мысли»87.
316
Забота о моральном здоровье общества.Натурализм и идеализм Спинозы в истолковании
общественно-государственной жизни
Социальный аспект развиваемого Спинозой этического учения проявляется уже в первом его произведении 88, а тем более в «Этике». Проблема свободы, как высшая этическая проблема, одновременно выступает и как проблема социальная, ибо «человек, руководствующийся разумом, является более свободным в государстве, где он живет сообразно с общими постановлениями, чем в одиночестве, где он повинуется только самому себе» 89. Отождествляя в духе социологической мысли своего века общественную жизнь с государственной, полностью отделяя последнюю от церковно-религиозно- го авторитета и даже подчиняя церковные организации и все внешние проявления религиозного культа государственному регулированию, Спиноза стремится решить сложную задачу — задачу гармонического сочетания частных и сугубо эгоистических интересов граж дан государства с интересами всего общества.
Решение этой задачи мыслитель подчиняет м оральной проблеме как высшей, по его убеждению, проблеме общественно-государственного устройства. «Когда мы говорим, — пишет философ в своем последнем произведении, — что та верховная власть является наилучшей, при которой люди проводят жизнь согласно, то разумеем жизнь человеческую, которая определяется не только кровообращением и другими функциями, свойственными всем животным, но преимущественно разумом, истинной добродетелью и жизнью духа» 90. Высокий моральный идеал Спинозы с необходимостью требует, таким образом, и самого высокого социального идеала — идеала подлинно человеческого общества, общества, в котором люди искали бы «собственной пользы» только «по руководству разума» и в силу этогс были бы «справедливы, верны и честны»91. Раскрытие утопичности этого социального идеала Спинозы, проявляющейся в противоречиях его морально-социологического мышления и с необходимостью связанной с идеалистическим пониманием им общественной жизни, несмотря на натуралистическое ее обоснование, и составит, основную задачу этого раздела.
317
Одним из главных вопросов, давно привлекавших внимание исследователей философии Спинозы, естественно, является вопрос о той форме, какую приняла в его доктрине концепция естественного права, как основ- ная социологическая концепция рассматриваемого столетия. В этой связи обычно ставится и вопрос об отношении Спинозы к Гоббсу. Последний являлся ведущим представителем этой концепции, пользовался, в частности, значительным успехом в среде нидерландских республиканцев, несмотря на абсолютистские тенденции своей политической доктрины, и несомненно оказал большое влияние на политическое мышление Спинозы. Это влияние, по всей вероятности, сыграло инициативную роль в развитии социологической доктрины спинозизма, которая, однако, отнюдь не застыла на принципах Гоббса, а, отправляясь от них, сформулировала собственные, обосновывая другой социальный идеал, о чем шла речь в четвертой главе работы.
Основоположные понятия социологической доктрины Спинозы — понятия естественного права, определяющих особенностей человеческой природы, проявляющихся в чистом виде в естественном состоянии, сменяемом состоянием гражданским, или государственным, понятие общественного договора — заимствованы Спинозой у Гоббса, что наиболее заметно в «Богословско-политическом трактате». Но уже и в этом произведении мы видим,_что_все_указанные_выше основоположные прин- ципы передовой социологической мысли рассматриваемого столетия подверглись у нидерландского мыслителя большей натурализации по сравнению с тем, как они фигурируют в произведениях английского. Если у Гоббса естественный закон, как некое извечное требование человеческого разума, не совпадает с естественным правом и до известной степени противостоит ем у92, то у Спинозы эти понятия по существу сливаются в понятии «права и установления природы». Тем самым естественное право трактуется нидерландским мыслителем как одно из главных проявлений всеобщей закономерности, играющей и в природе, как мы видели, огромную роль. Высшее стремление каждого индивидуума — сохранять свое индивидуальное существование всеми имеющимися в его распоряжении средствами — объединяет не только мудреца и невежду, но и стирает
318
границу «между людьми и остальными индивидуумами природы». Каждый из последних оказывается «естественно определенным к существованию и деятельности определенного рода. Например, рыбы определены природой к плаванию, большие к пожиранию меньших; стало быть, рыбы по высшему, естественному праву владеют водой, и притом большие пожирают меньших»93.
В третьей главе настоящей работы мы видели, сколь радикален был переворот, произведенный философами- новаторами в связи с появлением понятия объективного закона природы, который в предшествующие века сплошь и рядом отождествлялся с законом моральным и юридическим, а в пятой — рассмотрели ту выдающуюся роль, какая принадлежала Спинозе в этом процессе углубления материалистического мировоззрения. Приведенные выше слова Спинозы свидетельствуют, что мыслитель не только разграничивал понятия естественного и юридического закона, но и по существу подчинял — в социологическом плане — последний первому. Натурализация этических категорий, таким образом, сопровождалась и даже обосновывалась натурализацией социологических законов . Нели в античном и средневековом понимании закон природы выступал обычно как проекция морально-юридических законов» то в «социальной физике» рассматриваемого столетия это отношение стало прямо противоположным, что более всего очевидно именно у Спинозы.
Однако эта натурализация общественных закономерностей отнюдь не может быть расценена с марксистской точки зрения как материалистический взгляд на общественную жизнь. И прежде всего потому, что специфика общественных закономерностей при упрощенно-натуралистическом их понимании в сущности полностью исчезает. Наиболее широким теоретическим основанием, к которому возводятся общественные закономерности, истолковывавшиеся как закономерности природные, является у Спинозы, как и у всех других новаторов рассматриваемой эпохи, понятие человеческой природы. Исходя из него, он стремится вывести законы общественного устройства. Последние же возводятся в конечном итоге к принципам человеческого сознания и человеческого разума, которые наиболее специфично выражают сущность человека.
319
Хотя, таким образом, идеалистическая трактовка общественных закономерностей объединяет Спинозу с Гоббсом, как и с любым другим социологом рассматриваемого столетия, тем не менее последовательная натурализация социологических понятий нидерландским мыслителем отличает его от английского. И это обнаруживается прежде всего в спинозовской интерпретации естественного и гражданского состояний и в спинозовской трактовке возникновения государства. Подобно Гоббсу, Спиноза рассматривает людей, эгоистически погруженных в свои интересы, как врагов, которые «влекутся врозь» и которые «должны внушать тем больший страх... насколько они хитрее и коварнее по сравнению с остальными животными»94. Этот эгоизм человеческой природы с наибольшей силой проявляется, конечно, в естественном состоянии, когда человек более всего определяется к действию пассивными аффектами, страстями. В этом состоянии он живет, «руководствуясь только импульсом желания» 95, всецело находясь во власти слепого влечения (арреШиэ), определяющего людей к действиям, направленным на сохранение своей индивидуальности 96. В догосударственном состоянии особенно очевидно, что естественное право каждого человека, а точнее говоря, каждого индивида, целиком определяется мерой той мощи, какой его наделила природа. Поскольку природное право «не запрещает решительно ни- чего, кроме того, что никто не может» 97, в естественном состоянии, когда «все принадлежит всем», не можег быть ни преступления, ни справедливости, ни несправедливости, ни добра, ни зла, а следовательно, и никакой морали 98.
В этой части своей социологической доктрины Спиноза в общем повторяет Гоббса, отличаясь от английского социолога только более широким применением к осмыслению естественного состояния антропологической теории, своей концепции аффективной природы челове* ка. Подобно Гоббсу Спиноза исходит из того, что стремление людей к безопасности заставляет их «обуздать желание», влекущее людей в разные стороны, и «весьма твердо постановить и договориться направлять все только по указанию разума», заключить общественный договор, кладущий начало государственной жизни99. Однако в отличие от Гоббса Спиноза не про
320
водит резкой грани между двумя статусами, естественное состояние у него более органично переходит в состояние гражданское. Если у Гоббса в последнем прекращается действие естественного права и источником права становится государственная власть как единственная обладательница верховного суверенитета, то Спиноза и в условиях гражданской жизни оставляет в силе естественное право 10°, ибо «человек как в естественном состоянии, так и в гражданском действует по законам своей природы и сообразуется со своей пользой... побуждается страхом или надеждою» 101. Из всего этого ясно, почему Спиноза крайне скупо употребляет выражение «общественный договор», являющийся пограничной чертой, разделяющей естественное и гражданское состояние у Гоббса. Если в «Богословско-политическом трактате» это выражение еще и встречается, то в «Политическом» оно совсем исчезает. Здесь мы встречаемся с другой, более характерной для спи- нозовского натурализма формулировкой, согласно которой «гражданское состояние устанавливается по естественному ходу вещей (курсив мой. — В. С.) для устранения общего страха и во избежание общих бед» 102. Вступив вслед за Гоббсом на путь атомистического истолкования общественной жизни, Спиноза вместе с тем в отличие от английского социолога, примыкающего здесь к эпикурейской традиции общественного договора, склоняется скорее к органистическо-стоической интерпретации возникновения государства.
К такой интерпретации нидерландского мыслителя склоняли и другие соображения, не столь характерные для Гоббса. Мы имеем в виду понимание Спинозой огромной роли разделения труда между людьми, необходимости взаимопомощи людей, которая лишает всякой почвы представление о естественном и, в особенности, о гражданском состоянии как о состоянии робинзонады. Именно жизненная необходимость в разделении труда и лежит прежде всего в основании кооперации человеческих сил, в основании человеческого общежития, отождествляемого Спинозой, как и другими социологами этого века, с государственной жизнью. Сама по себе идея, возводящая общественно-государственную жизнь к противоречию между ограниченностью способностей человека и неограниченностью его потребностей, восхо
11 Зак. 681 321
дит, как известно, к Платону 103 и даже к Демокриту 104. Но у Спинозы эта идея наполняется новым содержанием, связанным с пониманием человека как эгоистического существа, во всем руководствующегося соображениями собственной пользы, выгоды, которая и составляет одно из главных оснований человеческого общежития. «Общество весьма полезно и в высшей степени необходимо не только для того, чтобы обезопасить жизнь от врагов, но и для сбережения многих оещей (ad multarum rerum compendium faciendum. Курсив мой. — В . С.). В самом деле, если бы люди не желали оказывать взаимопомощь друг другу, то им не хватило бы ни уменья, ни времени поддерживать и сохранять себя, насколько это возможно. Ведь не все одинаково ко всему способны, и не каждый был бы в состоянии приготовить себе то, в чем он один больше всего нуждается» 105. Даже варвары, живущие без гражданственности и влачащие жалкое существование, не могут обойтись без взаимопомощи. Интересы сохранения и поддержания человеческого тела, необходимость «добывания ... питательных средств» для него становятся важнейшим основанием человеческого общежития 10G. Как бы ни проклинали людей теологи и сколь бы ни превозносили иные меланхолики «жизнь первобытную и дикую», люди при всем своем эгоизме и отталкивании друг от друга всегда вступали и всегда будут всту- пать в сообщество друг с_другом,_иб_о_из него ̂ возникает гораздо более удобств, чем вреда» 107. Вот почему Спиноза, примкнувший, подобно Гоббсу, к атомистической теории общества, вместе с тем в отличие от него вполне соглашается и с перипатетической формулой, согласно которой человек является общественным животным 108.
Из рассмотренного вытекает, что понятие естественного состояния в общественной доктрине Спинозы становится еще более условным понятием, чем у Гоббса. В. действительности «все лк5ди — как варвары, так и цивилизованные — повсюду находятся в общении» 109, они «по природе стремятся к гражданскому состоянию и не может случиться, чтобы люди когда-либо из него вышли» по. К понятию естественного состояния нидерландский мыслитель прибегает лишь для того, чтобы рассмотреть человеческую природу в наиболее «чистом»
322
виде и вывести, исходя из нее, государственную жизнь людей. Ехтественно, что такая методология социологической доктрины Спинозы оставляет его на почве того неисторического понимания человеческого общества, которое являлось одной из определяющих черт социологической мысли и всех других новаторов рассматриваемого столетия. И у Спинозы неисторическое понимание природы сопровождалось таким же взглядом на человеческое общество. Понимание роли разделения труда в общественной жизни, которое, казалось бы, открывает путь к историческому взгляду на общество, в глазах социолога-метафизика подкрепляет противоположный взгляд. Ведь человеческая сущность не выступает у него в качестве результата развития общества, и само разделение труда создается не в процессе этого развития, а вытекает из потребностей человеческой природы, оказывающейся, таким образом, последней инстанцией объяснения всех общественных явлений. Неисторический взгляд Спинозы проявляется, в частности, в том, что все исторические факты, которыми в особенности насыщен «Богословско-политический трактат» — относятся ли они к древнееврейским, древнеримским временам или временам Спинозы — как бы сдвинуты в одну плоскость. Автор «Политического трактата» убежден также и в том, что «опыт показал все виды государств, которые только можно представить для согласной жизни людей»111, и он хочет только воспользоваться этими примерами для иллюстрации формулируемых им положений.
Осознание материальной заинтересованности, как ведущего стимула человеческой жизни, соединенное с пониманием решающей роли разделения труда, как необходимого условия удовлетворения этой потребности, далеко не доходит у Спинозы до осознания роли классового интереса в общественной жизни и прежде всего до осознания решающего значения этого интереса в образовании государства и в функционировании его важнейших институтов. Интерес, как решающая особенность человеческой природы, остается в социологической доктрине нидерландского мыслителя только частным интересом. Подданные, или граждане государства, мыслятся в принципе как равные атомы государственной машины, которая без остатка может быть разложена на
И* 323
эти последние свои элементы. Личность, изъятая из классовых объединений, и государство. как конгломерат личностей, составляют два полюса спинозовского реш ения проблемы свободы, поскольку человек достигает свободы не в одиночестве, а в обществе себе подобных.
Говоря о внеклассовое™ спинозовского понимания государства, как об одном из определяющих принципов этого понимания, следует в интересах точности и объективности рассмотрения его социологического учения сказать, что некоторые намеки на неоднородность общественной структуры мы кое-где встречаем в его произведениях. Например, в «Этике» мыслитель указывает, что удовольствие и неудовольствие, полученное кем-нибудь от представителя другого сословия, может привести к любви или к ненависти по отношению не только к конкретному виновнику этого удовольствия или неудовольствия, но и по отношению ко всему сословию, к которому он принадлежит П2. В «Политическом трактате» мы читаем также, что «люди по природе тем более заботятся о своей безопасности, чем они богаче» пз.Но от этих высказываний очень далеко, конечно, до понимания зависимости государства от социально-экономической структуры общества.
Отождествляя последнее с государством и всемерно подчеркивая решающую роль власти в жизни общества, Спиноза усматривает главную функцию государственной-организации—в - ее—морально-воспитующей . роли___«Ни одно общество не может существовать без власти и силы, а следовательно, и без законов, умеряющих и сдерживающих страсти и необузданные порывы людей» П4. В естественном состоянии человеческая природа всецело подчиняется импульсу желания и руководствуется страстями, пассивными аффектами, отличающими людей друг от друга и делающими их «ненавистными и тягостными» друг другу 115. В гражданском же состоянии в принципе перед каждым человеком открывается возможность руководствоваться разумом и, таким образом, обретать свою свободу. Смешивая юридические нормы, истолковываемые нидерландским мыслителем как внеклассовые, общечеловеческие, с моральными — ведь и те, и другие появляются только в гражданском состоянии, — он гипертрофирует моральную функцию государства, так как ему совершенно неиз-
324
вестна его социально-экономическая природа, несмотря на осознание огромной роли разделения труда в формировании человеческого общежития и в этой связи роли денег, которые «в сокращенном виде... представляют все вещи» 110 — отзвук теорий меркантилизма, столь популярных в рассматриваемом столетии. Государственная организация, присущие ей юридические законы, составляющие самую душу государства 117, являются непосредственными виновниками как пороков, так и добродетелей граждан118. Гипертрофия моральных функции государства, как одно из главных проявлений идеализма Спинозы в области социологии, многократно формулируется им в убеждении, согласно которому «право государства определяется мощью народа, руководимого как бы единым духом» 119. Такая позиция Спинозы, как идеолога нидерландских республиканцев, объективно являлась моральной санкцией эксплуататорского государства, моральной мистификацией его действительной классовой природы. Например, судья, осуждая виновного на смерть, действует не из ненависти или гнева, «но из одной лишь любви к благосостоянию общества, руководствуется одним только разумом» 120.
Но фактическое положение вещей, суровая реальность, которую Спиноза непрерывно констатирует, состоит в том, что люди и в условиях государственного состояния, как правило, далеки от того, чтобы руководствоваться разумом. Они следуют своим страстям и угождают своим порокам. Эта констатация свидетельствует о непримиримом противоречии, в каком находятся право эксплуататорского государства и мораль составляющих его граждан, преследующих свои узкоэгоистические интересы, весьма далекие от той общности, которая должна вытекать из идеи общественного договора н из идеи государства, руководимого «единым духом». Морально-этическая функция государства тем самым фактически оказывается далеко не выполненной. Переходя из естественного состояния в состояние гражданское, люди, непрерывно нуждающиеся во взаимной помощи, должны превратить эту взаимопомощь в друж бу Формулу «человек человеку волк», характеризующую отношения людей в естественном состоянии и широко использованную Гоббсом, должна заменить формула «человек человеку бог»122, которая и должна
325
стать основоположным моральным принципом подлинно человеческого общежития.
Констатируя, что осуществление этой нормы является скорее исключением, чем правилом в окружающем его обществе, Спиноза фактически выступает с моральным осуждением его. Этот аспект этико-социологического учения Спинозы характеризует гаагского мудреца в качестве мелкобуржуазного идеолога, друга коллегиантов и квакеров, не чуждого идеям утопического коммунизма, принявшим у него форму исключительно моральной доктрины. Не случайно, конечно, что мечта Спинозы о таком обществе, в котором каждый мог бы «жить по общему решению всех», о государстве, являющемся наиболее полным осуществлением естественного права людей, заключающих общественный договор, ставится им в зависимость от того, чтобы «люди, имея общее право, могли бы совместно завладеть землями, которые они могут населять и обрабатывать» т . Только в таком обществе, в котором можно было бы «направить силы всех как бы на одно тело, именно: на общество» 124, право может выразить стремление всех его членов руководствоваться «как бы единым духом», полностью гармонируя с их разумно-моральным поведением.
Свою заботу о морально здоровом, морально безупречном обществе Спиноза стремился в какой-то мере реализовать- и в том'общежитии,~в_том_конкретном~го- сударстве, гражданином которого он был сам — в республике Соединенных Провинций. Ведь «Богословско- политический трактат», как мы видели, был написан под влиянием прежде всего нидерландской социально- экономической и идеологической ситуации, хотя вместе с тем острота и типичность этой ситуации делали принципы и выводы этого произведения весьма значимыми и для ряда других стран Европы (причем не только в этом столетии, но и в последующем). Как известно* главная цель «Богословско-политического трактата», сформулированная в его подзаголовке и подробно обоснованная в последней главе, состоит в том, чтобы утвердить свободу мысли, свободу совести и свободу слова в качестве неотъемлемых прав личности и в качестве необходимых условий морально здорового общества.
326
В этом обосновании Спиноза опирается на свою концепцию естественного права, отличающуюся от соответствующей концепции Гоббса. Если английский социолог как теоретик абсолютизма приходил к выводу, что в силу общественного договора естественное право индивида целиком передается верховному суверенитету и государственная власть формулирует необходимые с ее точки зрения принципы, имеющие силу политических догматов, которые личность обязана, как и религиозные догматы, проглатывать без разжевывания, то нидерландский теоретик морали был совершенно чужд этим порабощающим, по его убеждению, личность воззрениям. Поскольку естественное право выражает прежде всего природную силу каждого индивида и не может быть полностью отчуждено от него и в условиях гражданского состояния, государственная власть не может предписать личности всего содержания ее жизни. Там, где кончается сила верховной власти, прекращается и ее право. Выше мы видели, что это право целиком распространяется на область организации религиозного культ а ,‘ему полностью подчиняются поступки людей, как эго доказывается в той же последней главе того же трактата, но ему совершенно не может быть подвластно право личности избирать те или иные философские воззрения и открыто пропагандировать их. В силу естественного права человек может выступать с публичной критикой политических принципов и практики верховной власти, но эта критика не может перейти в свободу действия, подрывающую эту власть и нарушающую общественный договор, лежащий в ее основе. Эти принципы политического учения Спинозы обычно квалифицируются как принципы буржуазного либерализма. И это, конечно, правильно, особенно если учитывать, что автор «Богословско-политического трактата» форму* лировал их в качестве защитника буржуазно-олигархи* ческого режима Нидерландов и в борьбе против «суеверных и честолюбивых людей, не способных переносить людей с благородным сердцем» 125, прежде всего против кальвинистских церковников — союзников монархической партии, стремившихся держать под своим полным контролем совесть и умы людей.
Но вместе с тем в своей страстной защите свободы мысли и совести Спиноза глубоко озабочен моральным
327
состоянием современного ему общества. Мысли, развитые философом в этой конкретной связи, приобрели большую обобщающую силу. Если цель государства, выражающаяся в его моральной функции, состоит «не в том, чтобы превращать людей из разумных существ в животных или автоматы, но, напротив, в том, чтобы их душа и тело отправляли свои функции, не подвергаясь опасности», необходимо освободить их от страха и предоставить полную возможность развивать принадлежащую им по естественному праву свободу мысли и свободу слова, «ибо и самые опытные, не говоря уже о толпе, не умеют молчать» 126. Философ страстно доказывает, что мысли и высказывания людей невозможно регулировать законами, не нанося величайшего ущерба моральному состоянию общества. Если все же допустить, что «эта свобода может быть подавлена и люди могут быть так обузданы, что ничего пикнуть не смеют, иначе как по предписанию верховных властей; все-таки решительно никогда не удастся добиться, чтобы люди думали только то, что желательно властям; тогда необходимо вышло бы, что люди постоянно думали бы одно, а говорили бы другое и что, следовательно, откровенность, в высшей степени необходимая в государстве, была бы изгнана, а омерзительная лесть и вероломство нашли бы покровительство;* отсюда обманы и порча всех хороших житейских навыков». К тому же
-науки_и -11скусства_«разрабатываются_.с_успехом_только_ теми людьми, которые имеют свободное и ничуть не предвзятое суждение» 127.
Однако вместе с тем мыслитель осознает, что отстаиваемая им свобода личности не может быть распространена на «толпу», т. е. опять-таки на подавляющее большинство народа. В этой связи необходимо подчеркнуть едва ли не основное противоречие морально- социологического учения Спинозы — противоречие между этическими запросами личности, вытекающими из разума, объединяющего людей в понятии единой человеческой природы, и конкретным осуществлением этик запросов в условиях всеобщей борьбы эгоистических интересов. Конкуренция людей, до предела усиливающаяся в буржуазном обществе, с необходимостью развивает их дурные наклонности, заставляет их жить в соответствии со своими аффектами-страстями, морально
328
разъединяет людей, хотя экономическая необходимость никогда не позволит сделать это разъединение фактом материальной действительности. Это противоречие осложняется и другим противоречием — между принципиальной способностью любого человека к высшей интеллектуальной деятельности и на этой основе к подлинно человеческой морали и реальной невозможностью для «толпы», т. е. опять-таки для подавляющего большинства народа, к такого рода деятельности в силу разрыва между физическим и умственным трудом.
В своем стремлении к такому подлинно человеческому обществу, в котором «души и тела всех составляли бы одну душу и одно тело, чтобы все вместе, насколько возможно, стремились сохранять свое существование и вместе искали бы общеполезного для всех», в котором общее благо расценивалось бы выше частного 128, и где не только в теории, «благо народа было бы верховным законом 129, Спиноза еще раз выступает как единомышленник коллегиантов и квакеров, облекший некоторые из присущих им утопическо-коммунистических идей в форму моральной утопии. С другой стороны, мы постоянно встречаемся со Спинозой-реалистом, утверждающим, что «пороки будут, доколе будут люди» 13°, Спинозой-политиком, отлично понимающим, что «те, кто тешит себя мыслью, что народную массу или стоящих у власти можно склонить руководствоваться в их ж изни одним разумом, те грезят о золотом веке поэтов или о сказке» 131, что «ничто, имеющее отношение к общему благу», нельзя предоставлять безусловно «чьей-либо совестливости» 132.
Мудрость законодательства Спиноза-политик целиком связывает с тем, насколько искусно удается, учитывая разнообразие и противоречивость людских интересов, использовать человеческие страсти таким образом, чтобы общее благо преобладало над частным и чтобы уо1еп5-по1еп$ люди руководствовались бы разумом. Уже в «Богословско-политическом трактате» философ осознает крайнюю трудность этой политико-законодательной задачи: «Каким образом должно руководить подданными, чтобы они постоянно хранили верность и добродетель, — это увидеть не так-то легко. Ибо все, как правители, так и управляемые, — люди, т. е. они склонны вместо труда к наслаждению». «Сле
329
довательно, — продолжает Спиноза, — предупредить все это и организовать правительство так, чтобы обману не оставалось никакого места, и притом еще установить все так, чтобы все, независимо от склада ума, предпочитали общественное благо частным выгодам, — это работа, это труд» 133.
Но выполнима ли вообще такая работа? Как уже отмечалось выше, в «Богословско-политическом трактате» (в той же последней его главе) гаагский мудрец наивысшей целью государства провозглашает свободу, а в «Политическом трактате» утверждает, что цель государственной жизни состоит только в безопасности, свобода же, или твердость духа, должна быть отнесена к сфере частной добродетели134. Наконец, в главном труде Спинозы, в последних его частях, явственно ощущаются трагические метания мыслителя, с одной стороны, стремящегося к тому, чтобы люди «жили, наконец, исключительно под властью разума» 135, а с другой — меланхолически завершающего этот свой труд словами, что путь к свободе «и должен быть трудным, ибо его так редко находят» и что «все прекрасное так же трудно, как и редко» 136.
Методологические причины краха морально-социоло- гической утопии Спинозы очевидны. Они коренятся в историческом идеализме гаагского мудреца, в указанной выше гипертрофии морально-воспитующей функции обществённсьгосударственной организации, в непонимании ее социально-классовой природы и в недооценке экономической функции. Исторически еще более значительны социальные причины этого краха, заключающиеся в объективной невозможности гармонически примирить общественный интерес с частным в условиях, когда эгоистические стремления людей являются главным стимулом общественного прогресса. Общество капиталистической конкуренции поэтому должно оставаться неморальным обществом. Трагедия Спинозы, таким образом, неразрешима в условиях его эпохи, в условиях капиталистического, эксплуататорского общества вообще.
Его неудача особенно поучительна в наши дни, в условиях социалистического общества, которое воплощает коммунистический идеал, идеал действительно морального общества, члены которого будут, наконец,
ззо
«справедливы, верны и честны». Лучшее свидетельство тому — Моральный кодекс строителя коммунизма, за писанный в новой Программе КПСС. Его положения показывают, что то, о чем Спиноза, как и другие прогрессивные мыслители прошлого, могли только мечтать и часто отчаиваться в своих мечтаниях, становится реальностью, которая приближается к нам с каждым днем. Человек человеку бог, говорил Спиноза, и эта формула оказывалась только словесным оборотом. Человек человеку друг, товарищ и брат — эта формула отражает реальность коммунистической морали.
VIII. АТЕИЗМ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ СПИНОЗИЗМА
Выше было констатировано, что последовательное слияние бога с природой, лишение его всякой видимости самостоятельного, внеприродного существования закономерно приводят Спинозу к атеистическим результатам. Глубоко атеистична, как мы видели, и этическая доктрина спинозизма.
Задача настоящей главы состоит в том, чтобы рассмотреть более конкретную связь, существующую, с одной стороны, между методологией спинозизма и атеистическими результатами ее, а с другой — между этикосоциологическими воззрениями философа и развитой им системой атеистических взглядов. Отсюда два параграфа этой главы.
Преодоление концепции «двух истин».Спиноза как основоположник библейской критики
Как наиболее последовательный представитель рационализма рассматриваемого столетия, Спиноза предпринял шаг, который не решался сделать ни один из новаторов этого века: подверг систематической критике неприкосновенную святыню христианско-иудейской религиозности — Ветхий завет, наиболее древнюю, наиболее обширную часть Библии. Трудно переоценить научную смелость Спинозы, отвергнувшего авторитет тысячелетней традиции. Сам мыслитель хорошо осознавал трудности, встающие перед ним. Стремясь в «Богословско-политическом трактате» в качестве одной из главных целей к устранению «предрассудков теологии»,
332
он прибавлял: «...опасаюсь, однако, не слишком ли поздно я приступаю к этому; дело ведь почти уже дошло до того, что люди не допускают исправлений в этом отношении, но упорно защищают то, что приняли под видом религии... Всеми силами, однако, постараюсь сделать опыт и доведу его до конца, так как нет оснований считать это дело совершенно безнадежным» *. Р азумеется, при решении этой задачи главным врагом Спинозы, как и всех новаторов и в особенности материалистов, была религия, как христианская, так и иудейская. Впрочем, в сущности все разновидности религии объединяются философом общим именем «суеверия».
Несмотря на все успехи науки, рационалистического истолкования мира в рассматриваемое столетие, несмотря на все поражения религии, защищавшейся перед лицом разума то при помощи сугубого догматизма, то мистицизма, то скептицизма, ее фундаментальная претензия подчинить разум вере, философию теологии, наиболее полно осуществленная в средневековой богословской мысли, оставалась актуальной и в рассматриваемом столетии2. Впрочем, эта претензия, исходящая из самого существа религиозной веры, действительна для всех этапов ее развития, и она отомрет лишь вместе с самой религией. В условиях прогресса научного знания религия, конечно, вынуждена изменять свои методы подчинения разума вере.
В эпоху средневековья едва ли не основным принципом пресловутой формулы «философия — служанка теологии» стал принцип сверхразумности богооткровенных «истин», наиболее последовательно сформулированный Аквинатом и означавший, что во всех случаях конфликта разума и веры решающее слово остается за «священным Писанием». В средневековой еврейской философии этот принцип наиболее полно был выражен Иудой Аль- фахаром, противником Маймонида. Именно его воззрения Спиноза и подвергает критике в пятнадцатой главе «Богословско-политического трактата», решительно выступая против тех, кто «делает разум и философию служанкой богословия» и поэтому «обязан принять предрассудки древней черни за божественные вещи и занять и ослепить ими ум» 3. Однако имя Иуды Альфа- хара является в сущности своего рода псевдонимом, олицетворяющим современных Спинозе кальвинистских,
333
иудейских и других мракобесов, которые «разум — величайший дар и божественный свет — хотят подчинить мертвым буквам»4. Критический прием, применяемый здесь Спинозой, в общем тот же, с каким мы встречались при рассмотрении политических воззрений мыслителя 5.
Точку зрения тех, кто утверждает, «будто естественный свет не имеет силы для толкования Писания» и будто для этого требуется особый «сверхъестественный свет» 6, мыслитель определяет как скептическую в отношении человеческого разума. Поэтому спинозовская критика скептицизма являлась одновременно и критикой «откровения божия», а его страстная борьба за полный и абсолютный суверенитет человеческого разума означала, что его объясняющим принципам должно быть подчинено и само «священное Писание». Несмотря на огромную силу религиозных предрассудков и колоссальный авторитет Библии, успехи научного объяснения мира дали автору «Богословско-политического трактата» возможность вести против нее наступательную борьбу. Только совсем уже отчаявшиеся люди или просто сумасшедшие, говорит Спиноза, могут думать, будто в интересах теологии можно расстаться с разумом и отказаться тем самым от наук и искусств7. В процессе борьбы против подобного мракобесия философ неоднократно иронизирует в связи с тем, что даже разночтения и все случайности написания текста различных книг Библии изображаются ее ревнивыми истолкователями как «знаки глубочайших тайп». Мистический сверхдогматизм подобного «истолкования» доводится до абсурда теми «болтунами-каббалистами»8, о которых шла речь выше. О спинозовском освещении Библии Лукас писал, что «он открыл всему миру то, что хотели держать скрытым. Он нашел Ключ к Храму (под этим названием «Богословско-политический трактат» был переведен на французский язык. — В. С.), в то время как до него здесь видели только суетные тайны»9.
Решительно отвергая всякие поползновения теологии установить контроль над философией, стремясь к тому, чтобы последняя полностью освободилась «от всякого суеверия», Спиноза развивает концепцию «двух истин», именно того варианта, который был весьма рас
334
пространен в рассматриваемое столетие и согласно которому богословие и философия, имея различный предмет своих интересов, не могут находиться в противоречии друг с другом. Поскольку цель философии— только истина, а религии — только «повиновение и благочестие», «между верой, или богословием, и философией нет никакой связи или никакого родства» 10. Полное разделение философии и теологии1 автор «Богословско- политического трактата» в самом конце его четырнадцатой главы объявляет даже главной целью всего этого произведения, формулируя ее во многих местах. Но, выступая, таким образом, наиболее последовательным поборником разделения богословия и философии, Спиноза уже в силу самой этой последовательности преодолевает концепцию «двух истин», поскольку теология, при всем ограничении ее положений моральной сферой человеческой жизни, претендовала и на истинность этих положений по отношению к самой природе.
Дело также в том, что теория предметного разделения богословия и философии в сущности никогда не проводилась последовательно; Д аже прогрессивные мыслители рассматриваемого столетия, стремившиеся поставить положения теологии под контроль философии, доказывали, что между разумом и правильно истолкованным откровением, зафиксированным в Библии, не может быть противоречия. В первой главе работы мы показали, сколь многочисленны были попытки, предпринимавшиеся не только философами, но и теологами, согласовать факты и мифы Писания с требованиями естественного и научно-философского разума. Подобные попытки имели место еще в эпоху средневековья, когда развитие научно-философского знания, вернее даже возобновление философских принципов античности, выявляло многочисленные противоречия между требова-. ниями разума и положениями веры.
Крупнейший представитель еврейской схоластическо-теологической мысли Моисей Маймонид предпринял наиболее широкую попытку согласовать содержание «священного Писания» с запросами философствующего разума. Сущность решения им этой центральной проблемы средневековой философии, развитой в «Морэ Небухнм», сводилась к тому, что содержание Писания с его примитивным языком непосредственно рассчитано
335
на слабую понятливость подавляющего большинства народа, что Писание ничего не сообщает ему ни о сущности сотворенного богом мира, ни о свойствах самого бога, но убеждает только в его существовании и укрепляет в добродетели послушания, на которой и основывается вся нравственность простого народа. Но, кроме непосредственного смысла, Писание заключает в себе более глубокий, «тайный» смысл, якобы доступный только немногочисленным представителям умственной аристократии. Этот скрытый смысл становится доступным философам-мудрецам в результате длительного и широкого изучения светских наук, и, таким образом, содержание Писания может быть вполне согласовано с выводами философствующего разума. Способом такого согласования — и не только у Маймонида, но и у многих других представителей средневековой мысли — стало метафорическо-аллегорическое, символическое истолкование Библии, выявление многозначности содержащихся в ней фактов и мифов, видений пророков и т. п. При такой интерпретации библейского материала, которая стремилась к согласованию его с философским мышлением, стали неизбежны всякого рода формалистические ухищрения.
Иудаистские истолкователи спинозизма стремятся представить автора «Богословско-политического трактата», решительно отделяющего богословие от философии, продолжателем идей Маймонида п. Но подобные попытки безусловно несостоятельны. Отвергая многочисленные поползновения теологов подчинить разум «мертвым буквам» Писания, Спиноза не менее решительно отбрасывает и попытки Маймонида — а тем самым и многочисленные попытки своих современников из картезианского лагеря — приспособить Библию к разуму. «Мы безусловно заключаем, — подчеркивает философ, — что не должно приспосабливать ни Писание к разуму, нн разум к Писанию» 12. Основную идею Маймонида — исправить Писание разумом — автор «Богословско-политического трактата» отвергает как «вредную, бесполезную и нелепую» 13. В противоположность автору «Руководства колеблющихся» Спиноза изгонял из Писания всякое содержание, которое могло бы подвергнуться философской интерпретации. В одном из своих ответов святоше Блейенбергу философ откровен
336
но написал: «Я открыто и без всяких обиняков заявляю, что я не понимаю Священного Писания, несмотря на то, что я употребил несколько лет на его изучение» 14. Никаких «тайн», никаких истин, объясняющих сущность самого мира, доказывает Спиноза, Библия совершенно не содержит, ибо она «содержит не возвышенные умозрения и не философские вопросы, но вещи только самые простые, которые могут быть восприняты каким угодно тупицей». Истолкование Библии Маймо- нидом и другими мыслителями не вносят в нее «ничего, кроме измышлений Аристотеля и Платона, или другого, подобного им философа» 15. Демонстрируя и здесь резко отрицательное отношение к аристотелевско-платоновскому кругу идей, а тем самым и к схоластическому философствованию, нидерландский мыслитель полностью "лишает Библию какого бы то ни было значения в деле познания мира. Один только разум, полностью и без остатка «подчинил себе царство истины» 16 и поэтому категории истины и лжи совершенно не могут быть связаны с откровением, с Писанием. Истина едина и источник ее — только человеческий разум.
Лишение Писания какой бы то ни было значимости в познании природы, фактически означавшее конец концепции «двух истин», привело Спинозу к пересмотру и переоценке деятельности пророков. Если Маймонид считал, что пророки во всем согласны между собой, и рассматривал их как величайших богословов и философов, делавших заключения на основании истинности предмета, то по убеждению Спинозы превращение пророков в философов приписывает им «многое, о чем они и во сне не думали» 17, и превратно истолковывает их мысли. Уже в первой и особенно во второй главе «Богословско-политического трактата» его автор лишает научно-философской значимости пророческие видения и предсказания. Он не ставит под сомнение самих фактов, сообщаемых в Ветхом завете, но лишает их познавательного значения на основании того, что чисто интеллектуальный, нечувственный критерий истины, вне которого нет научно-философского познания, был недоступен пророкам. Достоверность сообщаемых ими фактов, многократно указывается в «Трактате», носит не математический, не научный, а только моральный характер, рассчитанный на поучение простого народа, ко
337
торый всегда был удален от философии, от истины. Способность к пророчеству не привела к адекватному пониманию природы ни одного пророка, заявляет Спиноза, ибо тот род познания, которым руководствовались пророки, был полностью связан с воображением, основывавшимся на словах и образах 18. Отсюда смутность и противоречивость пророческих знамений, относящихся, например, к самому богу. Исайя видел бога одетым и сидящим на троне, Иезекииль — в виде огня, а 'Даниил — в виде старца в белой одежде. Пророчества, в которых проявлялось божественное откровение, различались и в зависимости от темперамента самих пророков, и в зависимости от их происхождения, и от множества других причин.
Не отказывая пророкам в «духе, склонном к справедливости и добру», и признавая моральную ценность их деятельности, Спиноза вместе с тем изображает их как людей темных и суеверных, веривших, например, в «астрологические бредни» 1э, очень многого не знавших и непрерывно противоречивших друг другу. Иисус Навин или автор, описавший его историю, думали, что Солнце, движущееся вокруг неподвижной Земли, на не
которое время остановилось; и в этом нет ничего удивительного, ибо воин Иисус был далек от знания астрономии. Поэтому все «чудеса», столь часто описываемые в Библии, должны быть истолкованы как результат только невежества. Между тем всегда находятся люди, говорит Спиноза, имея в виду церковников, которые продолжают выдумывать чудеса, чтобы поражать воображение толпы, не желающей слушать тех, кто «разрабатывает естественные науки»20. Ведь все, о чем рассказывается в Писании, произошло вполне естественным путем, но пророкам и Писанию вообще не свойственно изучать вещи через ближайшие, естественные причины. К тому же, когда люди руководствуются своим представлением, они не столько описывают реальные факты, сколько излагают свои мнения о них21. Следовательно, продолжает философ, если в Писании и существуют «глубочайшие тайны», то они вполне разрешимы для естественного света человеческого ума, который тем самым ставит перед собой задачу его критики.
Таким образом, преодоление концепции «двух истин»,
338
как результат последовательного рационализма Спинозы, приводит мыслителя к распространению критериев «естественного света» на содержание Писания и лишает его тем самым сверхъестественного ореола, каким снабдила его тысячелетняя теологическая традиция. Метод истолкования Писания, по учению Спинозы, в принципе ничем не должен отличаться от метода истолкования природы, присущего научно-философскому познанию; как здесь, так и там следствия должны выводиться из точно установленных причин. Но метод истолкования природы, как это было выяснено в пятой главе, в принципе является методом изложения ее истории; однако у Спинозы он не мог приобрести такого характера в силу той неизбежно метафизической методологии, какой он вынужден был пользоваться, в силу сугубо неисторического понимания природы, присущего его веку. Однако истолкование содержания Писания, менявшегося в ходе истории, с необходимостью привело автора «Богословско-политического трактата» к весьма значительным элементам исторической интерпретации Библии. Так, познание содержания Писания, которое весьма часто говорит о вещах, недоступных естественному свету, о «чудесах», «необыкновенных делах природы», требует понимания состояний сознания истори- ков-пророков и авторов повествований, писавших о них. В противоположность Маймониду и всем другим поборникам аллегорического истолкования Библии, не столько изучавшим ее, сколько вкладывавшим в ее содержание произвольный смысл, в эпоху средневековья обычно заимствованный из платоновско-аристотелевского круга идей, а в эпоху Спинозы — из картезианского, Спиноза многократно подчеркивает, что «все познание Писания должно заимствовать из него одного». Поэтому «общее правило толкования Писания таково: не приписывать Писанию в качестве его учения ничего, чего мы не усмотрели бы самым ясным образом из его истории» 22.
Принципами такого истолкования, обнаруживающими научную прозорливость автора «Богословско-политического трактата», являются: 1) хорошее знание языка, на котором говорили и писали авторы библейских повествований, ибо только в этом случае можно постичь все значения, которые они могли иметь в виду (для истолкования Ветхого, в меньшей степени Нового
339
завета, необходимо было знание древнееврейского языка, с детства хорошо известного Спинозе); 2) систематизация материала каждой книги Библии, отмечающая все двусмысленные темные и противоречивые места и помогающая установить подлинный смысл того или иного места Писания; 3) выяснение обстоятельств и характера жизни автора каждой книги, а также обстоятельств, побудивших его к написанию ее, и того, на кого была рассчитана данная книга и какой оказалась ее судьба впоследствии23. Все эти положения несомненно указывают, что Спиноза обладал даром истори- ка-интерпретатора Библии. Тщательно исследовав текст каждой книги и выявив многие противоречия в них, сопоставив их содержание, привлекая некоторые исторические материалы для оценки этих книг и всего Ветхого завета, автор «Богословско-политического трактата» делал свои выводы как трезвый рационалист, полностью освободившийся от веры в боговдохновенность и непогрешимость Писания.
Результаты этих исследований Спинозы имели колоссальное значение для развития атеистического мировоззрения. Первым из них было доказательство того, что Моисей, которому тысячелетняя иудейско-христианская теологическая традиция приписывала авторство Пятикнижия, древнейшей части Библии, не мог быть его автором. Эти сомнения в авторстве Моисея и божественном происхождении приписываемого ему «закона» высказывались и до Спинозы, например, Дакостой в его предсмертном сочинении 24, еще более категорично Гоббсом в «Левиафане»23. Сходное мнение высказал и Исаак де ла Пейрер в своей книге «Теологическая система по доадамовой гипотезе», вышедшей через четыре года после «Левиафана». Но только Спиноза, хотя он и не сомневался в историческом существовании Моисея, дал убедительное доказательство, опровергающее его авторство. Взяв за исходный пункт туманное высказывание Авраама Ибн Эзры, Спиноза в восьмой главе своего «Трактата» последовательно и остроумно расшифровал его, правильно разгадав мысль Ибн Эзры, не решившегося высказать ее открыто из боязни обвинения в ереси со стороны раввинов, о том, что Моисей
^ не может быть автором Пятикнижия. Автор «Трактата» привел много и своих соображений, подкрепляющих и
340
развивающих эту мысль. Например, о Моисее часто говорится в приписываемых ему книгах в третьем лице, рассказывается о смерти его и о событиях, последовавших за ней, некоторые местности называются не теми именами, которые они имели при его жизни и т. п. «Из всего этого, — заключает Спиноза, — яснее дневного света видно, что* Пятикнижие было написано не Моисеем, но другим, кто жил много веков спустя после него»26. В той же и последующих главах «Трактата» доказано, что и другие книги Ветхого завета написаны не теми лицами, которым приписывается их авторство, и вообще «священные книги были написаны не одним-един- ственным человеком и не для народа одной эпохи, но многими мужами различного таланта и жившими в разные века»27, в общей сложности в течение двух тысяч лет, если не больше.
Сильным ударом по идее боговдохновленности Писания было выявление Спинозой огромного количества противоречий, несообразностей, повторений, пропусков и разночтений в текстах различных книг Ветхого завета. Автор «Трактата» доказывает полную несостоятельность раввинов и других комментаторов Библии в их попытках согласовать все эти многочисленные места, противоречия и неувязки, что приводит только к насилию над языком и здравым смыслом. Гоббс, вдохновлявший Спинозу не только своим четким размежеванием философии и теологии, но, возможно, и своим отрицанием авторства Моисея, сказал, прочитав «Богословско-политический трактат», что Спиноза «пошел значительно дальше его, так как он (Гоббс. — B.C.) не посмел писать так смело»28.
Общественная функция религии и ограниченность спинозовского атеизма
Как было выяснено в первых главах работы, эпоха Спинозы переживала значительный кризис религиозного сознания, с наибольшей остротой ощущавшийся в протестантских странах, в которых реформация обманула чаяния наиболее активных элементов народных масс и многие из них отвернулись от господствующих вероисповеданий, образовав ряд сект. Некоторые новейшие
341
спинозозеды, в особенности Карл Гебхардт, изображающий спинозизм в качестве наиболее адекватной религии современности, сформировавшейся в результате преодоления религиозного кризиса XVII столетия, всячески подчеркивает зависимость спинозизма от мистико-пан- теистической идеологии его коллегиантских друзей29. Конечно, отрицать эту зависимость невозможно, и мы пытались выше определить ее наиболее существенные пункты. Но вместе с тем безусловно невозможно исчерпать ею все содержание спинозизма, усматривая его сущность только в мистико-пантеистической религиозности с более или менее значительными элементами рационализма. В действительности элементы рационализма образуют подлинное существо спинозизма, превращая пантеизм в материализм и атеизм. Здесь проявлялось решающее воздействие научной мысли XVII в. на мировоззрение Спинозы. Прогресс этой мысли наряду с социальными изменениями века привел к проявлению весьма влиятельного антирелигиозного и атеистического вольномыслия в некоторых странах Европы. Спиноза был одним из ведущих идеологов этого атеистического вольномыслия. Вместе с тем он серьезно расходился с теми вольнодумцами-атеистами, которые, отражая мировоззрение праздно-аристократических классов, покидавших историческую арену, весьма часто доводили свой атеизм до аморализма. В общем, те же противоречия, какие мы констатировали при рассмотрении этикосоциологических воззрений нидерландского мыслителя, оказались определяющим и для атеистических.
Кризис господствующей религиозности, понимаемый как кризис моральный, не один раз констатировал в своих произведениях Спиноза. Например, в последнем из них мыслитель глубоко замечает, что хотя религия учит любить ближнего как самого себя, защищая право другого как свое собственное, однако это учение «почти бессильно перед аффектами. Оно сказывается, правда, на смертном одре, когда именно смерть победила самые аффекты и человек лежит беспомощный, или в храме, где люди не занимаются делами; но менее всего проявляется оно на форуме или во дворце, где оно более всего нужно»30. Констатация кризиса официальных вероисповеданий и религиозной нравственности пронизывает и предисловие к «Богословско-политическому342
трактату», где мы, в частности, читаем, что принадлежность к христианскому, иудейскому или даже языческому вероисповеданию проявляется в чисто внешних признаках, обычно связанных с одеждой и посещением соответствующего храма, но никак не в поведении, не в поступках. Формализация религии и церковной деятельности, в условиях которой «храм превратился в театр, где слышны не церковные учителя, а ораторы», привела к тому, что «у всякого негодяя стало являться сильнейшее желание занять должность священнослужителя, любовь к распространению божественной религии переродилась в гнусную алчность и честолюбие... Неудивительно, — продолжает автор, — что от прежней религии ничего не осталось, кроме внешнего культа», а вера превратилась в набор предрассудков, которые, препятствуя каждому использовать в полной мере свой собст
венный разум, «превращают людей из разумных существ в скотов»31.
Сииноза-республиканец и антимонархист в еще большей мере является и антиклерикалом, подметившим тесный союз между монархией и церковью для оглупения и эксплуатации народа. Обычно осторожный и сдержанный, Спиноза в этой связи произносит гневные, горькие, полные глубокого смысла слова: «Высшая тайна монархического правления и величайший его интерес заключаются в том, чтобы держать людей в обмане, а страх, которым они должны быть сдерживаемы, прикрывать громким именем религии, дабы люди сражались за свое порабощение, как за свое благополучие, и считали не постыдным, а в высшей степени почетным не щадить живота и крови ради тщеславия одного какого- нибудь человека»32. Антиклерикализм Спинозы был направлен не только против кальвинистской или иудейской церкви, но и против любой другой, в частности против римско-католической, система правления которой, писал философ в своем ответе Альберту Бургу, прозелиту католицизма, является «политической и для многих весьма выгодной. И я считал бы ее даже наиболее приспособленной к тому, чтобы обманывать народ и сковывать души людей, если бы не существовало на свете магометанской церкви, которая в этом отношении много превосходит католическую»33.
В понимании психологическо-гносеологических кор343
ней религии Спиноза примыкает к древней материалистическо-атеистической традиции, согласно которой «страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, сохраняется и поддерживается», и «все то, что когда-либо почиталось из ложного благочестия, ничего, кроме фантазий и бреда подавленной и робкой души, не представляло» 34. Отождествляя страх перед непонятными и грозными явлениями природы с невежеством и верой в «чудеса», автор «Богословско-политического трактата» в своем критическом исследовании Ветхого завета отмечает сходство религиозных представлений древних евреев с соответствующими представлениями язычников, также относивших к богу все загадочные для них явления природы. «Коль скоро необыкновенные дела природы,— говорится в этой связи, — называются делами божьими, а деревья необыкновенной величины — божьими деревьями, то неудивительно, что в Бытии люди очень сильные и большого роста, несмотря на то, что они, нечестивые грабители и блудодеи, называются сынами божьими»35.
Спиноза как враг всех существующих церквей, являющихся, по его убеждению, рассадниками невежества, суеверия и предрассудков, стал одним из главных предшественников и вдохновителей антиклерикалов и атеистов эпохи французского Просвещения. Однако в силу узости социальной базы передовых философских учений в этом столетии, в силу огромной роли, какую продолжала еще играть религия, сгшнозовский атеизм носит печать незавершенности и компромисса, характерного для XVII столетия. Ограниченность атеизма Спинозы связана прежде всего с тем, что мыслитель распространяет сферу его действия только на сравнительно небольшой круг любителей истины, философов-мудрецов, способных к морально безупречной жизни на основе разума и совершенно не нуждающихся в стимулирующем действии Писания. Иначе обстоит дело с подавляющим большинством народа, с «толпой», руководствующейся в своем поведении пассивными аффектами, с теми, «кто не так богат разумом»36. Здесь вопреки своему рационалистическому убеждению в принципиальном равенстве человеческой природы и способности любого человека к адекватному постижению истины, Спиноза, как социаль
344
ный мыслитеть, остающийся метафизиком и идеалистом, рассматривает неразумие «толпы» как некое неизменное свойство, на которое обрекла человечество сама природа вещей. Поэтому «избавить толпу от суеверия так же невозможно, как и от страха»37.
1Между тем человеческое общежитие, по Спинозе, с необходимостью требует моральных отношений между людьми: как было показано в предшествующей главе, степень развития человеческого общества расценивается автором «Этики» с точки зрения того уровня моральности, какого ему удается достигнуть, какой ему присущ. В деле достижения этого уровня, согласно Спинозе, огромная роль принадлежит Писанию и содержащемуся в нем «божественному откровению». Полностью лишая Библию какой бы то ни было значимости в деле познания природы, автор «Богословско-политического трактата» приписывает ей большую морально-педагогическую роль, роль моральной воспитательницы человеческого рода или по крайней мере его значительной части. И здесь он, конечно, далек от воззрений Гольбаха, Нэ- жона, Марешаля и других французских материалистов- атеистов середины и конца следующего столетия, развенчавших Писание и с точки зрения его морально-вос- питующей функции (и вместе с тем близок Лессингу с его идеей воспитания человеческого рода, ступенями которого являются Ветхий и Новый заветы).
Высокая оценка Спинозой морально-воспитательной функции Библии явилась, вероятно, результатом его близости к сектантскому движению той эпохи, в идеологии которого вопросы морального истолкования Писания играли первостепенную роль. Поскольку цель философии— истина, а цель религии — «повиновение и благочестие»38, «душевная простота и правдивость», не вынуждаемая никакой властью, никаким правом и никаким авторитетом 39, поскольку, подчеркивает Спиноза, «повиноваться могут, безусловно, все, но людей, для которых добродетель стала привычкой только под руководством разума, встречается весьма немного», поэтому «Писание принесло смертным очень большое утешение»40. Конечно, Спиноза не высоко расценивает те средства, с помощью которых достигается добродетель повиновения, послушания и правдивости. Здесь у него, как и в политическом законодательстве, действует за
345
кон вытеснения одних аффектов другими и из взаимодействия дурных аффектов часто рождается благотворный результат. Ни приниженность, ни раскаяние, ни страх не принадлежит к числу активных аффектов, возвышающих человеческую природу, но в реальном человеческом общежитии «они приносят более пользы, чем вреда». Поэтому и ветхозаветные пороки, заботившиеся не о частной пользе, а об общей, проповедовали. именно эти аффекты, наставляя таким образом «толпу» на путь добродетели, научая ее уму-разуму41.
Рассматривая, таким образом, религию в качестве важнейшего фермента, способствующего формированию морального поведения народных масс, считая, что более или менее значительный минимум суеверия и мифологии жизненно необходим для них, Спиноза приходит к противоречию между «теоретическим разумом», разбивающим в прах религиозные догмы и представления, и «практическим разумом», который не в состоянии полностью отказаться от них, к противоречию, вытекающему из существа эксплуататорского общества и являющемуся непреодолимой границей буржуазного атеизма. В интересующем нас столетии это противоречие носило характер откровенного компромисса, особенно цинично выраженного Гоббсом с его проповедью религии, догматы которой целиком определялись бы высшими властями и проглатывались бы верующими без разжевывания, а также Гассенди и либертинами, внешне остававшимися лойяльными по отношению к католической религии, но внутренне полностью освободившимися от всякого уважения к ее догматам, затем Толандом и английскими деистами с их салонным «свободомыслием»42.
У Спинозы указанный компромисс с наибольшей силой проявился в концепции «всеобщей религии» (religio catholica), немногочисленные догматы которой, состав* ляющие базу народной нравственности, должны быть четко отграничены от философии. Определяя веру как «чувствование о боге» (de Deo sentire)43, автор «Богословско-политического трактата» формулирует только несколько догматов этой «всеобщей веры» (fides universalis): существует бог, как высшее и справедливое существо, образец истинной жизни; он всюду присутствует, почитание его должно выражаться только в спра
346
ведливых и добродетельных поступках, особенно в способности «любить ближнего как самого себя», повиновение богу обязывает к преодолению чувственных наслаждений, бог — милосердное существо, он прощает грехи кающимся и т. п.44. В соответствии с этим далеко не все повествования Писания «необходимы толпе, способность которой к ясному и отчетливому пониманию вещей незначительна»; в целях нравственности нужно знать только самые главные истории, те, которые в состоянии пробудить душу простонародья «к послушанию и благоговению»45. Поэтому догматами всеобщей религии являются лишь те, которые не вызывают никакого разномыслия «между честными людьми»46.
Совершенно очевидна связь этих мыслей Спинозы с рассмотренными в первой главе концепциями, которые стремились свести к минимуму догматическое содержание религии, всячески подчеркивая ее моральную значимость. Столь же очевидна и связь этих мыслей с движением за соединение церквей и за полную веротерпимость, ибо признание догматов универсальной веры оставляет за каждым верующим наибольшую свободу мыслить бога так, как ему представляется наиболее истинным. В противоположность Гоббсу, наделявшему верховную власть абсолютным правом конструирования догматики, Спиноза и здесь выступает более последовательным рационалистом. Проекты же нидерландского мыслителя относительно установления «всеобщей религии» при всей неизбежной для них компро- миссности несомненно содержали в себе жало антиклерикализма, нацеленное против бюрократизированных и нетерпимых официальных церквей и вероисповеданий, которые в случае реализации этих проектов в сущности подверглись бы упразднению.
В тесной связи с концепцией всеобщей религии стоят у Спинозы и его взгляды на личность и деятельность Христа. Уклонившись от исследования Нового завета — в условиях рассматриваемого столетия это было более опасно, чем исследование Ветхого завета, вызвавшее бурю негодования среди церковников, — Спиноза еще менее сомневается в историчности существования Христа и апостолов, чем в историчности существования ветхозаветных пророков. В отличие от ветхозаветных пророков, говорит Спиноза, моральная истина открылась
347
Христу не через образы и слова, а непосредственно, адекватно, ибо «Христос был не столько пророком, сколько устами божьими», предписывавшим открывшуюся ему истину в виде законов лишь вследствие невежества и упорства народа47. В противоположность ветхозаветным пророкам, поучения которых были приноровлены только к древнееврейскому народу, нравственные правила Христа имели в виду весь человеческий род. Поэтому упомянутые выше догматы универсальной веры были в сущности те, которым Христос научил своих учеников, а через них и все человечество48. Истолковывая таким образом моральную функцию Евангелия, Спиноза опять выступает как мыслитель, близко стоящий к сектантскому движению, в идеологии которого хрнстологическая проблема была одной из наиболее животрепещущих. Но как мыслитель-рационалист, полностью преодолевший представление о божественном откровении, гаагский Мудрец видел в основоположнике христианства не богочеловека, а просто человека. На вопрос Ольденбурга, как он трактует страдания, смерть и воскресение Христа — буквально или аллегорически 49, Спиноза, столь решительно отвергнувший возможность каких бы то ни было чудес, превосходящих человеческое понимание, ответил, что страдание, смерть и погребение Христа следует понимать буквально,• воскресение же его безусловно аллегорически 50. В ответ на это письмо Ольденбург, некогда увещевавший Спинозу как можно дальше проникнуть в святилище природы, не обращая внимания на вон церковников, выражает твердую веру в догмат воскресения Христа, ибо на этом догмате «держится вся христианская религия и ее истинность, так что, устраняя этот догмат, — писал он Спинозе,— Вы лишаете смысла самую миссию Иисуса Христа и все его небесное учение» 51. Действительно, одно лишь признание историчности Христа и высокая оценка его деятельности как провозвестника и героя новой моральности при отказе от трансцендентной санкции этой деятельности, воплощенной в догмате воскресения, подрывали фундамент всех официальных христианских церковных организаций. И если реакция Ольденбурга на эту идею Спинозы оказалась столь боязливой, если не сказать более, то легко представить, какова была реакция самих церковников.348
В своих проектах аристократической формы государственного устройства Спиноза указывает на то, что патриции должны принадлежать ко всеобщей религии52, а по отношению к остальным вероисповеданиям допускается свобода, которая во всяком случае не распространяется на атеистов. Такая позиция Спинозы, не раз протестовавшего против выдвигаемых против него обвинений в атеизме53, еще более осложняет проблему его атеизма. Конечно, эти протесты мыслителя, на печати которого был выгравирован девиз «саЫе» — «будь осторожен!», — объясняются последовательным проведением им этого девиза, начиная с его первого произведения 54, ибо в рассматриваемое столетие не было более грозного идеологического обвинения, чем обвинение в атеизме. Трагическая судьба Адриана Курбага, ближайшего друга Спинозы, который умер в тюрьме, будучи обвинен в атеизме и подвергнут инквизиторскому допросу, была для мыслителя красноречивым предметным уроком 55. Необходимо также учитывать, что девиз саьНе означал не только стремление к личной безопасности, поскольку речь шла об атеизме. В неменьшей мере этот девиз имел и социальное содержание в условиях тщательного ограничения атеистических воззрений небольшим кругом «любителей истины», в условиях сугубой боязни распространения их среди «толпы», порожденной указанным выше неустранимым противоречием буржуазного атеизма. Эта боязнь достаточно красноречиво выражена в заключительных строках Предисловия к «Богословско-политическому трактату». Когда затем этот трактат был переведен на голландский язык, автор решительно воспротивился его изданию 56.
Однако указанный девиз и в его личном, и в его социальном содержании, девиз, заставлявший мыслителя широко использовать традиционную религиозную терминологию даже в случаях, когда это содержание имело явно атеистический характер, не решает всей сложности спинозовского атеизма. Протесты мыслителя против атеизма связаны также с тем, что в рассматриваемом столетии в понятие атеизма вкладывалось прежде всего моральное содержание. «Ведь атеисты, — писал Спиноза, отвечая на одно из обвинений в- атеизме, — обыкновенно отличаются тем, что превыше вся-
349
кон меры ищут почестей и богатств, каковые я всегда презирал, как это известно всем, кто меня знает»57. К числу такого рода «атеистов» нередко принадлежали полностью деморализованные представители праздноаристократических классов, те «светские люди, которым религия в тягость» и которые полностью отбрасывают Писание лишь для того, чтобы вместе с ним отбросить и всякую мораль58. Чтобы не быть смешанным с ними, Спиноза, столь близкий и к сектантам, а через них, можно сказать, и к народу, решительно отводит многочисленные обвинения в атеизме. Более того, мыслитель, глубоко обосновавший чисто светскую, нерелигиозную мораль, доказавший аморальный характер господствующей религиозности, систематически представляет свое моральное учение как подлинно религиозное. Философ противопоставляет в этой связи религию и суеверие: «Между религией и суеверием (зирегвШю) я признаю главным образом то различие, что суеверие имеет своей основой невежество, а религия — мудрость» 59. Он заверяет читателей «Богословско-полити- ческого трактата», что его воззрения не только не подрывают, но даже укрепляют «истинную религию»60.
Читая все эти высказывания Спинозы, трудно решить, где кончается действие девиза саи!е и где начинается желание мыслителя «освятить» открывшуюся ему истину — особенно в сфере морали — почтенным словом «религия», насчитывающим тысячелетнюю традицию. Если перед лицом этой традиции склонялся даже Фейербах, то в век Спинозы не сделать этого было значительно труднее. Многочисленные интерпретаторы спинозизма в качестве религиозного учения полностью игнорируют роль указанного девиза и стремятся представить «религиозные» заявления философа как единственно аутентичное содержание его доктрины. В споре с ними немаловажно опираться на свидетельства современников Спинозы, в которых обнаруживается ее конкретно-историческая функция. Симон де Врис, один из ближайших друзей Спинозы, еще в начале 1663 г. просил его рассеять некоторые неясности в его учении, «чтобы мы под Вашим руководством могли защищать истину против суеверно-религиозных людей и против христиан и тогда могли бы устоять под натиском хотя бы всего мира»61.350
Упомянутый Адриан Курбаг через несколько лет после этого написал два антиклерикальных и антирелигиозных произведения: «Цветник всех очарований, не приводящий в дурное настроение» и «Свет, проникающий в темные места, чтобы осветить главные пункты теологии» (на голландском языке). В этих произведениях дана острая критика ортодоксальных христианских религий, отвергаются чудеса как противоречащие законам природы, делаются прозрачные намеки на чисто человеческое происхождение книг Ветхого завета, разоблачается епископальная коррупция. Общее мировоззрение Курбага, заключенного в тюрьму по обвинению в ереси, носит следы очевидной зависимости от спинозовской идеи единой субстанции с двумя ее атрибутами. На допросе были сделаны особые усилия выявить ответственность Спинозы и его пантеистического учения, разрушающего «живого бога», за все эти идеи б2.
Не менее показательны и красноречивы свидетельства противников Спинозы. Например, Николай Стеной писал: «Та религия, которую Вы вводите, есть религия тел, а не религия душ, и в любви к ближнему Вы заботитесь о таких действиях, которые необходимы для сохранения индивида и для продолжения рода» 63. Вельтгюйзен, оценивая наиболее общее содержание «Богословско-политического трактата», писал, что его автор «не ограничивает себя рамками воззрений деистов и не желает оставить людям даже и малейших частиц богопочитания», что, подрывая авторитет Писания и ставя его на одну доску с Кораном, Спиноза «разрушает всякий культ и всякую религию», что «прикрытыми и прикрашенными аргументами он проповедует чистый атеизм»64. Эта характеристика соответствует действительной исторической роли спинозизма и его прогрессивному воздействию в последующие века. Если сам Спиноза еще усматривал необходимую связь между моралью и религией, то один из первых его критиков, Пьер Бейль, разрывая эту связь, именно в Спинозе видел один из наиболее убедительных примеров возможности сочетания атеистических воззрений с безупречной моральностью, рассматривая автора «Бого- словско-политического трактата» как «благородного атеиста».
351
IX. СУДЬБЫ СПИНОЗИЗМА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКОЙ БОРЬБЕ
Атеистическое содержание спинозизма, как главный исторический результат этого учения, с наибольшей силой сказалось как в век Спинозы, так и в последующее столетие.
Многочисленные запрещения и «опровержения», яростная полемика, начатая Якобом Томазиусом, профессором философии в Лейпциге и учителем Лейбница, сразу же после выхода «Богословско-политического трактата», продолжалась в течение нескольких десятилетий К В немецких университетах XVII в. установилась своего рода традиция начинать карьеру философа или даже теолога диссертацией, направленной против Спинозы2. Не менее ожесточенная борьба теологов и фнлософов-идеалистов против спинозизма велась и во Франции, не говоря уже о Нидерландах. Важно подчеркнуть, что один из ведущих мотивов антиспино- зианской полемики состоял в «разоблочении» Спинозы как лицемерного атеиста, постоянно пользовавшегося именем бога, чтобы легче обмануть неискушенных в атеизме людей. Так Пьер Пуаре, французский протестантский мистик, перебравшийся в Нидерланды, писал в 1685 г., что нидерландский мыслитель, став «из иудея христианином, из христианина — деистом (в «Богословско-политическом трактате». — В. С.), а из деиста — атеистом» (в «Этике». — В . С.), превратился в конце концов в «мракобеса» и орудие дьявола. Он весьма опасен именно потому, что, боясь публично признать свой атеизм, постоянно прибегает к имени бога, являющегося не более, чем химерой, ибо бог Спинозы представляет собой «груду конечных вещей» как телесных, так и духовных3.352
В своей ненависти к Спинозе-атеисту протестантские и католические теологи выступали единым фронтом. Новейший исследователь влияния идей Спинозы во Франции пишет, что «янсенисты и иезуиты, картезианцы и антикартезианцы, кальвинисты Голландии, лабадисты — все они в полном согласии выступали против Спинозы»4. В XVII—XVIII вв. имя Спинозы для множества теологов и философов-идеалистов становится примерно тем же, чем имя Эпикура было в предшествующие века, но ненависть к нему была еще большей, ибо принципы нидерландского мыслителя разрушали самые основы монотеистической, а следовательно, и христианской религии. Епископ Гюэ, иезуитский критик картезианства, выступавший против разработанного Спинозой чисто светского метода истолкования «священного Писания», писал в своем сочинении «О согласии веры и разума»: «Если бы я его (т. е. Спинозу. — В . С.) встретил, я бы его не пощадил, этого безумного и нечестивого человека, который заслужил того, чтобы быть закованным в кандалы и высеченным розгами» 5.
В этих условиях спинозизм становится синонимом атеизма, своего рода его эталоном. Свидетельством этому может служить известная диссертация, подготовленная под руководством иенского теолога Буддеуса, «О спинозизме до Спинозы» (1701), прослеживающая развитие идей, аналогичных учению автора «Этики», начиная с античности. Лейпцигский профессор теологии Раппольт, утрехтский профессор Гревиус, а затем кильский профессор теологии Христиан Кортгольт, написавший сочинение «О трех великих обманщиках» (1680), рассматривают Спинозу как наиболее опасного из «натуралистов». Именно Кортгольт «перекрестил» Спннозу, предложив заменить его латинизированное имя - ВепесПс^Б (благословенный) на Ма1есПс1и5 (проклятый) 6. Интересно также отметить, что нидерландский теолог Жак Фай, впервые употребивший в своей полемике против Толанда термин «пантеизм» (1709), считал, что пантеизм представляет собой «особую форму атеизма, которую в предшествующем веке Спиноза извлек из ада и из писаний языческих философов»7.
Могучее воздействие атеистических идей спинозизма проявилось и в том влиянии, какое они оказали на дальнейшее развитие антиклерикализма и атеизма в Европе12 2ак. 681 353
в XVII—XVIII вв. И совершенно естественно, что с наибольшей силон оно сказалось во Франции, которая в эту эпоху дала самые высокие образцы антиклерикализма и атеизма. Уже в деятельности* Лукаса и Сент- Глена, переводчика «Богословско-политического трактата» на французский язык, а затем Бейля и многих прогрессивных мыслителей XVIII в. прослеживается возрастающее влияние его идей (в меньшей степени идей «Этики») на развитие французской антицерковнон идеологии. Это влияние проявилось не только во многих произведениях собственно философской мысли. Различные атеистические положения спинозизма нашли себе отклик и у читателей из более низких социальных слоев, в среде «интеллектуального пролетариата», в частности у некоторых врачей, мелких чиновников, рядовых священников вроде Мелье, а также у «философов» с улицы, антицерковная деятельность которых, не оставила никаких печатных следов, но может, как показано в исследовании Верньера, быть косвенно установлена по полицейским архивам 8.
Антиклерикальные устремления деистической мысли тоже находили себе опору в произведениях Спинозы. Патриарх французского антиклерикализма эпохи Просвещения Вольтер, который, подобно Кондильяку, занял резко отрицательную позицию по отношению к ан- тисенсуалистической и весьма туманной, по его убеждению, метафизике автора «Этики», вместе с тем в своей антицерковной полемике многое заимствовал из «Богословско-политического трактата», не называя этого первоисточника. Примерно то же самое делал и Гольбах в своей антихристианской публицистике (конечно, с той существенной разницей, которая отличала «личного врага бога» от великого защитника «естественной религии»). Если Вольтер видел в Спинозе союзника- деиста, не желающего полностью отказаться от религии, то Гольбах доводил свой атеизм до разоблачения антиобщественной и антигуманистической роли всякой религии и любой апелляции к богу, в чем, как уже было замечено, проявилась значительно большая зрелость французского предреволюционного атеизма по сравнению с атеизмом Спинозы и его века. Как показано в книге Верньера, Спинозу читали и так или иначе использовали его идеи не только Вольтер и Гольбах, но
354
и Монтескье, и Дидро, и Руссо, хотя одиозное имя нидерландского атеиста упоминалось ими довольно редко 9.
Более сложна история материалистического содержания спинозизма. Безусловно, монистическое учение Спинозы о субстанции, как причине самой себя, сыграло значительную роль в развитии материалистической мысли в Европе XVII—XVIII вв. Толанд, выступивший в самом начале восемнадцатого столетия со своими «Письмами к Серене», как известно, четвертое и пятое из них посвятил опровержению спинозовского учения о единой субстанции, лишенной атрибута движения и оторванной от мира единичных вещей. Однако эта ан- тиспинозовская полемика Толанда обнаруживает несомненную зависимость от основополагающей идеи спинозовского материализма — идеи о субстанции как причине самой себя, исключающей любое сверхприрод- ное начало. Вместе с тем в этом произведении Толанда отчетливо прослеживается трансформация спинозов- ской субстанции в материю. Это происходит прежде всего благодаря превращению атрибута мышления в положение об универсальной активности материи, выражающейся в непрерывном движении. Движение, которое вместе с покоем составляло в спинозовской интерпретации природы бесконечный модус, становится у Толанда своего рода атрибутом, неотъемлемым свойством по-новому понятой материи 10.
Французский материализм обнаруживает зависимость от идей Спинозы и в положительном и в отрицательном смысле. Под первым из них следует разуметь опять-таки спинозовское положение о субстанции, отождествляемой с природой, как причине самой себя, и неразрывно связанный с этим положением непреклонный детерминизм автора «Этики». Под вторым — преодоление некоторых основополагающих принципов спинозовской метафизики, отталкивание от них, способствовавшее формированию принципов более последовательного материализма. В интерпретации Ламеттри Спиноза— безусловный атеист и материалист, предшественник учения о человеке-машине и.
Однако при выяснении роли спинозизма в становлении французского материализма наибольший интерес представляют некоторые произведения Дидро, особенно12* 355
его статьи «Спиноза» и «Спинозист», помещенные в XV томе «Энциклопедии». Первая из этих статей, посвященная критическому рассмотрению главным образом первой части «Этики» и в значительной степени примыкающая к статье Бейля, носит полемический характер. Стержень полемики Дидро состоит в отвержении спинозовской идеи актуально бесконечной, единой, гомогенной и неделимой субстанции как первичной реальности по отношению к единичным, чувственным вещам. Примыкая к той же номиналистической традиции, которая в свое время столь оплодотворила материалистическую мысль Спинозы, но более последовательно развивая ее, французский материалист выступает против последних элементов «реалистической» традиции в спинозовской метафизике: догматизма онтологического доказательства, смешения логического и реального единства, приписывания абсолютной реальности актуально бесконечному началу. Выступая как ин- дуктивист против рационализма и умозрительности автора «Этики», высказываясь за полную самостоятельность конкретных вещей, Дидро противопоставляет спи- нозовской концепции нераздельной субстанции свое атомистическое понимание природы. Придерживаясь принятых выше терминов, мы должны охарактеризовать здесь позицию французского мыслителя как механистическую интерпретацию природы. Последовательно номиналистическая позиция Дидро приводит его к отрицанию реальности бесконечной субстанции и в аспекте атрибута мышления, к отказу от понятия абсолютного мышления, с необходимостью приводящего Спинозу к признанию бессмертия души, и к пониманию мышления как свойства конкретных, реальных индивидов12. Но все эти расхождения со Спинозой отнюдь не означают полного отвержения принципов нидерландского мыслителя со стороны Дидро. Другая, небольшая заметка Дидро в «Энциклопедии» — «Спинозист» говорит о «современных спинозистах» (Spinozistes modernes) и устанавливает их отличие от прежних спинозистов 13. Совершенно очевидно, что спинозизм был для Дидро синонимом материализма. Однако, не приняв реальности субстанции в ее спинозовском понимании, Дидро подвергает это понятие сенсуализации и фактически заменяет его понятием материи, номиналистически отожде356
ствляемой с совокупностью единичных вещей. Один из важнейших результатов такой замены состоит в трансформации логического (панлогического) гилозоизма Спинозы в сенсуалистический гилозоизм. Стремясь формулировать свои выводы в тесном контакте с опытом, вместо свойства актуального мышления Дидро приписывает материи свойство потенциального ощущения. Здесь, таким образом, выступает весьма существенное отличие французского материализма от материализма Спинозы.
Иное преломление получили идеи Спинозы на немецкой почве. Здесь мы встречаемся с истолкованием спинозизма в духе натуралистического пантеизма, которое мы находим уже в произведениях Штоша, Лау и Эдельмана, сформулировавших на этой основе ряд атеистических идей. К еще более значительным философским результатам привел знаменитый «спор о пантеизме», в фокусе которого стояла философия Спинозы. Спор этот, начатый Лессингом (к тому времени уже умершим) и продолженный Якоби, имел множество последствий для развития классической немецкой философии как материалистической, так и идеалистической. Первая из них была представлена натуралистическим пантеизмом Гер дера и Гёте. Правда, уже известное противопоставление немецким поэтом-философом спино- зовской «Этики» гольбаховской «Системе природы», этой «печальной атеистической полночи», достаточно красноречиво характеризует различие натуралистического пантеизма Гёте и механистического материализма Гольбаха. Органистическая сторона спинозизма, отодвигавшаяся на задний план при механистической его интерпретации, стала у Гердера и Гёте основой истолкования природы. Именно этой стороне спинозизма немецкие мыслители во многом обязаны своей идеей развития природы (а Гердер и идеей развития человеческой истории). Правда, как обычно отмечают историки философии, развитие спинозовских идей Гердером и Гёте в направлении последовательного органицизма явилось результатом сочетания этих идей с рядом существенных черт лейбницевской монадологии 14. Однако более существенна, с нашей точки зрения, органистическая основа, представленная в спинозовской субстанции и ее атрибутах и делающая возможным подоб
357
ного рода сочетание. И, конечно, совершенно не случайным является то обстоятельство, что именно Гердер впервые высказал то динамическое понимание атрибутов спинозовской субстанции, которое, как выше было отмечено, является, с нашей точки зрения, наиболее адекватным их истолкованием. По мысли Гердера, спи- нозовский бог — это некая первосила, а бесконечные атрибуты субстанции — многообразные живые силы, формирующие в неразрывном единстве с материей все бесконечное разнообразие предметов и явлений природы. Правда, в отличие от Спинозы, для Гердера и Гёте процесс такого формирования представляется непрерывным преобразованием этих предметов и явлений, их развитием от низшего к высшему !5.
Наметившееся здесь диалектическое развитие идей Спинозы более последовательно, но на объективно- идеалистической основе проведено Шеллингом и особенно Гегелем, этими неоспинозистами, как называл их Шопенгауер, усматривавший в философской концепции Спинозы противоположность любой форме субъективного идеализма и прежде всего собственному волюнтаризму 16. Гегелевская оценка этой концепции, напротив, очень высока. Согласно этой оценке, Спиноза представляет собой главный пункт новой философии. «Мышление необходимо должно было стать на точку зрения спинозизма. Быть спинозистом, это — существенное начало всякого философствования» 17.
Зависимость философии Гегеля от некоторых принципов онтологии и гносеологии спинозизма совершенно очевидна. Как известно, она подчеркнута Марксом в «Святом семействе» 18. Не входя в сколько-нибудь подробное рассмотрение проблемы Спиноза—Гегель, укажем некоторые принципиальные, на наш взгляд, стороны этой проблемы. Едва ли не важнейшая из них состоит в панлогизме, который именно Гегель доводит до последовательно идеалистической формулировки. Если Дидро, всемерно сближая спинозовскую субстанцию с материей, превращал спинозовский гилозоизм в гилозоизм сенсуалистический, то Гегель делал прямо противоположное. Противопоставляя спинозовскую субстанцию чувственной материи, он превращал ее в сугубо спекулятивное понятие. А вместе с этим спинозовский панлогизм, превратившийся в спекулятивный мир «чи358
стых», самосущих идей, становился базой объективного идеализма. Из других принципов, объединяющих гегельянство со спинозизмом, следует указать на концепцию целостного, охватывающего весь мир знания, а следовательно, и концепцию абсолютной истины как исчерпывающего мирового знания. Спинозовское положение о том, что всякое ограничение предмета является его отрицанием, тоже, несомненно, оказало свое воздействие на формирование гегелевской диалектики. Одним из теоретических источников этой диалектики послужили, по-видимому, и спинозовские мысли о свободе как постигнутой необходимости.
Гегельянское истолкование и освоение спинозизма при всем их идеализме все же оставались в основном рационалистическими и в этом отношении не искажали спинозизма. Искажение спинозизма, предвосхищавшее его интерпретацию в новейшей буржуазной философии, впервые начали немецкие романтики конца XVIII — начала XIX в. — Новалис, Фр. Шлегель, а затем и Шлейермахер. С крайней односторонностью подчеркивая некоторые категории и термины спинозизма, в особенности понятие интуиции, лишенное к тому же своего рационалистического содержания, понятие всеобщего мышления как объективного свойства природы, и в особенности понятие интеллектуальной любви к бесконечному богу, эти мыслители объявляли спинозизм ирра- ционалистическим и мистическим учением, а творца этого учения превращали, как Новалис, в «богопьяного человека» 19, исполненного «религии и святого духа», по утверждению Шлейермахера 20.
Одна из важнейших заслуг Фейербаха в истории философии состоит в том, что он восстановил и, можно сказать, углубил истолкование спинозизма как материалистического и атеистического учения. По убеждению автора «Сущности христианства», «Спиноза есть Моисей для современных вольнодумцев и материалистов» 21, заложивший «первые основы для критики и познания религии и теологии», первый классически сформулировавший «мысль, что нельзя рассматривать мир как следствие или дело рук существа личного, действующего согласно своим намерениям и целям»22. Подчеркнув, таким образом, исторически наиболее значимое содержание спинозизма, немецкий материалист был далек от
359
того, чтобы отождествлять представляемую им форму материализма со спинозовскои. В цитированном выше месте «Основ философии будущего» Фейербах писал, что для антихристианской, антитеологической тенденции «современного человечества» Спиноза .«нашел настоящее философское выражение, во всяком случае для своего времени (курсив мой. — В . С.); он узаконил, он санкционировал эту тенденцию: сам бог— материалист» (поскольку от него неотделим атрибут протяженности). Характеризуя эту исторически необходимую форму спи- нозовского материализма как пантеизм, Фейербах одновременно квалифицирует его как атеизм и материализм. Если «философия Гегеля есть вывернутый наизнанку теологический идеализм», то <гфилософия Спинозы есть теологический материализм» 23, каким для Фейербаха является в сущности всякий пантеизм.
Необходимым признаком теологии является, по Фейербаху, отвлеченность, спекулятивность. Поэтому, пишет он, «Спиноза — настоящий основоположник современной спекулятивной философии. Шеллинг ее восстановил. Гегель ее завершил»24. Основным же спекулятивным понятием в философии Спинозы является понятие бога, приравненное к субстанции-природе. Фейербах считал, что представляемый им антропологический материализм никак не может принять этого отождествления природы с богом, даже понимаемым как безличная субстанция. Если «бог не отдельное, личное, отличное от природы и человека существо, то он совершенно излишнее существо... и употребление слова «бог», с которым связано представление особого, отличного от природы существа, есть вносящее путаницу злоупотребление». «Лозунг истины», кладущий конец такого рода путанице и указывающий водораздел между материализмом и идеализмом, должен гласить: «либо бог, либо природа». Конечно, указывает здесь же немецкий материалист, «тайна, истинный смысл спинозовской философии есть природа»25, но это не та природа, которую признает фейербаховский антропологический материализм. Спинозовская субстанция, отождествляемая с богом, — это спекулятивная, метафизически переряженная природа в ее оторванности от человека, как сказал Маркс. Для того чтобы приблизить природу к человеку, подчеркивал Фейербах, необходимо перестать .име360
новать ее богом, т. е. сверхъестественным, сверхчувственным и тайным существом. Необходимо мыслить природу существом многообразным, совершенно независимым от человеческих мыслей и действий и вместе с тем вполне доступным всем чувствам действительного человека 26. В этой трансформации спинозовской субстанции в природу, истолкованную как объективная реальность, данная прежде всего человеческим чувствам, Фейербах, в общем, следует по тому же пути, на который вступили до него Дидро и другие французские материалисты. Совершенно очевидно, что в своей борьбе против отрыва понятия «природа» от реальных вещей и реальных людей, составляющего, по убеждению Фейербаха, спекулятивный элемент спинозизма, немецкий материалист тоже опирается на принципы номинализма, которые до него использовал Дидро, а еще раньше и сам Спиноза в своих опровержениях схоластического реализма.
Интерес Фейербаха к Спинозе определяется также и тем, что автор «Сущности христианства» видел в авторе «Этики», истолковывавшем человека как частицу природы и освободившем его поведение от трансцендентных факторов, предшественника антропологизма.
Эти же соображения определили и отношение к Спинозе Н. Г. Чернышевского, который высоко ценил нидерландского мыслителя, рассматривал его как единственного предшественника Фейербаха. Чернышевский ставил этого «единственного надежного учителя» выше других мыслителей нового времени, включая Локка, Юма, Канта, Гольбаха, Фихте и Гегеля27.
Сложность и многогранность философского учения Спинозы отразилась в истории буржуазной философии в исключительном разнообразии его интерпретаций. В многочисленных трудах, посвященных этому учению, можно найти множество философских предикатов для характеристики существа спинозизма: рационализм и иррационализм, пантеизм и теизм, натурализм и акос- мизм, монизм и плюрализм, статизм и динамизм, механицизм и витализм, фатализм и отрицание его, интеллектуализм и волюнтаризм и т. п. По утверждению Ду- нина-Борковского, крупнейшего знатока философского творчества Спинозы, в его известной книге «Спиноза по прошествии трехсот лет», уже более ста лет назад в интерпретации спинозизма царил «невообразимый
361
хаос», который не был преодолен и к началу двадцатого столетия28. Субъективизм, разъедающий буржуазную философскую мысль, находит свое выражение в многочисленных — иногда даже взаимоисключающих — интерпретациях этой «невзятой крепости», как однажды было сказано по поводу учения Спинозы29. Как был вынужден признать другой исследователь этого учения, английский философ Леон Роте, при изучении интерпретаций спинозизма в новейшей буржуазной философской литературе мы знакомимся не только и даже не столько с принципами последнего, сколько с состоянием этой философской мысли 30.
Однако в широком потоке этих интерпретаций ясно различимы наиболее характерные течения. Едва ли не наиболее распространенным из них является истолкование спинозизма как религиозного учения, будто бы совершенно непонятого современниками гаагского мудреца, но все более и более проявляющегося с ходом времени. Если, как мы видели, и раньше, в немецкой идеалистической философии конца XVIII — начала XIX в., спинозизм истолковывался как законченно идеалистическое и даже религиозное учение, то такого рода интерпретация многократно усилилась в эпоху «второго возрождения спинозизма»31.
За начало этого возрождения можно условно принять речь известного французского семитолога, историка религии и философа Эрнеста Ренана, произнесенную им в Гааге в 1877 г. в связи с двухсотой годовщиной со дня смерти Спинозы. Эта речь выявила одну из определяющих особенностей идеологии буржуазного общества, вступавшего в империалистическую фазу своей истории, — кризис религиозного сознания как среди широких слоев городского населения, так и среди высших классов, особенно же среди интеллигенции. Ренан выразил в ней глубокую озабоченность господствующих классов состоянием религии в капиталистическом обществе, когда «население больших городов почти повсюду утратило веру в сверхъестественное», безнадежно скомпрометированную и бурным развитием науки, и общим прогрессом жизни. В этих условиях «настойчивость высших классов в безоговорочной поддержке религиозных форм прошлого в глазах необразованных классов может иметь только один эффект— разрушить их авто362
ритет в дни кризиса, когда так важно, чтобы народ ве- рил еще в разум и добродетель кого-нибудь». Исходя из типичного предрассудка буржуазной идеологии — представления о вечности религии как наиболее характерного признака человечества в его отличии от животного мира, ощущая вместе с тем неспособность «удержать других в верованиях, которых мы больше не разделяем», Ренан призывал решительно «перешагнуть через догматизм» господствующих официальных вероисповеданий, давно застывших и все более и более утрачивающих свою притягательную силу. Обветшалой догматике исторических религий французский историк религии и философии и противопоставил спинозизм. Подвергая последний очередному перетолкованию, он доказывал, будто автор «Богословско-политического трактата» отнюдь не подрывал религии, если ее рассматривать не догматически, что суть «религиозной революции», осуществленной Спинозой, якобы состоит лишь в «трансформации формул», в учреждении «естественной религии», не нуждающейся ни в чудесах, ни в догматах, ни в молитве. Ренан даже объявил Спинозу «предшественником либеральных теологов наших дней, показавших, что христианство во всем его блеске можно сохранить и без сверхъестественного»32.
Ренановская интерпретация спинозизма свидетельствует о факте, широко известном из истории общественной мысли конца прошлого и начала настоящего столетия — факте настойчивого богоискательства буржуазной интеллигенции в условиях кризиса традиционных религиозных вероисповеданий и разочарования в них. Учение Спинозы стало одним из главных объектов этого богоискательства. Не случайно, что идейный вдохновитель русского богоискательства Владимир Соловьев в его полемике с неокантианцем Александром Введенским доказывал, что спинозовский пантеизм представляет собой глубоко религиозное явление33.
Попытки истолкования учения Спинозы как религии абсолюта были предприняты в ряде стран. Во Франции вслед за Ренаном с аналогичными идеями выступали Виктор Дельбос и Леон Брюнсвик, в Польше — Игнатий Мыслиикий, не только предложивший план широкой религиозной пропаганды на основе спинозизма среди интеллигенции, но и считавший, что такая же пропаган
363
да возможна среди народных масс, если и не на основе аутентичного спинозизма, который им недоступен, то на основе принципов «естественной религии», сформулированных в 14-й главе «Богословско-политического трактата». По убеждению Мыслицкого, эти принципы открывают возможность создания для масс компромиссной «естественнотеистической» религии, составленной из догматов различных церковных вероисповеданий, перед которыми, таким образом, открывается возможность примирения и даже объединения 34.
Второе возрождение спинозизма как «религии абсолюта» имело наиболее активных своих сторонников в Германии, где в свое время произошло и его «первое возрождение», когда в самом конце XVIII в. Лихтен- берг выступил со своим известным высказыванием о спинозизме как универсальной религии будущего35. В начале XX столетия страстным пропагандистом спинозизма как философии и религии абсолюта в Германии выступал Константин Бруннер (Леопольд Вертхеймер), противопоставлявший Канту и Шопенгауэру тех «духовных» деятелей человечества, которые постигли истину в ее адекватной форме — в форме абсолюта. К числу таких деятелей Бруннер относил Моисея, Христа, Платона, а также мистиков типа Эккарта (включая сюда Рембрандта, Микельанджело, Шекспира, Бетховена). Величайшим из таких деятелей, даже «величайшим из всех людей», глубочайшим из мудрецов, персонифицированной мудростью, олицетворенной истиной, «королем человечества» 36 Бруннер и считал Спинозу.
Другим убежденным сторонником и пропагандистом спинозизма как «экуменической» и «светской» религии, основанной на познании абсолюта, стал в Германии Карл Гебхардт. Он много потрудился в деле издания текстов Спинозы и его окружения, исследовал идейнотеоретические источники его философии, в 20-е годы являлся душой спинозовского общества, штаб которого находился в Гааге. В ряде своих речей и работ Гебхардт проводит ту идею, что судьба, поставив Спинозу (предки которого были марранами, переселившимися сначала из Испании в Португалию, а затем в Нидерланды) между нациями, лишив его родины еще до рождения, сделала мыслителя одним из первых «европей
364
цев». Многие страны Европы — Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Португалия, Польша — внесли свои вклад в формирование идей спинозизма и имеют все основания претендовать на его наследие. Спиноза как «первый европеец и подлинно экуменический человек, наш вождь в движении к новому, объединенному миру, ныне полному ссор и разногласий», вносящий некое общечеловеческое содержание в каждую национальную культуру, создал «подлинно экуменическую философию» 37. Последняя является и религией, ибо создатель ее лучше, чем любой другой из его современников, смог удовлетворить «двойную потребность» своей эпохи — в обновлении религии и в новом обосновании науки, высшая цель которых — блаженство человека, достигаемое в «единении с богом». «Религиозная революция», осуществленная Спинозой, состояла в замене «религии трансцендентного религией имманентного»38.
Тот факт, что спинозизму присуще стремление к объективному познанию, не связанному в своем содержании с особенностями познающего субъекта, представляется Гебхардту особенно ценным в эпоху, которая «устала от субъективизма» — этого выражения «философского кризиса». Наконец, по словам Гёбхардта, только спинозизму как «философской религии» под силу преодолеть «религию материализма, которая наиболее яркое выражение нашла в марксизме»39. Таким образом, субъективизм буржуазной философии эпохи империализма, столь ярко проявляющийся в многообразии интерпретаций спинозизма, может быть преодолен, по Гебхардту, на основе принципов того же спинозизма. Причина возрастающего влияния спинозизма заключена, согласно Гебхардту, в том, что религиозный элемент не отделим в нем от научного. Это влияние прямо пропорционально падению влияния традиционных религий и росту авторитета науки. Спиноза якобы стоит не только между народами и между религиями (поскольку он, порвав с иудаизмом, не примкнул ни к одному официальному религиозному вероисповеданию), но и между временами. Отвечая на вопросы, поставленные XVII столетием, «философ барокко» создал учение, к предчувствию подлинного смысла которого поднялся только следующий, XVIII век (Гебхардт имеет в виду религиозную интерпретацию учения Спи
365
нозы в немецком идеализме. — В. С.), а полное понимание этого смысла, вероятно, восторжествует только в третьем тысячелетии» 40.
Говоря о роли спинозизма в условиях нашей современности, следует подчеркнуть неувядающее значение нерелигиозного обоснования морали, разработанного автором «Этики». Новейшая буржуазная философия и идеология в своей борьбе против материализма и коммунизма отрицает возможность нерелигиозной морали, основывающейся на общечеловеческих нормах и не нуждающейся в апелляции к богу. Многочисленные религиозные переосмысления спинозизма порождены, как мы полагаем, прежде всего настойчивым стремлением буржуазной мысли связать мораль с религией. Этим фактически перечеркивается важнейшее историческое дело Спинозы, решительно разорвавшего такую связь и всесторонне обосновавшего возможность чисто человеческой морали, не нуждающейся ни в какой апелляции к сверхъестественному. Примером этого являются не только труды Гебхардта, но и ряд статей «Праздничного издания», опубликованного в 1933 г. в связи с трехсотлетней годовщиной рождения мыслителя. В числе участников этого издания мы встречаем Гебхардта, Эйнштейна, Фрейда, Ромена Роллана, Арнольда Цвейга. Во втором издании этого сборника, вышедшем в Гааге в 1962 г. и констатирующем «неувядающий интерес к Спинозе также и в наши дни», есть и статья Давида Бен Гуриона. Программа издания сформулирована его редактором Зигфридом Хессингом во введении, озаглавленном «Здравствуй, Спиноза!». Мы читаем здесь, что участники сборника глубоко чтят философа за то, что он, постигнув абсолют, «поверг небесного бога и научил нас искать бога в себе и во всех сторонах неисчерпаемой жизни». Идеи Спинозы зовут его последователей к «этической освободительной войне, самой величественной изо всех войн».
Хотя религия спинозизма объявляется Гебхардтом, Хессингом и некоторыми другими участниками сборника «светской», они с' необходимостью вступают на путь обычной религиозной фетишизации личности и идей великого мыслителя. Поэтому само обращение Хессинга к духу давно умершего мыслителя приобретает характер своего рода молитвы. Автор восклицает: «Освободи366
нас от греха!» Подобно тому, как существует «общность во Христе», больше основанная на любви, чем на познании, должна существовать «общность во Спинозе», основанная на неразрывном единстве знания и любви41.
Во «Введении» к новому изданию сборника, Хессинг усилил религиозно-мистическую интерпретацию спинозизма. Подчеркивая, что «мысли Спинозы — это мысли всего человечества», он видит в этих мыслях вершину мистической традиции, выражающейся в «жажде бытия и бога» и передающейся как историческая эстафета с Востока на Запад.
Сравнение Спинозы с Христом.и другими основоположниками мировых религий — нередкое явление в истории спинозизма. Например, французский философ Анри Сэруя в своей книге о Спинозе писал, что «Иисус и Спиноза — два героя самой чистой святости». Но если легенда о Христе непрерывно подвергается критике, то историческое существование Спинозы никто не подвергает сомнению, к тому же Спиноза более близок нашему времени42.
Правда, понятие «светской религии» довольно неопределенно, содержание, вкладываемое в него, иногда граничит с материалистическим истолкованием мира. Именно таково, по нашему мнению, истолкование спинозизма Эйнштейном, объявившим себя в начале 20-х годов сторонником «бога Спинозы, открывшегося в гармонии всего бытия» и безразличного к судьбам и действиям людей43. В дальнейшем, в книге «Мое мировоззрение» Эйнштейн представил Спинозу одним из главных творцов и героев «космической религиозности», которая должна сменить «моральную религию» (сменившую в свое время «религию страха»). Космическая религиозность, отвергающая антропоморфного бога, характерного для двух упомянутых низших ступеней религиозной жизни, не знает никаких догматов и не признает никакой церкви. Она неразрывно связана с научным истолкованием мира, в частности и в особенности с принципом детерминизма, с идеей естественной необходимости, ибо «кто проникся идеей причинной закономерности всего происходящего, для того идея су- щества, вмешивающегося в ход мирового процесса, совсем невозможна»44. Признаки космической религиозности состоят, согласно Эйнштейну, в глубоком убеж-
367
дении в рациональности мира и в желании познать его, в преданности науке, порождающей огромные усилия мысли, приводящей иногда к эпохальным открытиям и вместе с тем далекой от непосредственных практических потребностей жизни. «Современник не без основания мог бы сказать, — пишет Эйнштейн, — что в наш материалистический век только серьезные научные исследователи — глубоко религиозные люди»45. Если принять также во внимание, что исторически, согласно Эйнштейну, наука и религия — как религия страха, так и моральная религия — всегда выступали как антагонисты, то станет очевидным, что великий ученый употребляет термины «бог» и «религия» лишь в силу тысячелетней традиции, которая, став вследствие своей давности принудительной, связывает, а иногда и смешивает нравственность с религиозностью.
Рассматривая новейшие интерпретации спинозизма, наиболее поразительной следует признать иудаистскую интерпретацию его, которая по количеству книг и статей и активности их авторов соперничает с интерпретацией спинозизма как «религии современности» и «экуменической религии». Хотя учению Спинозы предшествовал решительный разрыв мыслителя с религией иудаизма, уже в XVII—XVIII вв. делались попытки вывести его принципы из Каббалы и других еврейских источников. Но эти попытки приобрели систематическую форму и были распространены не только на источники, но и на содержание спинозизма лишь в связи с изменениями, происшедшими в самом иудаизме в новое время, особенно в связи с ростом сионистского движения в последние десятилетия. В 60—70-х годах прошлого века с обоснованием иудаистского происхождения спинозизма выступил раввин Иоэль, книги которого в развитии иудаистской интерпретации учения Спинозы сыграли примерно такую же роль, какую речь Ренана сыграла в развитии воззрения на него как на «светскую религию».
Определяющей позицией новейших иудаистов по отношению к Спинозе является полная «реабилитация» мыслителя-бунтаря46, вновь принятого в «еврейскую паству» и признанного «братом»47. В последнее время Бен Гурион, виднейший политический лидер сионизма и глава государства Израиль, подтвердил это48. Доказательству иудейской сущности спинозизма посвящены
368
некоторые статьи нз упомянутого выше «Праздничного издания». В одной из них, озаглавленной «Иудейский характер учения Спинозы», Иозеф Клаузнер, в противоположность убеждению Гебхардта и других истолкователей спинозизма в духе «экуменической религии», утверждает, что учение Спинозы «принадлежит не всему человечеству, но прежде всего иудейству». Мыслитель, некогда проклятый и изгнанный из еврейской общины, не раз выражавший свое осуждение этой заскорузлой идеологии, объявляется Клаузнером лучшим выразителем «национального мировоззрения на религиозно-нравственной почве», которое, хотя и менялось в течение веков, однако все же оставалось при этом чем-то единым 49. Автор другой статьи того же сборника, Якоб Клатцкин, в курьезной попытке проникнуть в «иудео-бытие» автора «Этики» уверяет читателя, что в сделанном им древнееврейском переводе главного труда Спинозы многие его мысли стали более выразительными и полноценными, «многие трудности терминологии устранены, многие темные места прояснены», многие кажущиеся противоречия ликвидированы. В целом, всерьез уверяет автор, «можно с полным основанием сказать: хороший еврейский перевод в известном смысле более адекватен, более оригинален, чем латинский оригинал»50. Моральная направленность спинозизма, доказывает другой его исследователь-иудаист» выше упоминавшийся Леон Роте, ведет.свое происхождение от монотеистической религии древнееврейского народа. Практическая мораль и идеал справедливости как некая историческая эстафета были переданы автору «Этики» через древнюю и средневековую литературу51.
Зависимость идей Спинозы от средневековой еврейской философской традиции подчеркнута в двухтомной монографии американского гебраиста и историка философии Гарри Вольфсона. Эта монография — не только типичное произведение пресловутой концепции «филиации идей», по и одно из характерных выражений самой влиятельной тенденции буржуазно-идеалистической философской историографии рассматривать мыслителей нового времени не с точки зрения того нового, что ими внесено в развитие философской мысли под влиянием глубоких исторических изменений, совершавшихся в данную эпоху, и социальных условий, преломившихся
369
в их творчестве, а с точки зрения зависимости от тон или иной историко-философской и идеологической традиции. По Вольфсону, в эпоху Спинозы философские традиции древности, а тем более средневековья были более определяющими, чем новое идейное содержание, порожденное развитием наук. Поэтому спинозизм «вырастал из той самой философии, которую он отбрасывал» 52. Философское учение Спинозы в изображении Вольфсона распадается в сущности на некую сумму древних, средневековых и новых идей, усвоенных мыслителем, причем автор всемерно подчеркивает значение еврейских источников — этого якобы подлинно «материнского начала», особенно в «теологии» Спинозы. В изображении исследователя-иудаиста Бенедикт, формулирующий геометрические пропозиции своей «Этики», постоянно заслоняется Барухом, проговаривающимся в схолиях. «Бенедикт — первый из новых, Барух — последний из средневековых. Предмет нашего спора в том, — пишет Вольфсон, — что мы не можем приобрести полного знания того, что говорит Бенедикт, если мы не знаем того, что прошло сквозь ум Баруха» 53. Поистп- не мертвый хватает живого!
Низведение теоретических источников спинозизма к древней и средневековой литературе приводит иногда к курьезным утверждениям, каково, например, утверждение Брошара-Сэруя о том, что «бог Спинозы — это сильно усовершенствованный Иегова» древнееврейской религии 54. Не менее курьезны, пожалуй, и попытки Даго- берта Рунза вывести принципы спинозовской онтологии и гносеологии из Каббалы 55. Следует отметить в этой связи, что Рунз, весьма активный современный американский автор и издатель, выступает в наши дни как один из самых крайних «присвоителей» спинозизма, стремящийся подчинить его интересам современного иудаизма. Если, утверждает Рунз, следовать не «букве», а «духу» учения Спинозы, то последнее окажется «самым ранним выражением новой идеологии, которая в последние столетия стала базой еврейского реформа- ционного движения» и привела к современному «просвещенному» иудаизму. «Можно сказать, — продолжает Рунз, — что все мысли и слова философии Спинозы дышат духом благочестия иудаизма. Спинозу с полным правом можно назвать самым еврейским370
из всех мыслителей». Изображая, таким образом, мыс- лителя-бунтаря идейным вдохновителем новейшего иудаизма, выступившим якобы только против закостеневшей системы ортодоксально-религиозного ритуала иудаизма, но развивавшим вместе с тем его моральнофилософскую базу, американский философ-иудаист пытается доказать, что Спиноза опередил свое время и потребовалось «более трехсот лет, чтобы народ Книги вернулся к своему блудному сыну»56. Как бы стремясь закрепить эту точку зрения, Бен Гурион в своей недавней статье «Позвольте нам исправить несправедливость» называет Спинозу «первым сионистом в последние три столетия»57.
С иудаистским «переосмыслением» философии Спинозы мы встречаемся и в книге Джозефа Даннера «Барух Спиноза и западная демократия», вышедшей в Нью-Йорке в 1955 г. Американский автор стремится здесь доказать, что Спиноза предвосхитил «либеральный иудаизм наших дней» и вместе с тем сформулировал принципы, «присущие всем великим религиям», прежде всего христианству. Величие философа, которому стольким обязана история атеизма, Даннер видит в том, что тот понял, несмотря на различие породив'ших их цивилизаций, что «иудаизм и христианство едины в их любви к богу и в их вере в человеческое братство»58. Даннер констатирует тем самым трогательное единство иудаизма и христианства. С этих позиций он противопоставляет «западную демократию» «восточному тоталитаризму». Его книга, не имеющая исследовательского характера, — документ холодной войны и идеологии антикоммунизма, в интересах которой здесь эксплуатируется и Спиноза как «родоначальник свободы мысли и свободы слова для всех граждан государства», его учение противопоставляется «восточному тоталитаризму», представляющему собой в изображении Даннера радикальный разрыв с принципами спинозизма59.
Одна из определяющих черт современного фидеизма состоит в попытке максимально сгладить противоположность между верой и разумом, религией и наукой, которую именно Спиноза сформулировал в своем сто* летии как антагонистическую. Тем не менее новейшие буржуазные истолкователи стремятся представить великого рационалиста XVII в. мыслителем, который орга
371
нически объединил науку и религию. В таком объединении и состоит, согласно Брюнсвику, глубочайшая суть спинозизма60. Вольфсон определяет ее как «религию разума», в обоснование которой Спиноза усовершенствовал философскую концепцию Маймонида, устранив элемент откровения, сведя сферу религии к морали и исключив из нее вопросы, связанные с проблемой познания61. Подобно Вольфсону, Даннер усматривает заслугу и Маймонида, и Фомы Аквинского в том, что они дополнили критерий откровения критерием разума, а недостатки — в том, что они, допуская веру лишь в ее исторически особенной форме — христианско-католиче- ской в первом случае и иудейской — во втором, тем самым создали конфликт между верой и разумом, религией и наукой. Достоинство же Спинозы Даннер видит в том, что, обосновав «религию разума», он «навел мост над пропастью между разумом и верой»62.
Проблеме этого «моста» посвящена книга английского автора Рут-Лидии Со «Оправдание метафизики. Этюды по философии Спинозы». Для Со не один Спиноза, но и все «великие творцы систем прошлого были не только философами, но и теологами, как и математиками, физиологами и политическими теоретиками». Теология должна стать наукой дедуктивного, логико- математического типа. Вся разница между математикой и теологией состоит, согласно Со, лишь в том, что первая допускает в качестве исходного понятия пространство, а вторая — бога63. Поэтому математизированная спинозовская метафизика под пером Со становится лучшим обоснованием теологии в качестве «науки».
Фидеистическое переосмысление спинозизма является вместе с тем его переосмыслением в плане иррационализма. Дунин-Борковский, подводя итоги изучения спинозизма к началу текущего столетия, в качестве одного из наиболее обнадеживающих «оазисов» в хаосе его истолкований выделил «преодоление чисто рационалистического истолкования Спинозы в пользу определенно завуалированной стороны его мышления — отречения от рационального в пользу мистического»64. Формулой, наиболее часто употребляемой буржуазными историками философии для выражения якобы иррацио- налистической сути спинозовского рационализма, является формула об «интеллектуальной мистике» автора372
«Этики». Однако последний элемент этой формулы обычно поглощает первый. Это, например, имеет место в книге Рихарда Кронера «Умозрение и откровение в новой философии», где мы, в частности, читаем, что дедуктивно-демонстративный метод Спинозы является в сущности выражением мистицизма: «математическая и дедуктивная видимость прикрывает горячую и страстную любовь к богу», являющуюся «действительным источником и подлинным агентом всех его учений», так что интуиция Спинозы близка к откровению, а его интеллектуализм в целом — к мистике65.
Из сравнительно небольшого числа книг зарубежных авторов о философии Спинозы, отказывающихся от ее религиозного истолкования66, мы остановимся на двух, опубликованных одновременно в 1958 г. Первая из них— книга 'американского философа Льюиса Фейера «Спиноза и происхождение либерализма». Она отличается от большинства других зарубежных спинозо- < ведческих работ тем, что большая часть ее содержания посвящена выяснению социального происхождения и социальной сущности спинозизма. Для Фейера Спиноза не является философом, парящим над социальной борьбой своей эпохи и взирающим на нее sub specie aeterni- tatis, каким философ изображается в большинстве зарубежных работ о нем. Фейер, напротив, подвергнув внимательному рассмотрению все документы, касающиеся личности и окружения философа, привлекая некоторые малоизвестные свидетельства его современников, показал, что нидерландский мыслитель находился в самой гуще идеологической борьбы своего времени — эпохи ожесточенной борьбы кальвиннстско-оранжист- ской и республиканской партии в Нидерландах и английской буржуазной революции. В книге показана несостоятельность иудаистской интерпретации спинозизма, в ней справедливо утверждается, что если бы Спиноза «менее решительно разорвал пуповину, соединяющую его со своим народом, его философия, вероятно, никогда бы не появилась»67. Восстанавливая социальный контекст спинозовских произведений, в первую очередь «Богословско-политического» и «Политического» трактатов, а также «Этики» («геометрические» формулы которой внешне очень тщательно скрывают этот контекст), Фейер выявляет сложную социальную детерми-
373
нацию спинозизма, связанного с влиянием идеологии «коммерческой аристократии» Нидерландов, с одной стороны, и мелкобуржуазных мистических и полуми- стических кругов сектантов, находившихся в пассивной оппозиции к буржуазно-монархическому государству — с другой. Показ порожденного этой различной социальной детерминацией раздвоения этико-политического сознания Спинозы принадлежит, по нашему мнению, к наиболее сильным сторонам исследования Фейера.
Однако анализ собственно философского содержания спинозизма, с каким мы встречаемся в книге Фейера, нельзя признать удовлетворительным. Научное содержание учения Спинозы, доказывающего, что счастье человека достижимо лишь на основе психологического, медицинского и социального знания, американский автор объясняет симпатиями Спинозы как теоретика коммерческой аристократии Нидерландов. Отмечая
• эволюцию его философских воззрений в сторону все более научного понимания действительности, Фейер именно с ней связывает идеи Спинозы в качестве одного из родоначальников либерализма. Вместе с тем он очень широко и довольно неопределенно употребляет термин «научный», и весьма отрицательно относится к «утопической метафизике» Спинозы, нарушающей стройность его «научной системы» 63 и целиком объясняемой воздействием сектантско-мелкобуржуазной идеологии ми- стиков-пантеистов. В центре этой метафизики находится понятие безличного бога, отождествляемого с субстанцией и выходящего за пределы математического описания. Согласно Фейеру, понятие субстанции у Спинозы целиком объясняется непреодоленным им мистическим наследием и не имеет никакого научного содержания 69.
Обнаруженная здесь Фейером позитивистская тенденция по отношению к онтологии и методологии Спинозы осложняется в его книге систематически выраженным стремлением к фрейдистскому истолкованию ряда существенных принципов спинозизма.
Необходимо отметить в этой связи, что в зарубежной спинозоведческой литературе примерно с середины 20-х годов к многочисленным ликам Спинозы, нарисованным за столетия, истекшие после его смерти, прибавился еще один лик — лик Спинозы как предшественника Фрейда.374
Несмотря на то, что сам творец психоанализа, подчеркнувший свое глубокое благоговение перед Спинозой, ни слова не сказал о своей идейной связи с ним 70, многие интерпретаторы спинозизма одну из наиболее глубоких его концепции — концепцию освобождения человека, осознающего свою порабощенность страстям и-подчиняющего их руководству разума, — всемерно сближают с концепцией психоанализа, «терапевтические» последствия которого в их изображении всецело зависят от того, что бессознательные акты, замещаясь осознанными путем преодоления внутренних сопротивлений в душе больного, приводят к излечению его. Такое истолкование спинозовской концепции свободы сильно сужает ее содержание и значение. Кроме того, концепция эта, неразрывно связанная с последовательным рационализмом Спинозы, всемерно сближается с иррационалисти- ческим по своей сути учением Фрейда и отражает, таким образом, тягу к иррационализму буржуазной философии новейшего времени. Например, в книге Стюарта Хемпшира спинозовский conatus почти отождествляется с фрейдистским libido, а в поведении человека, как оно описано в «Этике», всемерно подчеркиваются иррациональные импульсы. Кроме того, по утверждению Хемпшира, «как Спиноза, так и Фрейд представляют моральные проблемы как существенно клинические проблемы»71.
К сближению мыслей Спинозы с психоанализом Фрейда прибегает и Фейер, пытающийся, таким образом, «конкретизировать» свой социальный анализ спинозизма. С позитивистско-фрейдистской точки зрения Фейера* всякая метафизика — «это бедность, растекающаяся в словах». Американский автор многократно выражает свое отвращение к «мазохистской» метафизике Спинозы, утверждая, например, что спинозовское «понятие божественного совершенства — это мазохизм, переведенный на язык метафизики»72. Знаменитая интеллектуальная любовь к богу порождена, согласно Фейеру, половыми переживаниями Спинозы, не знавшего ни родительской, ни женской любви. В этой связи он даже называет его философию «юмором висельника, оформленным в качестве метафизики».73. Это, конечно, весьма простой способ «решения» философской проблематики спинозизма.
375
Много интересных и глубоких идей и в монографии польского философа Лешека Колаковского «Личность и бесконечность. Свобода и антиномии свободы в философии Спинозы». Одна из определяющих особенностей этого исследования — его систематическая направленность против религиозных интерпретаций спинозизма, столь характерных для буржуазного спинозоведения. Нельзя не согласиться с автором, когда он, критикуя такие интерпретации, вскрывает чрезвычайную неопределенность фигурирующего в них термина «религия», употребляемого столь широко, что он теряет всякий научный смысл. Термин «религия» неприменим к спинозизму не только потому, что этот термин имеет адекватный смысл только в применении к институционально организованным доктринам, опирающимся на иррациональные догматы, но и потому, что спинозизму совершенно не свойственна гетерономная мораль, не отделимая от такого рода доктрин74. Воззрениям на спинозизм как на религиозное учение Колаковский систематически противопоставляет в своей монографии атеистический смысл его.
Критика Колаковским религиозных и некоторых других интерпретаций спинозизма раскрывает их методологическую несостоятельность. Она показывает, что подавляющее большинство такого рода интерпретаций исходит из a priori принятого стереотипа, для «определения» которого привлекаются те или иные тексты спинозовских произведений. Подобная методология, применяемая для выяснения как содержания, так и генезиса спинозизма, представляет собой не столько метод исследования, сколько «метод вольных ассоциаций»75, которому автор противопоставляет метод материалистической диалектики. Последний враждебен всякого рода стереотипам, он требует непрерывного и неустанного сопоставления принципов и выводов исследования со всеми без исключения, в особенности наиболее трудными и порой противоположными высказываниями и положениями философа.
Важнейший принцип метода материалистической диалектики в его противоположности методу «филиации идей» Колаковский усматривает в том, что «последние стимулы философских споров лежат в конфликтах классовой природы»76. Диалектическое искусство интерпре376
тации любого философского учения и в особенности столь сложного, как учение Спинозы, состоит, по убеждению автора, в том, чтобы найти исторически оправданные границы изоляции исследуемого материала. При этом необходимо постоянно учитывать классовую детерминацию учения, а также принимать во внимание неизоморфность политических отношений и мировоззренческих принципов, находящихся в бесконечно сложном взаимодействии с многообразными факторами умственной, культурной и моральной жизни своей эпохи, факторами, подвергающимися в силу их относительной самостоятельности процессу непрерывной автономиза- ции. Обоснованность границ изоляции исследуемого материала слагается как из всестороннего учета наиболее существенных социально-экономических, идеологических и философских черт данной эпохи, так и идейно-философских принципов предшествующих эпох, преломившихся в мировоззрении данного мыслителя. Исторически верной характеристики воззрений мыслителя, и в особенности такого, как Спиноза, невозможно также составить и без учета воздействия его идей на после- дуюшие эпохи.
Однако реализация принципов материалистической диалектики автором «Личности и бесконечности» никак не может быть признана удовлетворительной. На понимание этих принципов Колаковским сказались его ревизионистские устремления, не раз критиковавшиеся в нашей печати77. Эти устремления проявились в рассматриваемой книге прежде всего в том, что Колаковский отвергает борьбу материализма против идеализма в в качестве основной закономерности истории философии. Он постоянно исходит из той мысли, что социальная детерминация философских идей для своего проявления вовсе не нуждается в такой борьбе, якобы излишней и мало что объясняющей в развитии философских идей.
Примыкая к «антропологическому», «гуманистическому» истолкованию марксизма, развитому в последние годы в трудах ряда буржуазных и ревизионистских философов, автор «Личности и бесконечности» стремится доказать, что социальная детерминация философских идей свои наиболее эффективные результаты порождает в области морали, что «моральная функция философской деятельности» является «главной непосредственной
377
действующей силой ее развития, а интерпретация философских утверждений как убедительных предпосылок для образования морального сознания и жизненных установок» является «одной из важнейших задач исто-
. рической интерпретации»78. Выражая готовность доказать этот определяющий тезис по отношению ко всей истории философии, он стремится осуществить это доказательство прежде всего по отношению к философии Спинозы, моральная направленность которой совершенно очевидна и многократно подчеркнута во многих исследованиях, ей посвященных.
Эта философская концепция определила как методологию, так и архитектонику исследования Колаков- ского. Оно распадается на ряд глав, последовательно выясняющих дезалиенацию (ликвидацию отчуждения) человека, его освобождение от всех химер средневеково-теологического мировоззрения. Ступенями такой дезалиенации становятся: эмансипация от откровения, приводящая к последовательно рационалистической методологии спинозизма и к познавательной автономии человека, осознающего в лице Спинозы полную суверенность своего разума; эмансипация от бога, составляющая содержание «метафизической автономии» человека, ликвидирующая трансцендентного бога и избавляющая человека от давления фиктивного потустороннего мира. Антропологическая автономия ликвидирует иллюзию индивидуального бессмертия и освобождает его от необходимости подчинять свое повседневное существование невидимому внеприродному будущему, необходимости, составляющей один из принудительных принципов теологического мировоззрения. Как следствие всех этих «освобождений» выступает моральная автономия, разбивающая иллюзорный мир потусторонних ценностей. Именно в ней с наибольшей силой выступает дезалиенация человеческой сущности, а все ценности человеческой жизни выявляются как чисто человеческие и только человеческие продукты, полностью лишающиеся своей трансцендентной тени. Наконец, политическая автономия делает человека единственной целью общественной организации и освобождает общественную жизнь от всех сверхъестественных санкций.
Таким образом, хотя Колаковский и объявляет себя сторонником материалистической диалектики, его фило378
софская позиция приводит к тому, что онтологические проблемы лишаются своей самостоятельной значимости— поскольку он отказывается от их интерпретаций с точки зрения борьбы материализма и идеализма — и выступают лишь в своей «служебной» функции, целиком определяемой их способностью выступать в качестве орудия выработки принципов морали. Социальное содержание последней означает, что онтологические и гносеологические принципы спинозизма непосредственно зависят от социально-классовой основы. Неоднородность этой основы, вскрываемая Колаковским подобно тому, как это сделано Фейером, приводит автора «Личности и бесконечности» к выводу о полной онтологической и гносеологической несогласованности учения Спинозы. Точка зрения субстанции, как целостности мира, идущая из пантеистической традиции и постигаемая интуицией, в сущности совершенно несогласована в этой монографии с точкой зрения модусов, как множественности конкретных вещей, постигаемых чувствами и абстракцией. И первый, и второй аспекты в осмыслении действительности выступают при этом лишь как социально-детерминируемые способы ее рассмотрения, выявляющие не сущность природы, а только сущность самого человека. Первый аспект выражает стремление человека к интеграции с природой, отождествляемой с богом, оно порождено мелкобуржуазно-сектантским разочарованием в жизни. Второй аспект, обязанный своим существованием оптимизму поднимающейся буржуазии, выражает ее стремление к техническому покорению все более и более «гуманизируемой» природы, подчиняющейся эмансипирующемуся человеку. В моральной доктрине спинозизма оба эти аспекта находят свое наиболее конкретное выражение.
Но социальная детерминация, проявляющаяся в области морали, не выступает в книге Колаковского в качестве ее главного стимула, в качестве последнего основания моральной жизни человека. Над меняющейся с течением времен, эпох и стран социальной детерминацией возвышается человек, человеческая сущность, которую Спиноза в своем понятии бога-природы осознал как «не только общественную, но также и космическую», являющуюся фактически «составным элементом бесконечного бытия»79. В постоянном конфликте между ин
379
дивидуальным существованием человека и бесконечностью, являющейся для него «единой отчизной», Спиноза сделал единственную в своем роде 'попытку «преодоления смерти без иллюзии бессмертия», поднимая человека до вершин интеллектуального познания и стирая тем самым границы между жизнью и смертью. Философская ценность спинозизма как теории морали и состоит в присущем ему решении как проблемы смерти, так и проблемы, свободы — этих главных проблем человеческой жизни. Не отношение мышления и бытия, а именно эти проблемы являются главными в философии» которая испокон веков тешит человеческие умы тем или иным — скорее мнимым, чем действительным — решением их80.
Подчеркивая атеистическое содержание спинозизма, Колаковский не считает возможным определить это учение в качестве материалистического, считая его лишь учением, весьма близким к материализму. В своей работе мы старались убедить читателя, что философское учение Спинозы может быть и должно быть определено как материалистическое, имея в виду то широкое понимание материализма, которое отличает марксизм от буржуазной интерпретации материализма, сводящей материализм только к механистической его разновидности.
При материалистическом истолковании спинозизма, укрепившемся в советской философии, необходимо коснуться воззрений Г. В. Плеханова на философию Спинозы, ибо эти воззрения до известной степени послужили исходным пунктом в ее материалистической интерпретации советскими философами.
Философия Спинозы была затронута Плехановым в ряде его работ, написанных в течение почти двух десятилетий81. Немаловажной его заслугой в марксистской истории философии следует признать то, что виднейший теоретик российской социал-демократии выступил с защитой материалистического истолкования спинозизма в эпоху, когда в буржуазной философии решительно возобладала его идеалистическая интерпретация. Он подчеркнул при этом силу материалистической традиции, которая привела в конечном итоге к появлению философии диалектического материализма. И это тем более важно, что одна из первых оценок спинозизма была380
высказана Плехановым в полемике против Бернштейна, который, распространяя ревизионизм и на область философии и подчиняясь буржуазной моде, призывал марксистов «вернуться к Канту» и доказывал, будто исторический материализм вполне сочетается с кантианством. Справедливо подчеркивая, что только материализм является незыблемым философским фундаментом марксизма, Плеханов оставил в тени проблему развития материализма и не понял того основополагающего принципа, что диалектический материализм представляет собой качественно новую ступень этого развития. А это привело Плеханова к известной переоценке спинозовского материализма и к его пресловутой формуле, согласно которой философия марксизма представляет собой только разновидность спинозизма82. С этим связана и не менее известная формула Плеханова о боге как теологическом «привеске» в философии Спинозы, по существу своему совершенно чуждом его системе и представляющем собой остаток якобы непреодоленного Спинозой влияния теологии83. Формула эта закрывала путь к действительно исторической оценке спинозовского материализма, отождествляя его не только с материализмом Дидро и Фейербаха, но и с материализмом Маркса и Энгельса.
Философская система Спинозы привлекала пристальное внимание советских философов уже с начала 20-х годов. Овладение принципами диалектического материализма и выяснение их генезиса в предшествующей истории философии с необходимостью привело многих из них к рассмотрению спинозизма как одного из наиболее значительных ее звеньев. Сложность философского учения, породившего столь различные интерпретации, отразилась и в советской философской литературе в разнообразии интерпретаций84. Например, А. В. Луначарский, отдавая дань своему богостроительскому прошлому, рассматривал спииозовский пантеизм как религиозное учение и именно поэтому предрекал ему «своеобразные возрождения» в будущем85. Л. А. Аксельрод, признававшая материализм только в механистической его разновидности, рассматривала материализм Спинозы как механистический. Поскольку же спинозизм невозможно осмыслить лишь с этой точки зрения, Аксельрод-Ортодокс доказывала, что материа
381
лизм и атеизм Спинозы сочетаются у него с обожествлением царящей в мире фаталистической необходимости, порождающей религиозное чувство, якобы с детства присущее Спинозе86.
Подобная трактовка спинозизма вызвала протест А. М. Деборина и группировавшихся вокруг него фи-
~ лософов (Карев, Луппол, Разумовский, Вайнштейн, Маньковский и др.)* Опираясь в своей защите материализма Спинозы на Плеханова, они усугубили ошибки последнего.
Пресловутый «привесок» превратился у Деборина в «теологический наряд», в «богословскую словесность». Спиноза якобы понимал «неудовлетворительность своей терминологии», но не мог поступить иначе, опасаясь не быть понятым современниками87. Небезынтересно напомнить в этой связи, что аналогичное истолкование Спинозы как сознательного, но лицемерного атеиста было высказано еще в XVII в. Пуаре и другими теологами. Вместе с тем Спиноза превращался Дебориным и его учениками в своего рода диалектического материалиста XVII в., в прямого предшественника марксизма как в общефилософском, так и в социологическом плане88. Одна из типичных ошибок, сделанных Дебориным и повторенных затем в ряде других советских статей о Спинозе, состоит в отождествлении спинозов- ской субстанции с материей. В наших работах при этом обычно утверждается, что, поскольку Спиноза растворяет бога в природе, от него «ничего не остается». Тем самым спинозовская субстанция отождествляется с бесконечной совокупностью единичных вещей, а спинозов- скип материализм сводится только к механистической его разновидности.
Протест советской философской общественности против неоправданного сближения марксизма и спинозизма был сформулирован в статьях М. Б. Митина, П. Ф. Юдина и М. Д. Каммари, опубликованных в 1932 г., а также в ряде других статей. К сожалению, подчеркивая непоследовательность спинозовского материализма, авторы этих статей продолжали говорить о «теологическом привеске», «теологической оболочке», «теологическом костюме». Правда, все это считалось не чем-то внешним «ко всей системе взглядов Спинозы», но вместе с тем вышеуказанные авторы изображали его философию как382
«прямое смешение материализма и теологии»89. Несостоятельность подобного рода утверждении, число которых можно было бы многократно увеличить, совершенно очевидна в свете всего вышеизложенного. Непоследовательность спинозовского материализма отнюдь не может быть мыслима как некая амальгама материалистических принципов и теологических догматов. Следует поэтому говорить не о «теологическом привеске» — это плехановская формула буквально загипнотизировала многих советских философов, — а о пантеистической форме спинозовского материализма, которая не была и не могла быть чем-то внешним к своему содержанию, а органически выражала философскую проблематику той эпохи.
Указывая на недостатки в освещении некоторых сторон философии Спинозы в советской литературе, мы далеки, конечно, от того, чтобы полностью игнорировать положительное содержание этих работ. В действительности подчеркивание материалистического, а иногда и диалектического содержания спинозизма даже при всех его недостатках представляет значительно более плодотворное выявление актуальности спинозизма для нашей современности, чем раздувание его мнимой религиозности и некоторых других элементов, как это делают многие буржуазные философы. Следует указать в этой связи на наиболее ценные, по нашему убеждению, работы советских философов, лишенные упрощенчества и подчеркивающие исторически плодотворное содержание спинозизма. К числу таких работ мы отнесли бы статьи Б. Э. Быховского, В. Ф. Асмуса, В. К. Брушлинского 90.
Исчерпав, таким образом, весь намеченный круг вопросов, мы надеемся, что читатель убедился, что эти вопросы принадлежат не только истории, но и современности. Из проблем, решавшихся Спинозой и сохраняющих наибольшую теоретическую актуальность для нашей современности, следует прежде всего выделить проблему бесконечности, которая в наш космический век выступает уже не только как теоретическая. Эта проблема бесконечности в своем историческом развитии часто ставилась в связь с проблемой так называемого оконеченного мира. Как мы полагаем, развитие физико- математической науки последних десятилетий, основывающейся па теории относительности, выдвигающей, в
383
частности, такие проблемы, как неуниверсальность закона всемирного тяготения, действие которого не распространяется на всю бесконечную вселенную, наводит на мысль о более или менее изолированных друг от друга мирах (включающих целые галактики) и ставит, в общем, ту же проблему бесконечного и оконеченного. В математике и космологии по-новому решается теперь и проблема бесконечного и конечного, имеющая тенденцию превратиться в проблему ограниченного и безграничного. Мы полагаем, далее, что для дальнейшего осмысления категорий диалектического материализма немаловажное значение имеет увязывание проблемы необходимости и случайности с проблемой бесконечного и оконеченного мира, к чему подвел нас в пятой главе анализ онтологических и космологических вопросов спинозизма. С другой стороны, анализ гносеологической и методологической проблематики спинозизма показывает первостепенную важность проблемы бесконечности и для решения теоретико-познавательных вопросов, в частности вопроса об абсолютной и относительной истине.
Из собственно гуманитарной проблематики, особенно характерной для спинозизма, наибольшее значение имеет этическая проблематика, неразрывно связанная с диалектикой необходимости и свободы и имеющая как индивидуальный, так и социальный аспекты. Следует еще раз подчеркнуть большое теоретическое значение спинозовского обоснования морали в ее полной независимости от религии. Доказательство материалистического и атеистического содержания спинозизма в противоположность хору новейших и современных буржуазных философов также сохраняет свою актуальность.
Забота Спинозы о моральном здоровье общества и неизбежное крушение этих упований философа, крушение, обусловленное и самим характером эксплуататорского общества и идеалистической методологией спинозизма в области социологии, становятся особенно понятными в условиях строительства коммунистического, высоко морального общества, которое с благодарностью вспоминает всех прогрессивных мыслителей прошлого, мечтавших об обществе справедливости.
П Р И М Е Ч А Н И Я
К ГЛ А В Е I
1 В этом отношении особенно знаменателен тот факт, что естественнонаучные общества, ставшие национальными центрами организации исследовании природы, создаются . при ближайшем содействии государственной власти и становятся государственными организациями. Именно так возникли Академия опыта во Флоренции (1657), Лондонское королевское общество (1662), Парижская академия наук (1666). Сн. A. Wо 1 f. A History of Science, Technology and Philosophy in the 16-th and 17-th Centuries. London, 1935, p. 8—9.
2 Цит. по кн.: «Всемирная история», т. V. М., 1958, стр. 44.3 Введение к английскому изданию «Развития социализма от
утопии к науке». См. К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Избр. произв., т. II. Госполнтиздат, М., 1948, стр. 97. .
4 Там же, стр. 95.5 См. «Histoire générale des civilisations», t. IV, Les XVI-e et
XVI I-e siècles, par R. Mousnier. Paris, 1956, p. 309.6 К- Ма ркс и Ф. Энгельс . Соч., т. 23, стр. 761. Ср. В. Зом-
барт. Буржуа. М., 1924,'стр. 114: «Быть может Соединенные провинции являются тем местом, где капиталистический дух впервые достиг полного расцвета, где он нашел равномерное по всем направлениям и до тех пор невиданное развитие и где он опять-таки овладел целым народом. В XVII столетии Голландия, бесспорно, вполне образцовая страна капитализма: ей завидуют все другие нации, которые в стремлении к соревнованию с Голландией сами осуществляют величайшие напряжения; она высшая школа всех коммерческих искусств; рассадник мещанских добродетелей».
7 См. К: Маркс и Ф. Энг е ль с. Соч., т. 23, стр. 764.8 \V. Temple. Remarques sur l’Estat des Provinces Unies des
Pais — Bas, faites en Гап 1672. A la Haye, 1674, p. 101.9 См. Э. Б a a ш. История экономического развития Голландии в
XVI—XVII веках. ИЛ, М., 1919, стр. 37—39.10 R. М о u s n i е г. Op. cit., р. 308.11 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стр. 763.
\ЪЧа Зак. 681 385
11 См. W. Temple. Op. cit., p. 124—125. См. также A. Таль* геймер. Соотношение классов и классовой борьбы в Нидерландах при жизни Спинозы. «Вестник Коммунистической академии», XX, 1927, стр. 75 и др.
13 См., напр., сводный труд французского историка философии J. Che va l i e r . Histoire de la Pensée, t. II. Paris, 1956, p. 568. a также R. Al o u s n i e r. Op. cit., pp. 69—70.
14 Ф. Энгельс. Юридический социализм. К. Ма ркс и Ф. Э н- гельс. Соч., т. 21, стр. 496.
15 См. К. Ма р к с и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. II, стр. 95.16 См. А. Пиренн. Нидерландская революция. М., 1937,
стр. 81—82, 107, 146, 148 и др.17 Цит. по кн.: К. О. М e i n s ш a. Spinoza und sein Kreis. Berlin,
1909, S. 107—108.18 C m . W. Tempi e. Op. cit., p. 264.
A. Та л ь г е й м e p. Ук. соч., стр. 46, а также L. Feuer . Spinoza and the Rise of Liberalsm. Boston, 1958, p. 74.
2d «Для голландских купцов и капиталистов в религиозном вопросе с самого начала не было никаких сомнений: для них свобода вероисповедания была тесно связана с понятием свободы торговли». Э. Б а а ш. Ук. соч., стр. 35.
21 В первом издании (1659) эта важнейшая для харакгеристики социально-экономической структуры Нидерландов XVII в. книганазывалась «Толкование к здоровым политическим основоположениям и принципам республик Голландии и Зап. Фрисландии»— Anweizning der heilsame politische Gronden en maximen van de Respublicken van Holland en Westfriesland. Во втором издании (1661) с несколько измененным заглавием, данным в тексте,* принял участие Ян де Витт, вследствие чего эта кни
га . Питера де ла Кура, запрещенная после смерти де Витта в Нидерландах, в 1709 г. появилась во Французском переводе как «Mémoires de Jean de Witt, grand pensionnaire de Holland»,
a Ratisbonne, chez Erasme Kinkius. Кинга эта воспринималась современниками как политический манифест партии де Витта. В книге де ла Кура (указанный французск. пер., стр. 34—35) приведена группировка населения Нидерландов по характеру производственной деятельности (на 1622 г.):
Все население , 2450 000Рыболовство и связанные с ним отрасли 450 000Обработка земли, добыча торфа и рубка леса 200 000Мануфактурное производство и торговля вывозными
товарами 660 000Морской транспорт 250 000Чиновники, офицеры, нищие 230 000Доставка продовольствия выше перечисленным и об-
служивание их 650 000Таким. образом, сельское население Нидерландов составляло
лишь незначительное меньшинство, что резко выделяло тогда эту страну в Европе.
22 Начиная с 1659 г. кальвинистские синоды неустанно метали молнии против различных нидерландских сектантов, против квакеров и социниан, против картезианского обучения в университетах, против медицинских исследований, против произведений
386
Гоббса, а затем и Спинозы. См. Francès Madeline. Spinoza dans les pays néerlandais de la secondxe moitié du XVII siècle. Paris, 1937, p. 30.
23 C m. S. Du n i n - B o r k o ws k i . Der junge de Spinoza. Münster, 1910, S. 520. Ср. так же, S. 606.
24 См. его широкоизвестные слова о разуме как «блуднице дьявола» (М. Lut her . Wider die himmlischen Propheten «Werke», XXIX, S. 241), «величайшем препятствии для веры» (Tischreden von der heiligen Taufe, Werke LIX, 53). «Разум не в состоянии постичь положений веры» (Predigten über etzliche Kapitel des Evangelisten Matthai. Werke XLIV, 158). Эти и другие выдержки из произведений Лютера приведены (в оригинале) в кн. Е. В. Спекторского «Проблема социальной физики в XVII столетии», т. И. Киев, 1917, стр. 206—207.
25 Согласно Кальвину, бог — это «источник всякой мудрости», он «каждого из нас... ведет как бы за >руку», заставляя следовать за ним. См. J. Cal vi n. Institution de la religion chrestien- ne. 1, I. ch. 1,1—2. Paris, 1957, pp. 50—52.
26 К. Ма р к с и Ф. Э н г e л ь с. Соч., т. 7, стр. 361.27 См. «Всемирная история», т. IV, стр. 330.28 Nihil esse credendum quod rationi sit adversum — приведено в кн.:
Zbignew Ogonows k i . Z zagadnien tolerancyi w PolsceXVII wieku. Warszawa, 1958, str. 200.
29 См. Куно Фишер. История новой философии, т. II. СПб 1906, стр. 5—6, а также B o u i l l e r . Histoire de la philosophie cartésienne. Paris, 1868, t. I, ch. XII, pp. 269—271; ch. XIII, pp. 283—291.
30 Philosophia S. Scripturae Interpres. Cm. ' Me i n s m a; Op. cit., S. 344—345.
31 См. К. Ма р к с и Ф. Э н г e л ь с. Соч., т. 23, стр. 89. Бейль в своем «Словаре» писал, что и социнианство, в сущности отвергая откровение и сводя на нет божественный характер Библии, подменяет религию спорами философов и прокладывает тем самым путь деизму. См. P. Bayl e . Dictionnaire historique et critique. Paris, 1820, t. XIII, p. 348.
32 Сам термин «деизм» возник в XVI в. в социнианских кругах. Он встречается у Viret в «Посвящении» ко второй части его «Instruction chrétienne», появившейся в 1564 г. См. A. L а 1 а п- de. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris,1956, p. 213.
33 Как известно, труд Бодена Colloquium heptaplomeres de abditis rerum sublimium arcanis, существовавший в большом количестве рукописных копий, впервые издан лишь в середине X'IX в. Гу- рауером. См. изложение главных идей этого произведения по- русски в работе Орбинского «Английские деисты XVII—XVIII столетий» (Записки Новороссийского университета, т. 3. Одесса, 1868, стр. 44), по-немецки — в известном труде W. D i 11 h e y. Weltanschaung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation. См. W. Di l t hey. Gessamelte Schriften. В. II. Stuttgart — Göttingen, 1960, SS. 147—153.
34 Herbert of Che r bur y . Tractatus de veritate prout distinguitur a revelatione, a verisimilli, a possibili et a falso. Paris, 1624. «De religione gentilium errorumque apud eos causis» было впер
13 Зак. 681 387
вые опубликовано после смерти автора в 1663 г. в Амстердаме, затем там же в 1670 г.
35 Изложение содержания «Об истине» и некоторые выдержки см.О р б и и с к il и. Цнт. соч., стр. 69—73. W. D i 11 h с у. Op. cit., SS. 248—249, 254—255.
36 См. Me r s e nne . Questiones celeberrimae in Genesim cum accurate textus explicatione. In hoc volumine athei et deistae impug- nantur et expugnantur. Paris, 1623. В следующем году Atep- сенн выпустил другую книгу, «L’impieté des Deistes et des plus subtils libertins decouvertée et refutée par raison de theologie et de philosophie». Paris, 1624.
37 C m. P a s c a l . Pensées. C m. L’Oeuvre de Pascal, texte établi et annoté par Jacques Chevalier. Paris, 1936, N 603, p. 1026, см. также p. 1024, где Паскаль, противопоставляя деизм и атеизм, вместе с тем считает, что оба они по сути одинаково удалены от христианской религии. Ср. сходное с этим сближение деизма и атеизма Филиппом ван Лимборхом, современником 'Спинозы и главой арминиан в его соч. «Об истинности христианской религии», отрывок из которого приведен в качестве приложения в кн. Дакосты «О смертности души человеческой и другие произведения». Изд-во АН ССОР, 1958, стр. 132.
38 См. отрывки из кн. Воэция, приведенные в кн. Е. Спекторского «Проблема социальной физики в XVII столетии», т. II, стр. 259. Ср. сходное мнение другого нидерландского теолога Питера ван А\астрихта, объявившего картезианство «гангреной», губительной и для теологии, и для философии. Там же, стр. 265—266.
39 См. там же, стр. 276—277, 283. Кортгольт в своей известной книге «О трех великих обманщиках» ( Kor t hol t . De tribus impostoribus magnis. Kiloni, 1680) обрушивается на Герберта Чербери, этого «князя натуралистов», подрывающего и разрушающего церковь, а также и на двух других «великих обманщиков», Гоббса и Спинозу, доведших натурализм до атеизма. См. там же, стр. 281—285.
К ГЛ А В Е I I
1 Автор термина «пантеист» — известный английский философ Джои Толанд (1705), а термина «пантеизм» — его противник Фай (1709). См. A. L а 1 а n d е. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, 1956/ pp. 732—733, а также R. Ei s l e r . Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Bd. II. Berlin, 1929, S. 375.
2 Аристотель . О душе I, 5, 411 а 5. Аналогичное об Анаксимандре и Анаксимене — Ci cero. De leg., 10, 15; Aetios, I, 7, И—13.
3 Наиболее отчетливо сформулирована Платоном в «Тимее» ЗОД и Аристотелем в «Физике» VIII, 2, 252 в 25—26. Ср. также Арис т оте ль . О душе, III, 8, 431а 20.
4 См. Арист отель . А1етафизика, 1, 5, 986 в 18. Ср. С и м- п л и к и и, Phys., 22, 22 (21 А 31 Diels9).
ъ Cl emens . Stromata, V, 109 (21в 23 Diels8).6 См. Cl emens . Stromata, V, 110, VII, 22 (2lB 15-16 Diels9),
388
Ср. Se x t u s Empi r i c u s . Adversus mathematicos, IX, 193 (21 В II Diels9).
7 A ë t ios. II, 4, II (21 A37 Diels9).8 Согласно Немезню, воздух и огонь — активны, а земля и во
да— пассивны. De natura hominis, 164.9 Согласно Лроклу, стоики основывают единство мира «на суще
ствовании объединяющей силы телесной субстанции». Р г о к-I о s. In Tim. 138 е (I, 456, 12—15 Diehl).
10 Диог е н Ла э рций, VII, 134: «Существуют два принципа мира: активный (то Jtoiorv) и пассивный (то Jtaaxov). Пассивный принцип — это материя, бескачественная сущность, а активный— это действующий в ней разум, или логос, т. е. бог. Последний же, будучи вечным, проникая ее всю, создает каждое в отдельности» (Arnim, I. fr. 85).
11 S е n ес а. De beneficiis, IV, 8 (A rn i m, II, fr. 1024).12 T e г t u 11 i a n. De anima, 44.13 «Для стоиков бог идентичен материи, или скорее он является
качеством, не отделимым от материи, и он движется в материи как семя в детородных органах». Ch a le i di us. In Tim., с. 294 (Arnim, I; fr. 87).
14 Согласно Ипполиту [ Ippol i t us , Philos., 21, I (Arnim, I, fr. 153)], бог — «самое чистое тело». Согласно Оригену, божественный разум представляет собой некую текучую материальную смесь». Orígenes, с. Cels, VI, 7 (Arnim. I, fr. 1051).
15 См. Cicero. De nat. deor., II, 8 (о Зеноне»): «Ничто, лишенное жизни и разума, не в состоянии породить чего-либо одушевленного и обладающего разумом; но мир порождает одушевленные и разумные существа, следовательно, и сам мир одушевлен и обладает разумом».
16 Диоген Лаэрций. VII, 138—139: «Этот ум,. подобно нашей душе, проникает во все части мира, но в одни меньше, а в другие больше. В одних он находится как кости и сухожилия, а в других как управляющий принцип, как ум. Таким же образом он проникает в целый мир, представляющий собой одушевленное живое существо, наделенное разумной душой, выступающей как управляющий принцип». Ci cero. De nat. deor., II, 22, говорит, что Зенон понимал природу, приравниваемую к богу, как «творческий огонь» (ignem artificiosum); аналогичное о Зеноне .сообщает и Стобей, Eel. I, 25, 3.
17 P l u t arch os. De repugn, stoic., 23, (Arnim, II, fr. 976).18P l u t a r c h o s (?). Plac. philos., I, XXVIII, 976. Cp. Seneca .
Quest, natur., II, 35: «Закон судьбы совершает свое право, ничья мольба его не трогает, ни сострадания не сломят его, ни милость. Он идет своим невозвратным путем, предначертанное вытекает из судьбы... цепь событий повинуется вечному вращению судьбы, а первый закон ее—соблюдать решение». Судьба — это «вечное, непрерывное и упорядочивающее движение». The od., VI, 14 (Arnim, II, fr. 916).
19 См. P l u t a r c h o s (?). Plac. philos., I, XXVIII. Cp. Sto- beius . Eel. I, 515 (о Зеноне): «Судьба — это сила, приводящая в движение материю, следовательно, она не отличается от провидения». Диоген Лаэрций, VII, 135 (о Зеноне, Хрнзип- пе и Архедаме): «Бог, ум, судьба, Зевс — одно и то же, обозначаемое многими именами» (Arnim, I, fr. 102).
13* 389
20 Например, согласно Марку Аврелию, VII, 75, все происходящее в природе направлено к той или иной цели. Ci cero. De nat. deor., II, 24: «Правильно говорит Хризипп, что подобно тому как чехол предназначен для щита, а ножны для меча, так и все вещи за исключением (самого) мира созданы друг для друга; например, зерна и фрукты, порождаемые землей, — для зверей, а звери—для людей, например, конь — для езды, вол — для пахоты, собака — для охоты и охраны. Сам человек, отнюдь не являющийся совершенством, но обладающий некоторой частичкой совершенства, создан для созерцания мира и подражания ему (ad mundum contemplandum et imitandum)».
21 См. Диоген Лаэ рций, VII, 140: «Существует только один ограниченный мир сферической формы... Вне этого мира существует неограниченная, бестелесная пустота» (Arnim, III, Anti- pater 43). Ср. также P l u t a r c h o s (?). Plac. philos., II, I: «Стоики утверждали, что существует разница между всем (существующим) и миром, ибо все (то лау) — бесконечность с пустотой, a все (то o^ov) без пустоты — это космос».
22 См. Диоген Лаэ рций, VII, 140: «В мире нет пустоты и мир один; согласие и гармония вещей небесных и земных с необходимостью требуют этого» (Arnim, III, Antipater 43). Марк Аврелий. VII, 9: «Все связано взаимно священным узлом... все согласовано во всеобщий порядок, составляющий гармонию •самого мира». V, 30: «Ум мира стремится к единению, к гармонии вещей. Низшие существа он создал для высших, а высшие объединил друг с другом взаимной связью. Видишь, как он все подчинил и соподчинил, как каждому определил надлежащее ему место, как, наконец, связал высшие существа цепью взаимной гармонии».
22 М а р к А в р е л и й, VII, 9.24 Как пишет Маймонид в своем «Путеводителе колеблющихся»
(гл. 71): «Нет сомнения, что есть предметы, которые одинаково касаются всех трех религий, т. е. иудейской, христианской и мусульманской, каково, например, учение о сотворении мира, от которого зависит также истинность чудес и других учений». Пер. А. И. Рубина. См. приложение в кн.: С. Н. Григорян. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII—XII вв. Изд-во АН СССР, I960, стр. 269.
25 «Евангелие от Иоанна», I, 1—3.26 «Бытие», II, 19—20.27 Августин. О граде божием, XII, '25. См. «Творения блажен
ного Августина», ч. 3. Киев, 1906, стр. 283.28 «De divisione Naturae», III, 25.29 Ibid., II, 2.30 Ibid., I, II.31 Л. Фейербах. Основные положения философии будущего.
Избр. филос. произв., т. I. Госполитиздат, М., 1955, стр. 163.32 «De divisione Nature», I, 76.33 Ibid., Ill, 35.34 Ibid., IV, 10.35 В своем «Введении в теологию» Абеляр одобрительно писал
о Платоне, что афинский философ «правильно судил, что святой дух есть мировая душа, как бы жизнь космоса, так как в божественной доброте в известном смысле все живет и тзк
390
как у бога всеобщая жизнь и ничего смертного...». A b а е 1 а г d. Introductio ad theologiam, I, 17; Al igne. Patr. Lat., 178, col. 1019.
36 Цит. по кн.: Ue be r we g . Grundriss der Geschichte der Philosophie. T. II; Die patriotische und scholastische Philosophie, Aufl. 13. Basel — Stuttgart, 1956, S. 250.
37 Как известно, воззрения Давида до недавнего времени были известны только по свидетельствам резко опровергавших его Альберта Великого и Фомы Аквинского. Сравнительно недавнее обнаружение его рукописей (см. «Revue neoscolastique de philosophie», t. 35, 1933, p. 220), позволяет судить о знакомстве Давида с произведениями Эриугены, Ибн Сины, Ибн Гебироля, с подлинниками соч. Аристотеля и его комментатора Александра Афродизийского.
38 Thomas Aqui nas . Summa theologiae. I, Ч За 8с.39 См. Ue be r we g . Op. cit., SS. 251—252.40 JI. Фейербах. Ук. соч., стр. 154.41 Цит. по кн.: Э. Ренан. Аверроес и аверроизм. Киев, 1903,
стр. 74.42 Великолепное выражение сходной мысли имеется в кн. Л. Ко-
лаковского «Личность и бесконечность»: «Господствующие в Европе христианские религии содержали в своих учениях об отношении бога и мира два элемента,. на строгом соблюдении которых основывались их доктрины: идея. абсолютной зависимости мира от бога и идея абсолютной независимости бога от сотворенного им мира. Прогресс атеистической мысли атаковал религиозные догматы с обоих тех точек зрения: поскольку, с одной стороны, деистические тенденции старались отдалить влияние творца на земные дела, постольку, с другой, существовали настойчивые попытки сконструировать такое понятие бога, чтобы ослабить независимость его существования от мира. Это второе направление в сущности и составляло эволюцию пантеизма. Деизм и пантеизм как два противоположных направления, подрывающих христианскую теологию, в конечном итоге сходились в своих исторических результатах и как coin- cidentia oppositorum встречались в атеизме... Защищаясь перед обвинениями в атеизме, деисты упирали на то, что они четко отличали бога от сотворенной действительности, тогда как пантеисты, наоборот, указывали в подобных ситуациях, что они приписывают великую роль божественному вездесущию в мире». Ko l a k o ws k i Leszek. Jednostka i nieskoñczonosc. Wol- nosc i antynomie wolnosci w filozofii Spinozy. Warszawa, 1958, str. 129—130.
43 Об этом сообщает Аверроес в своем «Разрушении разрушения». См. Ренан. Ук. соч., стр. 63. Здесь же указывается, что Роджер Бэкон знал о существовании этой «Восточной философии» и сч!гтал ее выражением последней мысли Авиценны («Opus Ala jus», p. 46, ed. I ebb.).
44 Там же, стр. 70.45 Пер. А. И. Рубина. См. С. Н. Гор и гор я и. Ук. соч., стр. 275.46 См. там же, стр. 278—280. Следует указать в этой связи, что
аналогия между человеком и Вселенной проводилась рядом средневековых и иудейских философов и до Маймонида. В частности, мы находим эту идею в «Источнике жизни» Ибн Гебиро-
891
ля, оказавшем значительное воздействие на европейскую мысль средневековья и Возрождения. См. H. A. W о 1 f s о n. The Philo- sophy of Spinoza, v. II. Cambrige— Massachusets, 1948, p. 335.
47 C m . Si e ben k . Uber die Entstehung der Termini Natura naturans und Natura naturata, «Archiv für Geschichte der Philosophie», Bd. III, 1890.
48 Арис т оте ль . Метафизика, XI, 10, 1066 в 17.49 Там же, II, 2, 994 в 27.50 Там же, II, 2, 944 в 16 то уар TsXog лерас; eaiiv.51 Thomas А q u i п a s. Summa theologiae, I, q. 7, a2.52 См. H. A. W о 1 f s о n. Cresca’s critique of Aristotle. Problems of
Aristotel’s phisica in jewish and arabic philosophy. Cambrige- Massachusets, 1929. Здесь помещен еврейский текст и английский перевод 25 пропозиций первой книги «Ор Адонан».
53 Николай Ку за некий. Об ученом незнании, II, IX. См. Избр. филос. соч, М., 1937, стр. 92.
54 Там же, I, II, стр. 9.55 Там же, II, III, стр. 66.56 Там же, II, V, стр. 73.57 Там же, I, I, стр. 7.Б8 G. Ca n t o г. Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeits
lehre. Ein math.-philosophischer Versuch in der Lehre des Unendlichen. Leipzig, 1883, S. 43. Цит. по кн.: Б. Выше с л а вце в . Этика Фихте. М., 1914, стр. 175.
59 Николай Куз а нс кий. Об ученом незнании, I, XVI; стр. 31.60 Там же, II, XII, стр. 10061 Там же, I, XXVI, стр. 55, 56.62 Там же, II, XI, стр. 97.63 Там же, II, XII, стр. 100.64 Там же, II, X, стр. 93.65 См. там же, И, II, стр. 119.66 Д. Бруно. Свод метафизических терминов. Цит. по кн.:. «Во
просы религии и атеизма», К з 1. Изд-во АН СССР, М., 1950, стр. 396.
”67 «Бог и природа есть одна и та же материя, одно и то же пространство, одна и та же причина (potentia), равнодействующая повсюду». Iordanus Br un u s. De immenso et innumerabilibus, seu de universo et mundis, lib. I, cap. 9 (com. 9); «Opera Iatine conscripta», t. I. Neapoli, 1879, p. 235.
68 Например, P a t r i t i u s . Nova de universis philosophia, Pan- cosmia, VIII, 92.* -
69 В о d i n. Methodus ad facilem historiarum cognitionem.- Lyon, 1583, p. 322. Цит. отрывок приведен в кн.: Е. Спектор- ский. Проблема социальной физики в XVII столетии. Варшава,1910, стр. 89 (В дальнейшем: Ук. соч.).
70 Д. Бруно. О бесконечности, вселенной и мирах, I. В кн.; Джордано Бруно. Диалоги. Госполитиздат, М., 1949, стр. 316.
71 Цит. по кн. В. С. Р о жи ц ын а. Джордано Бруно и инквизиция. Госполитиздат, М., 1955, стр. 301.
72 Д. Бруно. О причине, начале н едином, II. «Диалоги», стр. 208.73 ,Т. К а м п а н е л л а. Город Солнца. Изд-во АН СССР, М. — Л.,
1947, стр. 103.74 Особенно в четвертом и пятом диалогах «О бесконечности,
вселенной и мирах». См. «Диалоги», стр. 401—402, 433—434.
392
75 Д. Б рун о. О причине, начале и едином, II,. см. «Диалоги», стр. 203, 204.
76 Д. Бруно. О неизмеримом и неисчислимом. См. «Вопросы религии и атеизма», № 1, стр. 396.
77 См..Д. Бруно. О причине, начале и едином, III. «Диалоги», стр. 235.
78 См. К. Ма р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 285.?9 Д. Бруно. О причине, начале и едином, III. «Диалоги»,
стр. 247.80 Там же, стр. 171.81 Д. Бруно. О бесконечности, вселенной и мирах, V. «Диало
ги», стр. 441.82 См. Николай Куз анский. Об ученом незнании, I, XI; Избр.
филос. соч., стр. 23.83 Д. Бруно. О причине, начале и едином. «Диалоги», стр. 285.84 В кн. М. М. Смирина «Народная реформация Томаса Мюнцера
и Великая, крестьянская война в Германии» (Изд-во АН СССР, 1955, стр. 182 н др.) показываются неоплатоновские источпики мистики Эккарта, Таулера, Сеузе и автора «Немецкой теологии», оказавших огромное влияние на Лютера.
85 К-' Ма ркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 7, стр. 370. Несколько дальше (стр. 371) Энгельс пишет, что «религиозная философия Мюнцера приближалась к атеизму».
86 См. ряд выдержек из его произведений в кн. Спекторского. Ук. соч., т. II, стр. 221—224.
87 См. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. VII, стр. 179.88 Von der Heillosigkeit... Berlin, 1537, S. 490. Цит. по ст. В. Г. Л е-
в е и а. Философские воззрения Себастьяна Франка. «Вопросы философии», 1958, Л? 10, стр. 117.
89 Цит. по кн.: L. Feuer . Spinoza and the Rise of Liberalism Boston, 1958, pp. 52, 53.
90 C m. Fr a nc è s . Op. cit., p. 16.91 Цит. no L. Feu e r. Op. cit., p. 54.92 Там же, стр. 269.93 К. Ма ркс и Ф. Энгельс . Соч., т. 7, стр. 370.94 См. К. Каутский. Из истории общественных течений (исто
рия социализма), т. II. «Предтечи новейшего социализма». СПб., 1907, стр. 270, а также стр. 266—267.
Л' ГЛАВЕ I I I1 Впервые едва ли не Уайтхед в своей известной книге «Наука
и современный мир», где мы,: в частности, читаем, что «изображение интеллектуальной жизни европейских народов в течение двух последующих веков' и четверти нашего (книга Уайтхеда вышла первым изданием в 1925 г.) состоит в том, что эти столетня жили за счет того идейного капитала, который подготовлен для них гением семнадцатого столетия», А. N. Wh i t e h e a d . Science and the modern World. New York,. 1947, pp. 57—58. z'
2 См., напр., в изв. труде Martin Gr a b ma n n . Die Geschichte der scholastischen Methode. Berlin, 1957, S. 3 и др. С другой стороны, Уайтхед в цит. выше труде рассматривает- столь высоко оцененную нм науку XVII в. как «насквозь антиинтеллектуали-
393
стическое движение, представляющее собой отказ от непреклонной рациональности средневековой мысли». (См. A. Wh i t e head. Op. cit., p. 12).
3 Гоббс. О теле, I, 8. Избр. соч., М.—Л., 1926, стр. 11. Ср. также Де ка рт . Рассуждение о методе, I; Начала философии, предисловие (письмо к французскому переводчику). Избр. произв. Госполитиздат, М., 1950, стр. 264, 414 и др.
4 См., напр., отождествление философии с рациональным позна* нием у Гоббса «О теле», 1, 2. Избр. соч., стр. 6.
6 К. Ма р к с и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 349.6 «Очерки основных физических идей». Изд-во АН СССР, М.,
1959, стр. 157 и др.7 Гоббс. Левиафан. М., 1936, стр. 42.8 Например, философ указывает в 1—2 главах своего «Мира, или
трактата о свете», что схоластические «субстанциональные формы», «качества» и «силы» — лишь перенесенные вовне и приписанные самим вещам ощущения. См. Декарт . Избр. произв., стр. 175—177.
9 Ряд интересных соображений, связанных с этой проблематикой, читатель может найти в ст. С. Ф. Васильева «К вопросу о происхождении механистического мировоззрения» и других статьях этого автора, объединенных в его сборнике «Из истории научных мировоззрении». М.— Л., 1935.
10 Философ проводит при этом различие между ощущением (рег- ceptio) и чувствованием (sensus), одновременно заявляя, что «всем естественным телам присуща некоторая способность ощущения (vis percipiendi) и даже выбора, вследствие которой они стремятся к дружественному и избегают враждебного». De dignitate et augmentis scientiarum, 1. IV, с. III. The Works of Fr. Bacon, vol. VII, London, 1826, p. 217.
11 См. K. La s s wi t z . Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton. Bd. I. Leipzig, 1926, SS. 497—498.
12 «Democritus reviviscens (1646)». Ibid., SS. 502, 511.13 См. Гоббс. О теле, XXV, 2. «Всякое сопротивление есть им
пульс (conátus), имеющий направление, противоположное направлению импульса движущегося тела, всякое сопротивление есть противодействие». Избр. соч., стр. 116. Ср. также стр. 115. Ср. также «О человеке», XI, I, стр. 180.
14 Например, в «Началах философии» IV, 188, Декарт пишет: «До сих пор я описывал Землю и весь вообще видимый мир наподобие механизма, в котором надлежит рассматривать только очертание и движение». Избр. произв., стр. 627.
15 Boyle. Tractatus de ipsa natura. Genevae, 1688. Выдержка из этого произв. (в оригинале) приведена в кн.: Е. В. Спектор- с к и й. Ук. соч., т. I, стр. 67.
16 См. A. W о 1 f. Op. cit., pp. 668—669 («История жидкого и твердого состояний», § XIX).
17 См. Ei s l e r . Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Bd. I. Berlin, 1927, S. 641.
18 C m . Wolf . Op. cit., p. 665 («Бессмертие души», III, XII, I).19 Г. В. Л e й б и и ц. Монадология, 66—67, ср. также 68—69, ь
кн.: Г. В. Лейбниц. Избр. филос. соч. М., 1908, стр. 357.20 К- М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, стр. 509.21 Parqoy que сесу soit premierement bien resolu:c*est que quand on
394
parle de la providence de Dieu, ce mot ne signifie pas qu’estant oisif au ciel il spéculé ce qui se fait en terre, mais plustot qu’il est comme un patron de navire qui tient le gouvernail pour adresser tous evenements. Ainsi ce mot s’estant tant à sa main qu’à ses yeux, c’est à dire que non seulement il voit, mais aussi ordonne ce qu’il veut estre fait.Ca l vi n. Institution de la Religion chrestienne, 1. I. ch. 4. Paris,1957, p. 226.Об отрицании Кальвином естественных закономерностей см. также F. Bo r ke na u . Der Ubergang vom feudalen zum bürgerli- chen Weltbild. Paris, 1934, SS. 54—63.
22 См. Г a л и л e й. Диалог о двух главнейших системах мира. Изд-во АН СССР, М.—Л., 1948, стр. 31—32.
23 См. Декарт . Мир или трактат о свете, VI. Избр. произв. стр. 195.
24 Там же, VII, стр. 205. «...Dieu n’y fera aucun miracle». D e s c a r tes. Oeuvres, ed. Adam et Tannery, t. XI, p. 48.
25 Cm. Pas ca l . Pensées, texte établie et annoté par Jacques Chevalier, n° 194. Cm. «L’oeuvre de Pascal». Paris, 1936, p. 874.
26 Цит. no W о 1 f. Op. cit., pp. 671, 669.27 Cm. De s c a r t e s . Oeuvres, t. VII, p. 204.
См. В. Ф. Асмус. Декарт. М., Госполитиздат, 1956, стр. 204.28 См. Гоббс. Левиафан. М., 1936, стр. 173. Ср. также гл. XII,
стр. 104 и гл. XXXI — «О царстве бога при посредстве природы», стр. 269.
29 См. Гоббс. О гражданине, XIII, 1, М., 1914, стр. 152,30 См. пятое возражение Гоббса. De s c a r t e s . Oeuvres, VII, p. 180.
Гоббс. Избр. соч., стр. 150.31 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 2, стр. 144.32 Гоббс. Левиафан стр. 273. Ср. почти буквальное выражение
той же мысли в «О гражданине», XV, 14, стр. 190.33 Декарт . Метафизические размышления, VI. Избр. произв.,
стр. 397—598.34 «Космотеорос» по приказанию Петра I переводился на русский
язык. Данная выдержка цитируется с английского перевода, помещенного в кн.: Feue г. Op. cit., р. 235.
35 См. В. Ф. Асмус. Декарт, стр. 290.36 Письмо к Шаню от 6/VI 1647. De s c a r t e s . Oeuvres, t. V, p. 51.37 Ibid., t. VII, p. 113. Ср. Декарт . Начала философии, I, 26—27
и Метафизические размышления, III. Избр. произв. стр. 437— 438, 363, а также письмо к Клерселье от 23/1V 1649. Oeuvres, t. V. p. 356.
-38 Де ка рт . Начала философии, II, 21. Избр. произв., стр. 476.39 У к. выше письмо к Шаню, Oeuvres, t. V, p. 52; N’ayant donc
aucune raison pour prouver et mesme ne pouvant concevoir que le monde ait des bornes, je le nomme indéfini. Mais je ne puis nier pour cela qu’il n’en ait peut-estre quelques-unes qui sont connues de Dieu, bien qu’elles ne soient incompréhensibles: c’est pourquoy je ne dis pas absolument qu’il est infiny.
42 См. Де ка рт . Мир или трактат о свете, VII. Начала философии, II, 36. Избр. произв., стр. 197, 485.
41 К. М а р к с и Ф. Энгельс . Соч., т. 20, стр. 392.42 См. Де ка рт . Избр. произв., стр. 476.
395
43 Это сообщается Адамом в его биографии Декарта. См. Vie de Descartes, Oeuvres, t. XII, p. 139.
44 E. Спекторский в своем труде «Проблема социальной физики вXVII столетии» (т. I, стр. 295) воспроизводит из книги известного картезианца Клауберга (См. К 1 a u b е г g. Lógica vêtus et nova. Amsterodami, 1691, p. 791) д л и н н ы й с п и с о к схоластических «причин», заимствованный, по-видимому, .из книги систематизатора схоластики конца XVI — начала XVII в. Франциска Суа- реца «Disputationes methaphysicae». Среди этих причин мы находим: «бога, творца Адама, называемого причиной особой, всеобщей, адекватной, действующей без содействия другой причины; но мужчина и женщина, порождающие сына, называются
• причинами совместными, частичными, неадекватными». «Отец называется ближайшей причиной сына, как Авраам Исаака, но дед — отдаленная причина внука, как Авраам Иакова», родительница— порождающая причина ребенка, поскольку производит (efficit) вещь (rem), раньше не существовавшую, а кормилица ребенка — сохраняющая причина, поскольку она делает возможным его дальнейшее существование». «Мастер — главная причина строения, поскольку он действует собственным дарованием, но рука и молот — причины инструментальные, поскольку они используются главной причиной и управляются талантом мастера» и т. д.
45 Бэкон. Новый Органон. Л., 1935, стр. 197—198.46 De dignitate et augmentis scientiarum. 1. III, с. IV. См. Works
of Fr. Bacon, vol. VII. London, 1826, p. 177.47 Бэкон. Новый Органон, стр. 198.48 Де ка рт . Начала философии, I, 28. Избр. произв., стр. 438.49 Де ка рт . Метафизические размышления, IV. Избр. произв.,
стр. 374. Ср. Гоббс. О теле, X, 7.50 Де ка рт . Начала философии, III, 3. Избр. произв., стр. 507.51 Ср. Лейб н и ц. Монадология, 69, 79, 90, в кн.: Г. В. Л е й б и и ц.
Избр. филос. соч., стр. 357, 360, 363 и др.52 Это хорошо показано в кн.: Б. Э. Быховский. Философия
Декарта. М.— Л., 1940, стр. 28—33 и др.53 Г о б б с. О теле, IX, 7. Избр. соч., стр. 87.54 Декарт . Начала философии, II, 23. Избр. произв., стр". 476.55 Г о б б с. О теле, IX, I. Избр. соч., стр. 84.56 «Очевидно,— писал Мальбранщ в своем главном труде,— что
все тела, большие и малые, не имеют никакой силы двигаться сами собой... Движущая сила тела,- значит, не находится в движущихся телах, ибо эта движущая сила не что иное, как воля божья... Естественная причина есть не реальная и истинная причина, а причина случайная, определяющая решение творца природы действовать тем или иным образом в том или ином случае». De la Rechéche de la vérité, 1. VI, p. II, ch. III. Oeuvres de Malebranche, t. IV. Paris, 1872, pp. 326—327.
57 Entretiens sur Methaphysique, VII, 7.Oeuvres, t. I. Paris, 1871, p. 153.
58 Cm. P l u t a r c h o s . Placita philosophorum, I, 28; Cicero. De legibus, 1, 7, 22. См. Chevalier J a cque s . Histoire de la pensee, t. I. La pensee antique. Paris, 1955, pp. 433, 716.
59 Cm. Aët ios , II, 83, 2: «Левкипп, Демокрит и Эпикур: (мир) не одушевлен и не управляется провидением, но, будучи обра
396
зован из атомов, он управляется некоторой liêpâ3ÿMi!oii природой». 67А22 Diels9.
60 >См. Лукреций. О природе вещей, I, 586; II, 302; V, 924.61 Lex naturae nihil aliud est. nisi lumen intellectus insitum nobis
a Deo, per quod cognoscimus, quid agendum et quid vitandum Summa theologioe. Цитата приведена в словаре Eisler, В. I, S. 541. О понятии закона у Аквината см. также Borkenau. Op. cit., SS. 24—33.
62 См. Bor ke na u . Op. cit., SS. 50—53.63 Де ка рт . Мир, или трактат о свете, VII. Избр. произв., стр. 197
... les regles suivant lesquelles se font ces changements, je les nomme les Loix de la Nature. Oeuvres, t. XI, p. 37. Ср. также «Начало философии», II, 37, Избр. произв., стр. 486.
64 Де ка рт . Рассуждение о методе, V. Избр. произв., стр. 299.65 См. Де ка рт . Начала философии, II, 38—39, стр. 487.66 «Законы в самом широком значении этого слова суть необходи
мые отношения, вытекающие из природы вещей; в этом смысле все, что существует, имеет свои законы: они есть и у божества, и у мира материального, и у существа сверхчеловеческого разума, и у животных, и у человека... Бог относится к миру как создатель и охранитель; он творит по тем же законам, по которым охраняет... Дело творения, кажущееся актом произвола, предполагает ряд правил, столь же неизменных, как рок атеистов. Было бы нелепо думать, что творец мог бы управлять миром и помимо этих правил, так как без них не было бы и самого мира.
Эти правила — неизменно установленные отношения» и т.д. «О духе законов», в кн.: М. Монтескье . Избр. произв. Госполнтиздат, М., 1955, стр. 163.
67 См. Ж. Ф о н с е г р и в. Опыт о свободе воли, ч. I историческая. Киев, 1899, стр. 127—128.
68 См. Августин. О граде божием, V, 18.69 Напр., мы читаем у Кальвина в его «Наставлении в христиан
ской вере»; «Мы называем Предопределением вечный суд божий (conseil éternel de Dieu), посредством которого он определил то, что захочет сделать любой человек. Ибо он не ставит всех в равные условия, но одних предопределяет к вечной жизни, а других к вечному проклятию... именно он предопределяет по своей доброй воле, каково должно быть положение любого народа». Cal vi n. Institution de la Religion chrestienne, 1. III, ch. XXI, 5. Paris, I960, p. 411.
70 См. Ф. Энгельс . Развитие социализма от утопии к науке. Введение к английскому изданию. В кн.: К. Ма р к с и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. II, М., 1948, стр. 94.
71 Г. В. Плеханов . К вопросу о роли личности в истории. Избр. филос. произв., т. II, М., 1956, стр. 302.
72 В письме к Мору (август 1649 г.): Considere materiam sibi libere permissam et nullum aliunde impulsum suscipientem... Oeuvres, t. V. p. 404.
73 Гоббс. Левиафан, стр. 171. Ср. также «Мое мнение о свободе и необходимости», являющееся одним из разделов книги, посвященной полемике с епископом Брамголлом. Избр. соч., стр. 138.
74 Г о б б с. О гражданине, стр. 116.75 Гоббс. Левиафан, стр. 61.
397
76 См. The English works of Th. Hobbes, ed. by Mollesworth, vol. IV, London, 1840, p. 278.
77 Ibid., p. 274.78 Гоббс. Левиафан, стр. 172—173.79 Де ка рт . Избр. филос. произв., стр. 376.80 9-й комментарий ко второй главе первой книги поэмы «О без
мерном и бесчисленном». См. Iordani Bruni . Opera latine conscripta, vol. I, pars I. Neapoli, 1879, p. 243.
81 Iordani Bruni . Opera latine conscripta, vol. III. Florentiae, 1891, p. 41.
82 Письмо от августа 1641 г.: Nec dissimulam me ipsi minus credere quám rationi... Oeuvres, t. Ill, p. 432.
83 Декарт . Правила для руководства ума, IV. Избр. произв., стр. 92.
84 Де ка рт . Рассуждение о методе, I. Там же, стр. 260. Ср. также Предисловие к «Началам философии» (письмо к аббату Пико), стр. 419.
85 Г о б б с. О теле, I, I. Избр. соч., стр. 5.86 Гоббс. Левиафан, гл. V. М., 1936, стр. 62. Ср. также гл. XIII
(нач.) стр. ИЗ и «О гражданине», 1, 3. М., 1914, стр. 22.87 Спиноза . Этика, II, т. 18, схолия. Избр. произв., т. I, стр. 424.88 Декарт . Избр. произв., стр. 328.89 De veritate, prout distinguitur a revelatione, a verisimili, a pos-
sibili et a falso. Ed. tertia, 1656, p. 9. О гносеологическом оптимизме Герберта см. D i 11 h e y. Op. cit., SS. 249—251.
90 Ян Амос Ko мене кии. Великая дидактика, V, 4, 8. СПб., 1893, стр. 28, 30.
91 Декарт . Избр. произв., стр. 80.92 Декарт . Рассуждение о методе, II, стр. 272—273. Ср. также
VI, стр. 307.93 См. Б. Рассел. История западной философии. ИЛ, М., 1959,
стр. 8.94 См. Pascal Pensées, n° 84, Op. cit., pp. 840—847. Некоторые
места этого знаменитого фрагмента паскалевских «Мыслей» весьма близки идеям «Ученого незнания», как например, «эта бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность — нигде» (р. 840); «крайности сходятся и соединяются в боге и только в нем одном» (р. 843).
95 Например, сонеты, помещенные в русск. изд. Бруно «Диалоги», 1949, стр. 168—172, 303.
96 G a s s е n d i.. Opera omnia, t. 6. Luguduni MDCL, YIII, p. 4. Выдержка приведена в кн.: L. К о ! а к о w s к i. Jednostka i niescoñczonosc. Warszawa, 1958, str. 175—176.
97 См., напр., «Метафизические размышления», III, в кн.: Д екарт. Избр. произв., стр. 364—365. Ср. также из письма к Мер- сену от 15.IV 1630: «Величия божия мы понять не можем, хотяо нем и знаем, но именно то, что мы считаем его непостижимым, еще больше заставляет нас почитать его; точно так же возрастет величие короля, когда подданные не знают его слишком близко—лишь бы только они из-за этого ие подумали, что его у них вообще нет, и знали бы его достаточно для того, чтобы не усомниться в его существовании». De s c a r t e s , Oeuvres, t. I, p. 145. Приведено в кн.: Б. Э. Быховский. Философия. Декарта. М.— Л., 1940, стр. 125.
398
Напр., в «Левиафане», Ш: «имя бога употребляется не с тем, чтобы дать нам представление о нем (ибо он непостижим, и его величие и сила непредставляемы), а лишь с тем, чтобы мы почитали его». Русск пер., стр. 50, ср. также XXXI, стр. 274—275, а также «О теле», XXVI, 1. См. Гоббс. .Избр. соч., стр. 129.
99 См. Jean La por t . Le rationalisme de Descartes. Paris, 1945, p. 297.
100 Гоббс. О теле, VI, И. Избр. соч., стр. 57.101 Там же, VI, 10, стр. 56.102 Там же, VI, 7, 4, стр. 53, 50.103 Де ка рт . Правила для руководства ума, IX. Избр. произв.,
стр. 113.104 «Существуют... два метода. Один — это метод для открытия
истины, называемый методом анализа и методом разложения; его можно назвать также методом изобретения. Другой — это метод уяснения другими людьми уже открытых истин. Его называют синтезом или компознтивным методом, его можно назвать и методом обучения». La logique ou l’art de penser, р. IV, ch. II. Paris, 1775, p. 353. Ср. сходные с этим рассуждением Л. Мейера в его предисловии к спииозовским «Основам философии Декарта». См. Спиноза . Избр. произв., т. I. М., 1957, стр. 177.
105 Гоббс. О теле, VII, I. Избр. соч., стр. 66.106 Декарт . Рассуждение о методе, II. Избр. произв., стр. 272.107 Erhardi Wei ge l i . Analysis Aristotélica ex Euclide restituía,
lenae, 1658, p. 12. Приведено у E. С л е к т орс ког о . Ук. соч., т. I, стр. 291.
108 См. Де ка рт . Начала философии. II, 23—30, 37—53 и др.109 К. М а р к с и Ф. Энгельс . Соч., т. 2, стр. 141.110 Де ка рт . Правила для руководства ума, IV. Избр. произв.,
стр. 94.1,1 Там же, стр. 79—81.112 Декарт . Рассуждение о методе. Избр. произв., стр. 265.113 Письмо Мерсену, март 1636. Oeuvres, t. I, р. 339.114 Гоббс. О теле, 1, 2, 3. Избр. соч., стр. 8. Ср. также Левиафан,
стр. 59.115 Idea matheseos universae (1669). О Веигеле см. Е. Спектор-
с к и н. Ук. соч., т. I, стр. 454, а также гл. XI этого труда (стр. 488—563), в конце — соображения относительно возможности влияния Веигеля на Спинозу.
1,6 Universi Corporis pansophici prodromus de gradibus humanae Cognitionis (1672). См. там же, стр. 527.
117 Pansophiae Prodromus et Conatuum Pansophicorum dilucidatio. См. там же, стр. 449.
115 См. выше примеч. 104. Ср. также: «при ведении доказательства мы применяем целиком синтетический метод, а именно мы исходим при этом из элементарных или универсальных суждений, которые сами собой разумеются, а затем последовательно образуя из суждений силлогизмы, продолжаем операцию до тех пор, пока, наконец, обучающийся не убедится в истинности заключения». Гоббс. О теле. VI, 12. Избр. соч., стр. 57.
119 См. «Ответ на вторые возражения»— Rationes Dei existentiam et animae a corpore distinctionem probantes more geométrico dis- positae. Oeuvres, t. VII, pp. 166—170.
120 Любопытные примеры увлечения Лейбница геометрическим ме
399
тодом приведен в 1-м томе труда Е. Спекторского. Ук. соч., стр. 392.
121 См. Е. С п е к т о р с к и и. Ук. соч., т. I, стр. 377.122 См. в этой связи В. Ф. Асмус. Проблема интуиции в фи
лософии и математике (Очерк истории XVII—XX вв.), гл.1. Соц- экгиз, М., 1963.
123 Цит. по L. К о 1 a k о w s к i. Op. cit., str. 33.124 Де ка рт . ¡Правила для руководства ума, II. Избр. произв.,
стр. 83.125 Де к а рт . Рассуждение о методе, VI.* Избр. произв., стр. 306.120 См. К. М а р к с и Ф. Э h г е л ь с. Соч., т. 2, стр. 142.127 Упрощенная и упрощающая антитеза эмпиризма и рационализма
убедительно раскритикована в кн.: Б. Э. Б ы х о в с к и й. Ук. соч., стр. 59—61.
123 Де ка рт . Правила для руководства ума, II. Избр. произв., стр. 81.
129 См. Гоббс. О человеке, X, 4, 5. Избр. соч., стр. 178; см. также «Левиафан», гл. IX, стр. 86.
130 Гоббс. Человеческая природа, IV, 10. Избр. соч., стр. 230.131 Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме. Предисловие.
М. — Л., 1936, стр. 47—48. Ср. также «Монадология», 28—29, Избр. филос. соч., стр. 346.
132 См. Thomas Aqui nas . Contra gentiles, I, 57—58. Ср. также III, 60—61.
133 Де ка рт . Правила для руководства ума, III. Избр. произв., стр. 86—87. Здесь же философ предупреждает, что термин «интуиция», как и другие философские термины, он употребляет в смысле, отличном от того, какой им придается «в школах», т. с. у схоластиков той эпохи.
134 Наиболее характерное в этом отношении определение интуиции дано Бергсоном в его «Введении в метафизику». «Интуицией называется тот род интеллектуальной симпатии, посредством которой переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что единственно и, следовательно, невыразимо» (Цит. по A. L а- l ande . Op. cit., p. 541. Русск. пер. Анри Бергсон. Собр. соч.,
. т. 5, СПб., 1914, стр. 6).135 Предисловие к «Началам философии» (письмо к аббату Пико).
Де ка рт . Избр. произв., стр. 414.136 См. De s c a r t e s . Oeuvres, t. X, pp. 523—524. Согласно Декар
ту, такие понятия, как «сомнение», «мышление», «существование» и некоторые другие не поддаются определениям, попытка же определить их приводит лишь к затемнению этих интуитивно ясных понятии.
137 Интуитивные истины, как первые начала всякого знания, суть «простые идеи, определения которых дать невозможно». См. Лейбниц. Монадология, 34. Избр. филос. соч., стр. 348.
138 В процессе умозаключения, по Декарту, речь идет «не о сочетании имен, а о сочетании вещей, обозначенных этими именами»— Est autem in ratiocinatione copulatio non nominum, sed rerum nominibus significaturum. См. De s c a r t e s . Oeuvres, t. VII, p. 178.
139 «Интуитивное познание есть озарение ума, посредством которого ум видит в свете бога вещи, кон богу было угодно открыть человеку путем прямого напечатлеиия божественной ясности на
400
наш рассудок, который при этом следует рассматривать не как деятельный, а только как получающий лучи божества». Письмо маркизу Ньюкастлю от марта —апреля 1648 г. Oeuvres, t. V, p. 136.
140 Гоббс. Левиафан, 1/стр. 40.141 Там же, V, стр. 63.142 Гоббс. О теле, VI, 13. Избр. произв., стр. 58.143 Там же, VI, 15, стр. 60.144 Там же, VI, 16, стр. 62. Ср. «Левиафан», гл. V, стр. 60—61.145 Гоббс. Человеческая природа, VI, I. Избр. произв., стр. 237.146 См., напр., Бэкон. Новый Органон, стр. 131—133.147 См. особенно «Начала философии», I, 58—59. Де ка рт .
Избр. произв., стр. 451—452.143 Гоббс. Левиафан, IV, стр. 53.149 См. Гоббс. О теле, III, 4. Избр. соч., стр. 26.150 Там же, II, 4. стр. 14.151 Гоббс. Левиафан, IV, стр. 51.152 См. Гоббс. О теле, V, I, II, 4. См. также «О человеке», X,
2 и др.153 Г о б б с. О теле, VI, И. Избр. соч., стр. 57.154 Гоббс. Лавиафан, стр. 51.155 См. Галилей. Диалог о двух главнейших системах мира,
стр. 89.156 См. Г оббс. Левиафан, стр. 173.157 Де ка рт . Начала философии. Предисловие. Избр. произв.,
стр. 412.158 Лейб н и ц. Новые опыты о человеческом разуме. Предисловие
стр. 54.159 Д ек ар т. Правила для руководства ума, III. Избр. произв.,
стр. 85.160 См. Куно Фишер. История новой философии, т. II. СПб., 1906,
стр. 8, 17. См. также Boui l l e r . Histoire de la philosophie cartésienne. Paris, 1868, t. I, ch. XII, pp. 270—278; ch. XXII, pp. 466—467.
161 См. о н и х Paul Louis Couchoud. Benoit de Spinoza. Paris, 1902, pp. 207—209.
162 См. Я. A. Коменский. 'Великая дидактика, V, 15—17, стр. 34—35. Мир сравнивается здесь с огромными часами, а человек — с малыми.
163 У Гоббса см., например, «О теле», XXV, 4; «О человеке», XII, I. Г оббс. Избр. соч., стр. 177, 188.
164 См. о нем Б. Быховский. Принципы философии Гендрика де Руа. «Под знаменем марксизма», 1932, N° 5—6.
165 Де ка рт . Страсти души, 40. Избр. произв., стр. 615—616.160 Де ка рт . Рассуждение о методе, VI. Избр. произв., стр. 305.167 См. Де ка рт . Страсти души, 69. Избр. произв., стр. 629.168 Де ка рт . Правила для руководства ума, XII. Избр. произв.,
124.169 См. De s c a r t e s . Oeuvres, t. VIII, seconde partie, p. 359.
См. Асмус. Ук. соч., стр. 274.170 Гоббс. Левиафан, стр. 40—41.171 Гоббс. О теле, XXV, I. Избр. соч., стр. 115.172 См. там же, VI, 7, стр. 53.173 К. М а р кс и Ф. Э и г с л ь с. Соч., т. I, стр. 111.
401
m Ма к и а в е л л и . Князь. М., 1910, стр. 81.175 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 3, стр. 314.176 См. Гоббс. Левиафан, стр. 134.177 Там же, стр. 113.178 Г оббс. О гражданине, стр. 22.179 См. Гуго Г род и и. О праве воины и мира (Пролегомены,
XI—XIII, особенно кн. I, гл. I, § X, 5). iM., 1956, стр. 47, 52.180 См. там же. Пролегомены, XVI, стр. 48.181 Гоббс. Левиафан, стр. 196.182 См. там же, стр. 134, 197 и др.183 См. Бэкон. Предисловие к «Новому Органону». Л., 1935,
стр. 76, 82 и др. Аналогичные суждения высказывал и Декарт, см. В a i 11 е t. Vie de Descartes, VIII, 10.
184 Гоббс. Человеческая природа, VII, 3. Избр. соч., стр. 241. Левиафан, стр. 66.
185 См. Де ка рт . Предисловие к «Началам философии». Избр. произв., стр. 421.
156 См. Гоббс. О теле, VI, 6. Избр. соч., стр. 52.187 Гоббс. Левиафан, стр. 116, а также, стр. 127.188 См. там же, стр. 136—137. О соотношении «естественных зако
нов», права' и морали см. также Bor ke na u . Ор. cit., SS. 97—98 и сл.
К ГЛАВЕ IVВсе сноски на произведения Спинозы в русском переводе даны
по его «Избранным произведениям» (в 2-х томах). Госполитиздат, М., 1957; первая, римская цифра означает том, а вторая, арабская — страницу. Все ссылки на оригинальный текст даны по изданию: Spi noza . Opera. Im Auítrag der Heidelberger Akademie der Wis- senschaften, hrsg von C. Gebhardt, v. I—IV. Heidelberg, 1925. При этом соответственно первой, римской, цифрой обозначен том, второй, арабской, — страница.
В I томе «Избранных произведений Спинозы» напечатаны:1. Краткий трактат о боге, человеке и его счастье
(стр. 69—171).2. Основы философии Декарта, доказанные геометрическим
способом (стр. 175—264).3. Метафизические мысли (стр. 264—315).5. Этика, доказанная в геометрическом порядке
(стр. 351—618).*Во II томе напечатаны:
1. Богословско-политический трактат (стр. 7—284).2. Политический трактат (стр. 287—382).3. Переписка (стр. 385—651).
В Opera под ред. Гебхардта произведения Спинозы напечатаны в следующем порядке:т. I: 1. Korte Verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand
(pp. 1-122).2. Renati Descartes principiorum philosophiae more geométri
co demonstratae (pp. 123—230).3. Cogitata Metaphysica (pp. 231—282).4. Compendium Grammatices Linguae hebraeae (pp. 283—404).
т. II. 1. Tractatus de intellectus emendatione (pp. 1—40).
402
2. Ethica ordine geométrico demonstrata (pp. 43—308). г. Ill: 1. Tractatus theologico-politicus (pp. 1—268).
2. Tractatus politicus (pp. 269—360). r. IV; 1. Epistolae doctorum quorundam virorum ad B. d. S. et auc
toris Responsiones (pp. 1—336).2. Stellkonstige reeckening van der regenboog (pp. 345—359).3. Reeckening van kanssen (pp. 360—362).
1 В русской литературе эта установка выражена в монографии Л. Робинсона. «Метафизика Спинозы». СПб., 1913, стр. 21, 25—29, в зарубежной — в большой биографии Спинозы, написанной Рудольфом Кайзером. R. Ка у ser. Spinoza. Portrait of a spiritual Hero. New York, 1946, особенно pp. 191—192. Cp. также A. W о 1 f s о n. The Philosophy of Spinoza, p. 24: «Этика»— это не средство общения с миром; это общение с самим собой».
2 La Vie et l’Esprit de Mr de Spinoza par un de ses disciple. Как доказано голландским исследователем Меинсма, автором известной книги «Спиноза и его круг», эта биография, впервые опубликованная только в 1719 г., в действительности написана между 1678—1688 гг. См. K. Mei n s ma. Op. cit., SS. 95—96. См. также Fr a nc é s . Op. cit., pp. 109—113 и Куно Фишер. История новой философии, т. 2. СПб., 1906, стр. 101—102.
3 «Жизнь Б. де Спинозы, описанная Иоганном Колерусом на основании некоторых данных, почерпнутых из сочинений этого знаменитого философа, из показаний многих лиц, вполне достойных доверия и близко знавших его». Напечатана в русском переводе в «Переписке Бенедикта де Спинозы» под ред.A. JI. Волынского. СПб., 1891 (в дальнейшем будет указываться: Ко л ер ус, страница). Ср. Фантастические рассказы о мнимом пребывании Спинозы во Франции и его предсмертном поведении, стр. 47, 49—50.
4 Биография Лукаса на языке оригинала напечатана в кн.:I. F r e u d e n t h a l . Die Lebensgeschichte Spinoza’s. In Quellenschriften, Urkunden und nichtamtlichen Nachrichten. Leipzig, 1899. При цитировании как биографии Лукаса, так и других первоисточников, помещенных в этом издании, в дальнейшем будем указывать лишь F r e i d e n t h a l . Op. cit., S. Цит. место на стр. 4 этого издания.
5 См. Ко л е р у с, стр. 2.6 См., напр., Л. Мильнер. Бенедикт Спиноза. М., 1940,
стр. 23—24.7 См. A. М. V a z Dias. Spinoza Merkator et Autodidactus, s’Gra-
venhage 1932, по-французски эти документы воспроизведены Albert R i V a u d. Documents inédits sur la vie de Spinoza. «Revue de Methaphysique et de Morale», XLI (1934), pp. 253—262. См. также Fr ancés . Op. cit., pp. 119—124.
8 Например, известный рассказ Лукаса ( F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 20) о старой еврейке-ханже, пытавшейся надуть маленького Спинозу.
9 Fr a n c é s . Op. cit., p. 106.10 «Spinoza and the rise of liberalism, by Lewis Samuel Feuer».
Boston, 1958, pp. 1—308.
403
у11 См. Г. Г р е ц. История евреев (от эпохи голландского Иеруса
лима до падения франкистов). СПб., 1888, стр. 2, а также «Еврейская энциклопедия», т. VI, ст. «Голландия».
12 Текст отлучения, найденный и впервые опубликованный ван Флоттеном в 1862 г. (Ad В. de Spinoza Opera Supplementum), приложен, - как и биография Колеруса, к изданию «Переписки» Спинозы под ред. А. Л. Волынского (португальский оригинал, латинский перевод и русский перевод) на стр. 55—59.
13 См. «Еврейская энциклопедия», т. I, ст. «Амстердам».14 См. Г. Грец. Ук. соч., стр. 7.15 Уриэль Д а ко ста. О смертности души человеческой и другие
произведения. М., 1958. См. его рассказ в «Примере человеческой жизни» (стр. 84) о том, как «дети, наученные раввинами и своими родителями, собирались толпами на улицах, громко поносили меня, осыпали разными оскорблениями, кричали, что я еретик и отступник». Напомним, что в год самоубийства Да- косты (апрель 1640 г.) Спинозе шел восьмой год.
16 См. там же, стр. 90 и др.17 Там же, стр. 83, 91, 93.13 Там же, стр. 85, 89.19 Первыми на Хуана де Прадо, как на одного из возможных
идейных инспираторов молодого Спинозы, обратил внимание Карл Гебхардт, опубликовавший один из полемических текстов Оробио де Кастро против деизма. См. Carl Ge b h a r d t . Juan de Prado, Chronicon Spinozanum, III. s’Gravenhage, 1923, ss. 282—283. Здесь же список членов ’«Маамада», р. 275.
Французский исследователь Рева в своей книге «Спиноза и доктор Хуан де Прадо (J. S. Rev ah. Spinoza et le dr Juan de Prado. Paris — La Haye, 1959), опубликовал некоторые новые документы, относящиеся не только к осуждению де Прадо, но и к осуждению Спинозы. В одном из них (р. 36), в частности, утверждается, что Спиноза учился в Лейденском университете.
20 См. Feuer . Op. cit., p. 12.21 См., напр., «Еврейская энциклопедия», т. VI, ст. «Голландия».22 См. Feuer . Op. cit., pp. 21, 278.23 См. К о л e p y с, особенно, стр. 7, 13, 16.24 Русский перевод текста отлучения, стр. 58.2Ъ. F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 7.28 Спиноза . Ук. соч., II, 60—61, 62.27 См. о нем Mei ns ma . Op. cit., SS. 220—221, 226—227, 230
и др.; Francés. Op. cit., pp. 41, 123, 244—245.28 См. К о л e p y с, стр. 3.29 См. Feuer . Op. cit., p. 20.30 О знакомстве Спинозы с Рембрандтом см. Frances. Op. cit.,
p. 89, a также W. K. V a l e n t i n e n Rembrandt and Spinoza. A study of the spiritual conflicts in. the 17-th century Holland. London, 1957.
31 См. Ко л e p ус, стр. 15.32 См. F r a n c e s . Op. cit., pp. 24—25.33 См. Isabel Ross. Margarett Fell: Mother of Quakerism. London,
1949.34 There is a Jew at Amsterdam that by the Jews is cast out (as
he himself and others sayeth) because he ownetli no other teacher
404
but the light and he sent for me and I spoke toe him and he was pretty tender and doth owne all that is spoken; and he sayde tow read of Moses and the prophets without was nothing tow him except he come toe know it within: and soe the name of Christ it is like he doth owne. I gave order that one of the duch Copyes of thy book should be given tow him and he sent me word he would come toe oure meeting but in the mean time I was imprisoned. Cm. Feuer . Op. cit., p. 49. Заимствовано из кп. William I. Hul l . The rise of Quakerism in Amsterdam 1G55—1665. Swarthmore, 1938, p. 205.
35 Cm. Feuer . Op. cit., p. 42. Ср. приводимые там же (стр. 273) сведения о том, что современники связывали имя Спинозы с именем проповедника Яна де Лабади, доктрина которого представляла собой смесь свободной любви, «коммунизма» и внутреннего света и который в конце 60-х годов имел 60 006 сторонников в Нидерландах. Уильям Пенн и Джон Локк во время их пребывания в Нидерландах посещали лабадистские общины. Последний описал одну из них (см. The Life and Let* ters of John Locke. London, 1884, p. 162).
36 Таким образом, сообщаемое Колерусом (стр. 14) и повторенное Куно Фишером (стр. 134) мнение, будто искусство Спинозы в шлифовании линз — результат мудрого предписания Талмуда, возлагающего на еврейских ученых обязанность изучить, на- ряду с их наукой, какое-нибудь ремесло или механическое искусство, в отношении Спинозы совершенно неверно. Среди амстердамских евреев, особенно сефардим, почти не было ремесленников (см. F r a nc é s . Op. cit., p. 69). Документы, сохранившиеся в архивах торговой палаты Амстердама, дают возможность предполагать, что некоторое время после своего разрыва с общиной Спиноза пользовался материальной поддержкой из родного дома. Однако когда она окончилась и других перспектив на жизнь не было, Спиноза освоил искусство шлифовки линз (Ibid., pp. 135—136).
37 См. Спиноза . Ук. соч., I, 134.38 Там же, I, 143.39 См. письма № 5 и К? 6. Спиноза . Ук. соч., II, 395, 407.40 Там же, I, 320.41 Там же, стр. 322.42 Там же, стр. 323.43 Там же, стр. 324.44 «Богословско-политический трактат», гл. III: Для достижения
«спокойной жизни» и для того, чтобы избегнуть «обид от других людей, а также и вреда от животных... нет более верного средства, как сформировать общество на определенных законах, занять известную страну на земле и направить силы всех как бы на одно тело, именно: на общество». Спиноза . Ук. соч., И, 51.
45 «Этика» IV. Прибавление, гл. XII: «Всего полезнее для людей— соединиться друг с другом в своем образе жизни и вступить в такие связи, которые удобнее всего могли бы сделать из всех одного, и вообще людям всего полезнее делать то, что способствует укреплению дружбы». Спиноза . Ук. соч., I, 583.
46 Письмо № 2, II, 387. Та же мысль через десять лет в письме к Иеллесу (№ 44): «у друзей... все является общим». Эти слова
405
Спиноза приписывает Фалесу. Повторяя здесь известный рассказ Диогена Лаэрция, согласно которому Фалес практически доказал, что философ при желании может разбогатеть, но вовсе к этому не стремится. Спиноза явно намекает на свою прошлую деятельность в качестве купца и на отказ от нее. См. С п и- н о з а. Ук. соч., II, 559—560.
47 См. F r e u d e n t h a l . Qp. cit., S. 161. Также см. Спиноза . Ук. соч., I, II, 287.
48 См. в особенности письма Л° 13, 32 (Ольденбургу) и № 28 (Боуместеру); Спиноза . Ук. соч., II, 430, 515, 516, 504.
49 См. письма № 8 и N? 9, относящиеся к февралю 1663 г. и показывающие, что работа над произведением, получившем вскоре название «Этики», была начата раньше. Впервые это название употреблено Спинозой в письме № 23 (Блейенбергу) от 13 марта 1665 года. Из письма Кя 28 (Боуместеру) ясно, что написание «Этики» продвинулось далеко. См. Спиноза . Ук. соч., II, 410—417, 495, 504.
50 Первое упоминание о нем в следующем письме (№ 29) Ольденбурга от сентября 1665 г.; Спиноза . Ук. соч., II, 505.
51 F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 15.52 Например, A. M. Деборин в своей книге «Социально-политиче
ские учения нового времени», т. I. М., 1958, необоснованно утверждает, что «Спиноза даже занимал официальную должность политического советника» (стр. 110). См. также ст. М. С. Беленького. «Спиноза и его критика Библии». «Вопросы религии и атеизма», 1958, № 5.
53 Голландский историк Japikse не нашел в бумагах де Витта никаких доказательств того, что он помогал Спинозе в финансовом отношении, о чем сообщает Лукас. См. N. J a p i k s e . John de Witt. Amsterdam, 1928, SS. 286—288. См. также Feuer . Op. cit., p. 287 и Fr a nc é s . Op. cit., p. 297. Вместе с тем существенно отмечаемое той же Франсэ, что «Богословско-политический трактат» был запрещен только после смерти де Витта. Все же остается важным и указание анонимного памфлета, написанного сразу после этой смерти, «Добавление к каталогу книг г. Яна де Витта»: «Богословско-политический трактат. С помощью дьявола составлен в аду отпавшим иудеем и с ведома г. Яна и его соучастников опубликован». «Богословско-по- литический трактат. -Вынесенный из ада отпавшим иудеем Спинозой; на неслыханно-атеистический манер в нем доказывается, что слово божье должно быть объяснено и истолковано с помощью философии; с ведома г. Яна опубликован», Mei n s та . Op. cit., SS. 428—429.
54 См. Fr a nc é s . Op. cit., p. 297. Знакомство Спинозы с Гудде, Бокселем и Бургом удостоверяется и его перепиской. В библиотеке Спинозы были книги брата Питера де ла Кура, Яна, автора «Соображений о государстве, или политических весов» и «Политических рассуждений». См. С о и с h о и d. Op. cit., pp. 131—132, a также F r a nc é s . Op. cit., p. 23.
55 Спиноза . Ук. соч., II, 12.56 См. там же, стр. 10, а также прославление Амстердама в XX.
заключительной главе, стр. 266.57 См. там же, стр. 266—»267.58 Там же, стр. 222.
406
59 См. там же, стр. 225, 229.60 Там же, II, 231.61 См. там же, 233.62 Спиноза . Ук. соч., II, 333. Ср. стр. 317.63 См. М. М. К о в а л е в с к и и. От прямого народоправства
к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму, т. II. М., 1906, стр. 451, а также Feuer . . Op. cit., pp. 127, 129. Ср. A. M. Де б о р и h . Социально-политические учения нового времени, т. I, стр. 134. Он считает, что на Спинозу повлиял не столько Гаррингтон, сколько Уинстенли.
64 Спиноза . Ук. соч., I, 584.65 См. там же, II, 245—246.66 См. Предисловие. Там же, стр. 15.67 См. там же, стр. 254—256.68 См., напр., Гоббс. Левиафан, стр. 146—г147.69 См. Спиноза . Ук. соч., II, 261, 260.70 Там же, стр. 265.71 Там же, стр. 210.72 См. М. М. К о в а л е в с к и й. Ук. соч., стр. 437, 445.73 Спиноза . Ук. соч., II, 265.74 Там же, I. 577. Ср. также схолию к этой теореме, стр. 578.75 См. «Политический трактат», VII, 27; Спиноза . Ук. соч., II,
337—338.76 Как передает Лукас, Спиноза «лил слезы, когда видел, как его
сограждане растерзали того, кто был отцом для всех их; и, хотя он лучше, чем кто-либо другой, знал, на что способны люди, он не смог не содрогнуться при этом ужасном и жестоком зрелище». F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 19. Ср. известный рассказ Лейбница о том, как Спиноза пытался пойти к месту убийства и вывесить бумагу, клеймящую убийц: «О, последние из варваров». Foucher de Са г eil. Refutation inédite de Spinoza par Leibnitz. Paris, 1854, XIV, Ibid., S. 201.
77 Правда, в следующем, 1673 г. Спиноза явно по поручению своих республиканских друзей, многие из которых и после смерти де Витта занимали видные государственные посты и стремились к*миру, ездил с дипломатической миссией к главнокомандующему французской оккупационной армией принцу Кондэ с целью, по-видимому, попытаться выяснить возможность мирных переговоров. Эта миссия, угрожавшая безопасности Спинозы по его возвращении в Гаагу, описана Колерусом (стр. 23), приведшим ответ философа испуганному хозяину. Спиноза называет себя «честным республиканцем», заботящимся только о пользе и славе Родины. См. также F r a nc é s . Op. cit., p. 100; Feuer . Op. cit., pp. 141—145.
78 Письмо № 48; Спиноз a. Ук. соч., II, 565.79 Себастьян Кортхольт писал в 1700 г. в «Предисловии» к книге
своего отца Христиана Кортгольта «О трех великих обманщиках» (с ссылкой на письмо Грейффенекрантца, советника герцога Гольштейн, к его отцу от 6 апреля 1681 г.): «...казалось, он живет только для себя, постоянно одинокий и как бы погребенный в музее». Это наблюдение корреспондент старшего Кортгольта вынес из личного свидания со Спинозой в 1672 г. См. F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 27. Ср. также свидетельство Иел- леса: «Большую часть времени тратил он на то, чтобы иссле-
407
довать природу вещей, приводить в порядок открытое и сообщать это друзьям, меньшую — на отдых. Да, его одушевляла
. настолько пламенная страсть к истине, что он, по свидетельству тех, кто жил с ним, не выходил три месяца подряд». Цнт. по изд. Sp i noz a . Lebensbeschreibungen und Cespräche, ubtrg und hrsg von C. Gebhardt. Leipzig, 1914, S. 4.
80 Первое упоминание об этом — в письме № 62 (Ольденбурга) от 22 июля 1675 г., а также ответ на него Спинозы (письмо №68) от сентября 1675 г. Спиноза . Ук. соч., II, 600, 621—622.
81 Последнее из дошедших до нас писем Спинозы (№ 84 — «Другу о политическом трактате»), относящееся к 1676 г., указывает на то, что писалась седьмая глава. По мнению Мадлен Франсэ, адресатом этого письма является один из регентов Гааги — И. С. Клеевман (Kleefman), один из ректоров Гааги, покровитель издания Opera posthuma. См. Fr a ncé s . Op. cit., p. 297.
82 Спиноза . Ук. соч., II, 311.8Т Там же, 290.84 Там же, 312.85 Там же, 316. , ...86 См. М. М. К о в а л е в с к и и. Ук. соч., стр. 436—437.87 Спиноза . Ук. соч., II, 324, 325.88 Там же, 337.89 Там же, 327. Ср. стр. 341.90 См. там же, 326.91 См. там же, 330.92 Там же, 339.93 См. там же, 343, 345.94 См. там же, 377.95 См. там же, 357. «Мудры»! голландец V. Н.» — Питер де ла Кур.
См. Couchoud . Op. cit., pp.* 131—132; Feuer . Op. cit., p. 21.% Спиноза . Ук. соч., II, 356.97 Там же, 344.98 Там же, 380.99 См. там же, 348.100 Не воспроизводя старой полемики вокруг содержания, формы и
времени написания этого трактата, в которой в разное время приняли участие Тренделенбург, Авенариус, Иоэль, Фрейденталь, Куно Фишер (см. ее содержание у Куно Фишера. Ук. соч., стр. 217, 254—255 и др.), Гебхардт, Робинсон и другие исследователи, укажем на вывод Мадлэн Франсэ, считающей, что «Краткий трактат», продиктованный аудитории в Уверкерке, был переписан в Рейсбурге. F r a ncé s . Op. cit., p. 229.
101 Cristoph S i g wa r t . Spinoza’s neu entdeckter Traktat von Cott,‘ dem Menschen und dessen Glückseligkeit. Gotha, 1866, ss. 107—108. Исследование «Трактата» произведено также в его другой книге «Benedict de Spinoza’s kurzer Traktat von Gott, dem Menschen und dessen Glückseligkeit». Tübingen, 1870.
102 См. известный труд Дильтея «Weltanschauung and Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation» — Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften, Bd. II. Stuttgart — Cöttingen, 1960, SS. 463, 289. Здесь же Дильтей говорит о весьма вероятном знании Спинозой книги Телезио. О распространении идей Бруно и Ванин в Нидерландах XVI в. см. также Fr a ncé s . Op. cit.,
408
р. 19. О весьма вероятном знании Спинозой произведении Бруно см. также М е i n s ш а. Op. cit., S. 177.
103 См. R. Av e n a r i u s . Ueber die beiden ersten Phasen des spino- zischen Pantheismus und des Verhälthiss der zweiten zur dritten. Phase. Leipzig, 1868, SS. 9—11.
104 В этом, как известно, основная мысль Куно Фишера относительно происхождения учения Спинозы во 2-м томе его «Истории новой философии», см. в особенности стр. 273—279.
105 См. «Philosophische Aufsatze». Eduard Zeller, zu seinem 70-gen gewidmet. Leipzig, 1877, S. 110. Здесь Фрейденталь сопоставляет некоторые термины, употребляемые в «Метафизических мыслях», с терминами Суареца, Мартини, Бургерсдика и Хеерборда. Анализируя его произведение, автор опровергает попытки Иоэля доказать влияние на Спинозу еврейской средневековой богословско-теологической мысли и всячески подчеркивает роль новой христианской схоластики (стр. 102—104). Основная цель статьи Фрейденталя — пересмотреть распространенное до тех пор мнение относительно «исчезновения» схоластической традиции в конце XV — начале XVI в. Напротив, решающее влияние схоластической мысли обнаруживают, за исключением физики, все разделы философии Декарта (стр. 88), Бэкона (стр. 89). Что же касается Спинозы, то «его сочинения показывают, что новая схоластика не только составляет фазу его духовного развития, но оказала также определяющее влияние на его учение. Если натуралистическо-механистическое воззрение образует один из элементов его философии, то наряду с ним выступает другой элемент — наследие иудейской религиозной философии и схоластического супранатурализма, которые никогда не были полностью им преодолены» (стр. 90).
106 В кн. J. S. Wächter «Der Spinozismus im Judentum» (1699) проводится мысль о том, что корни спинозовского детерминизма следует искать в каббалистических представлениях.
107 См. М. I о ё 1. Zur Genesis der Lehre Spinoza’s mit besondere Berücksichtigung des kurzen Traktats von Gott, dem Menschen und dessen Glückseligkeit. Breslau, 1871, S. 6 и др. См. также его более раннее сочинение Chasdai Creskas religionsphilosophische Lehren in ihrem geschichtlichen Einflüsse, Breslau, 18G6, SS. 54, 64, 71, 73 и др.
108 См. Couchoud . Op. cit., pp. 4, 5, 14 и др.109 В этой первой книге Дуннна-Борковского (Der junge de Spinoza.
Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie. Münster, 1910.) утверждается, что этические идеалы Спинозы почти целиком заимствованы из изречений Талмуда (стр. 132, 140), идеи «Богословско-политического трактата» навеяны комментаторами Талмуда (стр. 123 и др.)» метафизика Спинозы — результат усвоения «сокровенных глубин» Каббалы и ее теоретиков (стр. 189 и др.). Устанавливается сугубая зависимость идей Спинозы относительно познания и свободы воли от Хасдая Крескаса, Ибн Гебироля и других европейских философов (стр. 189, 204—205 и др.).
Трехтомное продолжение этой книги появилось в 30-х годах. Aus den Tagen Spinoza’s. Geschenisse, Gestalten Gedankenwelt. Münster, 1933—1936.
409
Erstes Buch, Das Entscheidungsjahr 1657.Zweites Buch, Das neue Leben.Drittes Buch, Das Lebenswerk.
110 В ст. П. Р а хма на . «Спиноза и иудаизм», помещенной в «Трудах института красной профессуры», I, (М., 1923, стр. 85—95), утверждается, что иудаизм, впитанный Спинозой «в лучшие годы своей жизни», оказал решающее влияние на сущность спинозизма (стр. 85, 94). «Этика» — отшлифованный иудаизм, изложенный методом Декарта (стр. 93) и т. п. См. критику этой статьи в рецензии М. Ле н и н г р а д с к о г о . Л1еныневиствующий идеализм в роли апологета иудаизма. «Воинствующий атеизм», 1931, № 11.
111 См. Leon Roth. Spinoza. London, 1954, p. 222. О решающем значении Маймонида — pp. 224, 231—233, а также в специальной книге того же автора — Spinoza, Descartes and Maimo- nides. Oxford, 1924.
112 Cm. Harry Ausryn Wo If son. The Philosophy of Spinoza, unfolding the latent processes of the reasoning. Cambrige-Massachu- sets — Harvard University Press 1934—1948. New York, Pelikan Books, 1958. В дальнейшем ссылки на 2 изд.
1,3 В назв. в прим. 106 книге Вахтера, а также в «Теодицее» Лейбница (§ 372). О Каббале, как о «расширенном спинозизме» писал также Соломон Маймой в «Die Lebensgeschichte», Berlin, 1792. Ср. меткие слова Куно-Фишера (Ук. соч., стр. 261, 269), отвергающего нудаистское истолкование идей Спинозы.
114 См., например, Морис Мюрэ. Еврейский ум. СПб., 1902, стр. 69—71. Из числа недавних утверждений относительно близости идей онтологии и гносеологии спинозизма Каббале обращает на себя внимание как своей радикальностью, так и несостоятельностью точки зрения Дагоберта Рунза (см. его издание «Этика» — The Road to inner freedom. New York, 1957, p. 13).О возможности влияния на юного Спинозу Каббалы через одного из.его учителей по хедеру, Менаше бен Израэля, виднейшего теоретика синагоги в эту эпоху, действительно увлекавшегося се махрово-фантастическим мистицизмом. См., напр., Joseph Dünner . Baruch Spinoza and western Democracy. An interpretation of his philosophical religious and political thought, New- York, 1955, pp. 5—7, и К a y s e r. Op. cit., pp. 48—50.
115 Спиноза . Ук соч., II, 145.1,6 См. список книг Спинозы у F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 161
(N2 (48) 22). Сначала отрывок из этого произв. (Dialoghi di Amore, III, 72), по мнению Гебхардта, наиболее показательный с точки зрения влияния на спинозовскую концепцию «любви к богу», опубликован нм в Chronicon Spinozanum, I, а затем оно полностью переиздано им в «Bibliotheca Spinozana». Heidelberg- Oxford, 1928). По утверждению Гебхардта Спиноза обязан Абарбанелю тремя учениями: 1) платоновскому учению о любви как мировому принципу, 2) арнстотелевско-аверроистическо- му учению о действующем интеллекте, 3) платоновскому учениюо единстве души с богом (см. его Введение к кн. «Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und seinem Glück», hrsg von C. Gebhardt. Hamburg, 1959, S. XX).
117 См. в особенности его «Spinoza. Vier Reden». Heidelberg, 1927, SS. 6—7, 25—30, а также указанное в предшествующем приме-
410
чанип. Введение к кн. «Kurze Abhandlung», S. XXI—XXV. О Спинозе как «философе барокко» см. также D u n i n-В о г к о w- ski. Aus den Tagen Spinoza’s. Bd. II, T. I. SS. 322—344.
118 C m . Ludwig С h m a j. De Spinoza a Brada Polscy. Krakow, 1924, str. 4—5, 20—21 и др.
119 Кроме отмеченных в прим. 109 влияний иудаизма и средневековой еврейской философии, Дунин-Борковский констатирует «заимствования» из арабской философии (стр. 231, 335 и др.). После этого устанавливаются многочисленные современные ему влияния начиная с Декарта (стр. 159) и платоников (стр. 245) вплоть до третьестепенных и давно забытых современников Спинозы. В целом Спиноза — «гений собирательства» и «эклектик» (стр. 166, 167).
120 Вольфсон не разделяет столь упрощенной точки зрения, как ДуншнБорковский, однако и он за каждым положением спинозизма (в той форме, какую он приобрел в «Этике») стремится «угадать» предшествующую традицию (см., напр., стр. 16). «Если бы мы считали это желательным, то вместо написания одной только книги об «Этике» мы написали бы серию произведений, носящих заглавие: «Аристотель и Спиноза», «Сенека и Спиноза», «Аверроэс и Спиноза», «Маймонид и Спиноза», «Фома Аквинский и Спиноза», «Леон Еврей и Спиноза», «Декарт и Спиноза» и т. п. Но наша цель только в том, чтобы привлечь этих авторов для нашей интерпретации Спинозы». W о 1 f s о n. Op. cit., р. 18.
121 В. Ф. А с м у с. Очерки по истории диалектики в новой философии. М. — Л., 1930, стр. 39.
122 Письмо Я? 73 (Ольденбергу); Спиноза . Ук. соч., IL 630. Ср. также «Этика», там же, I, 407.
»23 Там же, II, 12.124 Напр., кн. Леона Ротса (см. примеч. 111). A. Wo lf so n. Op.
cit., passim; Danner . Op. cit., p. 58.125 См. Да кос т а . О смертности души человеческой, стр. 49, 50.126 Да к ос т а . Пример человеческой жизни, стр. 90.127 См. отрывок из книги да Сильва, помещенный как Приложение
в кн. Д а к о с т ы. С смертности души человеческой, стр. 118. В числе авторов, объявивших беспощадную войну неверию «саддукеев», находился и упоминавшийся выше Менаше бен Израэль, светило тогдашней синагоги. Отрывки из его сочинения «Три книги о воскресении мертвых» (Амстердам, 1636) опубликованы там же, стр. 125—128.
128 F r e u d e n t h a l . Op. cit., pp. 5—6. О влиянии материалистических идей на юного Спинозу см. D u n i n-В о г к о w s k i. Der junge de Spinoza.
129 «Богословско-политический трактат», гл. Ir «... из этого легко можно понять и объяснить те места Писания, где упоминаетсяо духе божьем. Именно: «дух бога» и «дух Иеговы» обозначает очень сильный, очень сухой и пагубней ветер, как у Исайи в гл. 40, ст. 7: «Ветер Иеговы веет на него», т. е. очень сухой и пагубный ветер, и в кн.: «Бытия», гл. I, ст. 2: «И ветер божий (или весьма сильный ветер) проносится над водою». Спиноз а. Ук. соч., II. 27.
130 F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 32. «Один из ближайших друзей»— Ярих Иеллес, его книга «Исповедание универсальной
411
христианской веры» действительно была прочтена Спинозой. См. письмо Хя 48; Спиноза. У к. соч., II, 565—56G.
131 См. К о л е р у с, стр. 6.132 См. Спиноза . Ук. соч., I, 96—97. Впервые указал на зависи
мость в этом вопросе Спинозы от Хеерборда и Бургерсдика Тренделаибург в статье: «Ueber die auîgefundenen Ergänzungen zu Spinoza's Leben und Lehre». «Historische Beiträge zur Philosophie». Bd. II, VIII. Berlin, 1867, SS. 317—322.
133 Спиноза. Ук. соч., I, 108.134 Там же, 113.135 Там же, 144.136 Там же, 120.137 Там же, 154.138 Там же, 114. Ср. также гл. V, стр. 121: Мы «по слабости своей
природы необходимо должны что-либо любить и соединяться с ним, чтобы существовать». Гл. XIV, стр. 134: «основание всего хорошего и дурного есть любовь, направленная на определенный объект».
139 Там же, 159.140 Это небольшое произведение B a l l i n g — Het Licht op den
Kandebar — сначала вышло анонимно (1662), а через несколько лет после смерти Баллинга под его именем, вместе с трактатом к тому времени тоже умершего Иеллеса «Исповедание универсальной и христианской веры» (Belydenisse des algemeenen en Chrystlyken geloofs) в изд. Риувертса (1684), издавшего и «Посмертные сочинения» Спинозы.
141 Первая часть этого Приложения, соответствующая первой части Трактата. См. Спиноза . Ук. соч., I, 165—167.
142 Точнее, в Приложении к этому ' письму, которое до нас не дошло. Попытки его реконструкции были предприняты Гебхард- том и Вульфом. См. Спиноза . Ук. соч., II, 674.
143 В этом отношении существенно указание Спинозы, что «Основы философии Декарта» написан нм «в течение каких-нибудь двух недель» (см. письмо j\ s 15; Спиноза . Ук. соч., II, 440). Указанную точку зрения защищал Фрейденталь в статье «Спиноза и схоластика» (см. примеч. 105). Кушу считает, что «Метафизические размышления» даже предшествуют «Краткому трактату». См. Couchoud. Op. cit., p. 45.
144 С п и н о з a. Ук. соч., II, 388.145 См. его полемику с Бойлем по вопросам о селитре, о текучести
и о твердости, в письме К ? 6, относящемся к апрелю 1662 г. (там же, 396—̂408). Симон де Врис в своем письме от 24 февраля 1663 г. писал: «Я прохожу теперь курс анатомии, дошел уже почти до половины, окончив его, примусь за химию и таким образом пройду — по Вашему совету — всю медицину» (там же, стр. 413). См. в дальнейшем письма 13, 30, 39—41 и др.
146 См., напр., L. Roth. Spinoza. London, 1954, p. 233.147 Письмо № 9, Спиноза . Ук. соч., II, 416.148 Там же, 587.149 См. письма Кя 13 (Ольденбургу) и № 27 (Блейенбергу). Там же,
430, 502.150 Там же, 179.151 См. отрывок из Предисловия к «Opéra posthuma», помещенный
в изд. Sp i noz a . Lebensbeschreibungen und Gespräche, S. 7.
412
152 См. Спиноза . Ук. соч., I, 324.153 См., напр., Куно Фишер. Ук. соч., стр. 280—281; С. Ф. Кече-
кьян. Этическое миросозерцание Спинозы. М., 1914, стр. 27—28. Рене Вормс в своей книге «Мораль Спинозы» (русский перевод. СПб., 1905) считает, что роль Спинозы «главным образом состояла в построении той научной морали, которую Декарт только наметил в своих сочинениях» (стр. 10). По выражению другого французского исследователя Виктора Дельбоса, написавшего в конце прошлого века большую монографию «Моральная проблема в философии Спинозы и в истории спинозизма», цель метафизики Спинозы состоит только в том, «чтобы понять и прославить жизнь: метафизика—это этика» (V. D е 1 b о s. Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l'histoire du spinozisme. Paris, 1893, p. 200).
154 Письмо №27 (Блейенбергу). Спиноза . Ук. соч., II, 502.155 См., напр., В. Ф. Асмус «Диалектика необходимости и свободы
в этике Спинозы» (в кн.: «Очерки истории диалектики в новой философии». М.— Л.. 1930), стр. 38—39, а также стр. 43: «Учение Спинозы напоминает спокойную поверхность озера, тихую и гладкую, как стекло. Но это впечатление не более как иллюзия. Более пристальный взгляд открывает под этой мнимо спокойной застывшей гладью могучую борьбу противоположных сил».О трудностях интерпретации, порожденных геометрическим способом изложения Спинозы, см. Робинсон. Ук. соч., стр. 5—8. См. также большую статью В. Н. Половцовой . К методологии изучения философии Спинозы. «Вопросы философии и психологии», кн. 118. М., 1913, стр'. 321—344.
156 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 29, стр. 457. Ср. также другое высказывание Маркса: «Необходимо для писателя различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что дает только в собственном представлении. Это справедливо даже для философских систем: так, две совершенно различные вещи — то, что Спиноза считал краеугольным камнем в своей системе, и то, что в действительности составляет этот краеугольный камень». Соч., т. XXVII, стр. 29.
К ГЛ А В Е V
1 Письмо № 2. Спиноза . Ук. соч., II, 388. Primus itaque et maximus est, quod tam longe a cognitione primae causae et originis omnium rerum aberrarint. Opera, IV, 8.
2 Там же, 391... quaenam sit Substantiarum origo et productio, rerumque a se invicem dependentia, et mutua subor dinatio. Opera, IV, II.
3 Письмо № 5. Там же, 395. ...quod turn, credo, fiet feliciter, quando distincte et clare de vera et prima rerum origine me inst- ruxeris. Quamdiu enim perspicuum mihi non est, a qua causa, et quomodo res coeperint esse, et, quo nexu a prima causa, si qua talis sit, dependeant; omnia, quaer audio quaeque lego, scopae mihi dissolutae videntur. Opera, IV, 15.
4 Письмо № 7. Там же, 409.5 Письмо № 14. Там же, 438. ...intra experimentorum, observatio-
413
numque cancellos esse continens, omnesque Disputationum an- fractus devitans. Opera, IV, 70.
? Письмо № 16. Там же, 443. ...ut principia rerum pro Mathema- tici tui ingenii acumine consolidare pergas... Opera, IV, 75.
7 .Письмо № 31. Там же, 509. ...quomodo unaquaeque pars Naturae, cum suo toto conveniat, et qua ratione cum reliquis cohaereat... Opera, IV, 167.
8 Письмо № 6. Там же, 407.9 См. К. М а р к с и Ф. Энгельс . Соч., т. 20, стр. 19.
10 Д е к а р т. Избр. произв., стр. -292.11 Декарт . Начала философии, III, 45. Там же, стр. 510—511.12 Формулируя ее далее несколько иначе, Спиноза пишет здесь:
«Мы ищем простейшие и наиболее понятные основания... ибо ясно, что мы предполагаем существование вещей лишь затем, чтобы легче понять их природу, и по примеру математиков подвигаемся вперед от наиболее известного к наиболее темному и от простейшего к более сложному». «Основы философии Декарта», ч. 3. Спиноз а. Ук. соч., I, 260—261.
13 Там же, II, 1106. ...methodus interpretandi naturam in hoc potissi- mam consistit, in concinnanda scillicet historia naturae, ex qua, utpote ex certis datis, rerum naturalium definitiones concludimus... Opera, III, 98.
14 См. там же, 198.15 Так назвал Спинозу, по-видимому, лицемеривший Ольденбург,
в письме к Бойлю. См. жури. Philosophy, april, 1935, vol. X, p. 202, а также Спиноза . Ук. соч., II, 691. Ср. также письмо •V? 63, стр. 602. Вполне возможно, конечно, что такое отношение Ольденбурга к Спинозе появилось в результате его убеждения, что Спиноза не тот мыслитель, который, как казалось ему вначале, способен решить проблему философской интерпретации природы.
16 (Письмо ЛЬ 32. Там же, 512.17 Там же, 513.18 Там же, 434.19 Там же, 595.20 Там же, 646.21 Там же, 648. ... deducit ergo juxta meam opinionem corporum
existentiam non ex quiescente materia, nisi forte suppositionem motoris Dei pro hihilo haberes; quandoquidem, qui illud ex essentia Dei a priori necessario sequi debeat, abs te non sit ostensum... Opera, IV, 333.
22 Там же, 649 ... ex Extensione, ut earn Cartesius concipit, molem scil. quiescentem, corporum existentiam demonstrare non tantum difficile, ut ais, sed omnino impossibile est. Materia enim quie- scens, quantum in se est, in sua quiete perseverabit, nee ad motum concitabitur, nisi a causa potentiori externa; et hac de causa non dubitavi olim affirmare; rerum naturalium principia Cartesiana inutila esse, nec dicam absurda. Opera, IV, 332.
23 Там же, 650.24 См. Thomas Aqui nas . Summa theologiae, I, q. 2, a 1—2.
Summa contra gentiles, 1. I, с. 12.20 См. Де ка рт . Метафизические размышления, V. Избр. произв.,
стр. 383—384.26 См. «Краткий трактат», ч. I, гл. I, особенно конец главы. С п и-
414
h оз а. Ук. соч., I, 81. Ср. также «Этика», ч. I, сх. к т. II, там же, 370.
27 См. там же, 104, 82.28 См., напр., «Метафизические мысли». Под бытием, -или су
ществом, пишет здесь Спиноза, «я разумею все то, что при ясном и отчетливом восприятии необходимо существует или по крайней мере может существовать». Спиноза . Ук. соч., I, 267.
29 Там же, 82.30 Там же, I, 411. Nam naturam divinam... quia tarn cognitione, quam
natura prior est... Opera, II, 93.31 Там же, I, 370. ...vel nihil existit, vel Ens absolute infinitum
necessario etiam existit. Opera, II, 53.32 Ens summe perfectum et absolute infinitum — обычное выраже
ние Спинозы о боге-субстанции. См., напр., письмо № 2; Там же,II, 387. Opera, IV, 8.
33 См. Приложение к «Краткому трактату» — «О человеческой душе», «поскольку природа, или бог, есть существо...», там же,I, 168.
34 Особенно четко в Предисловии к четвертой части: «вечное и бесконечное существо, которое мы называем богом или природой». Там же, I, 522.
35 Там же, II, 19, 145.36 Там же, I, 221.37 Там же, 364.38 Там же, 380. Deus est omnium rerum causa immanens, non vero
transiens. Opera, II, 63.59 Там же, II, 408. ...Deum a natura non ita separem ut omnes,
quorum apud me est notitia fecerunt. Opera, IV, 36.40 Это взято из апостола Павла (Деяния апостолов, гл. 17, стих
28). См. там же, 629, 712.41 Там же, 629-630.42 См. L. Roth. Op. cit., p. 195.43 Письмо Л» 56. Спиноза . Ук соч., II, 587. Ср. «Этика», ч. II,
сх. к т. 47; там же, I, 444.44 Этот образ, заимствованный Спинозой из «Послания к римля
нам», апостола Павла (гл. 9, стих 21), употребляется в «Метафизических мыслях», ч. II, гл. 8 (Спиноза. Ук. соч., I, 299) в XXXIV примечании к «Богословско-политическому трактату», (там же, II, 281), в гл. II, § 22 «Политического трактата» (там же, II, 298) и в письме № 75 (там же, II, 634).
45 Там же, I, 405; «Этика», ч. II, сх. к т. 3: «бога представляют человеком или по образу человека»; Deum hominum vel instar hominis a vulgo concipi. Opera, II, 87.
46 Там же, II, 493. Ср. также, стр. 576 и др.47 Там же, I, 298.48 Там же, I, 84. Ср. письмо № 4: «Люди не творятся (из ничего)
но только порождаются и... тела их существовали раньше, хоти и в другой форме», там же, II, 394.
49 Там же, I, 85.50 Там же, I, 186. ... quoniam infixa quaedam erat ejus menti vêtus
opinio, Deum esse, qui potest omnia, et a quo talis, qualis existit, creatus est. Opera, I, 143.
51 Там же, 296.52 Там же, 373, 374.
415
53 См. там же, I, 107.54 См. там же, 387—388.55 Там же, 107.56 Там же, I, 298. Ср. далее письмо № 19; там же, II, 453; а также
«Богословско-политический трактат», гл. IV: «воля и разум бога в действительности сами по себе суть одно и то же», там же,II, 68; «Этика», ч. I, сх. к т. 17, там же, I, 380.
57 Там же, I, 98.58 Там же, I, 77 и сх. Deus ex solis suae naturae legibus, et a
nemine coactus agit. Opera, II, 61.59 К о л e p у с, стр. 35—36.60 Спиноза . Ук. соч., I, 377. Deum esse absolute causam primam.
См. также, стр. 386.61 Краткий трактат, ч. I, гл. III — последнее заимствовано из со
временных Спинозе схоластических различений божественной причинности. Там же, I, 97.
62 Там же, I, 387. Nam per causam remotam talem intelligimus, quae cum effectu millo modo conjuncta est. Opera, II, 70. Cp. выступление Спинозы против деизма в конце гл. II, части первой «Краткого трактата»; там же, I, 89 (см. ниже). Ср. также начало второго диалога, в котором Эразм и Теофил уточняют различие между имманентной, отдаленной и абсолютно отдаленной причиной — стр. 93.
63 Там же, I, 96—97.64 Там же, I, 377. Ср. «Краткий трактат», ч. 2, гл. XVI, примеч. 2;
там же, I, 138.65 См. там же, I, 393.66 См. там же, I, 361.67 Там же, I, 102—103. Ср. «Метафизические мысли», ч. II, гл. VII;
там же, стр. 297.68 Там же, I, 138.69 Там же, I, 385. Res particulares nihil sunt, nisi Dei attributorum
aífectiones, sive modi, quibus Dei attributa certo et determinato modo exprimuntur. Opera, II, 68.
70 Там же, 86.71 Там же, I, 298. Ср. «Этика», ч. IV. предисловие, стр. 523.72 Там же, I, 271.73 Там же, 363.74 Там же 91—92.75 Там же, 363.76 Письмо № 36 (к Иоанну Гудде) от июня 1666 г. Там же,
II, 525.77 Письмо № 32 (Ольденбургу) от 2Ü/XI 1665 г. Там же, II, 514.78 Там же, I, 419. ... totam naturam unum esse Individuum, cujiis
partes, hoc est omnia corpora, infinitis modis variant, absque ulla totius Individui mutatione. Opera, II, 102.
79 Cp. Wol f s on . Op. cit., p. 338.80 Гегель неточно цитирует это положение спинозовской метафи
зики, трактуя его как «всякое определение есть отрицание» (см. Гегель. Наука логики. Соч., т. V. М., 1937, стр. 106). В таком виде это спинозовское выражение обычно и фигурирует у нас в популярных работах.
81 Де ка рт . Метафизические размышления, III. Избр. произв., стр. 363.
416
82 Спиноза . Ук. соч., I, 365 ... finitum esse revera sit ex parte negatio, et infinitum absolute affirmatio existentiae aliquis naturae... Opera, II, 49.
83 Там' же, II, 568. ... determinatio ad rem juxta suurn esse non pertinet: sed econtra est ejus non esse. Quia ergo figura non quam determinatio et determinatio negatio est; non poterit, ut dictum, aliud quid, quam negatio, esse. Opera, IV, 240. Ср. письмо № 36, там же, 524. Ср. Ko l a kows k i . Op. cit., S. 185.
84 Там же, I, 402.85 Там же, 366—367.86 Там же.87 Там же, 276. Ilia (essentia, В. С.) enim a legibus Naturae
aeternis dependet, haec (existentia, В. С) vero a serie ejt ordine causarum. Opera, I, 241.
88 Там же, 462.89 Там же, 392. Ср. «Метафизические мысли». Там же, 277, а так
же гл. IV — «О длительности и времени» — там же, 278.90 См. в особенности прямое выступление Спинозы против библей
ского креационизма в «Метафизических мыслях»', ч. 2, гл. X(О творении), там же, 302—307.
91 Там же, I, 403. Duratio est indefinita existendi continuatio. Opera, II, 85.
92 Там же, I, 162.93 Там же, 285.94 Там же, 306.95 Там же, 608. Res duobus modis a nobis ut actuales concipiuntur,
vel quatenus easdem cum relatione ad certum tempus, et locum existere, vel quatenus ipsas in Deo contineri, et ex naturae divi- nae necessitate consequi concipimus. Opera, II, 298—299.
96 См., напр., содержательную ст. В. К. Брушл и некого «Спинозовская субстанция и единичные вещи» («Под знаменем марксизма», 1927, № 2—3). Обобщающая-мысль автора состоит в том, что при всем разрыве и неувязке между субстанцией и модусами у Спинозы «намечается диалектическое преодоление этого разрыва или этой неувязки, имеющее громадное принципиальное значение» (стр; 56). С другой стороны, Колаковский не видит, по существу, никакой связи между точкой зрения субстанции и точкой зрения модусов и объясняет этот раскол двойной социальной детерминацией спинозизма (см. Ko l a kows k i . Op. cit., SS. 216, 264 и др.).
97 Спиноза . Ук. соч., I, 375. ... quantitas infinita non sit men* surabilis, et... ex pàrtibus finibus constari non possit. Opera, II, 58.
98 См. в особенности письмо Я? 35 (кГудде); там же, II, 521—523.99 Письмо № 54 (к Бокселю). Там же, 577. ... inter finitum et
infinitum nullam esse proportionem... Opera, IV, 253.100 По Гегелю, спинозовская субстанция есть «единая нераздельная
тотальность; нет ни одной определенности, которая не содержалась бы и не была бы растворена в этом абсолютном». Г е- гель. Наука логики. Соч., т. V, стр. 646 (ср. стр. 449).
101 Спиноза . Ук. соч., I, 375.102 Там же, II, 423.103 Там же, 426.104 См. там же, I, 376.105 Там же, II. 426.Neque etiam ipsi Substantiae Modi, si cum ejus-
417
modi Entibus rationis seu imaginations auxiliis confunduntur, unquam recte intelligi poterunt. Nam cum id facimus.eos a Substantia. et modo, quo ab aeternitate fluunt, separamus, sine quibus tarnen recte intelligi nequeunt. Opera, IV, 57—58.
106 Там же, 424.107 См. К. Ма р к с и Ф. Энгельс . Соч., т. 2, стр. 154.108 Спиноза . Ук. соч., I, 376.109 В. И. Ленин. Философские тетради. М., 1947, стр. 134. Ср.,
' высказывание Ленина о философии Спинозы как философиисубстанции, стр. 143.
110 Спиноза . Ук. соч., I, 419.111 Там же, II, 634.112 Там же, I, 376.113 Там же, II, 432.114 Там же, 431.115 Там же, 403.116 Там же, 576—577.117 Там же, I, 278—279.118 См. там же, 367. Ср. очень близкое место в письме N° 9 (де Ври
су); II, 415, а также стр. 416. Указанная роль бесконечного числа атрибутов была отмечена рядом авторов, например в советской литературе Мильнером в его кн. «Бенедикт Спиноза». М., 1940, стр. 78—84, в зарубежной — Брюнсвиком (см. Leon В г u n s с h- V i с g. Spinoza et ses contemporains. Paris, 1951, pp. 38—39, 47, a также Lewis Robi ns on . Kommentar zu Spinoza’s Ethik, Bd. I. Leipzig, 1928, S. 112).
119 Спиноза . Ук. соч., I, 89—90.120 Там же, 408.121 Особенно очевидно в примеч. к гл. VII, ч. I. «Этика», см.
там же, 104.122 См. особенно «Этика», ч. I, тт. 2, 4—6, 8, 10 и др. Спиноза .
Ук. соч., I, 110.123 Там же, II, 89. Me hic per Naturam non intelligere solam mate-
. riam ejusque affectiones, sed praeter materiam, alia infinita. Opera, III, 83.
124 Там же, II, 630.125 Wolf . Op. cit., p. 652.126 Это, несомненно от имени Спинозы, сказано в начале третьей
части «Основ философии Декарта». См. Спиноза . Ук. соч.,I, 261.... omnia, quae supra terram odservamus contingere, inter Phaenomena Naturae recensenda judicamus... Opera, I, 227.
127 Там же, 381. Deus sive omnia Dei attributa. Opera, II, 64.128 Там же, 274. Nam ens, quatenus ens est, per se solum, ut sub
stantia, nos non afficit, quare per aliquod attributum explicandum est, a quo tamen non, nisi ratoinem, distinguitur. Opera, I, 240.
129 Там же, 361. Per attributum intelligo id, quod intellectus de substantia percipit, tamquam ejusdem essentiam constituens. Opera,II, 45.
130 См. Гегель. Лекции по истории новой философии. Соч., т. XI, стр. 287, 295 и др.
131 См. J. Е. E r d ma n n . Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neueren Philosophie, Bd. II. Stuttgart, 1933, SS. 59—63. Вопрос об отношении атрибутов к субстанции Эрдманн называет «важнейшим и труднейшим пунктом учении
418
Спинозы». «Атрибуты суть определения, которые внешний разум привносит в субстанцию, саму по себе совершенно неопределенную» (стр. 60) и др. Ср. его же Grundriss der Geschichte der Philosophie, Bd. II. Berlin, 1870, S. 57.
132 См. Куно Фишер. Ук. соч., стр. 378—379.133 См. М. I о е I. Zur Genesis der Lehre Spinoza’s, SS. 18—22 и др.134 См. L. Roth. Spinoza. Descartes and Maimonides, pp. 75—77135 Спиноза. Ук. соч., I, 368.136 См. там же, теорема 10, стр. 367. Ср. письмо № 2 (Ольден
бургу).137 См. К о 1 а к о w s к i. Op. cit., SS. 173, 205 и др.138 См. Куно Фишер. Ук. соч., стр. 389—391. С оговорками к этой
точке зрения примыкает и Робинсон в своей «Метафизике Спинозы», стр. 235—237. Напротив, ее критика содержится в ст. С. Франка. Учение Спинозы об атрибутах. «Вопросы философии и психологии», 1912, кн. IV (114), стр. 527.
139 См. Wolf. Op. cit., p. 653. Вульф пишет здесь, что у Спинозы «’реальность существенно активна», «субстанция — непрерывно активна, каждый атрибут проявляет свойственный ему род энергии по всем возможным путям». В сущности к этой точке зрения приближается и Днльтей, усматривающий глубочайшую связь спинозизма со стоицизмом в «понимании вселенной и человека как системы сил». См. D i 11 h е у. Op. cit., S. 287. Дина- мическое истолкование спинозовской онтологии, отказывающееся от ее интерпретации в качестве механистического детерминизма, дано также в исследовании английского философа Халлета. См.H. F. H al le t t. Benedict de Spinoza. London, 1957, pp. 6, 9, 10, 13, 33 и др.
140 Спиноза. Ук. соч.. I, 206.141 Там же, 393. Dei potentia est ipsa ipsius essentia.142 См. там же, II, 514.143 Там же, I, 110—111. Ср. также приложение «О человеческой
душе», там же, стр. 170.144 Там же, 107.145 Там же, 383.146 Там же, II, 604.147 Там же, I, 415148 Там же, II, 387.149 К. М а р к с и Ф. Э и г е л ь с. Соч., т. 20, стр. 350.150 Спиноза. Ук. соч., I, 338—339. Ср. почти буквальное . повто
рение этой мысли в «Этике», ч. I, там же, 365.151 Там же, 395—396. Ср. стр. 522.152 Там же, 397.153 Там же, 396.154 См. там же, II, 95, 88.155 Там же, I, 393.156 Там же, 398.157 Там же, II, 292.158 Там же, 522.159 Там же, 398.160 Там же, 459.161 Там же, 398... non mechanica, sed divina, vel supernaturali arte
fabrican... Opera, II, 81.162 Там же, 395.
419
163 Там же, 525.164 См. там же, 405.165 Там же, I, 401. Nam rerum perfectio ex sola earum natura, et
potentia est aestimanda... Opera, II, 83.166 См. там же, 403.167 Там же, 523.168 Там же, II, 63. ...res per proximas suas causas definire, et expli-
care debemus... Opera, III, 58.169 Там же. I, 590.170 Там же, 397.171 Там же, 368-369.172 Там же, 367.173 Письмо ЛЬ 58 (Шуллеру). Там же, II, 592. Ср. письмо ЛЬ 34
(Гудде), там же, 520.174 Там же, I, 591.175 См. там же. 416—417.176 Там же, 416. Corpus motum, vel quiescens ad motum, vel quie-
tem determinari debuit ab alio corpore, quod etiam ad motum, vel quietem determinatum fuit ab alio, et illud iterum ab alio, et sic in infinitum. Opera, II, 98.
177 Там же, 385—386. Quodcunque singulare, sive quaevis res, quae finita est, et determanatam habet existentiam... Opera, II,- 69.
178 Там же. 526. Nulla res singularis in rerum natura datur, qua po- tentior, et fortior non detur alia. Sed quacunque data, datur alia potentior, a qua ulla data potest destrui. Opera, II, 210.
179 Там же, II, 63.180 См. там же, I. 525. III. Res singulares voco contingentes, quate-
nus, dum ar earum solam essentiam attendimus, nihil invenimus, quod earum existentiam necessario ponat, vel quod ipsain nuces- sario secludat. IV. Easdem res singulares voco possibiles, quate- nus, dum ad causas, ex quibus produci debent, attendimus, nesci- mus, an ipsae determinatae sint ad easdem producendum Opera,II, 209.
181 Там же, II, 205. ...res tantum ex parte novimus, totiusque naturae ordinem et cohaerentiam maxima ex parte ignoramus... Opera, III, 191. Эти слова повторены в «Политическом трактате», II, § 8, стр. 294.
182 Там же, I, 432.183 См. там же, 390—391.
,184 См. там же, 102, см. также «Трактат об усовершенствовании разума»; там же, I, 323.
185 Там же, II, 508.186 Там же, I, 301. Nam si homines clare totum ordinem Naturae
intelligerent, omnia aeque necessaria reperirent, ac omnia ilia, quae in Mathesi tractantur... Opera, I, 266.
187 См. «Краткий трактат», II, VI; там же, I, 101. Письмо ЛЬ 54 (Бокселю); там же, II, 575 и др.
188 См. там же, 1, 276—277.189 Там же, I, 390. Ср. также, стр. 387.190 Там же, II, 103 (ссылка на Екклезиаста, гл. I, ст. 10) ...nihil
novi in Natura contingere. Opera, III, 95.191 «Этика», I, ex. к т. 17; Спиноза . Ук. соч., I, 379.... a summa
Dei potentia sive infinita natura, infinita infinitis modis, hoc est, omnia necessario exfluxisse, vel semper eodem necessitate sequi,
420
eodem modo, ас ex natura trianguli ab aeterno, et in aeternum sequitur, ejus tres ángulos aequari duobus rectis. Opera, II, 62.
192 Там же, 392.193 Там же, 384. Ср. также стр. 411: «бог составляет причину вещей
не только в отношении их происхождения, но и в отношении их бытия» — Deus non tantum est causa rerum secundum fieri, ...sed etiam secundum esse. Opera, II, 93.
194 «Всякий модус, обладающий небходимым и бесконечным существованием, необходимо должен вытекать или из абсолютной природы какого-либо атрибута бога, или из какого-либо атрибута, находящегося в состоянии необходимой и бесконечной модификации». См. там же, 383.
195 Там же, 385. Res, quae ad aliquid operandum determinata est, a Deo necessario sic fuit determinata; et, quae a Deo non est determinata, non potest se ipsam ad operandum determinare. Opera, II, 68.
196 Там же, 392.197 Там же, 443. Nam, etsi unaquaeque ab alia re singulari determi-
netur ad certo modo existendum, vis tamen, qua unaquaeque in existendo perseverat, ex aeterna necessitate naturae Dei sequitur. Opera, II, 127.
198 Письмо JST? 32 (Ольденбургу). Там же, II, 514.199 Там же, I, 308.200 Там же, I, 116.201 Письмо Ко 63 (от Шуллера). Там же, II, 601.202 Ответное письмо, Л? 64. Там же, II, 603.203 Письмо, № 65. Там же, И, 605.204 Там же, 605-606.205 Там же, I, 101.206 Там же, I, 289. Ср. также, стр. 286, 307, 308.207 См. особенно его письмо № 20, а также № 22. Там же, II, 461,
466, 487.208 См. письмо № 42 (Остенсу от Вельтгюйзена). Там же, 544.209 «Наш философ показывает ту фатальную необходимость вещей,
которые детерминированы к существованию и действию (определенными) причинами, которые в свою очередь детерминируются к существованию и действию другими причинами, а они — третьими, и так вплоть до Бога (первой причины всех вещей, творящей, а не сотворенной)». Цнт. по польскому переводу Предисловия к Opera Posthuma, помещенному в изд. «Benedykl de Spinoza Etyka». Krakow, 1954. Supplementy, str. 409.
210 В дореволюционной русской литературе о Спинозе фатализм как одна из главных характеристик спинозизма утверждается Л. М. Лопатиным в «Положительных задачах философии», т. I. М., 1911, стр. 309, 314. Из советской литературы см. Мильнер. Ук. соч., стр. 118. Более категорично утверждается фатализм Спинозы в рец. на эту книгу Я. Иванова (см. ПЗМ, 1940, JST? 7, стр. 173—-175). Отрицается В. Ф. Асмусом. Ук. соч., стр. 61.
211 Спиноза . Ук. соч., II, 174.212 Письмо № 43 (Остенсу, для Вельтгюйзена). Там же, 555.213 Там же, II, 88. Nihil contra naturam contingere, sed ipsam
aeternum fixum et immutabilem ordinem servare... Opera, III, 82.
\4 Зак. 681 % 421
214 Там же, 94. ... miraculum sive contra naturam, sive supra natu- ram, mere esse absurdum. Opera, III, 87.
215 См., напр., W о 1 f s о n. Op. cit., v. 1, ch. XII, pp. 400—419.216 См. Спиноза . II: «Метафизические мысли», ч. 2, гл. VIII;
стр. 298, письмо Л° 19 (Блеиенбергу); стр. 453; «Богословский— политический трактат», гл. IV, стр. 68.
2,7 См. там же, II, 579—580.218 См. там же, 575, 584—585.219 См., напр., Аксельрод. Спиноза и материализм. «Красная
новь», 1925, №7, стр. 153. Ср. также Б. Быховскнй. Был ли Спиноза материалистом. Минск, 1928, стр. 23. В зарубежной — Rob i ns on . Op. cit., стр. 276. См. также полемику с
с Робинсоном Дунина-Борковского. Spinoza nach dreihundert Jahren Berlin und Bonn 1932, S. 78. См. также Wo If son. Op. cit., v. II, p. 335. См. также Геффдннг . Учебник истории новой философии. М., 1924, стр. 64—66.
220 Спиноза . У к. соч., II, 62. См. также I,. 157—158.221 Там же, 455. ...Natura semper eadem, et ubique una, eademque
eijus virtus, et agendi potentia, hoc est, Naturae leges et regulae, secundum quas omnia fiunt, et ex unis formis in alias mutantur, sunt ubique, et semper eadem... Opera, II, 94.
222 См. Г о л ь б а х. Система природы, ч. I, гл. V. «Лишь в нашем уме существует образец того, что мы называем порядком и беспорядком, как все абстрактные и метафизические идеи, они ие предполагают ничего реального вне нас» (Поль Гольбах. Система природы или о законах мира физического и мира духовного. М., 1940, стр. 38).
223 Спиноза . Ук. соч., II, 110. Один из таких законов, заимствованный у Декарта, см. стр. 62.
224 Там же, I, 310, 311. Leges autem illae naturae sunt decreta Dei Iumine naturali revelata... Opera, I, 276.
225 Там же, 100—101.226 Там же, II, 88—89. Ср. также стр. 96. ... Dei decretum, jussum,
dictum, et verbum nihil aliud esse, quam ipsam naturae actionem, et ordinem. Opera, III, 89. Ср. стр. 49, 90, 102, 103, 281 и др., а также «Политический трактат», гл. II, стр. 291: «под правом природы (jus naturae) я понимаю законы или правила, согласно которым все совершается, т. е. самую мощь природы» — здесь уже нет речи о боге и его «решениях».
227 См. там же, 90, 92. Ср. письмо № 75 (Ольденбургу), там же, стр. 635: «позволительно без всякого хвастовства объяснять чудеса, насколько это возможно, естественными причинами».
2:3 Там же, II, 31. ... nos eatenus Dei potentiam non intelligere, quatenus causas naturales ignoramus. Opera, III, 28.Там же, 91.
233 Там же, 93.231 К. Ма ркс и Ф. Энгельс . Соч., т. 20, стр. 533—534.132 Спиноза . Ук. соч., II, 203. Et quia lex summa naturae est, ut
unaquaeque res in suo statu... conetur perseverare... Opera, III,189.
‘33 См. там же, 290.234 Там же, I, 460, «способность или стремление (potentia sive
conatus) всякой вещи, в силу которого она одна или вместе с
422
другими вещами действует или стремится действовать (agit vcl agere conatur)». Ср. также, I, 463.
235 Там же, II, 603.236 См. там же, I, 100.237 Там же, 294—295. ... per vitam intellegimus vim, per quam res
in suo esse perseverant. Opera, I, 260. Ср. «Этика», т. 36. Там же, 394.
238 Там же, 414. ... quamvis diversis gradibus, animata temen sunt. Opera, II, 96.
239 См. там же, II, 146.240 См. там же, 110, 111, 155 и др.241 См., напр., там же, стр. 80.242 В буржуазной историко-философской литературе панлогизм
почти всегда рассматривается как такое абстрактно-логическое понимание мира, которое невозможно сочетать с материализмом. В русской дореволюционной литературе эта точка зрения четко выражена в кн. В. Шилкарского «О панлогизме у Спинозы» (М., 1914), в которой дается исторический очерк развития панлогистических воззрений от Парменида через Ансельма Кентерберийского и других схоластнков-реалистов до Спинозы. Автор стремится вскрыть неудачу панлогистов установить «цельный идейный синтез отвлеченного сущего и конкретной действительности» (ст. 26), усматривая уже у Парменида «внутренне ничем неоправданный переход» от абстрактного замкнутого понимания сущего к материалистическим представлениям о нем как о мировом шаре (стр. 21). Еще в большей степени подобное сочетание якобы обнаруживает свою несостоятельность у Спинозы, система которого «исторически примыкает к средневековой онтологической спекуляции» (стр. 64), представляя собой «одно из классических видоизменений отвлеченного идеалистического миропонимания» (стр. 72) и тем не менее неожиданно впадает в материалистические «отклонения» (стр. 83) и др. Шилкарский опирается при этом на идеи своего учителя Л. М. Лопатина, отождествляющего пантеизм с панлогизмом («Положительные задачи философии», т. I. М., 1911, стр. 276, 279) и крайне смутно истолковывающего термин «пантеизм» (стр. 280—281).
243 Спиноза . Ук. соч., I, 151; ср. гл. XIX, стр. 147: «главное действие другого атрибута есть понятие о вещи».
244 Там же, 407. ...substantia cogitans, et substantia extensa una, eademque est substantia, quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. Opera, II, 90.
245 Там же. Ordo et connexio idearum idem est, ас ordo et connexio rerum. Opera, II, 89.
246 См. Шопе нг ауэ р . О четверояком корне достаточного основания. М., 1900, стр. 9—10, 12—14.
247 Спиноза . Ук. соч., I, 407.248 См. там же, II, 514.249 Там же, I, 414.250 См. там же, 409. «Идея отдельной вещи, существующей в дей
ствительности, имеет своей причиной бога не поскольку он бесконечен, но поскольку рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи, существующей в действительности, причина которой (идеи) также есть бог в силу того, что он составляет третью .идею и т. д. до бесконечности».
14* 423
251 Там же, 389-390.252 Там же, 405—406. Попытку установить взаимоотношение бес
конечного разума к атрибуту мышления, см. L. Robi ns on . Op. cit., SS. 264—266.
233 Не случайно, конечно, 2-я аксиома, ч. 2-й «Этики« гласит: «Человек мыслит». См. там же, 403.
254 iHanp., «Этика», I, т. 31; там же, I, 388; письмо ЛЬ 9 (к де Врису) ; там же, II, 416.
255 Там же, I, 388—389; «Этика», I, т. 31, доказательство и схолия ...de ipsa scil. intellectione. Opera, II, 72.
256 Там же, I, 108. ... alles klaar en onderscheiden in alle tijden te verstaan; Opera, I, 48.
257 Там же, 405,
К ГЛАВЕ VI1 См. цит. выше первое письмо к Ольденбургу; Спиноза . Ук.
соч., II, 388, а также письмо ЛЬ 61, там же, стр. 599.2 «Этика», ч. III, Предисловие, т. I, «Политический трактат», II,
6, т. II. См. там же, I, 454; II, 292.3 Там же, 209, 294.4 Там же, I, 567. Ср. также Предисловие к третьей части «Этики»,
где цитированные в гл. пятой слова Спинозы об универсальности неизменных законов природы целиком отнесены к человеку,
• там же, стр. 455.5 Там же, 152.6 Там же, 417.7 Там же, 417—419.8 За исключением соображений о том, что сложность человече
ского индивидуума есть результат наличия в теле человека твердых, мягких и жидких частей, отличающихся различной подвижностью. См. там же.
9 Там же, 425.10 Там же, 413—412.11 Там же, 338—339.12 Там же, 402.13 Письмо ЛЬ 32 (Ольденбургу). Там же, II, 514.14 Там же, I, 612. Ср. также, стр. 596.15 Там же, 402.16 Там же, 448.17 Там же, 446.18 Там же, 440. ... nisi putet, ideam quid mutum instar picturae in
tabula, et non modum cogitandi esse, nempe ipsum intelligere.... Opera, II, 124.19 Там же, 281 ... narrationes sive historiae naturae mentales. Ope
ra, II, 108.20 Там же, 425. Mens enim humana est ipsa idea, sive cognitio Cor
poris humani ... Opera, II, 108.21 Там же, 403.22 Там же, 412.23 Там же, 420.24 Предисловие JI. Мейера к «Основам философии Декарта». Там
же, I, 180.25 Согласно Гегелю, как известно, спинозовская субстанция «не
424
доходит даже до определения для — себя-бытия и тем менее до определения субъекта и духа». Г егель. Соч., т. V, стр. 166. Ср. также стр. 284 и «Лекции по истории философии», кн. 3-я,
. см. т. XI. М.— Л., 1935, стр. 298.28 Спиноза . Ук. соч., I, 171.27 Там же, 331.28 См. там же, I, 426. Ср. Куно Фишер. Ук. соч., стр. 489—495..29 Там же.30 Там же, 425.31 См. там же, II, 393.32 Там же, I, 590. Ср. также стр. 434.33 Там же, 415.34 Там же, 458.35 Там же, 448.38 Там же, 457.37 Особенно заострено у Петцольда (см. Пет цоль д . Проблема
мнра с точки зрения позитивизма. СПб., 1909, стр. 141 .̂144);- . «Метафизическое учение Спинозы о параллельном существовании телесных и душевных процессов явилось не только предтечей эмпирического психофизического параллелизма, но наряду с уравнениями механики Галилея было первой подготовкой к замене в будущем старого представления о причинности идей, функциональной зависимости» (стр. 144). Ср. также Ко р не лиус. Введение в философию. М., 1905, стр. 137.
38 Спиноза . Ук. соч., I, 458..39 См. его весьма содержательную ст. Психофизическая проблема
в учении Спинозы. «Труды Белорусского ун-та», 1927, Л® 14—15, стр. 16—17, 20—21 и др.
40 Спиноза . Ук. соч., I, 458—«459.41 Там же, 420. Ср. также, стр. 414—415. 'Между двумя этими,
теоремами и находится вставка о телах (аксиомы, леммы и постулаты).
42 См., напр., письмо № 37 (Боуместеру). Там же, И, 530, а также «Трактат об усовершенствовании разума». Там же, I, 350—351.
43 Там же, I, 425. Ср. также «Краткий трактат», II, XIX о главнейших действиях тела на душу: «тело дает душе возможность воспринять его самого и через него также другие тела», стр. 148.
44 Там же, 421.45 Там же, 423—424.46 Там же, 348—349.47 Там же, 424.48 Там же, 429.49 Там же, .428—430. >50 Там же, 431.51 Там же, 341.52 Там же, 340.53 Там же, 434, а также 526.54 Там же, 527, а также 423.55 Там же, 344.56 Там же, 432.57 Там же, 430.58 Там же, 326.59 Письмо Л® 56 (Бокселю). Там же, И, 585^586. Ср. очень близ
кий к этому ход рассуждений Локка в «Опыте а человеческом
425
разуме», IV, И. 10 (Локк. Избр. фнлос. произв., т. Г. М.. I960, стр. 616—617).
60 См. Спиноза . Ук. соч., I, 324.81 См. там же, II, 417. ¿62 Там же, I, 328.63 См. там же, II, 433.64 Там же, I; 269.65 См. там же, II, 234, 51.66 См. там же, I, 348.67 См. там же, 437—438.68 Там же, 346.69 Там же, 337. Itaque quo existentia generalius concipitur, eo etiam
confusius concipitur, faciliusque unicuique rei potest affingi: econtra, ubi particularius concipitur, clarius turn intelligitur, et difficilius aliqui, nisi rei ipsi, ubi non attendimus ad Naturae ordinem affingitur. Opera, II, 20—21.
70 Там же, 452.71 Там же, 400.72 См. там же, 268.73 Письмо № 12 (к Мейеру). Там же, II, 426—427. '74 Там же, 325. Несколько иначе на стр. 438.75 Там же, 424.76 Там же, 350.77 Там же, 280.78 Там же, 445.79 Там же, 400.80 Там же, II, 193.81 Там же, 120.82 Там же, 586.83 Там же, I, 127. Ср. также подчеркивание Спинозой антнскептн-
ческой роли cogito в его Введении к «Основам философии Декарта», там же, стр. 185 и сл.
84 Там же, 333—334.85 Там же, 438.86 Там же, 434. Ср. письмо N° 64 (Шуллеру), II, стр. 602—603.87 Там же, I, 435.88 Там же, 436. .89 См. там же, 435.90 Там же, 436.91 Там же, 349.92 Там же, II, 529—530.83 Там же, I, 431.54 Там же, 415. Ср. «Трактат об усовершенствовании разума»,
стр. 357 (правило VI).95 Там же, II, 70.96 Там же, 182.97 Там же, 32.98 Там же, II, 445.99 Там же, I, 325.100 Например, Дунин-Борковский в выявлении «нерационалистиче
ского элемента» мысли Спинозы видит одну из главных проблем ее новейших исследований, «ибо в безоговорочный рационализм Спинозы, представлявший некогда догму, ныне не верит ни один знаток». См. его книгу «Spinoza nach dreihundert Jahren»,
426
S. 186. Аналогичным образом Гебхардт считает, что интуитивизм Спинозы отгораживает его от всякого рационализма. «Спино- зовское учение о родах познания принципиально отличает его философию от рационализма, ибо интуиция как чувство и наслаждение вещами и соединение с богом поднимается до высшего рода познания». Здесь, продолжает Гебхардт, Спиноза возвращается обратно к теории познания мистики, обоснованной Плотином и воспринятой им от Леона Еврея, ибо автор «Этики» «интуитивное познание поднимает над дискурсивным». См. Spinoza «Kurze Abhandlung von Gott, dem Menschen und seinem Glück». Einleitung, S. XXIV. В русской литературе сходная точка зрения сформулирована Робинсоном как ограничивающей рационализм Спинозы, см. Робинсон. Ук. соч., стр. 333.
101 Спиноза . Ук. соч., I, 114. Maar klaare kennisse noemen wy dat’t welk niet en is door overtuging van reeden maar door een gevoelen, en genieten van de zaake zelve. Opera, I, 55.
102 Там же, 118 (Ср. XXVI, стр. 162) ...van’t weten, dat niet bestaat in overtuyging van redenen, maar in een onmiddelijke vereeni- ginge met de zaak zelve. Opera, I, 59.
103 Там же, 154.104 См. там же, 113—114.105 См. там же, 327.106 См. там же, 439.107 Обзор некоторых мнений зарубежных исследователей философии
Спинозы (Камерера, Дельбоса, Венцеля, Рихтера, Куно Фишера) на проблему соотношения второго и третьего рода познания. См. Кечекьян. Ук. соч., стр. 35—36.
108 См. Спиноза . Ук. соч., I, 438—439.109 Там же, 325.110 См. там же, 353, 362.111 См. там же, 78. Ср. также II, 68.112 Там же, I, 354.113 Там же, 352.114 См особенно письмо № 9 (де Врису) и письмо № 34 (Гудде).
Там же, II, 414—415, 519.115 Там же, I, 512.116 Предисловие Мейера к «Основам философии Декарта». Там
же, 175.117 Де ка рт . Избр. произв., стр. 86.118 См. Спиноза . Ук. соч., I, 135.119 См. там же, 362.120 Там же, 403. Рёг ideam adaequatam intelligo ideam, quae,
quatenus in se sine relatione ad objectum consideratur, omnes verae idae proprietates, sive denominatones intrínsecas habet. Opera, II 85. О различии между истинной и адекватной идеей см. также письмо № 60 (Чиригаусу), т. II, стр. 597.
121 Там же, 440. Sane sicut lux seipsam, et tenebras manifestât, sic veritas norma sui, et falsi est. Opera, II, 124. Ср. «Краткий трактат». Там же, II, 135.
122 Там же, 638.123 См. там же, I, 328.124 Там же, 439.125 См. там же, «Трактат об усовершенствовании разума», стр. 357
427
(правило V), а также «Этика», II, т. 44, кор. I и кор. 2, т. I, стр. 441—442; V, сх. к т. 29, стр. 608.
126 Куно Фишер сравнивает различные роды познания с этапами в чтении книги: ребенок идет от букв и слов к предложениям и лишь в конце постигает смысл всей книги. С книгой можно сравнивать и весь мир (Куно Фишер. Ук. соч., стр. 511—512). Указанное в тексте сравнение с этапами в изучении нового языка проводится Вульфом (W о 1 f. Op. cit., p. 655).
127 См. К. Ма рк с и Ф. Энгельс . Соч., т. 12, стр. 731.128 Спиноза. Ук. соч., I, стр. 341.129 См. там же, 356.130 См. там же, 332, 351.131 См. там же, 340.132 «Познание бога идет впереди познания всех других вещей, ибо
познание всех других вещей должно следовать из познания первой причины». См. там же, II, 122.
133 Там же, 168.134 Там же, 441. ... adeoque tarn necesse est, ut Mentis dare, et
distinctae idae verae sint, ac Dei idae. Opera, II, 125.135 Письмо № 73 (Ольденбургу). Там же, II, 630.136 «Критика способности суждения», См. Immanuel K an t’s. Wer-
ke В. V. Berlin, 1914, SS. 486-487.137 Спиноз а. Ук. соч., I, 272.138 См. там же, 607.139 Там же, 323.140 Там же, И, 23. Et quamvis clare intelligamus, Deum posse imme
diate se hominibus communicare; nam nullis mediis corporeis adhibitis, menti nostrae suam essentiam communicat.. Opera, lift 20.
141 Там же, I, 444. «Этика», II, ex. к т. 47 (см. также тт. 45, 46, 47).142 Там же, 411.143 Там же, 388.144 Особенно очевидно это по отношению к понятию субстанции, кри
тикуемому Кондильяком в «Трактате о системах» (М., 1938, стр. 99—100), и восторженно одобренному Гегелем как «существенное начало всякого философствования. Ибо когда начинают философствовать, душа должна сначала купаться в этом эфире единой субстанции, в которой все, что мы раньше считали истинным, исчезло». См. Гегель. Лекции по истории философии, кн. 3. Соч., XI, стр. 265.
145 Спиноза . Ук. соч., I, 351.146 Там же, 339.147 Там же, стр. 538.148 Наиболее обстоятельно, филологически обосновано (анализ упот
ребления Спинозой выражений: methodus, mos, ordo)—хотя и с элементами формализма — вторая точка зрения была развита В. Н. Половцовой в ее «Введении» к русскому изданию «Трактата об очищении интеллекта», М., 1914 (стр. 23 и др.) и в упоминавшейся выше статье «К методологии изучения философии Спинозы». «Вопросы философии и психологии»,-Л® 118 (май — июнь 1913 г.), стр. 327—328, 345 и др. В советской литературе эта же точка зрения более сжато сформулирована в ст. И. К. Луппола «Философская система Спинозы» (см. И. К. Луппола . Исто-
-рико-философские этюды. М. — Л., 1935, стр. 65—66).
428
Первая точка зрения представлена в сумбурной книжке В. Ван дека и В. Тимоско. Очерк философии Б. Спинозы. М., 1932, стр. 62 и др.
149 Спиноза . Ук. соч., I, 177.150 См. там же, 177, 178.151 См. там же, II, 401. Характерно также, что в одном из пред
шествующих своих писем (№ 3) к Спинозе Ольденбург, ознакомившись с одной из первых попыток его изложить геометрическим способом важнейшие вопросы метафизики, написал ему: «...вполне одобряю Ваш геометрический способ доказательства, и лишь моя непонятливость мешает мне уразуметь то, что Вы так точно излагаете». Там же, 389.
152 На это, в частности, обращают внимание Робинсон (Ук. соч., стр. 7—8) и Дунин-Борковский в кн. «Spinoza nach dreihundert Jahren», S. 62.
153 Уже Гегель писал об «извилистом (verschränkten) методе.изложения» Спинозой своих мыслей в «Лекциях по истории фи
лософии» (см. Гегель. Соч., т. XI, стр. 284). Ср. далее характеристику способа изложения «Этики» у Couchoud . Op. cit., p. 169: «Автор (т. е. Спиноза. — В. С.) как будто больше озабочен тем, чтобы доказать свою систему, чем сделать ее понятной, или скорее даже он стремится только воспрепятствовать ее опровержению». -В* геометрической форме изложения «Этики» Кушу видит даже «крайнее развитие принципа схоластической аргументации» (стр. 164), что является уже, конечно, искажением сути геометрического метода, ставшего возможным только на почве рационалистической метафизики XVII в. В сущности та же идея по отношению к раввинистической схоластике проводится и Вольфсоном в его монографии о философии Спинозы (Wo If so n. Op. cit., p. IX). Вместе с тем Кушу прав, когда утверждает, что в отношении способа своего изложения «Этика» в своей большей части не удалась» (стр. 155), потому что около половины всего ее текста занято предисловиями, добавлениями и длинными схолиями (стр. 159). Наиболее подробно критика геометрического способа изложения «Этики» проводится в кн.: F. E r h a r d t. Die Philosophie des Spinoza im Lichte der Kritik. Leipzig, 1908, SS. 67—196. Здесь сформулированы крайние выводы вроде того, что ни одна философская система не обоснована так слабо, как «Этика»* (стр. 190), что Спиноза был недобросовестен, когда излагал тем же способом «Начала философии», со многими идеями которых он не был согласен (стр. 184—185). Ср. также L. K o l a k o w s k i Op. cit., S. 423: «Система, которая по замыслу автора должна была стать образцом точности и ясности, фактически едва ли сравнима с другими в отношении трудности интерпретации и при ее изучении требует усилий, в известной мере напоминающих те, которые нужно приложить для разгадывания неимоверно трудного и запутанного ребуса». Правильно поступает Дагоберт Рунз, который издал словарь философии Спинозы («Spinoza — Dictionary». New York, 1951) и «негеометрически» переложил «Этику» («The Road to inner freedom». New York, 1957).
В свое время Гегель подчеркнул, что философия в своих стремлениях к научности «не может для этой цели заимствовать свой метод от подчиненной науки, каковой является математн-
429'
ка» (Предисловие к первому изданию «Науки Логики». См. Г е- гель. Соч., т. V, стр. 4). В. И. Ленин в своем конспекте этого произведения Гегеля выписал это положение (см. В. И. Ленин. «Философские тетради». М., 1947, стр. 61), подчеркнув в дальнейшем, что «метод философии должен быть ее собственный (не математики, contra Спинозы, Вольфа и других)». Там же, стр. 70-
154 Спиноза . Ук. соч., II, 119.155 Там же, I. 329, 331.156 Там же, II, 388.157 Б э к о н. Новый Органон, стр. 120.158 Особенно в сх. к т. 49, ч. II «Этики», а также в указанном
письме Ольденбургу. См. Спиноза . Ук. соч., I, 450—451; И,389.
159 «Этика», II, сх. к т. 35, II, сх. к т. 2. Письмо JST? 58 (Шуллеру). См. там же, I, 433, 460; II, 592.
160 Там же, I, 455—446.161 Там же, 139.162 Там же, 450.163 Там же, 446. Ср. «Метафизические мысли», «воля есть не что
иное, как сама душа, называемая нами мыслящей вещью, т. е. утверждающей или отрицающей... утверждать и отрицать... и значит мыслить», там же, 314.
164 Там же, 447.165 Там з̂ е, II, 482.166 Там же, I, 449—452. Здесь же ответ Спинозы на известный
пример Буриданова осла.167 Там же, 460.168 Там же, 445.169 Там же, II, 592.170 Там же, I, 482.171 Там же, 456.172 Там же, 464.173 Там же, 507—508.174 Там же, 518.175 Там же, 510.176 Там же, 484.177 Там же, 506.178 Там же, 498.179 Там же, 495: «...различные люди могут подвергаться со стороны
одного и того же объекта различным аффектам, и один и тот же человек может в разные времена подвергаться от одного и того же объекта разным аффектам».
180 Там же, 519.181 Там же, 503—504.182 Обычно Спиноза употребляет термин «аффект», иногда в смыс
ле «страсти». Напр., в самом названии 4-й ч. «Этики» «О человеческом рабстве или о силах аффектов», хотя речь идет нео всяких аффектах, а лишь о пассивных, т. е. о страстях.
183 Там же, 496.184 Там же, 536 (ссылка на «Метаморфозы» Овидия, VII, 20). То
же в письме № 58 (Шуллеру).185 Там же, 506.186 Там же, 568.430
187 Там же, 529,188 Письмо № 74. Там ж е, II, 631—632.189 Письмо Кя 58. Там же, 594.190 Письмо № 56. Там же, 585. Ср. 7 опр., 1ч. «Этики», 6 котором
шла речь выше, т. I, стр. 362. .191 Письмо Кя 58. Там же 591. Ср. «Политический трактат», II,
§ 11—«свобода не уничтожает необходимости действования, но предполагает», стр. 295.
192 Там же, I, 144.193 Там же, I, 529. См. также I, сх. к т. 20, стр. 603.194 Письмо № 21, там же, II, 479—480.195 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 20, стр. 116.196 Спиноза . Ук. соч., I, 596.197 Там же, 591.198 Там же, 597. Ср. «Краткий трактат», II, XXI: «...все, находимое
нами в себе, имеет над нами больше власти, чем приходящее к нам извне», стр. 153.
199 Там же, 592—593.200 См. там же, 594.201 Там же, 594—595.202 См. там же, 592, 603.203 См. там же, 588.204 Там же, 593.205 См. особенно «Этика», IV. Прибавление, гл. II. Там же, I, 581.206 Там же, 548.207 Там же, II, 95.208 Там же, I, 332. Et cum per se clarum sit, mentem eo melius se
intelligere, quo plura de Natura intelligit... Deinde, quo plura• mens novit, eo melius et suas vires, et ordinem Naturae intelligit: quo autem melius suas vires intelligit, eo facilius potest seipsam dirigere, et regulas sibi proponere; et quo melius ordinem Naturae intelligit, eo facilius potest se ab inutilibus cohibere, in quibus tota consistit Methodus, uti diximus. Opera, II, 16.
209 Там же, 582.210 Там же, 587.211 К. Ма ркс и Ф. Э н ге л ьс. Соч., т. 20, стр. 116.212 Спиноза . Ук. соч., I, 587. Quod si clare, et distincte intelli-
gamus, pars illa nostri, quae intelligentia definitur, hoc est, pars melior nostri, in eo plane acquiescet, et in ea acquiescentia perseverare conabitur. Nam, quatenus intelligimus, nihil appetere, nisi id, quod necessarium est, nec absolute, nisi in veris acquiescere possumus; adeoque quatenus haec recte intelligimus, eatenus cona- tus melioris partis nostri cum ordine totius Naturae convenit. Opera, II, 276.
213 См. там же, 534—536.214 Там же, 530.215 Там же, 604.216 См. там же, 610.2,7 См. там же, 609, 612. Ср.: Ko l a kows k i . Op. cit., SS. 395—399.
Ср. также высказывание Рассела: «Познавательная любовь к богу—это соединение мысли и эмоции: оно состоит — я думаю, каждый может это сказать — в истинном мышлении вместе с радостью понимания истины», «познавательная любовь — это весьма
431
специфический вид любви». Б. Рассел. История западной философии. ИЛ, М., 1959, стр. 594, 595.
218 Спиноза . Ук. соч., II, 577—578.219 См., напр., Рене Вормс. Мораль Спинозы. СПб., 1905,
стр. 2—5; V. Del bos. Le problème moral dans la philosophie de Spinoza et dans l’histoire du spinozisme. Paris, 1893, pp. 191—193. Ko l a kows k i . Op. cit., s. 387—389. О возможном заимствовании идеи amor Dei intellectualis у Маймонида или Леона Еврея см. Couc houd . Op. cit., pp. 301—302. Преимущественное влияние Маймонида на спинозовскую концепцию бессмертия подчеркивает Леон Роте, рассматривающий эту концепцию в плане индивидуального бессмертия в меру заслуг каждого, кто максимально увеличил разумную часть души и соответственно сузил часть, связанную с представлением (Roth. Spinoza, Descartes and Maiminides, pp. 138—142).
220 Спиноза . Ук. соч., I, 604—605.221 См. там же, 615.222 См. там же, 611.223 См. там же, 606.224 См. там же, 556.225 Так понял Спинозу и Блейенберг, см. письмо № 24. Там же, II,
497—498. Там же, 605.226 См. там же, I, 609.227 Там же, 613. Противоположное утверждает Вольфсон, полагаю
щий, что спинозовская доктрина бессмертия была непосредственной критикой идей Дакосты о смертности человеческой души.См. Wo If so п. Op. cit., v. II, pp. 323—325. Следует также от
метить в этой связи, что французский исследователь Рева указывает, что в противоположность Дакосте, де Прадо и другим деистам-сефардим Спиноза, преодолевая их дуализм посредством пантеизма, вместе с тем противопоставляет простому отрицанию бессмертия души с их стороны безличное бессмертие души, или вечность ее. См. Re va h. Op. cit., p. 53.
К ГЛ А В Е V I I1 См. «Краткий трактат», II, XVIII, и начало «Трактата об усо
вершенствовании разума». Спиноза . Ук. соч., I, 142—143, 320—321.
2 «Этика», II, дополнение. Там же, 452.3 «Краткий трактат», II, IV, там же, 119.4 «Этика», I, прибавление. Там же, 395.5 Там же, 523. Ср. Кечекьян. Ук. соч., стр. 99—100.6 Там же, 503.7 Там же, 500, 504—505.8 Там же, 464.9 Там же, 524.
10 Там же, 487.11 Там же, И, 287.12 Там же, 288.13 Там же, 288—289.14 См. «Трактат об усовершенствовании разума»; там же, I, 324.15 Там же, I, 144.16 Там же, 541.
432
17 Там же, 542.18 Там же, 539—540.19 Там же, 564.20 Письмо № 20. Там же, II, 467.21 Письмо № 21. Там же, 477.22 Письмо № 53. Там же, 556.23 Там же, I, 299.24 Там же, 452.25 Там же, 617. Beatitudo non est virtutis praemium, sed ipsa vir-
tus. Opera, II, 307.26 Там же, 602.27 Там же, 601.28 Там же, 612.29 Там же, 616.30 Там же, II, 378.31 Там же, I, 616—617.32 Там же, II, 106.33 Там же, I, 455.34 Там же, 569.35 Там же, II, 301.36 Там же, I, 537—538.37 Там же, 587.38 См. Couchoud. Op. cit., pp. 226—231. См. также D u n i n-B о г-
k o w s k i. Der junge de Spinoza, S. 493.По-видимому, Спиноза в Предисловии к третьей части «Эти
ки» имеет в виду стоиков (Сенека, Эпиктет): «Однако были и выдающиеся люди (труду и искусству-которых мы, сознаемся, многим обязаны), написавшие много прекрасного о правильном образе жизни и преподававшие смертным советы, полные мудрости»;!, 454. См. D il they. Op. cit., S. 285. Здесь и далее Дильтей проводит широкую аналогию между этикой Спинозы и этикой стоиков.
39 См. Спиноза . Ук. соч. I, 119.40 Там же, 524.41 См. там же, 560 и др.42 См. там же, 561 и др.4Ь См. там же, I, 537, 585 и др.44 См. там же стр. 537, 599 и др.45 Там же, 143.46 См. там же, I, 506.47 Там же, 560. Ср. также стр. 597.48 Там же, 579.49 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 21, стр. 296.50 Программа КПСС, часть вторая, разд. V, § I.51 См., напр., Рене Вормс. Мораль Спинозы. СПб., 1906, гл. XIII
(стр. 171—’175), а также Гюйо. Мораль Эпикура. СПб., 1899, стр. 312, 317. Некоторая переоценка эпикурейского компонента этики Спинозы за счет стоического в кн.: А. Ф. Ш и ш к и н. Из истории этических учений. М., 1959, стр. 112.
52 См. Спиноза . Ук. соч., I, 588.53 Там же, II, 233.54 Там же, И, 326.55 Там же, 292.56 Там же, 287.
433
57 Там же, I, 599. л58 Там же, 573, 583.59 Там же, 576.60 Там же, 587.61 Там же 449—560.62 См. об этом Feuer . Op. cit., pp. 200—202.63 Спиноза . Ук соч., II, 476.64 Кроме цитированных в первой главе соображений Энгельса, ср.
также слова Каутского: «Материализм XVI века, действительно, зародился не среди притесненных классов, а у самих притесни* телей. Не верили в бога и в бессмертие души как раз именно папы, кардиналы, государи и их присные; их презрение к религии шло рука об руку с презрением к народу». Каутский. Томас Мор и его утопия. М., 1924, стр. 276—277.
65 См. сообщение Сент-Эвремона о его впечатлении от своих встреч со Спинозой, напечатанное у F r e i d e n t h a l . Op. cit., SS. 237—238.
66 Спиноза . Ук. соч., I, 560.67 Там же, 324.68 Там же, 557—559.69 Там же, 584.70 Интересное п обстоятельное рассмотрение этого вопроса см.
в кн. Ричарда Тони «Религия и возникновение капитализма», где, в частности, автор доказывает городской и буржуазный характер религиозной доктрины кальвинизма. Автор приходит также к выводу, что как сугубый буржуазный индивидуализм, так и христианский социализм могут быть выведены из доктрины Кальвина. См. R. Н. Tawney. Religion and the rise of capitalism. New York, 1942, p. 89—90. См. также Б. Ф. Порш* нев. Кальвин и кальвинизм. «Вопросы религии и атеизма», VI. 1958, стр. 286—287.
71 Спиноза. Ук. соч., I, 578.72 См. там же, 559.73 Там же, 586.74 См. там же. 323: «Приобретение денег или любострастие и тще
славие вредны до тех пор, пока их ищут ради них самих, а не как средства к другому». См. также стр. 324, правило жизни III.
75 См. там же, I, 550, 542 и др.76 Там же, 581, 582.77 Там же, II, 640.78 Там же, I, 615.79 Там же, 607.80 Напр., Виндельбанд писал, что в этом пункте спинозизма обна
руживается «сочетание глубоко прочувствованного мистицизма с ясным рационализмом». Винд е л ь б а нд . История новой философии, т. I, СПб., 1902, стр. 168.
81 См. Richard Kr oner . Speculation and Revelation in Modern Philosophy. Philodelphia, 1961, pp. 137, 138, 144.
82 К. Ма ркс и Ф. Энгельс . Из ранних произведений. М.,1956, стр. 201.
83 См. Спиноза . Ук. соч., I, 529.84 См. там же, 587.
434
85 См., напр., Кечекьян. Ук. соч., стр. 93; Feuer . Op. cit., р. 199; К о i а к о w s k i. Op. cit., S. 216.
86 Спиноза . Ук. соч., II, 83.87 Там же, 66.88 См. там же, I, 143.89 Там же, 579.90 Там же, II, 312.91 Там же, I, 538. ...justos, fidos atque honestos esse... Opera, II, 223.92 См. Гоббс. Левиафан, стр. 117. Вопрос о различии правового
учения Спинозы и Гоббса обстоятельно выяснен в кн.: Кечекьян. Ук. соч., стр. 181—184, 197—199, 210 и др.
93 Спиноза . Ук. соч., II, 203.94 Там же, 295.95 Там же, 204.96 См. там же, 291.97 Там же, 297.98 См. там же, I, 554.99 См. там же, II, 205.00 См. там же, 567.01 Там же, 300.02 Там же, 301 ...status civilis naturaliter instituitur ad metum com-
munem adimendum, et communes miserias propellendum... Opera,III, 286.
03 См. Платон. Государство, II, 369 В—372 в.04 См. об этом А. О. Ма к о в е л ь с к ий . Древнегреческие атомис
ты. Баку, 1946, стр. 118.05 Спиноза . Ук. соч., II, 79.06 См. там же, I, 586.07 Там же, 549, 583.08 См. там же, II, 296, а также I, 549.9 Там же, II, 290.0 Там же, 314.1 Там же, 288.2 См. там же, I, 492.3 Там же, II, 332.4 Там же, 79.5 См. там же, I, 546—547, 549.6 Там же, 586.7 См. там же. И, 378.8 Там же, 312.19 См. там же, 302.0 Там же, I, 574. Ср. «Краткий трактат», там же, стр. 143.1 См. там же, I, 583, 552.2 Там же, стр. 549.3 Там же, II, 296.4 Там же, 51.5 Там же, 262.6 Там же, 260.7 Там же, 263.8 См. там же, I, 538.9 См. там же, II, 327.0 Там же, 288.1 Там же, 289.2 Там же, 314.
435
133 Там же, 219.134 См. там же, 290.135 Там же, I, 582.136 Там же, стр. 618.
К ГЛАВЕ VIII
1 Спиноза . Ук. соч., II, 126—127.2 05 этом можно судить даже по переписке Спинозы. См. в осо
бенности письма Блеиенберга (X? 20) и один из ответов Спинозы; там же II, 457, 492, а также письмо Бурга (Хя 67). Там же, 611—612.
3 Там же, 193.4 Там же, 195.5 Напр., Кушу указывает, что критика Спинозой Маймонида и
Альфахара имеет в виду прежде всего его современников, в особенности Л. Мейера и кокцейянцев. См. Couchoud. Op. cit., pp. 95—96.
6 Спиноза . Ук. соч., II, 120.7 См. там же, 201.8 См. там же, 145.9 См. F r e u d e n t h a l . Op. cit., SS. 22—23.
10 Спиноза . Ук. соч., И, 192.11 В особенности Иоэль подчеркивает зависимость ряда положе
ний «Богословско-политического трактата» от «Морэ Небухим», впрочем, и от «Ор Адонаи» Крескаса и некоторых других средневековых еврейских ученых. См. I о е I. Spinoza’s Theologischpolitischer Traktat auf seine Quellen geprüft. Breslau, 1870, SS. 9—14, 30, 62—64. Леон Роте также пытается доказать, что спинозовская критика Ветхого завета является непосредственным продолжением идей Маймонида, см. Roth. Spinoza. Descartes and Maimonides, особенно pp. 65—73. Ср. также W о 1 f- s о n. Op. cit., pp. 328—330, а в русской литературе А. Волынский. Теолого-богословское учение Спинозы. «Восход», СПб., 1885, Хя 10—12.
12 Спиноза . Ук. соч., II, 198.13 Там же, 124.14 Там же, 476.15 Там же, 179—180. Ср. стр. 22.16 Там же, стр. 201.17 Там же, 193.18 См. там же, 18 и др.19 Там же, 36.20 Там же, 88.21 См. там же, 99—100.22 Там же, 107.23 См. там же, 107—109.24 См. Д а к о с т а. Ук. соч., стр. 85.25 См. Гоббс. Левиафан, стр. 284—285.26 Спиноза . Ук соч., II, 130—131. Более подробное изложение
этих вопросов см. в кн.: А. Р а н о в и ч. Очерк истории древнееврейской религии. М., 1937, стр. 11—13; в ст. М. С. Б е л е н ь кого. Спиноза и его критика Библии. «Вестник истории ре-
436
лнгии h атеизма», М., 1958, V, а также в кн.: И. А. Крывс- л е в. Книга о Библии. М., 1958, стр. 62—71.
27 См. Спиноза. Ук. соч., II, 186.28 had out throune him a barres lengh, for he durst not write so
bodly — приведено y Feuer/a. Op. cit., p 66. См. также F. Tön- nies, Thomas Hobbes, Stuttgart, 1925, S. 286.
29 C m. C. Ge bha r d t . Die Religion Spinoza’s. SS., 348, 351—353, a также Vi er Reden, SS. 6—7.
30 Спиноза . Ук. соч., И, 289.31 Там же, II. Ср. Д а к о с т а. Ук. соч., стр. 98.32 Там же, 10. Ср. стр. 2120. Ср. также письмо № 73 (Ольденбургу)
от ноября— декабря 1675 г., в котором философ, говоря о том, что церковники «аргументируют одними чудесами, т. е. невежеством», превращающим веру в суеверие, пишет, намекая, по-видимому, на принца Оранского: «Я сильно сомневаюсь, дозволит ли когда-нибудь король применить надлежащее средство против этого зла», стр. 630.
33 Там же, 640.34 Там же, 8—9.35 Там же, 26.36 Там же, 200.37 Там же, 16.38 Там же, 192.39 Там же, 125.40 Там же, 202.41 См. там же, I, 565.42 Толанд, введший, как упоминалось, термин «пантеист» для обо
значения «свободомыслящих», писал в «Кратком рассуждении о необходимости двойственной философии пантеистов и об идее лучшего и славнейшего мужа»: «Но, быть может, пантеистам поставят в вину, что у них двойственное учение, т. е. внешнее (экзотерическое), или народное, как бы приспособленное к предрассудкам толпы или к догматам, публично признанным за истину, и внутреннее (эзотерическое) или философское, вполне согласное с природой вещей и самой истиной; и что эту тайную философию, всю целиком и без всякой личины и двусмысленности, они сообщают (при закрытых дверях) только друзьям, честность и благоразумие которых испытаны. Но кто, кроме тех, кто не сведущ в человеческой природе и* истории, усомнится, что, поступая так, они поступают мудро? Основание для этого ясно. Ни одна религия, ни одна секта не допускает, чтобы ей противоречили, считали ее догматы заблуждениями, ее обряды нелепостями». См. Джон Толанд. Избр. соч., М.— Л., 1927, стр. 179.
43 Спиноза . Ук. соч., II, 187.44 См. там же, 190—191.45 Там же, 84—85.46 Там же, 189.47 См. там же, 23, 69—*70.48 См. там же, 169, 175.49 См. письма Ольденбурга 74 и 77. Там же, 632, 642.50 Письмо № 78. Там же, 644.51 Письмо Лр9 79. Там же, 646.52 Там же, 365.
437
53 Особенно в письме № 30 (Ольденбургу), излагающем мотивы, заставившие Спинозу приступить к написанию «Богословско- политического трактата»: «2) мнение, распространенное обо мне в толпе, которая не перестает обвинять меня в атеизме,— это мнение я также пытаюсь по возможности рассеять»; там же, И, 508.
54 См. самый конец Краткого трактата, где Спиноза, ссылаясь на «характер века, в котором мы живем», настоятельно рекомендует друзьям, для которых написан этот трактат, «соблюдать осторожность при . сообщении этих вещей другим». Там же,I, 164.
55 По-видимому, самому Спинозе угрожала аналогичная участь, на что, возможно, и намекал Лукас в конце своей «Жизни Спинозы»: «Наш философ, следовательно, очень счастлив нё только славой своей жизни; но и обстоятельствами своей смерти, на которую он смотрел неустрашимым оком (как это известно нам от присутствовавших при сем); словно он радовался тому, что жертвует собой для своих врагов, чтобы память их не была опозорена его убийством».
56 См. Спиноза . Ук. соч., II, 558—559.57 Там же, 554.58 См. там же, 171. См. также в письме № 44 характеристику кни
ги «Политический человек», стр. 559.59 Там же, 630.60 См. там же, 170. Ср. стр. 93.61 Там же, 410—411.62 Первое произведение Курбага «Ееп Bloemhof van allerley sonder
verdriet», вышедшее в феврале 1668 г. — нечто вроде философского словаря, напоминающего словарь Бейля и даже Вольтера. Второе —«Het Licht schynende in Dystere PIaatsen om te ver- ligten de vornaamstersaaken der Gods geleertheyd», напечатанное в мае того же года, дает обстоятельную критику основных положений христианского учения,
О содержании этих книг и процессе Адриана и Иоганна Курбаг см. М е i n s ш a. Op. cit., SS. 367—396. Протокол допроса Адриана у F r e u d e n t h a l . Op. cit., SS. 119—120.
63 Спиноза. Ук. соч., II, 619.64 Там же, 541, 553. Ср. сообщение Стоупе, полковника француз
ской службы, .из его «Религии голландцев» (1673): главная цель «Богословско-политического трактата» состоит, по всей вероятности, в том, «чтобы разрушить все религии, в особенности христианство и иудейство, и ввести атеизм, либертинаж и свободу всех религий», эта книга «полностью опрокидывает основания всех религий». См. отрывок из La religion des hollondois (A Cologne, 1673). y F r e u d e n t h a l . Op. cit., S. 195.
К Г Л А В Е IX
1 См. F r e u d e n t h a l . Op. cit., SS. 266—269. Частично эти материалы опубликованы по-русски в Приложении к «Богословско- политическому трактату», М., 1935, стр. 384—391.
2 См. Мах Gr ü n wa l d . Spinoza in Deutschland, Berlin, 1897,
43S
S. 47. См. также Paul Ve r n i ère. Spinoza et la pensée française avant la Revolution. Premiere partie, le XVII siccle (1665—1715). Paris, 1954, p. 35.
3 См. V e r n i e r e. Op. cit., pp. 50—52. См. также Ernst Altkirch. Maledictus und Benedictus. Spinoza im Urteil des Volkes und der geistigen bis auf Constantin Brunner. Leipzig, 1924, SS. 66—67.
4 V e r n i e r e. Op. cit., Deuxième Partie. Le XVIII siecle, p. 333.5 Цит. по кн. F r e u d e n t h a l - Ge b h a r d t . Spinoza. Leben und
Lehre, Zweiter Teil. Heidelberg, 1927, S. 215.6 C m . Al t k i r ch . Op. cit., S. 61.7 V e r n i e r e. Op. cit., p. 356.8 Ibid., pp. 388—389.9 Ibid., p. 330. Ср. также p. 373.10 См. в особенности IV, 16; V, 4. Джон Толанд. Избр. соч.
М.— Л., стр. 92, 97.11 См. Ла ме т т ри . Краткое изложение философских систем.
Спиноза. Избр. соч. М.— Л., 1925, стр. 159—160.12 См. Oeuvres complétés de Denis Diderot, tome troisième, Paris,
1818, p. 681, a также русский перевод этой статьи Дидро в журнале «Под знаменем марксизма», 1923, Я? 6—7. Проблеме отношения Дидро к философии Спинозы посвящена также содержательная статья Б. Э. Быховского «Дидро о Спинозе». «Труды Белорусского университета», 1927, N° 16.
13 См. Diderot. Op. cit., p., 687.14 См., напр., Herbert Lindner Das Problem des Spinozismus im
Schaffen Goethes und Herders, Weimar, 1960, SS. 88—90, 82—83. Здесь же Лииднер полемизирует с Кохом, Вальцелем, Визе, пытавшимися возвести пантеизм Гёте к Плотину. Интересно также проводимое здесь различие в понимании индивида Гёте — Гердером, с одной стороны, и Спинозой —с другой.
15 См. Li ndne r . Op. cit., SS., 80, 88, 92, а также-A 11 k i г ch. Op cit., S. 108; С лекторский. Цит. соч., т. II, стр. 336.
16 См. «О четверояком корне закона достаточного основания», § 8. М., 1900, стр. 12, 15, а также «Мир как воля и представление», т. II, М., 1901, стр. 669—671.
17 Гегель. Соч., т. XI. М.—Л., 1935, стр. 285.18 См. К. Ма ркс и Ф. Энгельс . Соч., т. 2, стр. 154.19 N о V а 1 i s. Schriften, hrsg von E. Heilborn, Teil II, I. Hälfte.
Berlin, 1901, S. 344.20 См. Шл е йе рма хе р . Речи о религии к образованным людям,
ее презирающим. М., 1911, стр. 41.21 «Основные положения философии будущего», § 15. См.
Л. Фейербах. Избр. филос. произв., т. I. М., 1955, стр. 155.22 «Лекции о сущности религии», Л. Фейербах. Избр. филос.
произв., т. II, М., 1955, стр. 500—501.23 «Основные положения философии будущего», § 23, т. I. Там же,
стр. 167.24 «Предварительные тезисы к реформе философии», т. L Там же,
стр. 114.25 Заключительные критические замечания 1847 г. о Спинозе. См.
«Под знаменем марксизма», 1937, Кя 9, стр. 74.26 «Лекции о сущности религии», IX, т. II, стр. 590—591.27 Письмо А. Н. и М. Н. Чернышевским от 11/1V 1877. См.
439
Н. Г. Че рныше вс кий . Избр. фнлос. соч., т. III. М., 1951, стр. 714.
25 См. S. D u n i п-В о г к о w s к i. Spinoza nach dreihundert Jahren. Berlin and Bonn, 1932» SS. 140, 158.
29 Cm. S p i n o z a Redevivus. Halle, 1919, S. 36.30 Cm. L. Roth. Spinoza. London, 1954, p. 219.31 См. C. Ge b h a r d t . Spinoza. Vier Reden. Heidelberg, 1927, S. 17.32 Ernest Renan. Spinoza. Conference tenue a la Haye le 12/11 1877.
Chronicon Spinozanum, tomus quintus. Hagae comitis, MCMXXVII, pp. XXVII, XXIV, XVIII.
33 См. его ст. «Понятие о боге (в защиту философии Спинозы)». «Вопросы философии и психологии», 1897, кн. 37, стр\ 157—184.
34 См. Jgnacy Mys l i cki . Znaczenie filozofii Spinozy dlia nasze- go czasu, Ch. Spin., V, SS. 120—121.
35 Cm. L i c h t e n b e r g . Gedanken. Weimar, 1950, S. 44.36 См. А 11 k i г с h. Op. cit., SS. 196-205.37 Sp i noza . Vier Reden, SS. 11—12. См. также ст. «Божествен
ный еврей» в Spinoza — Festschrift, hrsg von S. Hessing. Heidelberg, 1933, SS. 38—43.
38 См. его предисловие к «Kurze Abhandlung». Hamburg, 1959, S. XIX, а также «Vier Reden», SS. 13—14.
39 «Vier Reden», S. 17. См. также его ст. «Что такое спинозизм?» в изд. «Spinoza von den festen und ewigen Dingen». Heidelberg, 1927, SS. XLIV—XLIX.
40 «Vier Reden», S. 14. Ср. также слова Сантаяны: «Спиноза является одним из тех великих людей, чье величие становится все более очевидным с течением лет». Цит. по кн.: К а у s е г. Spinoza. Portrait of а Spiritual Него. New York, 1946, р. VIII.
41 Spinoza — F e s t s с h г i f t. SS. VII—XI. Новое издание сборника: Spinoza — Dreihundert Jahre Ewigkeit. Spinoza — Festschrift. 2 Vermehrte Auflage. Haag, 1962.
42 Henri Se r ouya . Spinoza. Sa vie, sa philosophie. Paris, 1947, p. 23.
43 См. A. Ei n s t e i n . Philosopher-Scientist. New York, 1951, pp. 103, 659—660.
44 A. E i n s t e i n . Mein Weltbild. Amsterdam, 1934, S. 41. Ср. также его небольшую заметку в Spinoza — Festschrift, S. 221.
45 Mein Weltbild, S 42.46 Лишь некоторые философы, склонявшиеся к иудаизму, отрицали
иудаистскую сущность спинозизма. Напр., Герман Коген писал, что Спиноза как «непосредственный обвинитель иудейства перед лицом христианского мира» «для новой истории иудейства представляет самую тяжелую помеху и поэтому большое несчастье». Цит. по Al t k i r c h . Op. cit., S. 189. Ряд резких выпадов против Спинозы как ренегата, врага иудаизма и «клеветника» на него сделал Г. Б. Шлозберг в своей брошюре «Месть Спинозы за херем» (Париж, 1933, по-русски).
47 См. ст. Joseph Kl a us ne r . Der jüdische Charakter der Lehre Spinoza’s. Spinoza-Festschrift, S. 145, а также Spinoza-Dictionary. New York, 1951, р. XI.
46 См. его ст. «zasset uns gutmachen das Unrecht», помещенную в сб. «Spinoza-Dreihundert Ewigkeit», Haag, 1962, SS. 1—3.
49 Spinoza-Festschrift, SS. 124—127.50 Ibid., SS. 111—113. С другой стороны, профессор университета
440
в Коимбре Иоахим де Карвалло, переведший «Этику» иа португальский яз., утверждает, что Спиноза думал именно на этом языке. См. Jacques Che va l i e r . Histoire de la Pensee, t. III, La pensee moderne. Paris, 1961, p. 725.
51 Cm. Roth. Op. cit., p. 234.52 Wol f son. Op. cit., p. 20, а также pp. 13,353—354. Cp. Roth.
Op. cit., pp. 220—233.53 W о 1 f s о n. Op. cit., p. VII.54 Cm. S e г о u у a. Op. cit., p. 56.65 См. его предисл. к «The Road to inner freedom». New York, 1957,
т. 13, а также Se r ouya . Op. cit., p. 61.56 «The Road to inner freedom», pp. 10—13.67 Spinoza-Dreihundert Jahre Ewigkeit, S. 7.68 Dünner . Baruch Spinoza and Western Democracy, New York,
1955, pp. 70, 83, 87.59 Cm. Ibid., в особенности, pp. 117, 120—123; 131—138.60 См. его ст. Sommes — nous spinozistes? Chr. Spin., V, p. 64.61 Cm. W о 1 f s о n. Op. cit., p. 328.62 Dunner . Baruch Spinoza and Western Democracy, New York,
1955, p. 5963 Cm. Ruth Lydia Saw. The Vnidication of Metaphysics. A stu
dy in the Philosophy of Spinoza. London, 1951, p. 11, 16.C4 D u n i n-B о r k о w s k i. Op. cit., S. 186.65 Cm. R. Kroner . Speculation and Revelation in Modern Philo
sophy. Philadelphia, 1960, pp. 122, 123, 125.66 К их числу принадлежат книги и статьи неотомистов, напр.
Поля Зивека, рассматривающего «религию Спинозы» как «рафинированный эгоизм», ибо религия «без веры, без надежды, без любви» скорее представляет собой «радикальную ревизию понятия религии». См. P. S i w е k. Spinoza et le pantheisme religieux. Paris, 1937, pp. 106, 250.
В своих послевоенных работах Зивек проводит дальнейшее размежевание между спинозизмом и неосхоластикой, основывающейся на философии Фомы. Философ-неотомист делает при этом ряд выпадов предубеждения и враждебности против учения и личности нидерландского мыслителя. См., напр., его ки. «Au coeur du spinozisme». Paris, 1952, pp. 120, 122, 208, 237. Из «светских» противников религиозного истолкования спинозизма можно назвать американца Элмера Пауэла. См. Е. Powel l . Spinoza and Religion. Boston, 1941, pp. 339—340.
67 Feuer . Op. cit., p. 30.68 Ibid., p 222. См. также рец. Джорджа Клайна на кн. Фейера
и другие произв., посвященные Спинозе — G. L. Kl ine. Spinoza east and west: six recent studies in spinozist philosophy. The journal of philosophy. June 1961.
69 Feuer . Op. cit., p. 247 и др. Отвержение понятия субстанции с точки зрения неопозитивизма см. в кн. Б. Ра с с е ла . История западной философии. М., 1959, стр. 596—597.
70 См. Spinoza-Festschrift. SS. 221—222.71 S. Ha mp s h i r e . Spinoza. London, 1953, p. 142.72 Feuer . Op. cit., pp. 85, 216 и др.73 Ibid., pp. 104, 114 и др.74 См. К о 1 a k о w s k i. Op. cit., SS. 618—619.75 Ibid., S. 612.
441
76 Ibid., S. 8.77 См., напр., ст. E. A. К о м а p о в а и С. И. Ми х а и л о в а. Ста
рые погудки иа новый лад. «Вопросы философии», 1954, № 4; И. С. H а р с к о г о. Об историческом материализме как марксистской социологии. «Вопросы философии», 1959, № 4; Ярослав Ладош. Методологическое значение «Философских тетрадей»В. И. Ленина для развития марксизма в Польше. «Вопросы философии», I960, № II.
78 К о 1 а к о w s к i. Op. cit., S. 579.79 Ibid., S. 335.80 C m . ibid., SS 621—623.81 «О мнимом кризисе марксизма»; «Бернштейн и материализм»:
«Cant против Канта»; Предисловие к (его же) переводу работы Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»; «Основные вопросы марксизма»; «Трусливый идеализм». Предисловие в кн. А. Деборина «Введение в философию диалектического материализма»; «От идеализма к материализму»— все эти работы напечатаны в «Избранных философских произведениях» Г. В. Плеханова, т. II. М., 1956 и т. III, М.,1957. В дальнейшем ссылки не соответств. т. и стр.
82 См., напр., т. II, стр. 339, т. III, стр. 76, 135.83 Напр., «спинозизм есть материализм, облеченный в теологи
ческий наряд. И этот наряд нужно снять с правильной по своему существу философской теории Спинозы», т. III, стр. 672.
81 Американский философ Джордж Клайн, переведший на английский язык некоторые статьи о Спинозе советских философов, появившиеся главным образом в 20-е годы, даже написал в введении к этому изданию, что западный читатель в этом издании может «с пользой изучать не только Спинозу в советской философии, но и советскую философию через Спинозу» — G. L. Kl ine. Spinoza in Soviet Philosophy. London, 1952, p. 47. Подтекстом этого замечания Клайна служит прежде всего единодушное отвержение буржуазными историками философии материалистической интерпретации спинозизма, укрепившееся в советской философской литературе.
85 См. А. В. Лу н а ч а р с к и й . От Спинозы до Маркса. М., 1925, стр. 13.
86 См. Л. А. Аксе льрод . Спиноза и материализм. «Красная Новь», 1925, К? 7, особенно, стр. 147, 156, 157, 168.
87 См. А. М. Д е б о р и н. «Очерки по истории материализма XVII—XVIII вв.». М. —Л., 1930, стр. 49, 73.
88 См. там же, стр. 47, 65, 86—89 и др., а также «Летописи марксизма», III, М.—Л., 1927, стр. 5, 8—9 и др.
89 См., напр., ст. М. Б. Мит и н а. Спиноза и диалектический материализм. «Под знаменем марксизма», 1932, № 11—12, стр. 173.
90 См. гл. IV, прим. 155; гл. V, прим. 96, 219; гл. VI, прим. 39.
И М Е Н Н О Й У К А З А Т Е Л Ь ,
Абарбанель (Леон Еврей) — 161, 410
Абеляр—20, 98, 390 Августин — 17, 33, 35, 49, 87,
91—96, 100, 113, 131, 133, 301, 390
Авенариус— 159, 408 Аксельрод-Ортодокс, Л. И. —
381Ал-Балки Хнви— 163 Александр Афродизнйскнй —
40, 391Альберт Великий — 40, 391 Альтузин — 131 Альфахар — 333, 435 Амерполь — 20 Амори (Амальрик) — 39 Анаксагор — 47, 72 Анаксимандр — 47, 388 Анаксимен — 28, 388 Ансельм Кентерберрийский —
133, 182Ареопагит, Псевдо-Дионисий—
38, 50, 52 Аристотель (Стагирит) — 27,
31, 40, 41, 43, 44, 47—49, 57, 75, 82, 97, 104, 112, 120, 127,169, 193, 217, 272, 314, 337, 388, 391
Арминий — 3Арно (Логика Пор-Рояля) —
77, 103, 107 Асмус В. Ф.— 162, 383, 412,
421
Баллинг— 146, 161, 166 Бассо — 72Бейль —99, 165, 200, 351, 354,
400, 437 Бейнннген— 148 Беленький, М. С. — 436 Бен-Гурион — 366, 371 Бен-Израэл, Менаше — 410,
411Бергсон— 114, 400 Беригар — 72 Беркли— 117, 245 Бернард Клервосский — 46 Бернштейн — 380 Бетховен — 364 Бёме — 55, 60, 62 Блейенберг—228, 286, 300, 301,
310, 336, 405, 431 Боден— 16, 23, 54, 126, 387 Бойль —72, 73, 76, 176, 178,
204, 205, 219/ 255, 276, 412, 413
Боксель— 148, 169, 293, 406 Боссюэ — 132 Боуместер — 405 Брам гол — 95, 397 Бруннер, К. —364, 366 Бруно (Ноланец) — 53—60, 79,
96, 101, 109, 159, 190, 209, 218, 227, 231, 238, 285
Брушлннский, В. К. — 383, 416—417
Брюнсвик, Л. —364, 371 Буагильбер — 130
443
Буддеус — 353Бург — 148, 268, 313, 343, 406 Бургерсднк — 159, 166, 168,
408, 411Быховскнй, Б. Э. — 250, 383,
438Бэкон Роджер —391 Бэкон Френсис (Веруламец)—
16, 45, 71, 84, 97, 99, ПО,116, 168, 171, 175, 192, 254, 278, 408
Ваз Диас— 138 Валла — 133 Ван ден Энден— 144 Ван дер Спик— 145 Ваннни — 24, 144 Ван Лнмборх — 388 Ван Флоттен — 404 Введенский, А. И. — 363 Вейгель Валентин — 62 Вейгель Эргард— 104, 106 Вельтгюйзен — 22, 95, 228,301 Верньер II — 354 Вильгельм II Оранский — 9 Вильгельм III Оранский— 13,'
156, 436 Виндельбанд — 434 Витт Корнелий де — 304 Витт Ян де — 9, 10, 15, 143,
148, 150, 153, 158, 304, 386, 412
Виттнх — 22 Вишоватый — 20 Вольтер — 354, 355, 437 Вольфсон, Г.— 160, 161, 211,
369—372, 410, 431 Вормс, Р. —412 Врис Симон де— 146, 169, 350,
412Воэций Гизберт — 24 Воэцнй Павел — 24, 388 Вульф, А. —208, 412, 418Галилей — 16, 70, 75, 85, 89,
101, 102, 109, 118 Гарвей — 121 Гаррингтон — 406 Гассенди — 23, 72, 97, 101,120,
346Гебхардт, К.— 159, 161, 342,
364—366, 369, 403, 408, 410,412
Гегель —201, 210, 314, 358,360, 361, 416, 417
Гейлинкс —87, 120, 123 Гельвеций — 90, 233 Генрих IV— 132 Генрих VIII — 19 Гераклит — 28, 47, 52, 88 Герберт Чербери — 23, 24, 99,
388Гердер — 357 Герсонид— 160 Гете — 357, 358Гоббс —69, 70, 72, 73, 76, 78,
86, 87, 95—98, 101—103, 106, 110—112, 115—122, 124, 126— 132, 134, 152, 155, 161, 168,190, 192, 231, 237, 245, 248, 254, 255, 256, 285, 318, 320— 322, 325, 327, 340, 341, 346, 347, 387, 388
Гольбах — 90, 345, 354, 355, 357, 358, 361
Гомар — 13 Гонорий III —39 Г ревиус — 353 Гроот Питер де— 148 Гроций— 128, 129, 131, 132,
135Гуд де— 169, 406 Гюэ —99, 120, 353Давид из Динанта — 39, 40,
57, 391Дакоста — 141 —143, 164, 165,
340, 388 Даннер, Д. —371, 372, 440 Деборин, А. М. — 382, 405 Декарт —8, 24, 70—82, 85—87,
89—91, 95—110, 112—116, 118—124, 135, 159, 161, 168,170, 171, 175, 177, 180—183,
. 185, 186, 188, 190, 192, 196, 204, 220, 221, 227, 231, 237, 246, 248, 253, 255, 259, 260, 268, 270, 272, 278, 279, 283/ 285, 408, 410, 412
Де ла Кур Питер— 15, 386, 406, 408
Де ла Кур Ян —406 Де ла Пейрер — 340 Де ла Шамбр— 120 Дельбос, В. —364, 412 Демокрит — 28, 47, 48, 54, 55,
72, 170, 222, 322 Деспииоза Михаил— 139
444
Дидро — 90, 355—358, 361, 381 Дикманнус — 25 Дильтей, В. — 159, 408, 418,
432Диоген Лаэрций — 389, 390,
405Дунин-Борковский, С. — 160,
161, 361, 372, 409, 410 Дунс Скот — см. Иоанн Дунс
СкотЗенон-Стоик — 29, 389 Зивек, П. — 440 Зигварт, К. — 159 Зомбарт, В.— 385Ибн Гебироль — 57, 391, 409 Ибн Сина (Авиценна) — 7,
40—44, 57, 98, 189, 197, 230, 391
Ибн Рушд (Аверроэс) — 7,41—44, 57, 75, 78, 98, 189, 193, 230, 293, 391
Ибн Эзра— 163, 340 Иеллес— 146, 161, 170, 196,
228, 405, 407, 411 Иоанн Дунс Скот— 16 Иоанн Златоуст — 91 Иоанн Скот Эриугена — 37—
40, 44, 46, 66, 179 Иоэль— 159, 160, 211, 368, 408Кайзер, Р. — 402 Кальвин— 13, 17, 62, 75, 76,
395, 397, 433 Каммари, М. Д. — 382 Кампанелла — 24, 53, 55, 60 Кант— 105, 182, 306, 361, 364,
381Кантор, Г. — 50 Кардано — 24, 53, 55, 60 Карев, Н. И. — 382 Карл I — 152 Каутский — 393, 433 Кедворт — 73 Кеплер —70, 89, 103 Кечекьян, С. Ф. — 426, 434 Клайн, Д. — 440, 441 Клатцкин, Я. — 369 Клауберг — 396 Клаузнер, И. — 369 Клеевман — 407 Коген, Г. — 439 Коеффето — 120 Кокцей — 22
Колаковский, Л. —211, 212, 375—380, 391, 417.
Колерус— 138, 143, 145, 190, 402—404, 407
Коменскин — 99, 107, 109, 121 Кондильяк — 354, 428 Кондэ — 7, 407 Коорнхерт— 12 Кортгольт Себастьян — 407 Кортгольт Христиан — 25, 353,
388, 407 Крелль — 16Крескас — см. Хасдаи Крескас Кромвель — 93, 145, 152 Кронер, Р. —314, 372 Ксенофан —28, 29 Кумберленд— 189 Курбаг Адриан —349, 351 Кушу— 160, 412, 428Лабади Ян де —404 Ламеттри — 90, 355 Ламот Левайе — 99, 134, 135,
310Лапорт, Ж .— 101 Лау — 357 Левенгук — 74Лейбниц —21, 73, 74, 97, 104,
105, 108, 110, 111, 114, 119,171, 260, 352, 406
Ленин, В. И. — 204, 417 Леруа (Регий)—87, 121, 123,
248, 407 Лессинг — 345, 357 Лильберн — 63 Липсиус — 304 Лихтенберг — 364 Локк— 16, 21, 97, ПО, 111,
117, 119, 131, 245, 361, 403, 404
Лопатин, Л. М. — 421 Лукас— 137, 138, 143, 144,165,
334, 350, 354, 403. 404 Лукреций — 47, 54, 55, 88, 170 Луллий — 45Луначарский, А. В. — 381 Луппол, И. К. — 382, 428 Людовик XIV— 144 Лютер— 12, 16—18,393Мазаниелло— 145 Макиавелли — 24, 125, 129,
155Маймон — 409
445
Маймонид — 40, 42—44, 98, 160, 163, 187, 189, 195, 205, 211, 230, 294, 333, 335—337, 339, 372, 390, 409, 428, 435
Мальбранш— 87, 100, 120 Маньен — 72Маньковский, Л. А. — 382 Марешаль — 345 Марк Аврелий—29, 31, 390 Маркс, К. — Ю, 22, 59, 62, 77,
103, 105, 110, 125, 126, 172, 203, 270, 314, 358, 360, 381,413
Марсилнй Падуанскин — 15,125
Мартини — 408 Мастрихт — 388 Мейер —22, 25, 169, 170, 201,
275, 435 Мелье — 354 Мейнсма — 402Мерсенн — 23, 24, 82, 398, 399Микельанджело — 364Мильнер, Я. А.— 417, 421, 423Митин, М. Б. — 382Молина — 94Монтень — 99Монтескье — 90, 355Мор Генри — 73Мор Томас— 147Моргоф — 108Мориц Нассауский — 9Мортейра Саул Леви — 140Мыслицкий, И. — 364Мюнцер— 18, 61, 62, 66Николай Кузанский — 45—47,
49—54, 57, 59, 60, 80, 81, 89, 201, 272
Новалис — 359 Нодэ— 135 Нэжон — 345Ньютон —70, 73, 108, 109Оккам — 16, 117 Олденбарнвелде — 9, 143 Ольденбург— 147, 168, 175—
179, 219, 224, 249, 255, 276, 284, 285, 348, 413
Парацельс —53, 55, 62 Парменид — 34 Паркер — 73Паскаль — 24, 76, 100, 388 Патрицци —53, 58
Пенн — 405 - Петти — 130 Петрарка — 133 Петцольд — 424Пико делла Мирандола — 21,
23Платон —34, 48, 97, 120, 133,
169, 217, 322, 337, 364, 388, 390
Плотин — 34—36, 41, 44, 426 Плеханов, Г. В. — 94, 380, 381 Плутарх — 389 Половцова, В. Н. — 412 Помпонацци — 7, 134 Прадо Хуан де— 142, 403 Прокл — 389 Пуаре — 352, 382 Пуфендорф — 104, 131 Пшыпковский— 16 Пэте— 148 Разумовский — 148 Раппопольт — 25, 353 Рассел— 100, 431 Рева — 403Рембрандт — 161, 364 Ренан — 362—364, 368, 391 Риувертс — 411Робинсон, Л .— 159, 402, 408,
418Роллан — 366Роте, Л .— 160, 211, 362, 369,
А'Х 1 Д Ъ С
Рунз — 370, 410, 429Руссо — 355Сенека — 29, 133Сено— 120Сент-Глен — 354Сент-Эвремон— 135, 310, 433Сервет — 62Сеузе — 393Сильва Семуэль де— 164, 411 Симплиций — 388 Со — 372Соловьев, В. С. — 363 Соцын Лелий —20 Стенон — 351 Стобей — 389 Стоупе — 437 Суарец— 160, 168, 408 Сэруя— 367, 370Таулер — 393Телезио — 53, 55, 58, 60, 82,
109446
Темпль— 8, 10 Тихо де Браге— 103 Толанд — 346, 353, 355, 388 Томазий — 131, 352 Тонн, Р. — 433Тренделенбург— 159, 408, 411 Триббеховиус — 25Уинстеили — 406Фай — 353, 388 Фалес — 27, 405 Фейер, Л. — 140, 145, 373, 374,
379, 440 Фейербах — 38, 40, 58, 306,
350, 359-361, 381 Фелл — 145Филон Александрийский — 36,
48Фихте — 361 Фичино — 21, 23 Фишер Куно —210, 212, 404,
408, 409 Фома Аквинский — 16, 17, 35,
40, 45, 49, 63, 68, 89, 93,112, 113, 133, 182, 183, 197, 333, 372, 391, 397, 440
Фонсека Исаак Абоаб де —140
Фонтенель — 82 Франк Себастьян — 62 Франк, С. — 418 Франсэ, М. — 138, 407, 408 Фрейд —366, 374, 375 Фрейденталь — 159, 160, 408,
411Халлет — 418Хасдаи Крескас — 49, 160,
211, 230, 409, 435 Хеерборд —22, 159, 166, 168,
411Хемпшнр, С. — 375 Хессинг, 3. — 366, 367
Хмай — 161Хрнзипп — 29, 389, 390 Христина Шведская — 80Цвейг Арнольд — 366Чернышевский, Н. Г. —361 Чирнгаус— 170, 180, 181, 228Шаррон — 24 Шекспир — 364 Шеллинг— 114, 558, 360 Шеффлер — 161 Шиллер — 86 Шилкарский, В. — 422 Шишкин, А. Ф. — 433 Шлегель Фр. — 359 Шлейермахер — 359 Шлихтннг — 16Шопенгауэр— 114, 240, 358,
364 Штош — 355 Шуллер — 228Эвклид— 104, 108, 264, 266 Эдельман — 357 Эймс— 145, 165 Эйнштейн — 366, 367, 368 Эккарт — 61, 364, 393 Эмпедокл — 28Энгельс, Ф. —7, 10, 11, 58, 61,
66, 70, 74, 81, 93, 177, 235, 287, 291, 306, 381
Эпикур —30, 47, 54, 133, 170, 353
Эразм Роттердамский — 12, 13, 18, 20, 21
Эрдманн, И.— 211, 418 Эриугена — см. Иоанн СкоттЮдин, П. Ф. -^382 Юм— 117, 240, 245, 361Якоби — 114, 357
СОДЕРЖАНИЕ
О т а в т о р а ............................ . . . . 3
I. ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ, РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ В ЕВРОПЕ И НИДЕРЛАНДАХ В КОНЦЕ XVI—XVII в...................... 5
I I . ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПАНТЕИЗМА ................................. 26Органнцизм и пантеизм в античной натурфилософии . 27 Супранатурализм религиозно-монотеистических представ
лений. Креационизм христианского вероучения иэманационнзм языческого идеализма........................ 32
Натуралистические и материалистические тенденции вмистическом пантеизме средневековья . . . . 37
Усиление натуралистических тенденций в пантеистиче-ческих концепциях эпохи Возрождения . . . . 45
Проблема бесконечности мира и пантеизм . . . . 47 Дальнейшее развитие натурализма и материализма
в пантеистической натурфилософии XVI в. 53Мистический пантеизм XVI—XVII вв. как оппозиция
господствующей формализованной религиозности . 61
III. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В XVII в. 68
От органицизма к механицизму, от теизма к деизму . 70.Бог и мир в бесконечной вселенной............................. 79
От телеологии к детерминизму, от фатализма к учениюо естественной закономерности............................. 82
Бог, природа и свобода в религиозном и философскомсознании века .......................... . ; ........................91
Познаваемость бесконечного мира, логические и методологические ср^д^тв^ £е ^реализации....................... 97
Проблема достовфйого Знания, рационализм и эмпиризм. Метафизический способ мышления как внеисто- рическое истолкование познания ............................. 108
448
Психофизическая проблема в философской мыслиXVII в..................................... .... ..........................................
Человек как субъект общества и государства
IV. СОЦИАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СПИНОЗИЗМА
* Идейно-лолитическое развитие Спинозы........................Философское развитие Спинозы и его общие результаты
V. МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СПИНОЗОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРИРОДЫ .................................................................................Общий взгляд Спинозы на природу, диалектическая
задача и метафизические средства ее решения .Бог и мир, субстанция как причина самой себя . Субстанция и единичные вещи, субстанция и модусы.
Раздвоение онтологического видения мира в спино-зовской интерпретации природы ...............................
Субстанция и атрибуты, спинозовский натурализм какматериализм..................................................................
Субстанция и бесконечные модусы, органистический и механистический аспекты спинозовской интерпретации природы .................................................................
Детерминизм против телеологии и бесконечность мира . Случайность, возможность, необходимость и оконечива-
ние мира............................. ....................................Проблема фатализма и метафизическое понимание за
кономерности ..............................................................Границы органического и механического в спинозовской
концепции природы ......................................................VI. ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ, ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ И АНТРОПОЛОГИЧЕ
СКАЯ ПРОБЛЕМЫ .................... ....................................................Человек как часть природы и как субъект познания.
Соотношение телесных и духовных факторов человеческой деятельности .................................................
Познание недостоверное, номинализм Спинозы и его интерпретация опытного и абстрактного знания
Познание достоверное, рационализм, интуитивизми «геометрический» метод С п и н о зы ........................
Воля, аффекты и порабощенность человека .Познание и свобода, познание и бессмертие .
VII. ЭТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ИТОГ СПИНОЗИЗМА ..................................................................................... .... .
Преломление методологии спинозизма в сфере этики, разработка полностью секуляризированной моралиСоциальная детерминация этических воззрений Спинозы
и ее противоречия .................................................
120125
137137158
174
175182
192
209
213215
222
228
235
243
243
251
259277285
296
296
307
449
Забота о моральном здоровье общества. Натурализм и идеализм Спинозы в истолковании общественно- государственной жизни .................................................317
VIII. АТЕИЗМ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ СПИНОЗИЗМА ............................................................................... 332Преодоление концепции «двух истин». Спиноза как основоположник библейской критики .............................. 332Общественная функция религии и ограниченность спино-
зовского а т е и з м а ......................................................341IX..СУДЬБЫ СПИНОЗИЗМА И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ИДЕЙНОФИЛОСОФСКОЙ БОРЬБЕ .............................................................. 352П р и м е ч а н и я ....................................................... . 385Именной у к а з а т е л ь .................................... . 443
Василий Васильевич Соколов ФИЛОСОФИЯ СПИНОЗЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Тематический план 1963 г. N2 Ц2
Редактор Э. Н. Михайлова Технический редактор Г. И. Георгиева Переплет художника Е. П. Михельсона
Корректора А!. М. Петкевич, М. //. Эльмус, В . Г. ЩербаковаСдано в набор 11. IX. 1963 г. Подписано к печати 24. IV 1964 г.Л-111364. Формат 84ХЮ87з2. Физ. печ. л. 14,125.Уел. печ. л. 23,73. . Уч.-изд. л.. 26,10.. . . . Изд. Л1? 367Зак. 681. Тираж 3.500 экз. Цена 1 р. 72 к.
Издательство Московского университета.Москва, Лсминскио горы, Административный корпус.- Типография Изд-ва МГУ. Москва, Ленинские горы
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА имени М. В. ЛОМОНОСОВА
Имеются в наличии и высылаются наложенным платежом книги по ФИЛОСОФИИ:
ВАСЕЦКИИ Г. С. Мировоззрение М. В. Ломоносова.1961 г., 308 стр., ц. I р. 10 к.
ВОРОБЬЕВ Л. В. Философские и социологические воззрения Любена Каравелова. 1962 г., 196 стр., ц. 63 коп.
ПОПОВ П. С. История логики нового времени. 1960 г., 262 стр., ц. 1 р. 10 к.
РУДНЕВА Е. И. Вопросы дидактики в педагогической системе Н. К. Крупской. 1960 г., 94 стр., ц. 17 коп.
РУДНЕВА Е. И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918—1920 гг.). 1961 г., 132 стр., ц. 25 коп.
САФРОНОВ Б. Г. М. М. Ковалевский как социолог. 1960 г., 262 стр., ц. 1 р. 18 к.
СКВОРЦОВ Л. В. В. И. Ленин о единстве познания и практики. 1961 г., 170 стр., ц. 65 коп.
ТРАХТЕНБЕРГ О. В. Очерки по истории философии и социологии Англии XIX века. 1960 г., 116 стр., ц. 40 коп.
ШКУРИНОВ П. С. П. Я. Чаадаев. Жизнь, деятельность, мировоззрение. 1960 г., 146 стр., ц. 58 коп.
ЮРОВА И. Л. Работа Ф. Энгельса «Анти-Дюринг». 1960 г., 48 стр., ц. 18 коп.
ПОПОВ С. И. Кант и кантианство (Марксистская критика теорий познания и логика кантианства.) 1961 г., 298 стр., ц. 1 руб.
СТЕПАНЯН Э. X. Об относительной самостоятельности идеологии. 1961 г.? 120 стр., ц. 25 коп.
УГРИНОВИЧ Д. М. О специфике религии. 1961 г.,156 стр., ц. 35 коп.
СТАРЧЕНКО А. А. Гипотеза. .Судебная версия.1962 г., 72 стр., ц. 26 коп.
Очерки по истории логики в России. Под редакцией П. И. Никитина. 1962 г., 258 стр., ц. 1 р. 8 к.
МАМЕДОВ Ш. Ф. Мировоззрение М. Ф. Ахундова.1962 г., 262 стр., ц. I р. 2 к.
МАЛИНИН В. А. Основные проблемы критики идеалистической истории русской философии. 1963 г., 170 стр., ц. 30 коп.
ВОРОБЬЕВ Н. В. Умозаключения по аналогии. Лекция. 1963 г., 24 стр., ц. 5 коп.
Готовятся к печати:КОСИЧЕВ А. Д. Борьба марксизма-ленинизма с
идеологией анархизма и современность. 20 л., ц. 1 р. 40 к.,в переплете.
КОСОЛАПОВ Р. И. Коммунизм и свобода. 8 л., ц. 50 коп.
КУЗНЕЦОВ В. Н. Вольтер и философия француз- . ского Просвещения XVIII века. 16 л., ц. 1 р. 20 к., в переплете.
ПЕТРУШЕВСКИИ С. А. Диалектика рефлекторных процессов. 15 л., ц. 1 р. 20 к., в переплете.
ПИЧУГИН П. В. Место и роль политики в развитии советского общества. 15 л., ц. 1 р. 10 к., в переплете.
Проблемы формирования коммунистического сознания. Кол. авт., под ред. А. Г. Спиркина. 15 л., ц. 1 р. 5 к., в переплете.
Против империалистической идеологии антикоммунизма. Кол. авт., 25 л., ц. 1 р. 65 к., в переплете.
РАЗИН В. И. Марксизм-ленинизм о сломе эксплуататорской государственной машины. 3 л., ц. 18 коп.
РЫЖУК Д. А. Соотношение национального и интернационального в художественной культуре советского народа в период коммунистического строительства. 3 л., ц. 10 коп.
ШКУРИНОВ П. С. Критика позитивизма В. И. Танеевым. 5 л., ц. 30 коп.
Заказы следует направлять по адресу:Москва, В-234, Издательство МГУ.
Отдел распространения