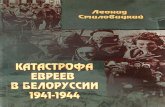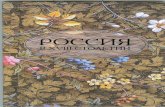«Европейская цивилизация» и «азиатское неряшество» в...
Transcript of «Европейская цивилизация» и «азиатское неряшество» в...
Сделано в Европе: взгляд российских
исследователей в двух томах
Том 2Сборник статей
под редакцией Елены Белокуровой и Марии Ноженко
Санкт-Петербург2014
УДК316ББК60.550+66.2 С27
Издание осуществлено при поддержке Европейского СоюзаГрант Европейской Комиссии 2010/253-710,
проект Support to the Establishment of the EU Centre in North West Russia. Рецензенты:
Здравомыслова Е.A., кандидат социологических наук (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
Омельченко Е.Л., доктор социологических наук (Санкт-Петербург-ский филиал НИУ ВШЭ)
Сделано в Европе: взгляд российских исследователей /Сб. статей под ред. Е. Белокуровой и М. Ноженко: в 2 т. – СПб.: Норма, 2014.
Т. 2: Идентичности в Европе и России – СПб.: Норма, 2014. – 192 с.
ISBN 978-5-87857-239-2 (Т. 2)
Сборник представляет собой один из результатов проекта Центра европейских исследований – Центра Европейского Союза Европейского университета в Санкт-Петербурге, который был реализован в 2010–2014 гг. при поддержке Представитель-ства Европейского Союза в России. Некоторые из статей, входящих в сборник, сосре-доточены исключительно на анализе европейского опыта. Другие, напротив, содержат сравнение европейского опыта с российским. В большинстве статей представлены примеры взаимопроникновения, проявления российского в европейском и европей-ского в российском. Эти работы показывают, что интересно в сегодняшней Европе молодым российским исследователям, что им кажется релевантным для понимания сегодняшней России, а что, возможно, они могут понять в Европе лучше своих евро-пейских коллег. Сборник представляет собой определенный срез того, как видят рос-сийские исследователи современную Европу, и будет интересен не только профессио-налам, но и широкому кругу читателей.
Художник А. Ходот ББК60.550+66.2
Данный материал опубликован при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности авторов и не отражает точку зрения Европейского Союза.
ISBN 978-5-87857-239-2© Белокурова Е., Ноженко М., 2014
© Ходот А., обложка, 2014© Норма, оформление, 2014
С27
12
Мария Пироговская
«Европейская цивилизация» и «азиатское неряшество» в российских дискуссиях о прогрессе 1870–1890-х гг.: геополитика и антропология чувств1
Один из героев чеховского «Вишневого сада» (1904 г.), сту-дент Петя Трофимов, рассуждает о необходимости перемен в рус-ской жизни и так выражает свое недовольство результатами обще-ственных дискуссий: «Все серьезны, у всех строгие лица, все гово-рят только о важном, философствуют, а между тем у всех на гла-зах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нрав-ственная нечистота... Укажите мне, где у нас ясли, о которых го-ворят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина» (Чехов 1974–1982, 13: 223). Эту триаду – «грязь, по-шлость, азиатчина» – можно интерпретировать как перевод со-держания определенной общественной дискуссии на язык чехов-ской поэтики, а реплику Пети Трофимова – как имитацию рос-сийского санитарно-гигиенического дискурса последней трети XIX века. В рамках этого дискурса противопоставление Европы и Азии как полюсов цивилизованности и дикости, прогресса и от-сталости, чистоты и грязи было нормативным риторическим при-емом. Между тем происхождение данной антитезы не вполне оче-видно и вызывает ряд вопросов. Как она попадает в российский санитарно-гигиенический дискурс и каким образом функцио-нирует? Используется ли она только специалистами – врачами-
1� ȼɵɪɚɠɚɸ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ�ɋ��ɇ��Ⱥɛɚɲɢɧɭ�ɢ�Ⱥ��ɗ��Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ�ɡɚ�ɰɟɧɧɵɟ�ɫɨɜɟɬɵ�ɢ�ɡɚ-ɦɟɱɚɧɢɹ��±�Ⱥɜɬ�
13
гигиенистами – или выходит за пределы профессионального узу-са? А главное – благодаря каким представлениям синонимом не-здорового, чуждого гигиене, косного быта становится именно Азия? И как в этом случае определяются и Азия, и Европа?
Россия и Запад глазами гигиенистовПри анализе контекстов, в которых использовалась данная то-
пика, обнаруживается, что противопоставление Европы и Азии было устроено несколько сложнее, чем простая бинарная оппо-зиция. Как правило, эксплицитно или имплицитно речь всег-да шла еще и о третьем участнике – о России, которой предла-галось определиться и либо двинуться по направлению к Евро-пе, либо остаться с Азией. Движение в первом случае и неподвиж-ность, стагнация во втором вполне коррелируют с той системой ценностей и представлений, которую транслировал публике рос-сийский санитарно-гигиенический дискурс. В успехах социаль-ной гигиены, прикладной науки и медицины, регламентирующей и реформирующей повседневные практики, общественные деяте-ли пореформенного периода видели залог приближения к идеаль-ной, рационально устроенной повседневности. Социальный про-гресс – то есть движение к этому идеалу – русские врачи и обще-ственные деятели наблюдали в первую очередь на Западе.
В публичных дискуссиях о прогрессе и самоуправлении, кото-рые завязались в России в результате реформ Александра II и в ко-торых на равных участвовали общественные деятели, врачи, ста-тистики, педагоги и ученые (химики, эпидемиологи и др.), поня-тия «прогресс», «гигиеничность», «здоровье» и «чистота» увязыва-лись в некоторое целое, воплощенное или же способное вот-вот воплотиться в жизни европейских городов. Основными приме-рами для подражания и сравнения служили Англия и Франция, считавшиеся передовыми с точки зрения практической гигиены, и Германия, где эпидемиология и санитария имели сильную на-учную базу2. Правда, в отчетах русских докторов, которые ездили
2� ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɟ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɫɟɛɹ�ɫ�ɫɨɫɟɞɹɦɢ�ɛɵɥɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ�ɢ�ɞɥɹ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ�ɫɬɪɚɧ��ɇɚɩɪɢɦɟɪ�� ɜ� Ƚɟɪɦɚɧɢɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɞɟɹɬɟɥɢ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ� ɧɚ� ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢ-ɬɟɥɶɧɭɸ� ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɭɸ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ� ɢ� ɩɪɢɡɵɜɚɥɢ� ɫɪɨɱɧɨ� ɩɟɪɟɧɢɦɚɬɶ� ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ� ɨɩɵɬ��5HLFKDUGW���������±����
14
в Германию, Францию, Великобританию и Бельгию стажировать-ся в лабораториях и изучать действующую санитарную организа-цию крупных городов, указывалось, что не все так гладко. Даже на Западе успешные нововведения соседствовали с запущенностью, хаосом и антисанитарией.
Тем не менее существенного влияния на публичную меди-цинскую и медикализованную риторику эти отчеты не оказыва-ли: те же самые медики, которые в одних публикациях критиче-ски отзывались об амстердамской пневматической канализации, гамбургских мостовых, лондонских госпиталях или берлинских скотобойнях (Бертенсон 1871; Скворцов 1875; Скворцов 1877: 96–154; Эрисман 1887–1888, 2: 274), в других – а порой и в тех же самых! – призывали городские управы российских городов как можно скорее последовать примеру Европы (Смоленский 1882). Особенного риторического накала эти призывы достигали во вре-мя эпидемий. Во второй половине XIX века «повальные и зарази-тельные болезни», к которым по Карантинному уставу 1866 г. при-числялись чума, желтая горячка, азиатская холера, тифы «и не-которые другие особенно опасные по своей заразительности бо-лезни», служили для врачей-гигиенистов поводом в очередной раз обратить общественное внимание на необходимые реформы пу-бличной сферы. Как писал крупный гигиенист Ф. Эрисман, в раз-гар холеры 1870–1871 гг., «пора нам бросить постыдное равноду-шие к общественным делам; оно – одна из главных причин того, что мы так ужасно отстали от западной Европы в деле цивилиза-ции и экономическом отношении» (Эрисман 1871: 56).
Всеобщий страх перед эпидемиями создавал возможности для широкой санитарно-гигиенической пропаганды. Для этого врачи использовали все возможности, предоставляемые чтением: поми-мо специализированных медицинских изданий (журналов «Архив судебной медицины и общественной гигиены», «Вестник обще-ственной гигиены, судебной и практической медицины», «Здоро-вье», газет «Врач», «Врачебные ведомости» и «Военно-санитарное дело» и др.), материалы по санитарии и гигиене печатались в еже-дневных газетах разных направлений («Новое время», «Москов-ские ведомости», «Современные известия», «Петербургский ли-сток», «Петербургская газета», «Голос»), тонких и толстых журналах
15
(«Вестник Европы», «Отечественные записки», «Нива»). Извле-чения и оттиски отдельных статей и очерков выходили в бро-шюрах и адаптировались для народного чтения. Увеличение чи-тательской аудитории и рост книгоиздания во второй половине XIX века поддерживали новую для России сферу публичного, а постоянное участие в дискуссии врачей и общественных деяте-лей, озабоченных «народным здравием», превращало специали-зированные вопросы санитарии и гигиены в общезначимые.
В России XIX века Европа и Запад рассматривались преимуще-ственно как некое цивилизационное целое. Запад оказывался тем «значимым другим», по сравнению с которым осознавалась и вы-страивалась русская идентичность (Малинова 2005: 38–59). Как точка отсчета Запад появился в идеологических спорах славянофи-лов и западников: начиная с 1830-х гг. сопоставление России с За-падом – и осознание своего цивилизационного и культурного по-ложения в отношении к Западу – было важнейшим философским и геополитическим вопросом (Щукин 2001). С середины XIX века ключевым понятием для осмысления Запада и западной цивилиза-ции становится «прогресс», который функционирует как понятие-шибболет и для славянофилов, и для западников (Neumann 1996). Славянофилы, а затем почвенники писали о «европейничании»3 – выморочной и пустой попытке подражать Европе и европейскому прогрессу4, о «гнилом Западе» и «гибели Запада» (Долинин 2010: 26–76). В свою очередь, западники выступали против присущих России «азиатизма» и «азиатчины», которые тормозят движение вперед и мешают рациональному, то есть европейскому, обустрой-ству общественной жизни во всех ее проявлениях.
3� ȼ�ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɥɨɜɚɪɟ�ɹɡɵɤɚ�Ɏ��Ɇ��Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ�ɭ� ɝɥɚɝɨɥɚ�©ɟɜɪɨɩɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶª�ɲɟɫɬɶ� ɜɯɨɠɞɟɧɢɣ�� ɭ� ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ©ɟɜɪɨɩɟɣɧɢɱɚɧɢɟª� ±� ɫɟɦɶ� �KWWS���FIUO�UX�GRVWBFG��GRVWRHYVNL�KWP��
4� ɋɦ�� ɢɧɜɟɪɫɢɸ� ɷɬɨɣ� ɬɨɩɢɤɢ�� ɨɬɹɝɨɳɟɧɧɭɸ� ɜɞɨɛɚɜɨɤ� ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɚɥɥɸɡɢɹɦɢ��©ɉɨɷɬɨɦɭ�ɩɨɥɶɡɚ��ɢɥɢ�ɞɚɠɟ�ɫɩɚɫɟɧɢɟ�ɧɚɲɟ��±�ɧɟ�ɜ�ɫɦɟɲɟɧɢɢ�ɫ�ɧɚɪɨɞɨɦ�ɢ�ɧɟ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɤɚɤɨɦ�ɧɢɛɭɞɶ�ɫ�ɧɢɦ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ��ɚ�ɜ�ɫɯɨɞɫɬɜɟ�ɫ�ɧɢɦ��ɜ�ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ��ɬɚɤ�ɫɤɚɡɚɬɶ��ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɢ�ɟɦɭ������!�ɋɥɚɜɹɧɨɮɢɥɵ�ɤɚɤ�ɛɭɞɬɨ�ɩɨɧɢɦɚɥɢ�ɷɬɨ��ɧɨ�ɜ�ɢɯ�ɭɱɟɧɢɢ�ɟɫɬɶ�ɨɞɧɚ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ�ɫɥɚ-ɛɚɹ�ɫɬɨɪɨɧɚ�±�ɷɬɨ�ɷɝɚɥɢɬɚɪɧɵɣ�ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦ��ɇɢ�ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɧɢɯ�ɧɟ�ɨɛɪɚɬɢɥ�ɜɧɢɦɚɧɢɹ�ɧɚ�ɬɨ��ɱɬɨ�ɩɪɢ�ɬɨɦ�ɫɥɢɹɧɢɢ�ɢɥɢ�ɫɦɟɲɟɧɢɢ�ɫ�ɧɚɪɨɞɨɦ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɨɧɢ�ɬɚɤ�ɜɫɟɝɞɚ�ɯɜɚɥɢɥɢ��ɧɟ�ɧɚɪɨɞ�ɫɥɢ-ɧɹɟɬ��ɬɚɤ�ɫɤɚɡɚɬɶ��ɧɚ�ɧɚɫ�ɫɜɨɢɦɢ�ɹɪɤɢɦɢ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ�ɰɜɟɬɚɦɢ��ɚ�ɦɵ�ɡɚɪɚɡɢɦ�ɟɝɨ�ɧɚɲɢ-ɦɢ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ�ɦɢɚɡɦɚɦɢ��ɤɭɪɫɢɜ�ɦɨɣ��±�Ɇ��ɉ����ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɦɵ�ɜɫɟ�ɬɚɤɢ�ɫɢɥɶɧɟɟ�ɟɝɨ�ɟɠɟ-ɞɧɟɜɧɵɦ�ɧɚɲɢɦ�ɜɥɢɹɧɢɟɦ«ª��Ʌɟɨɧɬɶɟɜ����������
16
По замечанию американского историка Д. Брауэра, из россий-ской политической перспективы пореформенного периода За-пад виделся источником моделей политического и социального действия. Пример западных муниципальных свобод и санитарно-гигиенических нововведений сам по себе усиливал значимость му-ниципальной активности для русских либералов и общественных деятелей (Brower 1990: 95). Соответственно, европейские урбани-стические и санитарные модели также воспринимались как вопло-щение либеральных ценностей – с ними соотносились планиров-ки российских городов, условия повседневного существования. То есть на один полюс помещались образы урегулированного, раци-онально обустроенного, очищенного от «миазмов» европейского пространства, на другом же находились грязь, скученность, ирра-циональная планировка, смешанные запахи5. Например, при срав-нении Москвы и Петербурга, несмотря на устоявшуюся репута-цию последнего как «больного города», Москва как город явно ме-нее европейский демонстрирует и худшее санитарное состояние – «вследствие дурной (то есть нерегулярной. – М. П.) распланиров-ки6, московского неряшества, отсутствия достаточного количества воды, крайнего загрязнения рек и прудов» (Скворцов 1879: 120).
К западноевропейским урбанистическим моделям и апелли-ровали российские общественные лидеры и бюрократы, стре-мясь освободить пространство российских городов от хаоса, то есть организовать городское пространство таким образом, что-бы можно было контролировать «миазмы» и снижать уровень за-болеваемости и смертности. Для этого следовало сначала выя-вить источники заразы, а затем позаботиться о чистоте воздуха
5� ɋɪ��ɪɟɦɢɧɢɫɰɟɧɰɢɢ�ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɭɬɨɩɢɢ�ɜ�ɪɨɦɚɧɟ�Ɏ��Ɇ��Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨ-ɝɨ�©ɉɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɢ�ɧɚɤɚɡɚɧɢɟª���������©ɉɪɨɯɨɞɹ�ɦɢɦɨ�ɘɫɭɩɨɜɚ�ɫɚɞɚ��ɨɧ��Ɋɚɫɤɨɥɶɧɢɤɨɜ��±� Ɇ��ɉ���ɞɚɠɟ�ɨɱɟɧɶ�ɛɵɥɨ�ɡɚɧɹɥɫɹ�ɦɵɫɥɢɸ�ɨɛ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ�ɜɵɫɨɤɢɯ�ɮɨɧɬɚɧɨɜ�ɢ�ɨ�ɬɨɦ��ɤɚɤ�ɛɵ�ɨɧɢ�ɯɨɪɨɲɨ�ɨɫɜɟɠɚɥɢ�ɜɨɡɞɭɯ�ɧɚ�ɜɫɟɯ�ɩɥɨɳɚɞɹɯ��Ɇɚɥɨ�ɩɨɦɚɥɭ�ɨɧ�ɩɟɪɟɲɟɥ�ɤ�ɭɛɟɠɞɟɧɢɸ��ɱɬɨ�ɟɫɥɢ�ɛɵ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ�Ʌɟɬɧɢɣ�ɫɚɞ�ɧɚ�ɜɫɟ�Ɇɚɪɫɨɜɨ�ɩɨɥɟ�ɢ�ɞɚɠɟ�ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ�ɫ�ɞɜɨɪɰɨɜɵɦ�Ɇɢ-ɯɚɣɥɨɜɫɤɢɦ�ɫɚɞɨɦ��ɬɨ�ɛɵɥɚ�ɛɵ�ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹ�ɢ�ɩɨɥɟɡɧɟɣɲɚɹ�ɞɥɹ�ɝɨɪɨɞɚ�ɜɟɳɶ��Ɍɭɬ�ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨ-ɜɚɥɨ�ɟɝɨ�ɜɞɪɭɝ��ɩɨɱɟɦɭ�ɢɦɟɧɧɨ�ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɛɨɥɶɲɢɯ�ɝɨɪɨɞɚɯ�ɱɟɥɨɜɟɤ�ɧɟ�ɬɨ�ɱɬɨ�ɩɨ�ɨɞɧɨɣ�ɧɟɨɛɯɨ-ɞɢɦɨɫɬɢ��ɧɨ�ɤɚɤ�ɬɨ�ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɧɚɤɥɨɧɟɧ�ɠɢɬɶ�ɢ�ɫɟɥɢɬɶɫɹ�ɢɦɟɧɧɨ�ɜ�ɬɚɤɢɯ�ɱɚɫɬɹɯ�ɝɨɪɨɞɚ��ɝɞɟ�ɧɟɬ�ɧɢ�ɫɚɞɨɜ��ɧɢ�ɮɨɧɬɚɧɨɜ��ɝɞɟ�ɝɪɹɡɶ�ɢ�ɜɨɧɶ��ɢ�ɜɫɹɤɚɹ�ɝɚɞɨɫɬɶª��Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ�����±�������������
�� Ɂɚɩɭɬɚɧɧɚɹ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ�ɝɨɪɨɞɨɜ��ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ��ɪɵɧɤɨɜ��ɞɚɠɟ�ɤɥɚɞɛɢɳ�ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ�ɜɪɟɞ-ɧɨɣ�ɞɥɹ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɨɜɚɥɚ�ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ�ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ�±� ɜ� ɤɪɢɜɵɯ�ɭɥɢɰɚɯ�ɜɨɡɞɭɯ�ɡɚɫɬɚɢɜɚɥɫɹ��Ƚɸɛɧɟɪ�����������
17
и питьевой воды, о регулярном очищении городских улиц и дво-ров, об устройстве канализации (Скворцов 1875; Радаков 1876). Благодаря общим процессам медикализации «вседневной жизни» европейский прогресс российскими медиками и либеральными журналистами переводился в том числе на язык актуальных меди-цинских концепций и формулировался в таких терминах, как «на-родное здравие», «общественная гигиена», «очищение», «улучше-ние социального быта».
Санитарно-гигиенический подход обосновывал необходи-мость масштабных профилактических мер, направленных на улучшение и исправление природных и антропогенных причин эпидемий и социальных пороков: от осушения болот до устрой-ства вентиляции, от пропаганды вакцинации до борьбы со ску-ченностью, от контроля за качеством съестных припасов до оздо-ровления фабричного быта. Анализируя санитарный подход в ме-дицине XIX века, который проповедовали европейские гигиени-сты (и на который в подавляющем большинстве ориентировались русские врачи), Д. Кернс пишет о его сфокусированности на среде обитания: объектом контроля оказывались не жертвы – носители болезни, а причины – дурные бытовые и социальные условия. Тем самым санитарный подход оказывался эффективной адаптивной стратегией по отношению к тяготам и неудобствам города нового, индустриального типа (Kearns 1988: 188)7.
Под объединяющим влиянием научной гигиенической про-паганды врачи, либеральные журналисты и чиновники, вро-де начальника полицейского управления Владимирской губер-нии или харьковского генерал-губернатора, публично сокрушав-шихся о жалком санитарном состоянии вверенных им террито-рий, демонстрировали единый взгляд на европейские санитарно-гигиенические модели (Brower 1990: 125–127). Постепенно этот взгляд усваивала и читающая публика: внимание к гигиене в по-следней трети XIX века было так велико, что сугубо специальные вопросы широко обсуждались на страницах популярных изданий,
�� ȼ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɝɢɝɢɟɧɢɫɬɨɜ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɬɚɤɠɟ�ɨɬɦɟɬɢɬɶ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɚɫɩɟɤɬ��ɜ�ɩɨ-ɩɵɬɤɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ�ɜ�ɦɚɫɫɵ�ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɟ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ�ɥɢɱɧɨɣ�ɝɢɝɢɟɧɵ�ɢ�©ɩɪɢɥɢɱɧɨɝɨª�ɩɨ-ɜɟɞɟɧɢɹ�ɝɢɝɢɟɧɢɫɬɵ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢ�ɤɚɤ�ɩɪɢɱɢɧɭ�ɬɟɥɟɫɧɨɣ�ɢ�ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɪɱɢ�ɢ�ɛɟɞɧɨɫɬɶ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɧɢɡɨɜ��ɢ�ɢɡɥɢɲɧɟɟ�ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ�ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɢ��+DPOLQ����������±�����
18
превращая «санитарные безобразия» локального масштаба в со-бытия общероссийского значения8. Апелляции к западным образ-цам и примеры нарушения европейских гигиенических стандар-тов, которые приводились в специализированных медицинских изданиях, официальных отчетах, либеральной прессе и частных «санитарных жалобах», практически идентичны. Во всех них про-слеживается представление о «правильной», «европейской» урба-нистической модели и о противоположном ей феномене «невы-носимого», «неприемлемого», «отвратительного», «нецивилизо-ванного», воспринимаемого зрением, слухом, обонянием, осяза-нием и вкусом. В санитарно-гигиеническом дискурсе этот фено-мен часто выражался с помощью понятия «азиатчина».
«Азиатчина» и АзияСамо слово «азиатчина» (варианты – «азиатщина», «азиятщи-
на») зафиксировано в Словаре академии наук в 1891 г. со следую-щим толкованием: «противоположные европейским обычаи, т. е. грубые; отсутствие цивилизации» (в том же 1891 г. А. Чехов употре-бил его в повести «Дуэль», описывая воображаемое путешествие героя с Кавказа в Петербург)9. Вероятно, оно возникло в результа-те морфологической русификации слова «азиатизм», заимствован-ного из французского языка (asiatisme) еще в эпоху первых ожесто-ченных споров славянофилов и западников (впервые в словаре – Словаре иностранных слов А. Михельсона – «азиатизм» фиксиру-ется только в 1865 г.). В письме М. Каткову и А. Ефремову 1842 г. В. Белинский ядовито замечает: «Москва гниет в патриархально-сти, пиэтизме и азиатизме. Там мысль – грех, а предание – спа-сенье. Там все Шевыревы» (Белинский 1950: 75). В свою очередь,
8� Ɉ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɫɫɵ�ɭɤɪɭɩɧɹɬɶ�ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ�ɫɨɛɵɬɢɹ�ɩɢɫɚɥ�ɟɳɟ�ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ�ɫɨɰɢ-ɨɥɨɝ�Ƚ��Ɍɚɪɞ��Ɍɚɪɞ�����������
9� ©ȼɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɟɝɨ�ɪɢɫɨɜɚɥɨ��ɤɚɤ�ɨɧ�ɫɚɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɩɚɪɨɯɨɞ�ɢ�ɩɨɬɨɦ�ɡɚɜɬɪɚɤɚɟɬ��ɩɶɟɬ�ɯɨ-ɥɨɞɧɨɟ�ɩɢɜɨ��ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬ�ɧɚ�ɩɚɥɭɛɟ�ɫ�ɞɚɦɚɦɢ��ɩɨɬɨɦ�ɜ�ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɟ�ɫɚɞɢɬɫɹ�ɧɚ�ɩɨɟɡɞ�ɢ�ɟɞɟɬ��Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ��ɫɜɨɛɨɞɚ��ɋɬɚɧɰɢɢ�ɦɟɥɶɤɚɸɬ�ɨɞɧɚ�ɡɚ�ɞɪɭɝɨɣ��ɜɨɡɞɭɯ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɜɫɟ�ɯɨɥɨɞ-ɧɟɟ�ɢ�ɠɟɫɬɱɟ��ɜɨɬ�ɛɟɪɟɡɵ�ɢ�ɟɥɢ��ɜɨɬ�Ʉɭɪɫɤ��Ɇɨɫɤɜɚ����ȼ�ɛɭɮɟɬɚɯ�ɳɢ��ɛɚɪɚɧɢɧɚ�ɫ�ɤɚɲɟɣ��ɨɫɟ-ɬɪɢɧɚ��ɩɢɜɨ��ɨɞɧɢɦ�ɫɥɨɜɨɦ��ɧɟ�ɚɡɢɚɬɱɢɧɚ��ɚ�Ɋɨɫɫɢɹ��ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ�Ɋɨɫɫɢɹ��ɉɚɫɫɚɠɢɪɵ�ɜ�ɩɨɟɡɞɟ�ɝɨɜɨɪɹɬ�ɨ�ɬɨɪɝɨɜɥɟ��ɧɨɜɵɯ�ɩɟɜɰɚɯ��ɨ�ɮɪɚɧɤɨ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɫɢɦɩɚɬɢɹɯ��ɜɫɸɞɭ�ɱɭɜɫɬɜɭɟɬɫɹ�ɠɢɜɚɹ��ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ��ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɚɹ��ɛɨɞɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ����ɋɤɨɪɟɣ��ɫɤɨɪɟɣ��ȼɨɬ��ɧɚɤɨɧɟɰ��ɇɟɜɫɤɢɣ��Ȼɨɥɶ-ɲɚɹ�Ɇɨɪɫɤɚɹ��ɚ�ɜɨɬ�Ʉɨɜɟɧɫɤɢɣ�ɩɟɪɟɭɥɨɤ��ɝɞɟ�ɨɧ�ɠɢɥ�ɤɨɝɞɚ�ɬɨ�ɫɨ�ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ��ɜɨɬ�ɦɢɥɨɟ��ɫɟ-ɪɨɟ�ɧɟɛɨ��ɦɨɪɨɫɹɳɢɣ�ɞɨɠɞɢɤ��ɦɨɤɪɵɟ�ɢɡɜɨɡɱɢɤɢª��ɑɟɯɨɜ�����±��������������
19
у С. Шевырева встречается следующее рассуждение (1862): «Есть у нас русских две крайности – квас и шампанское, азиатизм и фран-цузизм, из которых последний едва ли не вреднее для русского» (цит. по: Скальковский 2001: 29). В пореформенный период под влиянием медикализации и санитарно-гигиенической пропаган-ды одним из наиболее заметных и вопиющих проявлений «ази-атчины» стали считаться санитарная отсталость и неблагоустро-енность российских городов. «Азиатское неряшество» (вариан-ты – восточная грязь, азиатская нечистоплотность, татарское не-ряшество и т.д.) в противовес чистой (или очищенной) и цивили-зованной Европе упоминалось беллетристами, журналистами, об-щественными деятелями, обсуждавшими необходимость борьбы с эпидемиями и проведения санитарных реформ, и даже обитателя-ми доходных домов, писавших жалобы в газеты и журналы на «са-нитарные безобразия».
«Азиатчина», толкуемая как грязь, антисанитария, скучен-ность, наблюдалась даже в самых европеизированных городах Российской империи. «Петербург – европейский ли город?» – риторически вопрошал обозреватель литературно-политического журнала «Дело», описывая чудовищное санитарное состояние столицы (Дело 1877, 1: 53). Шло время, а картина не менялась: упоминания «азиатского неряшества», «азиатских приемов ско-тобойного дела», «азиатской вони и грязи» можно обнаружить во многих умеренных и либеральных изданиях 1870–1880-х гг., недо-вольных результатами работы городских управ и земств: «Мы ко-стим Европу и в то же время живем свиньи-свиньями у себя дома, и где же? Не в каком-нибудь Можайске или Свинюхах, а в самой столице, и не умеем даже вести толком хозяйство на буржуазный манер» (Дело 1878, 2: 463).
В брошюре, адресованной русской армии перед турецким по-ходом 1877 г., профессор химии В. Марковников предостерегаю-ще писал: «Здесь явится новый вредный гигиенический элемент, с которым не приходится бороться западным армиям, – это из-вестная восточная нечистоплотность, в значительной степени свойственная и нам самим (курсив мой. – М. П.). Восточный город и в обыкновенном своем виде, с валяющимися по улицам умер-шими животными и другими нечистотами похож на осаждаемую
20
западную крепость» (Марковников 1877: 8). По результатам са-нитарных проверок, проводимых во время эпидемий, такими-то восточными городами представали российские уездные и губерн-ские центры (Пироговская 2012: 212–216).
Вместе с установкой на медицинскую точность описания топи-ка, характерная для санитарно-гигиенического дискурса, проника-ла в художественную литературу и беллетристику. Популярный пи-сатель и критик П. Боборыкин так описывает московский рынок начала 1880-х гг.: «Внизу, в подпольном этаже, разместились под-валы и лавки – больше к Ильинке, где съезжать в переулок и под-ниматься нестерпимо тяжко для лошадей, а двум возам нельзя поч-ти разъехаться с товаром. <...> Насупротив железный и москатель-ный товар валяется в пыли и темноте. Весь этот угол дает свежему человеку чувство рядской тесноты и скученности, чего-то татар-ского по своему неудобству, неряшеству, погоне за грошовой выгодой (курсив мой. – М. П.)» (Боборыкин 1883, 1: 72–73). Наряду с бук-вальным употреблением было широко распространено и перенос-ное: европейской чистоте и прогрессу приписывалось нравственное значение, «азиатской грязи» – отсталость, дикость, аморальность10.
Наделение «азиатского» семантикой грязи и нецивилизован-ности аргументировалось прежде всего статистическими дан-ными: на юге и востоке империи фиксировалась более высокая смертность, чем на западе. По отчету Медицинского департамен-та, в 1876 г. среди 63 губерний Российской империи с населением 80 млн человек самая низкая смертность наблюдалась в прибал-тийских и польских губерниях, самая высокая – в центральной и юго-восточной России11. Примечательно, что, несмотря на фак-тическое отсутствие медицинской статистики по азиатской части империи, особенно по районам кочевий, условия жизни кочев-ников также объявлялись крайне нездоровыми. Впрочем, здесь
10� Ɉ�ɜɥɢɹɧɢɢ�ɞɭɪɧɵɯ�ɠɢɥɢɳ�ɧɚ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ�ɩɢɫɚɥɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ�ɝɢɝɢɟɧɢ-ɫɬɵ��Ȼɟɪɬɟɧɫɨɧ��������±���������±����ɋɤɜɨɪɰɨɜ����������±�����
11� ɋɚɦɚɹ�ɧɢɡɤɚɹ�ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ�ɛɵɥɚ�ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɚ�ɜ�Ʉɭɪɥɹɧɞɫɤɨɣ����������ɋɭɜɚɥɤɫɤɨɣ����������ɗɫɬɥɹɧɞɫɤɨɣ����������ɋɟɞɥɟɰɤɨɣ�ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ����������ɫɚɦɚɹ�ɜɵɫɨɤɚɹ�±�ɜ�ɉɟɧɡɟɧɫɤɨɣ����������Ɇɨ-ɫɤɨɜɫɤɨɣ����������ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣ����������ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ����������ɋɚɦɚɪɫɤɨɣ����������ȼɹɬɫɤɨɣ���������� ɉɟɪɦɫɤɨɣ� ��������� Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɨɣ� �������� �Ɉɬɱɟɬ� Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ� ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ� �������±����ȼ�ɫɬɨɥɢɰɟ�ɢɦɩɟɪɢɢ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɩɪɢɪɨɫɬ�ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ�ɡɚ�ɫɱɟɬ�ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ��ɉɨ�ɩɨɞ-ɫɱɟɬɚɦ������ɝ���ɡɚ�����ɥɟɬ�ɜ�ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ�ɭɦɟɪɥɨ�ɧɚ���������ɱɟɥɨɜɟɤ�ɛɨɥɶɲɟ��ɱɟɦ�ɪɨɞɢɥɨɫɶ�
21
мнения военных врачей, этнографов и чиновников существенно расходились: если врачи, непосредственно наблюдавшие кочев-ников, писали о физической крепости казахов и калмыков (Афа-насьева 2008: 119–127), то остальные транслировали по отноше-нию к азиатам ту же санитарно-гигиеническую риторику, что и по отношению к прочим «другим» в империи.
Таким образом, в рамках санитарно-гигиенического дискурса пространство Российской империи конструировалось как неко-торое силовое поле, где границы «европейского» (чистого) и «ази-атского» (грязного) постоянно смещались в зависимости от целей автора или политической обстановки, но общий вектор чистоты/грязи приблизительно совпадал с вектором распространения эпи-демических болезней – прежде всего холеры12.
Во второй половине XIX века холера и чума считались азиатски-ми болезнями – в европейской нозологической номенклатуре хо-лера именовалась «азиатской» (Cholera asiatica), а чума – «индий-ской» (Pestis indica). Со времени первой холерной пандемии (1817–1824 гг.) в Индии, на Ближнем Востоке и в Прикаспии западноевро-пейскими врачами Азия почти единодушно считалась родиной за-разы и устойчиво ассоциировалась с «повальными и заразительны-ми болезнями», хотя пути и способы распространения холеры были предметом горячих споров врачей-эпидемиологов вплоть до конца XIX века13. В российской медицине столь однозначное утвержде-ние азиатского происхождения холеры и ассоциация ее с азиатским
12� ȼ�ɰɟɥɨɦ�ɛɥɢɠɟ�ɜɫɟɯ�ɤ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦɭ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ�ɝɢɝɢɟɧɵ�ɢ�ɱɢɫɬɨɬɵ�ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ�ɡɚɩɚɞɧɵɟ�ɨɛɥɚɫɬɢ��ɡɚ�ɡɧɚɱɢɦɵɦ�ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ�ɟɜɪɟɣɫɤɢɯ�ɦɟɫɬɟɱɟɤ�ɢ�ɰɵɝɚɧɫɤɢɯ�ɬɚɛɨɪɨɜ��ɚ�ɞɚɥɶɲɟ�ɜɫɟɯ�±�ɸɠɧɵɟ�ɨɤɪɚɢɧɵ���ȼɨɨɛɳɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɢɜɹɡɤɟ�ɬɟɯ�ɢɥɢ�ɢɧɵɯ�ɷɩɢɞɟɦɢɱɟ-ɫɤɢɯ�ɛɨɥɟɡɧɟɣ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ�ɢ�ɩɪɟɠɞɟ��Ƚɭɦɨɪɚɥɶɧɚɹ�ɬɟɨɪɢɹ�ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɥɚ�ɜɟɬɪɚɦ�ɢ�ɢɫɩɚɪɟɧɢɹɦ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɜɪɟɞɧɵɟ�ɢɥɢ�ɰɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ��ɧɨ�ɨɩɚɫɚɬɶɫɹ�ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ�ɢɫɩɚɪɟɧɢɣ��ɩɪɢɧɟ-ɫɟɧɧɵɯ�ɧɟ�ɫ�ɜɨɫɬɨɤɚ��ɚ�ɫ�ɡɚɩɚɞɚ��ȼ�©ɋɟɥɶɫɤɨɦ�ɥɟɱɟɛɧɢɤɟª�Ɇ��ɑɭɥɤɨɜɚ��ɫɨɛɪɚɧɧɨɦ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ��ɭɤɚɡɚɧɨ��©ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ�ɜɟɬɪ��ɧɚɛɪɚɜɲɢɫɶ�ɱɚɫɬɟɣ�ɛɚɥɶɫɚɦɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɞɭ-ɲɢɫɬɵɯ�ɜ�Ⱥɡɢɢ��ɫɠɢɦɚɟɬ�ɠɢɥɵ��ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɩɨɯɜɚɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ�ɢ�ɞɟɥɚɟɬ�ɬɟɥɨ�ɥɟɝɤɢɦ��ɞɭɯ�ɜɟ-ɫɟɥɵɦ�ɢ�ɛɟɝɥɵɦ�����!�ɜɟɫɬ��ɨɛɪɟɦɟɧɹɫɶ�ɜɨɞɧɵɦɢ�ɩɚɪɚɦɢ��ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ�ɫɤɜɚɠɢɧɵ�ɧɚ�ɬɟɥɟ��ɩɪɢɱɢ-ɧɹɟɬ�ɩɪɨɫɬɭɞɵ��ɧɚɫɦɨɪɤɢ�ɢ�ɞɟɥɚɟɬ�ɞɭɯ�ɫɥɚɛɵɦ�ɢ�ɥɟɧɢɜɵɦª��ɑɭɥɤɨɜ�����±���������������Ɍɨ�ɟɫɬɶ�ɜɟɬɟɪ��ɞɭɸɳɢɣ�ɢɡ�Ⱥɡɢɢ��ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ�ɤɚɤ�ɭɤɪɟɩɥɹɸɳɟɟ�ɢ�ɩɨɞɫɭɲɢɜɚɸɳɟɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ��ɯɨɥɟɪɢ-ɱɟɫɤɨɟ���ɬɨɝɞɚ�ɤɚɤ�ɞɭɸɳɢɣ�ɫ�ɡɚɩɚɞɚ�©ɜɟɫɬª�ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɮɥɟɝɦɵ�ɢ�ɞɟɥɚ-ɟɬ�ɟɝɨ�ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦ�ɩɪɨɫɬɭɞɚɦ��Ɋɟɮɥɟɤɫɵ�ɝɭɦɨɪɚɥɶɧɨɣ�ɬɟɨɪɢɢ�ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ�ɜ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ�ɨɛ�©ɚɡɢɚɬɫɤɨɣª�ɝɨɪɹɱɧɨɫɬɢ��ɫɭɯɨɫɬɢ��ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ�ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ�ɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�
13 ȼ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ�ɦɟɞɢɰɢɧɟ�;,;�ɜɟɤɚ�ɯɨɥɟɪɚ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɷɤɡɨɬɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ�ɢ�ɨɛɴ-ɹɫɧɹɥɚɫɶ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɢ�ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ��ɬɨ�ɟɫɬɶ�ɧɟɪɹɲɥɢɜɨɝɨ�ɢ�ɧɟɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ��ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡ-ɧɢ��ɱɬɨ�ɞɚɜɚɥɨ�ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɵɦ�ɜɥɚɫɬɹɦ�±�ɩɪɟɠɞɟ�ɜɫɟɝɨ�ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɣ�ɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɨɣ�ɚɞɦɢɧɢ-ɫɬɪɚɰɢɢ�ɜ�ɂɧɞɢɢ�±�ɩɪɟɞɥɨɝ�ɞɥɹ�ɫɚɦɵɯ�ɠɟɫɬɤɢɯ�ɤɚɪɚɧɬɢɧɧɵɯ�ɦɟɪ��$UQROG����������±��������±�����+DPOLQ���������±����
22
образом жизни прослеживаются лишь со второй половины XIX века; до этого азиатские владения – например, Казахская степь – рассматривались как нуждающиеся в защите от возможных пере-носчиков заразы – русских казаков (Afanasyeva 2013: 491, 497–498).
Формирование представлений об Азии как источнике эпидеми-ческих болезней происходит в пореформенный период – по мере усвоения западноевропейского санитарно-гигиенического дискур-са и западноевропейского взгляда на восточный образ жизни. Акту-ализации этого дискурса регулярно способствовали холерные эпи-демии, а пограничное географическое положение России превра-щало ее в воображаемую буферную зону между «опасным» Восто-ком и «чистым» Западом14. С этой точки зрения наибольшую тре-вогу вызывало положение южных портовых городов и прежде все-го Астрахани, прозванной «воротами в Азию». Дороги и водные пути, которые соединяли северо-западную часть империи с юго-востоком, рассматривались как перегоны, по которым в европей-скую Россию из азиатской поступала зараза. Каждая из пришедших с юга эпидемий вновь и вновь подтверждала эти представления.
Такой взгляд оказывается очень устойчивым. В думской речи 1911 г. П. Столыпин, ссылаясь на выступление депутата-кадета А. Шингарева (что важно, врача и земского деятеля), обильно ис-пользует топику, характерную для санитарно-гигиенического дис-курса, и рисует своим слушателям карту южной России, какой она представала в отчетах санитарных комиссий и очерках этнографов (Доброславин 1879; Минх 1898–1902): «Россия ежегодно наводня-ется эпидемиями и болезнями из Азии. Есть целый ряд городов, которые становятся рассадниками, узлами инфекции, откуда они
14� ȼ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ�ɨɞɧɢɦ�ɢɡ�ɩɟɪɜɵɯ��ɤɬɨ�ɩɨɫɬɚɜɢɥ�ɩɨɞ�ɜɨɩɪɨɫ�ɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɨɪɢɟɧ-ɬɚɥɢɫɬɫɤɢɣ�ɦɢɮ��ɛɵɥ�Ⱥ��ɉɭɲɤɢɧ�±�ɫɧɚɱɚɥɚ�ɜ�ɩɢɫɶɦɚɯ�ɛɪɚɬɭ�ɢɡ�Ȼɚɯɱɢɫɚɪɚɹ��ɚ�ɡɚɬɟɦ�ɜ�©ɉɭɬɟɲɟ-ɫɬɜɢɢ�ɜ�Ⱥɪɡɪɭɦª��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɛɵɥɨ�ɧɚɩɢɫɚɧɨ�ɜ������ɝ���ɩɨɫɥɟ�ɩɨɟɡɞɤɢ������ɝ��ɜ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ�ɚɪɦɢɸ�ɢ�ɩɟɪɜɵɯ�ɯɨɥɟɪɧɵɯ�ɷɩɢɞɟɦɢɣ���©ɇɟ�ɡɧɚɸ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ��ɤɨɬɨɪɨɟ�ɛɵɥɨ�ɛɵ�ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɟɟ�ɫɥɨɜ��ɚɡɢɚɬɫɤɚɹ�ɪɨɫɤɨɲɶ��ɗɬɚ�ɩɨɝɨɜɨɪɤɚ��ɜɟɪɨɹɬɧɨ��ɪɨɞɢɥɚɫɶ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɤɪɟɫɬɨɜɵɯ�ɩɨɯɨɞɨɜ��ɤɨɝɞɚ�ɛɟɞ-ɧɵɟ�ɪɵɰɚɪɢ��ɨɫɬɚɜɹ�ɝɨɥɵɟ�ɫɬɟɧɵ�ɢ�ɞɭɛɨɜɵɟ�ɫɬɭɥɶɹ�ɫɜɨɢɯ�ɡɚɦɤɨɜ��ɭɜɢɞɟɥɢ�ɜ�ɩɟɪɜɵɣ�ɪɚɡ�ɤɪɚɫɧɵɟ�ɞɢɜɚɧɵ��ɩɟɫɬɪɵɟ�ɤɨɜɪɵ�ɢ�ɤɢɧɠɚɥɵ�ɫ�ɰɜɟɬɧɵɦɢ�ɤɚɦɭɲɤɚɦɢ�ɧɚ�ɪɭɤɨɹɬɢ��ɇɵɧɟ�ɦɨɠɧɨ�ɫɤɚɡɚɬɶ��ɚɡɢɚɬɫɤɚɹ�ɛɟɞɧɨɫɬɶ��ɚɡɢɚɬɫɤɨɟ�ɫɜɢɧɫɬɜɨ�ɢ�ɩɪɨɱ���ɧɨ�ɪɨɫɤɨɲɶ�ɟɫɬɶ��ɤɨɧɟɱɧɨ��ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ�ȿɜ-ɪɨɩɵª��ɉɭɲɤɢɧ�����±���������������Ɍɨɬ�ɠɟ�ɤɨɧɬɪɚɫɬ�ɦɟɠɞɭ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ�ɦɢɮɨɦ�ɨ�ȼɨɫɬɨɤɟ�ɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɨɬɦɟɱɟɧ�ɜ�©ȼɨɟɧɧɨɦ�ɚɧɬɢɤɜɚɪɢɢª�Ⱥ��Ȼɟɫɬɭɠɟɜɚ�Ɇɚɪɥɢɧɫɤɨɝɨ���������Ⱦɜɚɞ-ɰɚɬɶ�ɥɟɬ�ɫɩɭɫɬɹ�ɬɟ�ɠɟ�ɬɨɩɨɫɵ�±�ɚɡɢɚɬɫɤɚɹ�ɝɪɹɡɶ��ɫɜɢɧɫɬɜɨ��ɨɬɜɪɚɬɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɪɢɜɵɱɤɢ�±�ɜɫɬɪɟɱɚ-ɸɬɫɹ�ɭ�Ⱥ��ɉɢɫɟɦɫɤɨɝɨ�ɜ�©ɉɭɬɟɜɵɯ�ɨɱɟɪɤɚɯª��������ɨ�ɩɨɟɡɞɤɟ�ɜ�Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ�ɢ�ɧɚ�Ʉɚɫɩɢɣ�
23
разносятся по всей России. Окиньте мысленным взором все наше Поволжье, сначала Астрахань – ворота, через которые к нам при-ходит и холера, и чума, Астрахань с ее известным водопроводом, вбирающим воду на берегу Волги, представляющим из себя клоа-ку, наполненную миазмами. Далее Царицын с его оврагами, оча-гами заразы, из которых самый знаменитый – Кавказ (район тру-щоб, расположенный ниже всех остальных по течению, где жили в основном те, кто работал на пристанях. – М. П.), на высоком берегу которого сосредоточено скопление всех отбросов – гнездо заразы, а внизу, внизу живут люди, которые дышат миазмами от нечистот, сбрасываемых сверху. <...> Дальше идет Саратов с его не менее зна-менитым Глебучевым и Белошинским оврагами, по которым я не-мало походил и о которых мог бы много порассказать. А Самара, нарядная Самара, с ее известной Веденевой ямой, ямой, которая теперь уже не яма, а бугор, с которого жидкие нечистоты по овра-гу стекают в реку Самару. Казань имеет тоже свои достопримеча-тельности в центре города: ров Булак и озеро Кабан, в которое точ-но так же сваливаются все казанские нечистоты» (Столыпин 1991).
При таком понимании топоса обнаружить «азиатчину» – то есть грязь, дурные санитарные условия, невежество и упадок нравов – можно было повсюду. Антитезу западноевропейской цивилизации как культуре городского образованного класса российские врачи ви-дели и в недостаточно европеизированном русском городе, и в тра-диционной крестьянской культуре, в еврейских местечках, и в куль-туре «первобытных народов». Конструировалась своего рода шка-ла, на которой города с регулярной планировкой были ближе к ци-вилизованному идеалу, чем с нерегулярной, мусульмане ближе, чем буддисты и язычники15, оседлые народы ближе, чем кочевые, и т.д. Выбор более европеизированного варианта для врачей озна-чал и выбор в пользу цивилизации, отказаться от которой впослед-ствии было равносильно добровольному возвращению в варварское состояние16.
15� ɗɬɨɬ�ɜɡɝɥɹɞ�ɛɵɥ�ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ�ɟɳɟ�ɤɧɹɡɟɦ�Ɇ��ɓɟɪɛɚɬɨɜɵɦ�ɜ�ɬɪɚɤɬɚɬɟ�©ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ�ɜ�ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɢ�Ɋɨɫɫɢɢª������ɝ�
��� ɋɪ���ɧɚɩɪɢɦɟɪ��©Ʉɚɥɦɵɤɢ�ɢ�ɤɢɪɝɢɡɵ��ɧɚɯɨɞɹɫɶ�ɧɚ�ɧɢɡɲɟɣ�ɫɬɭɩɟɧɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ��ɧɟ�ɢɫɩɵ-ɬɚɥɢ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ�ɠɢɬɶɹ�ɜ�ɞɨɦɚɯ��ɚ�ɩɨɬɨɦɭ�ɢ�ɧɟ�ɦɨɝɭɬ�ɠɟɥɚɬɶ�ɬɨɝɨ��ɱɟɝɨ�ɧɟ�ɡɧɚɸɬ��ɧɨ�ɪɚɡ�ɩɨ-ɩɪɨɛɭɸɬ�ɠɢɬɶ�ɜ�ɬɟɩɥɨɣ�ɢɡɛɟ��ɬɨ�ɟɞɜɚ�ɥɢ�ɨɬɤɚɠɭɬɫɹ�ɨɬ�ɧɟɟ�ɩɨɬɨɦª��ɋɬɚɛɪɨɜɫɤɢɣ������������
24
Имперский дискурс и гигиена: присоединение АзииКомплексное противопоставление Запада и Востока, чистоты
и грязи, цивилизации и варварства не было изобретением поздне-имперской эпохи. После эпохи Просвещения в Европе наступило время специфического «производства» и дискурсивного оформ-ления Востока как понятия – политического, социологического, военного, идеологического, научного и поэтического (Said 2003: 3). Россия же пыталась определить свое место между Западом и Востоком, исходя не только из культурных предпочтений, но и из имперских амбиций. Соответствующим образом конструировал-ся и менялся специфический имперский дискурс, так или ина-че оправдывающий территориальные притязания и цивилизатор-ские задачи (Brower, Lazzerini 1997).
В эпоху, когда санитария, гигиена, прогресс образовывали не-расторжимое единство в публичных дискуссиях, Азия была не только источником заразы, но и направлением активной колони-зации. Поражение России в Крымской войне делало продвиже-ние в Азию вопросом международного престижа – в попытке вер-нуть статус великой державы Российская империя пыталась со-перничать с Великобританией, постепенно придвигая свою юж-ную границу к британским владениям в Индии (Абашин, Арапов, Бекмаханова 2008: 63–65). С конца 1860-х гг. началось освоение Туркестанского края; в 1868 г. Бухарский эмират стал российским протекторатом, в 1876 г. русские войска захватили Коканд, в 1884 г. в состав империи вошел Мервский оазис. «Восточный вопрос», «наши восточные дела» порождали особую риторическую страте-гию, которая противопоставляла туземные обычаи культуре коло-низатора: те факторы, которые могли помешать колонизации или поставить ее под вопрос, дискредитировались – целью оказыва-лась успешная аккультурация (Алексеев 2002: 89–95)17.
С помощью такого понятия, как «европейский прогресс», во-енные, чиновники и этнографы легитимизировали притязания
��� ɇɚɩɪɢɦɟɪ��ɢɫɬɨɪɢɤ�ɢ�ɷɬɧɨɝɪɚɮ�ɇ��Ɉɫɬɪɨɭɦɨɜ��ɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɜɲɢɣ�©Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɫɤɭɸ�ɬɭ-ɡɟɦɧɭɸ� ɝɚɡɟɬɭª�� ɜɵɫɬɭɩɚɥ� ɡɚ� ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɸ�ɢ� ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɧɨɜɵɯ� ɢɦɩɟɪɫɤɢɯ� ɡɟɦɟɥɶ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ�ɢɫɥɚɦ�ɤɚɤ�©ɝɨɦɨɝɟɧɧɨɟ�ɹɜɥɟɧɢɟ��ɩɨɥɸɫ�ɝɪɹɡɢ��ɬɶɦɵ��ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɚ��ɮɚɧɚɬɢɡɦɚ���ɨɞ-ɧɨɡɧɚɱɧɨ�ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɟ�ɩɨ�ɜɫɟɦ�ɫɜɨɢɦ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ� �ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ�ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ��ɩɨɥɸɫ�ɫɜɟɬɚ�ª��Ⱥɥɟɤɫɟɟɜ�����������
25
России на чужие земли и оправдывали сам факт колонизации. Примечательно, что таким образом Российская империя оказы-валась по отношению к Азии географической и цивилизационной Европой – той самой Европой, вызывавшей сильнейший рессан-тимент в России 1870–1890-х гг.18. Необходимость присоединения Азии обосновывалась стремлением распространить «западное», «цивилизованное», «культурное» пространство на прилегающие земли (Абашин, Арапов, Бекмаханова 2008: 132). Публицисты, обсуждавшие восточный вопрос в печати, утверждали, что в куль-турном и санитарном отношении калмыки, казахи, текинцы – а вместе с ними персы, турки и другие восточные народы – на-ходятся практически на первобытном уровне, но если когда-то и были цивилизованными, то теперь совсем одичали, поэтому дол-гом России было прийти к ним на помощь (Серебренников 1912–1915, 20: 48; Семенов 1887: 26–27)19. Востоковед А. Миддендорф, составивший первые этнографические очерки Ферганской доли-ны, писал: «Лишь благодаря толчку извне, лишь благодаря евро-пейской дисциплине и порядку, Средняя Азия может снова вос-креснуть. Точно так же из рога изобилия европейского прогрес-са она может получить более чем богатое наследие в естественных науках, в теории и практике земледелия, равно как и в технике, и может приумножать свои богатства» (Миддендорф 1882: 450).
В качестве аргументов азиатской отсталости могли привлекать-ся самые разные данные – от умозрительных демографических данных (заболеваемость и смертность) до регулярности религиоз-ной жизни (вроде посещения мечети)20 и пищевых пристрастий,
18� ɇɚɩɪɢɦɟɪ��ɜɡɹɬɢɟ�ɪɭɫɫɤɢɦɢ�ɜɨɣɫɤɚɦɢ�ɩɨɞ�ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ�ɝɟɧɟɪɚɥɚ�ɋɤɨɛɟɥɟɜɚ�ɬɟɤɢɧ-ɫɤɨɝɨ�ɨɚɡɢɫɚ�Ƚɟɨɤ�Ɍɟɩɟ�ɜ�ɹɧɜɚɪɟ������ɝ��ɢɧɫɩɢɪɢɪɨɜɚɥɨ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ�ɩɚɫɫɚɠ�ɜ�©Ⱦɧɟɜɧɢɤɟ�ɩɢ-ɫɚɬɟɥɹª�Ɏ��Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ��©ȼ�ȿɜɪɨɩɟ�ɦɵ�ɛɵɥɢ�ɩɪɢɠɢɜɚɥɶɳɢɤɢ�ɢ�ɪɚɛɵ��ɚ�ɜ�Ⱥɡɢɸ�ɹɜɢɦɫɹ�ɝɨ-ɫɩɨɞɚɦɢ��ȼ�ȿɜɪɨɩɟ�ɦɵ�ɛɵɥɢ�ɬɚɬɚɪɚɦɢ��ɚ�ɜ�Ⱥɡɢɢ�ɢ�ɦɵ�ɟɜɪɨɩɟɣɰɵ��Ɇɢɫɫɢɹ��ɦɢɫɫɢɹ�ɧɚɲɚ�ɰɢ-ɜɢɥɢɡɚɬɨɪɫɤɚɹ�ɜ�Ⱥɡɢɢ�ɩɨɞɤɭɩɢɬ�ɧɚɲ�ɞɭɯ�ɢ�ɭɜɥɟɱɟɬ�ɧɚɫ�ɬɭɞɚ��ɬɨɥɶɤɨ�ɛɵ�ɧɚɱɚɥɨɫɶ�ɞɜɢɠɟɧɢɟ��ɉɨɫɬɪɨɣɬɟ�ɬɨɥɶɤɨ�ɞɜɟ�ɠɟɥɟɡɧɵɟ�ɞɨɪɨɝɢ��ɧɚɱɧɢɬɟ�ɫ�ɬɨɝɨ��±�ɨɞɧɭ�ɜ�ɋɢɛɢɪɶ��ɚ�ɞɪɭɝɭɸ�ɜ�ɋɪɟɞ-ɧɸɸ�Ⱥɡɢɸ��ɢ�ɭɜɢɞɢɬɟ�ɬɨɬɱɚɫ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹª��Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ�����±���������������
19� Ɉ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɤɚɯ�ɢ�ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɯ�ɜ�ɨɰɟɧɤɟ�ɤɨɱɟɜɧɢɤɨɜ�ɜ�ɢɦɩɟɪɫɤɨɦ�ɦɟɞɢɰɢɧ-ɫɤɨɦ�ɞɢɫɤɭɪɫɟ�����±�����ɯ�ɝɝ��ɫɦ��ɪɚɛɨɬɭ�Ⱥ��Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɨɣ��Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ����������±�����
20� ©Ɍɚɬɚɪɵ��ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ�ɫ�ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɟɣ�ɭɠɟ�ɞɚɜɧɨ��ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ�ɝɨɪɚɡɞɨ�ɜɵɲɟ�ɫɬɨɹɬ�ɤɢɪɝɢɡɨɜ��Ɍɚɬɚɪɢɧ�ɞɥɹ�ɤɢɪɝɢɡɚ�ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ��ɰɢɜɢɥɢɡɭɸɳɢɣɫɹ�ɤɢɪɝɢɡ�ɫɛɪɚɫɵɜɚ-ɟɬ�ɫɜɨɣ�ɤɢɪɝɢɡɫɤɢɣ��ɛɭɯɚɪɫɤɢɣ��ɯɚɥɚɬ�ɢ�ɧɚɞɟɜɚɟɬ�ɬɚɬɚɪɫɤɢɣ��ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ�ɤɢɪɝɢɡ��ɧɚɞɟɜ�ɱɢɫɬɵɣ�ɯɚɥɚɬ��ɢɞɟɬ�ɜɦɟɫɬɟ�ɫ�ɬɚɬɚɪɢɧɨɦ�ɧɚ�ɜɟɱɟɪɧɸɸ�ɦɨɥɢɬɜɭ�ɜ�ɦɟɱɟɬɶ��ɂ�ɜɵɫɲɚɹ�ɦɟɱɬɚ�ɤɢɪ-ɝɢɡɚ�ɧɟ�ɨɛɪɭɫɟɬɶ��ɚ�ɨɬɚɬɚɪɢɬɶɫɹª��ɏɚɪɭɡɢɧ�����������
26
индивидуальных и коллективных (Немирович-Данченко 1877: 303). В соответствии со стадиальной концепцией развития куль-туры все племена и народы, не соответствующие этому стандар-ту, объявлялись дикими или варварскими, а то и прямо расчелове-чивались. Высокопоставленный русский чиновник, осматривав-ший кочевья в Казахской степи в 1866 г., отмечает: «Во время на-ших расспросов я всматривался в эти получеловеческие лица, то освещаемые вспыхивающим огнем, то тонущие в темноте, когда сгорал быстро вспыхивающий и быстро сгорающий кызыл-ча. Эти лица имели много сходства с обезьянами. Нужда и горе исказили их до того, что их едва ли можно назвать переходом от четырехру-ких к двуруким <...>. Грязь, нечистота, вонь, холод, повсеместные лохмотья, – вот обыкновенные атрибуты кочующих киргиз (до на-чала XX века киргизами называли казахов. – М. П.)» (Гейнс 1897–1899, 2). Этот пример нельзя назвать типичным для имперско-го дискурса, однако он весьма типичен для дискурса санитарно-гигиенического: обладатели других гигиенических привычек объ-являлись варварами или неразумными детьми, нуждавшимися в цивилизующем просвещении и контроле. К следующим десяти-летиям, по мере установления российского господства в Средней Азии, обмен топикой между колониальной риторикой и ритори-кой медикализованной становился все более интенсивным.
Одним из критериев цивилизованности служили гигиениче-ские привычки (в том числе различные этнические стереотипы, оформлявшиеся и подававшиеся как объективные, научные дан-ные), которые оценивались по своей близости к идеализирован-ному европейскому стандарту. Запах тела, жилья, неопределен-ные, но тем более подозрительные миазмы служили маркера-ми дикости и отсталости для носителя европейских гигиениче-ских и поведенческих норм, которые предписывали по возмож-ности подавлять все телесные запахи, разделять запахи по функ-циональным сферам и т.д. Вот, например, что пишет статистик о калмыках Больше-Дербетского уезда: «Приглашаем читателя вой-ти в жилище калмыков. <...> Делая такое приглашение, мы, одна-ко же, считаем нелишним предупредить слабонервных читателей не вдруг решаться на этот подвиг или, по меньшей мере, запастись одеколоном, иначе они могут поплатиться головокружением,
27
вследствие весьма неприятного и сильного запаха дыма, прокоп-ченных войлоков – в особенности во время дождя – и от испаре-ния самих калмыков или, лучше сказать, запаха их шуб, собак и разных съестных припасов, словом, запаха собственно кибиточно-го (курсив авт. – М. П.)» (Бентковский 1867: 177–179)21.
Чем сильнее был запах, тем более «азиатским» – то есть неци-вилизованным – объявлялся его обладатель и тем более открытым был призыв к исправлению, очищению и европеизации. Речь мог-ла идти о кочевниках, лопарях, местечковых евреях, крестьянах, обитателях ночлежных домов, рыночных торговцах и т.д.: объеди-няющими их характеристиками оказывались иные ольфакторные и гигиенические стандарты, не совпадающие с воображаемыми европейскими нормами22. Эти же представления распространя-лись и на лекарственные и гигиенические средства: чем менее ци-вилизованным считался человек, тем более мощные меры следо-вало применять – только они были способны произвести впечат-ление на «грубого дикаря»23. В этом аспекте санитарный подход неожиданно смыкался с карантинным, проповедующим жесткие и репрессивные практики, априори рассчитанные на более низ-кий уровень чувствительности.
21 Ⱦɜɚ�ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ�ɫɩɭɫɬɹ�ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɬɚɤɨɝɨ�ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɟɳɟ�ɫɢɥɶɧɟɟ��©Ʉɚɤ�ɧɟ�ɩɪɨɰɜɟɬɚɬɶ�ɬɭɬ��ɜ�ɬɚɤɢɯ�ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ��ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ�ɧɚɤɨɠɧɵɦ�ɛɨɥɟɡɧɹɦ��ɤɚɤ�ɧɟ�ɫɤɚɲɢɜɚɬɶ�ɨɫɩɟ�ɰɟɥɵɟ�ɫɟɦɶɢ"�ɉɪɢɱɟɦ�ɬɭɬ�ɱɢɫɬɵɣ�ɫɬɟɩɧɨɣ�ɜɨɡɞɭɯ��ɤɨɝɞɚ�ɤɢɪɝɢɡ��ɤɪɨɦɟ�ɝɪɹɡɧɨɝɨ�ɬɟɥɚ��ɤɪɨɦɟ�ɩɨɱɬɢ�ɧɟ�ɦɟɧɹɟɦɨɝɨ�ɯɚɥɚɬɚ�ɢ�ɪɭɛɚɯɢ��ɞɟɧɧɭɟɬ�ɢ�ɧɨɱɭɟɬ�ɫɪɟɞɢ�ɡɥɨɜɨɧɢɹ�ɢ�ɝɪɹɡɢ"�Ɇɧɨɝɢɟ��ɦɚɥɨ�ɢɥɢ�ɫɨɜɫɟɦ�ɧɟ�ɡɧɚɤɨɦɵɟ�ɫ�ɠɢɡɧɶɸ�ɤɨɱɟɜɧɢɤɚ��ɪɢɫɭɸɬ�ɟɟ�ɬɚɤ��³ɫɬɟɩɶ��ɱɢɫɬɵɣ��ɚɪɨɦɚɬɧɵɣ�ɜɨɡɞɭɯ��ɩɪɨɯɥɚɞɚ�ɜ�ɤɢɛɢɬɤɟ��ɤɭɦɵɫ��ɫɩɨɤɨɣɧɨɟ�ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɞɭɯɚ«�ɧɚɢ-ɠɟɥɚɧɧɵɟ� ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�±� ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�� ɤɨɱɟɜɧɢɤ� ɡɞɨɪɨɜ�� ɛɨɞɪ��ɠɢɜɟɬ�ɞɨɥɝɨ«� ɢ�ɬ�ɞ�´�ɇɨ�ɧɢɤɬɨ�ɧɟ�ɡɧɚɟɬ��ɱɬɨ��ɫɢɞɹ�ɜ�ɤɢɛɢɬɤɟ��ɭɠɟ�ɱɟɪɟɡ�ɩɹɬɶ�ɦɢɧɭɬ�ɬɹɝɨɬɢɬ�ɟɟ�ɜɨɡɞɭɯ��ɢ�ɱɬɨ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɲɚɝɨɜ�ɨɬ�ɤɢɛɢɬɤɢ�ɱɭɜɫɬɜɭɟɲɶ�ɨɛɨɧɹɧɢɟɦ�ɟɟ�ɛɥɢɡɨɫɬɶª��ɏɚɪɭɡɢɧ���������±����
22 ɉɨ�ɞɚɧɧɵɦ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɭɥɶɬɭɪ��ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ�ɤ�©ɞɪɭɝɨɦɭª��ɧɚɩɪɢɦɟɪ��ɤ�ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦ��ɦɨɠɟɬ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ�ɨɫɬɪɚɤɢɡɦɨɦ�ɢ�ɧɚɜɟɲɢɜɚɧɢɟɦ�ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɸɳɢɯ�ɹɪɥɵɤɨɜ��ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɳɢɯ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɢ�ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ�ɧɟɪɹɲɥɢɜɨɫɬɶ�ɱɥɟɧɨɜ�ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɭɟɦɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ��Ɍɟɦ�ɫɚɦɵɦ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ�ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɟɩɪɟɫɫɢɪɭɟɦɨɣ�ɝɪɭɩɩɵ�ɡɚ�ɩɪɟɞɟɥɵ�ɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨ�ɫɨɰɢɚɥɶ-ɧɨɝɨ�ɩɨɥɹ�ɢ�ɜ�ɤɨɧɟɱɧɨɦ�ɫɱɟɬɟ�ɟɟ�ɪɚɫɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɟ��/LYLQJVWRQH�6PLWK��������Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ�ɠɟ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ�ɩɪɢɜɵɱɧɭɸ�ɤɚɪɬɢɧɭ�ɦɢɪɚ�ɥɢɛɨ�ɩɨɥɭɱɚɟɬ�ɩɪɟɞɥɨɝ�ɤ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɠɟɫɬɤɢɯ�ɦɟɪ�
23 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ�ɩɪɢɦɟɪ�ɦɵ�ɧɚɯɨɞɢɦ�ɜ�ɡɚɩɢɫɤɚɯ�ɨ�Ɍɭɪɤɟɫɬɚɧɟ�ɝɟɧɟɪɚɥ�ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ�Ɇ��Ɍɟ-ɪɟɧɬɶɟɜɚ��©ə�ɭɛɟɞɢɥɫɹ�ɧɚ�ɞɟɥɟ��ɱɬɨ�ɬɚɤɨɦɭ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɱɟɥɨɜɟɤɭ��ɤɚɤ�ɤɢɪɝɢɡ��ɤɚɡɚɯ��±�Ɇ��ɉ����ɤɭɪɚɦɢɧɟɰ�ɢ�ɞɚɠɟ�ɫɚɪɬ��ɛɨɥɶɲɟ�ɜɫɟɝɨ�ɜɧɭɲɚɸɬ�ɞɨɜɟɪɢɟ�³ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ´�ɫɪɟɞɫɬɜɚ��ɝɨɪɶɤɚɹ�ɯɢɧɚ��ɜɵɠɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɥɟɡɵ�ɧɚɲɚɬɵɪɧɵɣ�ɫɩɢɪɬ��ɨɛɠɢɝɚɸɳɢɣ�ɩɚɪɲɭ�ɪɚɫɬɜɨɪ�ɟɞɤɨɝɨ�ɤɚɥɢ��ɧɟɫɦɵɜɚɟɦɵɣ�ɧɢɱɟɦ�ɚɞɫɤɢɣ�ɤɚɦɟɧɶ��ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɪɜɨɬɧɵɟ��ɫɥɚɛɢɬɟɥɶ-ɧɵɟ�ɢ�ɩɪɨɱ��Ʉɨɝɞɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ�ɫɤɨɪɨ�ɢ�ɡɚɦɟɬɧɨ�±�ɞɢɤɨɦɭ�ɱɟɥɨɜɟɤɭ�ɥɭɱɲɟ�ɧɢɱɟɝɨ�ɢ�ɧɟ�ɧɚɞɨ��Ɉɧ�ɞɨɜɨɥɟɧ�ɛɭɞɟɬ�ɞɚɠɟ�ɢ�ɨɞɧɢɦ�ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟɦ�ɜɤɭɫɚ��ɨɛɨɧɹɧɢɹ��ɨɫɹɡɚɧɢɹ��ɝɨɪɶɤɨ��ɜɨ-ɧɹɟɬ��ɳɢɩɥɟɬ�±�ɜɨɬ�ɷɬɨ�ɢ�ɥɟɤɚɪɫɬɜɨ�ª��Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜ������������
28
Примечательно, что британцы – конкуренты России в Азии – неоднократно подчеркивали культурную близость русских к поко-ряемым среднеазиатским народам и связывали с ней российские успехи завоевания и аккультурации в Центральной Азии. Изнутри тот же факт подавался как признание азиатскими народами мо-ральной силы русских: цивилизованность из прогрессивных и ги-гиенических терминов переводилась в моральные (Поклевский-Козелл 1885: 17). Таким образом, и во внешней политике грани-цы европейского и азиатского культурного пространства сдвига-лись в зависимости от целей и задач каждой из сторон, а степень цивилизованности постоянно оказывалась предметом дебатов и торга24.
Конструируемое с конца XVIII века промежуточное поло-жение России между Западом и Востоком во второй половине XIX века оказывалось не только поводом к философским размыш-лениям и геополитическим дискуссиям. Оно способствовало вне-сению новых риторических элементов в российский санитарно-гигиенический дискурс, во многом заимствованный из западно-европейской медицинской литературы. В свою очередь, процес-сы медикализации и популяризации санитарно-гигиенического знания укрепляли ассоциации между прогрессом и обществен-ным здоровьем, способствуя поляризации «европейского» и «ази-атского» не только в геополитическом поле, но и в сфере пред-ставлений о цивилизованности, чистоте, порядке и гигиене. Эти же связи и ассоциации подпитывали топику имперского дискур-са, когда речь заходила о необходимости цивилизовать и просве-тить покоренные народы.
24� Ɍɚɤ��ɧɚɩɪɢɦɟɪ�� ɜɟɧɝɟɪɫɤɢɣ�ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞ�Ƚ��ȼɚɦɛɟɪɢ�ɫɱɢɬɚɥ��ɱɬɨ� ɡɚɞɚɱɢ�ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢɢ�Ⱥɡɢɢ�ɪɭɫɫɤɢɦ�ɪɟɲɢɬɶ�ɩɪɨɳɟ��ɱɟɦ�ɛɪɢɬɚɧɰɚɦ��ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�©ɛɭɞɭɱɢ�ɚɡɢɚɬɰɚɦɢ��ɪɭɫɫɤɢɟ�ɧɟ�ɨɬ-ɥɢɱɚɸɬɫɹ�ɨɬ�ɫɜɨɢɯ�ɫɨɫɟɞɟɣ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɧɪɚɜɨɜ��ɨɛɵɱɚɟɜ�ɢ�ɨɛɪɚɡɚ�ɦɵɫɥɟɣ�ɬɚɤ�ɪɟɡɤɨ��ɤɚɤ�ɚɧ-ɝɥɢɱɚɧɟ��ɤɨɬɨɪɵɟ�ɫɬɨɹɬ�ɧɚ�ɛɨɥɟɟ�ɜɵɫɨɤɨɣ�ɫɬɭɩɟɧɢ�ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɞɥɹ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɩɨɷɬɨɦɭ�ɛɵɥɨ�ɛɵ�ɧɟɜɵɧɨɫɢɦɨ�ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ�ɨɬ�ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ�ɢ�ɜɥɟɡɬɶ�ɜ�ɲɤɭɪɭ�ɚɡɢɚɬɰɚ�����!��ɗɬɢ�ɜɵ-ɝɨɞɵ�ɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɦɵɫɥɟɣ��ɭɫɜɨɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ�ɦɨɠɧɨ�ɫɱɢɬɚɬɶ�ɜɟɪɯɨɦ�ɯɢɬɪɨɫɬɢ��ɢ�ɜ�ɨɛ-ɥɚɫɬɢ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɪɢɧɨɫɹɬ�ɝɨɪɚɡɞɨ�ɛɨɥɟɟ�ɩɨɥɶɡɵ��ɱɟɦ�ɩɪɹɦɨɞɭɲɢɟ�ɢ�ɫɩɪɚɜɟɞ-ɥɢɜɨɫɬɶ��ɢɫɤɨɧɢ�ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟ�ɨɛɪɚɡ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɚɧɝɥɢɱɚɧª��ȼɚɦɛɟɪɢ����������±�����
29
ЛитератураАбашин С. Н., Арапов Д. Ю., Бекмаханова Н. Е. (ред.) (2008):
Центральная Азия в составе Российской империи. М.: Новое лите-ратурное обозрение.
Алексеев И. Л. (2002): Н. П. Остроумов о проблемах управле-ния мусульманским населением Туркестанского края, в: Сборник Русского исторического общества. Т. 5 (153). М.: Русская панора-ма, стр. 89–95.
Афанасьева А. (2008): «Освободить... от шайтанов и шарлата-нов»: дискурсы и практики российской медицины в Казахской степи в XIX веке, в: Ab Imperio. № 4, стр. 113–150.
Белинский В. (1950): Из неизданной переписки Белинского с К. С. Аксаковым, В. П. Боткиным, А. И. Герценом, А. П. Ефремо-вым и М. Н. Катковым, в: Литературное наследство. Т. 56. М.: Из-дательство АН СССР, стр. 75–86.
Бентковский И. (1867): Жилище и пища калмыков Больше-Дербетского уезда, в: Записки для чтения. № 12.
Бертенсон И. В. (1858): Гигиеническая сторона крестьянского вопроса. М.: Типография Каткова и К°.
Бертенсон И. В. (1871): Барачные лазареты в военное и мирное время. СПб.: Общество попечения о раненых и больных воинах.
Боборыкин П. Д. (1883): Китай-город. В 2 т. СПб.; М.: Типогра-фия М. О. Вольф.
Вамбери Г. (1867): Соперничество России и Англии в Средней Азии, в: Записки для чтения. № 12.
Гейнс А. К. (1897–1899): Собрание литературных трудов. В 3 т. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича.
Гюбнер Ю. Ю. (1869): Современное состояние вопроса о клад-бищах // Архив судебной медицины и общественной гигиены. Кн. 4. Отд. 3. С. 32–107.
Доброславин А. П. (1879): О результатах исследований сани-тарного состояния города Астрахани. Из отчета графу Лорис-Меликову, временному генерал-губернатору Астраханской, Сара-товской и Самарской губерний, в 1879 году, в: Сборник сочинений по судебной медицине, судебной психиатрии, медицинской полиции, общественной гигиене, эпидемиологии, медицинской географии и ме-дицинской статистике. Т. 3. СПб., стр. 119–155.
30
Долинин А. А. (2010): Гибель Запада: к истории одного стойко-го верования, в: К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб.: Издательство Пушкинского Дома, Издательский дом «Петропо-лис», стр. 26–76.
Достоевский Ф. М. (1989–1996): Собрание сочинений в 15 то-мах. Л.: Наука.
Леонтьев К. Н. (1881): Как надо понимать сближение с народом? М.: Типография Е. И. Погодиной.
Малинова О. (2005): Образы «Запада» и модели русской иден-тичности в дискуссиях середины XIX века, в: Космополис. № 2 (12), стр. 38–59.
Марковников В. В. (1877): Несколько слов о санитарных мерах в военное время. М.: Университетская типография.
Миддендорф А. Ф. (1882): Очерки Ферганской долины. СПб.: Ти-пография Императорской Академии наук.
Минх А. Н. (1898–1902): Историко-географический словарь Са-ратовской губернии. Вып. 1–4. Саратов: Типография Губернского земства.
Немирович-Данченко В. И. (1877): По Волге. СПб.: И. Л. Тузов.Отчет Медицинского департамента за 1877 год (1878). СПб.:
[Б.и.].Пироговская М. М. (2012): Ветлянская чума 1878–1879 гг.: Са-
нитарный дискурс, санитарные практики и (ре)формирование чувствительности, в: Антропологический форум. № 17, стр. 198–229.
Поклевский-Козелл И. И. (1885): Новый торговый путь от Ир-тыша в Верный и Кульджу и исследование реки, или На пароходе «Колпаковский». СПб.: Типография Д. И. Шеметкина.
Пушкин А. С. (1977–1979): Полное собрание сочинений в 10 то-мах. Л.: Наука.
Радаков А. Н. (1876): Влияние на здоровье нечистого воздуха. М.: Типография А. И. Мамонтова и К°.
Семенов Д. Д. (1887): Отечествоведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям. Т. VI. Туркестанский край. М.: Книжный магазин наследников братьев Салаевых.
Серебренников А. Г. (1912–1915): Туркестанский край: Сборник материалов для истории его завоевания в 22 томах. Ташкент: Типо-графия Штаба Туркестанского военного округа.
31
Скальковский К. А. (2001): Мнения русских людей о самих себе: Маленькая хрестоматия для взрослых. М.: ТЕРРА – Книжный клуб.
Скворцов И. П. (1875): Обзор способов удаления из населен-ных мест нечистот, в: Здоровье. № 15, стр. 313–316; № 16, стр. 331–336; № 17, стр. 347–353.
Скворцов И. П. (1877): Санитарный быт западноевропейских городов и Международная гигиеническая выставка в Брюсселе. Краткий отчет по заграничной поездке, в: Известия Император-ского Казанского университета за 1877 год. Казань, стр. 96–154.
Скворцов И. П. (1879): Ветлянская эпидемия и вызванные ею санитарно-медицинские меры, в: Сборник статей о чуме. Вып. 2. Казань: Типография Казанского университета, стр: 117–181.
Скворцов И. П. (1881): Общепонятная гигиена. СПб.: К. Рик-кер.
Смоленский П. О. (1882): Письма из-за границы. СПб.: Типо-графия Б. Г. Янпольского.
Стабровский И. С. (1889): К вопросу о санитарном состоянии Астраханских рыбных промыслов, в: Вестник судебной медицины и общественной гигиены. Т. 4. Кн. 3., стр. 125–148.
Столыпин П. А. (1991): Речь о необходимости издания нового экстренного закона в целях оздоровления столицы, произнесен-ная в Государственной Думе 11 января 1911 года, в: Столыпин П. А. Полное собрание речей в Государственной думе и Государственном совете: Нам нужна великая Россия... 1906–1911. М.: Молодая гвар-дия. – http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/stolypin.txt.
Тард Г. (1902): Общественное мнение и толпа. М.: Издательство Товарищества типографии А. И. Мамонтова.
Терентьев М. А. (1875): Туркестан и туркестанцы, в: Вестник Европы. № 9.
Харузин А. Н. (1888): Степные очерки. М.: Типография А. А. Ле-венсон.
Чехов А. П. (1974–1982): Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. М.: Наука.
Чулков М. Д. (1789–1805): Сельский лечебник. Вып. 1–7. М.: Ти-пография Пономарева.
Щукин В. (2001): Русское западничество: Генезис – сущность – историческая роль. àyGĨ��Ibidem.
32
Эрисман Ф. Ф. (1871): Подвальные жилища в Петербурге, в: Архив судебной медицины и общественной гигиены. Кн. 4. Отд. 3., стр. 1–56.
Эрисман Ф. Ф. (1887–1888): Курс гигиены в 3 томах. М.: Типо-графия А. А. Карцева.
Afanasyeva A. (2013): Quarantines and Copper Amulets: The Struggle Against Cholera in the Kazakh Steppe in the Nineteenth Century, in: Jah-rbücher für Geschichte Osteuropas. Vol. 61 (4), pp. 489–512.
Arnold D. (1993): Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth Century India. Berkeley, London: University of California Press.
Brower D. R. (1990): The Russian City between Tradition and Moder-nity, 1850–1900. Berkeley: University of California Press.
Brower D. R., Lazzerini E. (eds.) (1997): Russia’s Orient. Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917. Bloomington: Indiana University Press.
Hamlin Ch. (1998): Public Health and Social Justice in the Age of Chadwick: Britain, 1800–1854. Cambridge: Cambridge University Press.
Hamlin Ch. (2009): Cholera: The Biography. Oxford: Oxford Uni-versity Press.
Kearns G. (1988): Private Property and Public Health Reform in England, 1830–1870, in: Social Science and Medicine. Vol. 26, Issue 1, pp. 187–199.
Livingstone-Smith D. (2011): Less Than Human: Why We Demean, Enslave and Exterminate Others. New York: St. Martin’s Press.
Neumann I. B. (1996): Russia and the Idea of Europe. A Study of Identity and International Relations. London, NY: Routledge.
Reichardt E. (2008): Health, ‘Race’ and Empire: Popular-Scientific Spectacles and National Identity in Imperial Germany, 1871–1914. Mor-risville, NC: Lulu.com.
Said E. (2003): Orientalism. London: Penguin Books.