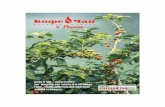Мустакимов И.А., Сень Д.В.Азов и донские казаки по...
Transcript of Мустакимов И.А., Сень Д.В.Азов и донские казаки по...
172
АЗОВ И ДОНСКИЕ КАЗАКИ ПО ОСМАНСКИМ ДОКУМЕНТАМ 1560–1570-х гг.
И. А. Мустакимов, Д. В. Сень
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Азов, Османская империя, Крымское ханство, «Реестры важных дел», донские казаки, ногаи, черкесы.
Статья продолжает работы авторов, связанные с исследованием и публикацией османских
архивных источников по истории донского казачества [Мустакимов, Трепавлов, 2009; Мустакимов, Сень, 2010, с. 307–326; Мустакимов, Сень, 2011, с. 67–69]. Среди них особое место занимают «Мюхимме дефтерлери» («Реестры важных дел») XVI в. – книги регистрации текстов посланий и указов османских султанов [Мустакимов, 2008, с. 27–32; Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 35–46]. «Реестры» содержат документы, связанные с историей запорожского и донского казачества, существенно дополняют и уточняют сведения европейских – русских, украинских, польских и др. – источников о казаках. Османские источники, уже вполне очевидно, вносят значимый вклад в решение проблемы о происхождении донского казачества, времени его выхода на историческую арену, особенностях ведения казаками боевых действий против турок-османов и их союзников на суше и на море. Прав В. Н. Королёв, отмечавший важное значение опубликованных французскими специалистами двух султанских указов XVI в. для изучения «донского казачьего мореплавания» [Королёв, 1987, с. 82]. Известные специалистам османские источники, помимо этого, проливают свет на историю ранних казачьих поселений и – в более общем смысле – на историю расселения донских казаков в низовьях Дона.
Отметим, что резкое сокращение исследований по ранней истории донского казачества вызвано, не в последнюю очередь, сегодняшним состоянием источниковой базы – новые источники русского происхождения о казаках середины – третьей четверти XVI в. не вводились в научный оборот достаточно давно. Конечно, речь не идёт о том, что информационный потенциал русских источников исчерпан. Он может быть значительно расширен при сопоставлении их с тюркоязычными, в т. ч. османскими1. Исключительно важным с методологической точки зрения представляется следующее обстоятельство: и русская сторона, и османы зафиксировали появление донских казаков примерно в одно и то же время – в середине XVI столетия. Полагаем, такое совпадение не случайно: по-видимому, наблюдатели действительно отметили в источниках новое для региона явление – постоянное казачье население.2 Вероятно, это обстоятельство может иметь отношение к давней в отечественной науке дискуссии о существовании донского казачества задолго до середины XVI в., не имеющей, на наш взгляд, особых перспектив.
Османские источники дают конкретное представление о восприятии Блистательной Портой «ка-зачьей проблемы» и попытках её решения, начиная с правления Сулеймана Великолепного (Кануни).
1 Возможности такого подхода тесно переплетены с критикой переводов на русский язык тюркоязычных источ-ников дипломатического характера (писем, посланий и пр.), упоминающих казаков и отложившихся в россий-ской посольской документации. В частности, имеется в виду хорошо известное отечественным исследователям упоминание «оброка», который донцы якобы «емлют» с Азова и «воды из Дону пить не дадут» туркам-османам, согласно известиям 1551 г. из Ногайской Орды [Беннигсен, Лемерсье-Келькеже, 2009, с. 98–101]. Обратим вни-мание на замечание С. Ф. Орешковой о большом значении, придававшемся Москвой поступавшей от ногайцев информации о тюркском мире: «Эти-то сведения и служат до сих пор основанием для глубоко укоренившихся в российской историографии утверждений о заинтересованности и даже руководящей роли Османской империи в борьбе тюркских ханств за ордынское наследство» [Орешкова, 2012, с. 173]. На деле турки-османы более спо-койно относились к событиям в Дешт-и Кипчаке, далеко не всегда соотнося их со своими внешнеполитическими интересами. 2 Важное замечание по тому же поводу принадлежит Н. А. Мининкову: «Постоянно живущее на Дону казачество – явление новое для середины XVI в. Об этом говорилось в грамоте ногайского князя Юсуфа 1549 г. Грамота сообщала, что «разбойники русь живут на Дону»…, т. е. уже живут постоянно, а не приходят, как раньше, время от времени» [Мининков, 1998, с. 78].
173
Султанское правительство пристально следило за ситуацией на своём северо-восточном пограничье. Однако по известным нам османским документам нельзя сказать, что Высокая Порта в указанный пе-риод придавала опасности, исходившей от донцов, слишком большое значение3. В этой связи наблю-дается определённый диссонанс с русскими источниками второй половины XVI в. и с опирающейся на них отечественной историографической традицией, кажется, несколько преувеличивающими влияние «казачьей угрозы» на политику Высокой Порты в Восточной Европе того времени. Вместе с тем каза-чьи действия против Азова вызывали обеспокоенность Стамбула в связи с ущербом, наносимым дон-цами экономике империи. Слухи о возможном нападении на Азов, информация о тяжёлом положении в крепости, сообщённые Порте азовским кадием, вызвали в апреле 1560 г. султанский указ кафинскому санджакбею о необходимости снабжения крепости продовольствием и организации обороны Азова [Документы, 2008, с. 133–134]. Вряд ли случайным стало повышение административного статуса Азо-ва – согласно некоторым источникам султан Сулейман Великолепный (Кануни) назначил в Азов санд-жакбея в 1552 или 1553 г.4 Е. Н. Кушева связывает возросшее значение Азова со стремлением турецко-го султана усилить давление на Черкесию и помочь на данном направлении крымскому хану. В. Н. Ко-ролёв, напротив, полагает, что создание нового санджака с центром в Азове стало «мерой борьбы не столько против черкесов, сколько против донских казаков» [Королев, 1987, с. 82]. Вместе с тем следует отметить, что, согласно Ю. Озтюрку, известные сегодня османские источники фиксируют наличие в Азове санджакбеев не ранее 1570 г. Ю. Озтюрк связывает появление в Азове санджакбеев с превраще-нием города и его округи в санджак, последовавшим после преобразования Кафинского санджака в эялет (бейлербейство). Данное административное мероприятие Порты, по обоснованному предполо-жению турецкого исследователя, было связано с подготовкой османами Астраханского похода и на-значением кафинского наместника Касима главнокомандующим османскими и крымскими экспедици-онными войсками с произведением последнего в ранг бейлербея [Őztűrk, 2000, s. 111–112, 155]5. В свя-зи с этим вопрос о времени преобразования Азова в санджак пока следует оставить открытым.
В последние годы выявлению, изучению и публикации османских (и, шире, тюркских) источни-ков по истории казачества уделяется всё больше внимания. Основной целью настоящей публикации является привлечение внимания исследователей к большому информационному потенциалу «Мюхим-ме дефтерлери» для изучения ранней истории донского казачества. Выявление, публикация и подроб-ный анализ всех документов «Мюхимме дефтерлери» по данной теме – дело будущего. Такая работа была начата в ХХ в. французскими специалистами. Ш. Лемерсье-Келькеже отметила, что исследования 1964 и 1966 гг. позволили выявить в Османском архиве 105 копий приказов, специально посвящённых казакам, 24 из которых сообщают о донских казаках [Лемерсье-Келькеже, 2009а, с. 37, 40–41]. Очевид-но, детальное изучение всей коллекции «Мюхимме дефтерлери» способно принести новые находки.
В публикуемых текстах казаки фигурируют под именем «русов»6. В XVI в., как правило, подоб-ным образом именовали днепровских и донских казаков информаторы османов – татары, первоначаль-но не выделявшие их из массы русского и украинского населения, несмотря на явное наличие в среде 3 Вероятно, большую опасность для турок-османов сначала представляли «днепровские казаки» (запорожцы). Но поскольку в османских источниках донские и другие казаки различались далеко не всегда, на опасность «казачь-ей угрозы» можно смотреть шире: «Примерно в течение 40 лет (во второй половине XVI в. – прим. авторов) казаки почти непрерывно совершали набеги, иногда даже предпринимали настоящие походы против Крымского ханства, турецких владений в Буджаке.., Молдавии и Валахии… и даже против прибрежных городов Анатолии. Серьёзность этой угрозы, которая постоянно нависала на севере Османской империи из-за такого беспокойного соседства, нашла своё отражение в большом числе важных оттоманских документов, касающихся оборонитель-ных мероприятий османов. Начиная с 1574 г. – года их первого большого похода в Молдавию… мы находим упоминания о казаках как о главном враге империи. Сообщения о них обычно сопровождаются уничижительны-ми прилагательными, таким как «неверные», «окаянные», «подлые», «мерзкие», «проклятые»» [Беннигсен, 1970, с. 66–67]. 4 До этого наместники такого ранга в Азов не назначались. Обладатель должности санджакбея, которому выпла-чивалось большое жалованье (20 тыс. дукатов согласно итальянскому источнику), при котором состояло до 500 человек «военной свиты», подчинялся лично султану [Кушева, 1950, с. 255]. Позже Е. Н. Кушева опустила фразу о «военной свите» в сообщении о назначении санджакбея, указав на «свиту» [Кушева, 1963, с. 204]. 5 В одной из работ Ш. Лемерсье-Келькеже приводится ссылка на султанский указ от января 1565 г., адресован-ный «бею Азака» (азовскому санджакбею) [Лемерсье-Келькеже, 2009 б, с. 291, примеч. 60). Однако здесь мы имеем дело с очевидным недоразумением, т. к. упомянутый французской исследовательницей указ адресован санджакбею Кафы (публикацию этого документа см.: [6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Őzet-Transkripsiyon-İndex, 1995, s. 342. Hüküm 624; 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Tıpkıbasım, 1995, s. 293. Hüküm 624]. 6 Подробнее об этом термине см.: [Мустакимов, Сень, 2010, с. 314; Вайнштейн, 2009, с. 185–189].
174
казаков тюркского компонента (и русские, и украинцы именовались тогда тюркскими народами Дешт-и Кипчака «урус», т.е. «русь»)7. Одновременно или почти одновременно среди тюрков Дешта получил распространение и собственно термин «казаки»8.
Донские казаки стали известны османской стороне именно в связи с действиями против населения Азова, что нашло отражение в документах султанской канцелярии. Пограничное сосуществование Войска Донского и османского Азова – одна из самых перспективных и вместе с тем малоизученных тем в истории казачества Дона и владений Османской империи в Северном Причерноморье и Приазовье. Отношения донского казачества и османского Азова могут быть рассмотрены в качестве темы, касающейся не только истории России и Османской империи. Речь идёт о самостоятельном сюжете в том значении, что казаки и турки-османы десятилетиями вырабатывали такую систему сосуществования, многие элементы которой указывают на творчество договаривающихся сторон, не всегда оперативно доносивших своим сюзеренам о формах и способах обоюдного выживания в регионе.
В указанной связи несколько прямолинейным может показаться мнение Н.А. Мининкова о ха-рактере «перманентной «войны» между казаками и азовцами, «прерывавшейся лишь на короткое вре-мя путём установления неустойчивого перемирия, когда это необходимо было для пропуска с Дона в Азов или обратно русских и турецких послов или в период пребывания русского правительства (чит. «посольства». – прим. авторов) в Турции» [Мининков, 1998, с. 349]. Абсолютизация глубины и мас-штаба османо-казачьего противостояния в отечественной историографии отражается на объяснении подавляющим числом учёных других форм пограничного взаимодействия сторон. Считаем, что мир-ные отношения были не дополнением к военным акциям казаков и Азова друг против друга. Они от-ражали более сложную картину социального взаимодействия во фронтирном пространстве, когда умение договориться положительно сказывалось на общей способности и казаков, и турок-османов к выживанию в условиях пограничного существования и не всегда оперативных действий со стороны метрополий, Москвы и Стамбула, по поддержанию безопасности/благосостояния донцов и населения крепости.
Сказанное выше не сглаживает остроты османо-казачьих взаимоотношений, связанных с упор-ным стремлением донских казаков захватить Азов. На протяжении второй половины XVI–XVII вв. та-ких попыток было предпринято несколько. Вероятно, активизации натиска донских казаков на Азов способствовали походы князя Д. Вишневецкого [Лемерсье-Келькеже, 1970, с. 51–61]. Первый раз кре-пость подверглась осаде весной 1559 г., следом – летом того же года и, наконец, зимой 1559–1560 гг.9 Все атаки войск Д. Вишневецкого, в составе которых находились и донские казаки, и черкесы, были отбиты. Большую роль в обороне Азова сыграли ногаи, очевидно, Казыева улуса [Документы, 2008, с. 128–129]. Постепенное увеличение численности казачества на Дону сопровождалось ростом его бое-вых возможностей и увеличением военной активности [Мининков, 1998, с. 347]. Согласно русским ис-точникам, в 1576 г. донские казаки совершили поход на Азов, закончившийся его взятием, либо, как считают некоторые специалисты, захватом какой-то части крепости [Мининков, 1998, с. 347; Сухору-ков, 2001, с. 51]. По данным Посольского приказа, акция казаков вызвала гнев султана Мурада III, яко-бы писавшего крымскому хану Девлет–Гирею I: «А мне… твой Крымской юрт не стоит одного азов-ского человека»10. Вместе с тем хронология казачьих набегов на Азов второй половины 1570-х гг. тре-
7 См. одно из первых упоминаний о донских казаках, относящееся к 1548 г. (в грамоте ногайского бия Юсуфа царю Ивану IV): «И на Воронаже тех людей наших, которые ходили торговати, и твои люди, Сары Сазманом зо-вут, розбойник твой, пришед, потоптал и взял их… А тем нашим людем имена, которых взяли русь…» [Посоль-ские, 1995, с. 308]. 8 Первый известный нам османский документ, где казаки названы собственно «казаками», а не «русами», как в большинстве османских источников XVI в., это султанский указ 1560 г. кафинскому наместнику Порты [Доку-менты, 2008, с. 133–134]. Употребление данного термина в османском источнике объясняется, по-видимому, тем, что азовский кадий, содержание донесения которого пересказывается в указе султана, цитировал сообщения та-тарских (татарско-ногайских) информаторов, использовавших слово «казаки». 9 Вряд ли случайным на этом фоне стало появление султанского указа наместнику Кафы от 8 апреля 1560 г. о необходимости ремонта крепости Азова, а также о необходимости уделять повышенное внимание боеспособно-сти азовского гарнизона [Документы, 2008, с. 134]. 10 Цит. по: [Мининков, 1998, с. 347]. Отдельный интерес представляет достоверность информации, поступавшей и переводившейся в Посольском приказе. Как отмечает С. Ф. Фаизов, бывали случаи сознательно неправильного перевода сотрудниками приказа содержания грамот российским царям от восточных государей [Фаизов, 2003, с. 161]. В данном случае форма выражения султанского недовольства предстаёт излишне категоричной. Кроме
175
бует существенного уточнения – налицо путаница в историографии. Так, А. П. Пронштейн пишет, что в 1575 г. султан Мурад III, узнав о казни крымским ханом сына донского атамана Михаила Черкаше-нина – Данилки (Даниила), опасался, что это может привести к обострению отношений между донцами и турецко-татарской коалицией [Пронштейн, 1967, с. 169]. Далее он цитирует слова турецкого султана: «Нынече деи ты меж казаков и Азова великую кровь учинил, … а ведь деи Азов казаки и жил, а казаки деи Азовом жили, о чём у них по ся место все было смирно» [Пронштейн, 1967, с. 169]. А. П. Пронштейн полагает, что речь идёт о набеге 1574 г. Следует ли в таком случае понимать, что казнь атаманского сына Данилки случилась в том же 1574 г., став поводом к нападению казаков на крепость? Вопрос принципиальный – дата казни Данилки имеет прямое отношение к хронологии ка-зачьего нападения на Азов. Н. А. Мининков, приводивший выше слова раздражённого турецкого сул-тана в связи с нападением на Азов, обращаясь к аргументации А. П. Пронштейна, указал на 1576 г. [Мининков, 1998, с. 347], между тем как А. П. Пронштейн – отмечено нами выше – писал о 1574 г. Н. А. Мининков заметил также, что упоминание о взятии Азова казаками было связано с крайним недо-вольством султана действиями хана и его стремлением как можно сильнее выразить свое недовольство [Мининков, 1998, с.347]. Характеризуя эпизод с казнью Данилки, И. Ф. Быкадоров отнёс взятие дон-скими казаками Азова к 1573 г. [Быкадоров, 1937, с. 28]. При этом он процитировал часть архивного документа, приводимого и В. Д. Сухоруковым, согласно которому султан сообщил хану о пленении казаками в Азове двадцати «лучших людей» и его шурина: «Зачем ты казнил Данилку, сына Мишки Черкашенина? Теперь казаки у меня Азов взяли. Лучших людей побрали 20 человек да шурина моего Уссейна, кроме чёрных людей» [Быкадоров, 1937, с. 28]. В. М. Пудавов, пользовавшийся выписками В. Д. Сухорукова, и вовсе отнёс казачье нападение на Азов и сопровождавшее его пленение знатных ту-рок, включая султанского шурина, к 1572 г. [Пудавов, 1890, с. 207–208]. Возвращаясь к данным В. Д. Сухорукова, отметим, что подстрочные примечания в его труде насыщены многочисленными цита-тами из архивных источников, среди которых – выдержки из вестового списка и отписок в Москву И. Мясоедова, бывшего гонцом в Крыму (1574–1577 гг.)11. Ключевое значение для разрешения дискус-сионного вопроса может иметь фраза: «Нынече (выделено нами. – прим. авторов) де и у меня казаки донские за Мишкина сына Азов… взяли, и лутчих людей у меня из Азова взяли двадцать человек, да шурина моего Сеина, опричь черных людей…». Точное время этого события без дополнительных ис-точников установить не удаётся. Между тем, султанское послание можно датировать временем до 29 июня 1574 г. [Сухоруков, 2001, с. 72], когда султанский чавуш (гонец), согласно русским источникам, прибыл с этим посланием в Бахчисарай. В. Д. Сухоруков почему-то отнёс дату похода казаков на Азов к 1576 г. [Сухоруков, 2001, с. 51]12.
Султанское послание и другие источники, включая запись беседы И. Мясоедова с ханом, насы-щены важными деталями той истории, включая попытку донских казаков разменять пленных турок на Д. Черкашенина. Любопытно, что хан Девлет-Гирей I, беседуя с И. Мясоедовым, достаточно подробно изложил историю с пленением Д. Черкашенина, нападением донцов на Азов и с упрёками, звучавшими в адрес Бахчисарая со стороны султана Селима II [Сухоруков, 2001, с. 72]. Эти события вызвали даже переписку между Бахчисараем и Москвой [Сухоруков, 2001, с. 72]. Таким образом, трудно отрицать факт нападения донских казаков на Азов, случившийся, по всей видимости, в первой половине 1574 г. Вместе с тем следует отметить, что среди текстов султанских указов и посланий, зарегистрированных в «Мюхимме дефтерлери» за 1573–1576 гг., мы не обнаружили никаких упоминаний о крупных акциях казаков против Азова за этот период. Так, султанский указ азовскому санджакбею от 2 октября 1576 г. свидетельствует, что положение области Азова с окрестностями представлялась османам относительно спокойным [Мустакимов, Трепавлов, 2009. Док. № 2]. В конце 1570-х гг. донцы снова чинили «шкоты» Азову [Сухоруков, 2001, с. 52]. В 1589 г. Азов вновь подвергся нападению – на этот раз донцы дейст-вовали в союзе с черкасами (запорожцами) [Сухоруков, 2001, с. 78]. Набег на Азов 1589 г., в отличие от событий 1570-х гг., нашёл отражение в османском делопроизводстве [Лемерсье-Келькеже, 2009 а, с. 41]. В 1593 г. казаки вновь осадили крепость и даже сумели ворваться в неё. Азов устоял тогда лишь вследствие помощи, оказанной ему казыевскими ногайцами [Новосельский, 1948, с. 41]. К слову, А. А. Новосельский датирует первую попытку захвата Азова донскими казаками именно 1593 годом [Ново-
того, необходимо уточнить датировку известия о султанской «гневной» грамоте Девлет-Гирею I в целях детального изучения сюжета о штурме казаками Азова в 1574 (?) г. 11 И. Мясоедов прибыл в Крым осенью 1574 г., а в Москву вернулся в ноябре 1577 г., уже после смерти крымско-го хана Девлет-Гирея I [Виноградов, 2007, с. 231, 245]. 12 Возможно, это связано с тем, что в другом месте у В. Д. Сухорукова говорится о той же истории в связи с от-пиской И. Мясоедова, находившегося в Крыму в 1576 г. [Сухоруков, 2001, с. 72].
176
сельский, 1948, с. 41]. В завершение краткой характеристики проблем, сопровождавших ранний этап османо-казачьих отношений в Приазовье до конца XVI в., отметим: турки-османы стали требовать све-сти донских казаков с реки – «дабы впредь земли нашего государства были избавлены от [их] набе-гов…» [Документы, 2008, с. 225]. Требование быстро стало отражать устойчивые запросы к Москве со стороны османской и крымско-татарской дипломатии [Сухоруков, 2001, с. 74; Фаизов, 2003, с. 93]. Другое явление, весьма характерное для богатой палитры османо-казачьих отношений, также берёт свое начало во второй половине XVI в. Речь идёт о процедуре «замирения/розмирения» казаков и азов-ских турок-османов, к планомерному изучению которой учёные приступают лишь в последнее время [Сень, 2009, с. 77–79]13. Но главное, как нам представляется, состояло в том, что донцы и азовцы были максимально заинтересованы в использовании всех способов возможной коммуникации, исключая, скорее всего, стремление к поголовному истреблению противника. Недаром царь Иван IV отвечал на претензию крымского хана Девлет-Гирея I о разорении казаками его владений и нападении на Азов: «…А что де еси брат наш писал, что казаки донские приходили под Азов и Азову много лиха почини-ли, а казаки донские потому же не по нашему веленью на Дону живут, бегая из нашего государства… и много лет живут под Азовом, много на Дону живет того: иногды в миру, а иногды не в миру; да только всякие такие дела у них меж делаются без нашего ведома… А про то нам слышеть лучилось и сталось азовским людем з донскими казаки меж их рознь и война, и казаки донские, собрався, приходили к Азову, да только всякие дела меж азовских людей и донских казаков делаются, и мирные, и бранные, без нашего ведома (выделено нами. – прим. авторов)» [Сухоруков, 2001, с. 51]. Наконец, слова турец-кого султана о характере отношений, представленные в русском переводе, без особого преувеличения можно назвать отражающими одну из главных характеристик отношений османского Азова и казачье-го населения Дона второй половины XVI в.: «…а ведь де и Азов казаки и жил, а казаки де и Азовом жили…» [Сухоруков, 2001, с. 72].
Иногда случалось, что власти обращали внимание на хозяйственные нужды своих или чужих подданных в связи с местными условиями и поддержанием своеобразного баланса сил. В грамоте царя Фёдора Ивановича на Дон от 31 августа 1584 г. указывалось, чтобы донские казаки «с Азовскими людми жили смирно, и задору никоторого Азовским людем не чинили, чтоб в том нашему делу порухи не было. И которые, будет, Азовские люди учнут ходить на Дон, и по рекам, для рыбных ловель, и для дров, и иных которых припасов, и вы б тех людей Доном, и по рекам, пропущали, и задору никоторого не чинили» [Собрание, 1819, с. 86]. Об основанных на торговле мирных отношениях донцов и азовцев свидетельствует султанский указ азовскому санджакбею от 1576 г., цитирующий донесение последне-го в Порту: «Поскольку [та] область находится в покое, а донские русы непрерывно поставляют мно-жество дерева, Азак (Азов. – прим. авторов) больше не испытывает недостатка в дровах». Однако в том же указе отразилось опасение султанского правительства перед казаками. Порта требовала от азовского санджакбея: «Не допускай оседания русов на берегах реки Тен и их входа в крепость под предлогом поставки дров. Проявляй совершенную бдительность и принимай необходимые меры… Не допускай, чтобы русы селились поблизости от Азака» [Мустакимов, Трепавлов, 2009. Док. № 2].
Для публикации мы отобрали документы, объединённые темой взаимоотношений османского Азова и донского казачества. Документ № 1 ценен прежде всего тем, что сообщает о представлениях турок-османов о времени появления казачьих ватаг в низовьях Дона. Согласно публикуемому источ-нику, произошло это не позднее 1545 г. Одним из первых исследователей на этот указ обратил внима-ние француз Ж. Вайнштейн [Veinstein, 1992, p. 413. Note 34; Вайнштейн, 2009, с. 187. Примеч. 38]. В 1994 г. были опубликованы факсимиле и транскрипция данного «Реестра» на современную турецкую графику [5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566): Tıpkıbasım. Ankara, 1994; 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566): Özet ve indeks. Ankara, 1994]. При переводе документа мы воспользовались этим изданием источника. В статье Ж. Вайнштейна названный указ датирован 5 ноября 1556 г., тогда как дата регистрации этого документа в «Реестре важных дел» по хиджре (11 раби II 973 г.) соответ-ствует 5 ноября 1565 г. по летосчислению от Рождества Христова14. Имя предводителя «русов» прочи-тано Ж. Вайнштейном как «Черкес Хише». Учитывая особенности арабской письменности и почерк документа, такое чтение в принципе допустимо. Однако известные нам события и имена казачьих предводителей того времени позволяют читать это имя как «Черкес Миша». Несомненно, здесь имеет-
13Ситуация такова, что традиционный взгляд долгое время не позволял исследователям замечать детали перего-ворного процесса [Савельев, 1990, с. 371–372; Пудавов, 1890, с. 255, 257]. 14 Таким же образом документ датирован Ш. Лемерсье-Келькеже, обратившей внимание на еще один аспект его ценности: это последний «оттоманский документ»¸ упоминающий о Д. Вишневецком уже после его смерти [Ле-мерсье-Келькеже, 1970, с. 62].
177
ся в виду первый письменно зафиксированный в русских источниках казачий предводитель Михаил Черкашенин15.
Из текста не совсем понятно, результатом чьего ослабления – «русов» или османов – стало заключение перемирия между ними после осады казаками Азова. Судя по всему, более заинтересованными в перемирии были османы. Мы не уверены в своем чтении и переводе слова, стоящего после имени «Димитраш». Наш перевод этого слова предполагает, что в указе имеется в виду не сам князь Д. Вишневецкий, а осада Азова четырьмя тысячами казаков состоялась не ранее 1565 г. Однако другие известные нам османские и русские источники не упоминают о крупном нападении казаков на Азов в это время. Стоящее за именем «Димитраш» слово равным образом может являться уничижительным эпитетом князя Д. Вишневецкого (вроде la‘īn «проклятый»). В таком случае речь в документе могла идти о событиях конца 1550-х гг., когда, согласно разным источникам, в т. ч. османским, князь Д. Вишневецкий с казаками осаждал Азов. Д. Вишневецкий же еще в 1561 г. ушел из Черкесии на Днепр – в самом начале осени 1561 г. он находился на Монастырском острове [Кушева, 1963, с. 221]. 5 сентября 1561 г. король Сигизмунд II вернул ему все звания и земли, однако ещё до лета 1562 г. князь служил царю Ивану IV [Кушева, 1963, с. 221]. Точная дата смерти Д. Вишневецкого, казнённого в Стамбуле, не установлена. Это могло случиться в 1564 г. [Лемерсье-Келькеже, 1970, с. 62], либо раньше, в конце 1563 г. Польский хронист М. Бельский пишет об участии Д. Вишневецкого в борьбе за власть в Молдавии, когда гетман Томза (Томша) сверг и убил господаря Деспота Водэ [Kronika polska, 1597, s. 614]. Эти события произошли в ноябре 1563 г., после чего (в том же году?) противники гетмана Томши16 пригласили на помощь Д. Вишневецкого, который, однако, потерпел поражение и был захвачен в плен. Новый гоподарь, Стефан VII Томша, выдал Д. Вишневецкого туркам-османам в Стамбул17.
Кроме того, согласно «Реестрам важных дел», кафинским санджакбеем, по крайней мере, с ию-ня 1559 г. по июнь 1560 г., был Синан [3 Numaralı Mühimme Defteri, 1993. Hüküm 4, hüküm 1265], а са-мое позднее с августа 1564 г. (в т. ч. во время написания публикуемого текста) – Касим18. Из этого же документа следует, что именно адресат донесения в Порту (т. е. санджакбей Касим) прибыл в Кафу и сражался с казаками. Из текста публикуемого документа следует, таким образом, что речь идёт об очень близких ко времени его составления событиях. До конца непонятно, как связано прибытие санд-жакбея в Кафу с отражением им же казаков, осаждавших Азов. Касим прибыл в Кафу после отсутствия по какой-либо причине во вверенном ему санджаке? Казаки напали не только на Азов, но и на Кафу? Или Кафа здесь упомянута по ошибке и текст следует читать как «прибыл в Азов»? Как бы то ни было, более предпочтительным нам представляется отнести описываемые в документе события к 1565 г.
Документ № 2 показывает, что, несмотря на временную победу – изгнание казачьих ватаг из окрестностей Азова и разрушение их городков (см. документ № 1), османы не смогли окончательно избавиться от присутствия донцов в Нижнем Подонье и продолжали опасаться их наряду с черкесами. Не случайно Порта предписала сурово наказать жителей Азова, нарушивших перемирие.
Несмотря на неспокойное, зачастую враждебное окружение Азова, на относительную удалённость этой крепости от центра империи и других османских владений, на связанные с этим трудности в переброске туда значительных контингентов войск и подвозе необходимых припасов, турки-османы были заинтересованы в сохранении мира и стабильности в Приазовье в связи выгодами международной торговли. При этом, как следует из документов № 3 и № 4, османы не только оборонялись от набегов и нападений своих беспокойных соседей, но и старались освоить земли, прилегающие к Азову, а также благоустроить саму крепость. Большое значение придавалось османами
15 Наиболее раннее упоминание о М. Черкашенине в русских источниках см.: [Шмидт, 1951, с. 294]. Описание его жизненного пути см.: [Маркедонов, 1997, с. 75–78]. Деятельность атамана 1550-х гг. нашла отражение на страницах русских летописей, в уникальном по своим художественным достоинствам Русском летописном своде [Лицевой, 2010, с. 322]. Память о М. Черкашенине, погибшем в Ливонскую войну, донские казаки хранили ещё долго [Мининков, 1998, с. 348]. 16 Правил под именем Стефана VII Томши. Погиб в мае 1564 г. 17 Томша, указывает М. Бельский, «самого Висьневецкого с Яном Пясецким, подолянином герба Забава Импера-тору Турецкому в Царьград отправил. Обое там на крючьях были подвешены у морского пролива по пути в Га-лат. Пясецкий легче умер, поскольку падая, зацепился за крюк бедром и повис головой вниз, и так скоро его кровь залила. А Висьневецкий на ребре повис со взором вверх обращённым, поэтому жив был до третьего дня, пока турки его не обстреляли из лука, когда проклинал их Магомета» [Kronika polska, 1597, s. 614]. 18 Первое обнаруженное нами упоминание Касима в качестве кафинского санджакбея относится к 12 мухарраму 972 г. х. = 20 августа 1564 г. (см.: [6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Őzet-Transkripsiyon–İndex, 1995. Hüküm 37; 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Tıpkıbasım, 1995. Hüküm 37].
178
содержанию в исправности крепостных сооружений. Особой информативностью отличается документ № 4, содержащий подробные сведения о тактике казаков и об экологии низовий Дона.
В период составления документов № 1 и № 2 (1565 г.) Азов, судя по всему, находился в непосредственном подчинении кафинского наместника Порты. Ко времени составления документов № 3 и № 4 (1576 г.) во главе Азова находился свой санджакбей19. «Реестры важных дел», в которых записаны публикуемые ниже документы, отложились в Османском архиве при Премьер-министре Турецкой Республики (Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)). Нам неизвестны публикации этих документов на европейских языках. Документы № 3 и № 4 публикуются впервые. Даты в заголовках даны по лунной хиджре с переводом на летосчисление от Рождества Христова. Перевод документов с османско-турецкого языка осуществлён И. А. Мустакимовым. Факсимимиле публикуемых документов приведены в конце статьи.
Документ № 1. 973 г., раби II 11/1565 г., ноября 5. – Отпуск султанского указа санджакбею Кафы о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности Азова от набегов казаков.
Указ бею Кафы20. Ты прислал письмо, [в коем] сообщаешь [следующее]. Вот уже более двадцати лет негодяй из
неверных русов, известный под именем Черкес Миша21, обосновался в окрестностях Азова, в семи местах поставил остроги (подобие укреплённых городков)22, постоянно собирал вокруг себя сообщников и убивал или захватывал в полон жителей Азова и прибывающих на судах торговцев. Направлявшимся против них ранее несколько раз отрядам не удавалось рассеять [это сборище]23. Недавно24 они с последователем25 Димитраша26 собрали четыре тысячи неверных, соорудили возле крепости Азов земляные укрепления и несколько дней осаждали крепость, применяя снятые с судов пушки27. Ты, прибыв в Кафу, предал часть из них мечу, [однако] был ослаблен и заключил [с ними] перемирие28. Ныне перемирие [тобою] разорвано, ты с мусульманским войском совершил на них29 19 Санджакбей – предводитель санджака. Санджак – основная административная единица в Османской империи. 20 Санджакбею Касиму. 21 Ж. Вайнштейн читал это имя как «Черкес Хише» [Veinstein, 1992, p. 413, note 34; Вайнштейн, 2009, с. 187, примеч. 38]. 22 Muhkem qal‘a misāl ist[a]būrlar. Сообщение об острогах М. Черкашенина может иметь отношение к изучению дискуссионного вопроса об освоении донскими казаками низовий Дона в 1550–1560-е гг. Вероятно, всё более основательное знакомство казаков с землями «на подступах» к Азову (о чём пишет Н. А. Мининков примени-тельно к 1570-м гг. [Мининков, 1995, с. 132]) могло иметь особое значение для низового донского казачества и для обострения его отношений с Азовом. См. также его замечание о том, что едва ли можно говорить о наличии «множества» донских казачьих станиц, зимовищ и городков по Дону и его притокам не только в 1549 г., как счи-тал П. П. Сахаров, но и гораздо позже, «на рубеже 60–70-х годов XVI в.» [Мининков, 1995, с. 128]. Но если во-прос о заселении донскими казаками низовий Дона поставить именно в связи с развитием форм поселений, осо-бое место среди которых займут остроги и «зимовища», как раз предшествовавшие ранее 1570-х гг. появлению большинства известных впоследствии в XVI в. донских городков [Мининков, 1995, с. 136]. Дополнительные ис-следования османских источников, возможно, позволят внести коррективы в выводы Н. А. Мининкова о том, что к концу 1560-х гг. сведений «о поселениях казаков ниже Раздор Донецких… нет, хотя, возможно, в середине XVI в. казаки жили вблизи Азова и угрожали городу» [Мининков, 1998, с. 82]. 23 Косвенное свидетельство об имевших место походах османов на стационарные поселения донских казаков. 24 В документе: «ныне» (hāliyā). 25 Это слово, стоящее после имени «Димитраш», прочитать удалось (يبس?). Перевод предположительный. 26 Имеется в виду князь Дмитрий Вишневецкий. Ш. Лемерсье-Келькеже, передавая содержание документа, пи-шет, что казаки и черкесы (в последнем случае – ошибка, о черкесах публикуемый документ не сообщает ниче-го), следуя примеру «Дмитрашки», попытались взять Азов [Лемерсье-Келькеже, 1970, с. 62]. 27 Вероятно, речь идёт о трофеях казаков, т. е. пушках, снятых с османских судов. Ш. Лемерсье-Келькеже без особых оговорок признает очевидным именно такую трактовку сюжета [Лемерсье-Келькеже, 1970, с. 62]. Доку-мент сообщает исключительно важные сведения об осадной технологии донцов, быстро совершенствовавшейся уже в первые десятилетия их существования. Действия казаков против Азова, возможно, каким-то образом свя-заны с набегом хана Девлет-Гирея I на российские «украйны» осенью 1565 г. Об этом стало известно донским казакам, разведка которых отметила появление крымских войск на Северском Донце. 19 октября хан отступил от Болхова, а 6 ноября вернулся в Крым [Виноградов, 2007, с. 56–57; Сухоруков, 2001, с. 49]. 28 Интересно было бы выяснить, как практика заключения перемирий между османскими властями Кафы и каза-ками в описываемый период могла соотноситься с историческим явлением, нашедшим широкое отражение в рус-ских источниках второй половины XVII в. – «замирением»/«розмирением» между азовцами и донскими казака-ми.
179
поход30. Они не смогли противостоять мусульманскому войску и бежали, их земляные укрепления и остроги были [тобой] разрушены31. [Это и] всё, что было доложено тобой помимо этого, было охвачено моим священным познанием.
Повелеваю: по прибытии моего высочайшего указа и впредь не теряй ни минуты на страже области и охране провинции и прилагай усилия к [обеспечению] безопасности страны и спокойствия рабов Божьих. Остерегайся того, чтобы по твоему небрежению области и провинции был нанесен ущерб зловредными неверными.
Пометы: 1. Над текстом документа справа: Переписано [набело]. 2. Над текстом документа в центре: Дано его32 кетхуде33 11 раби II 973 года. 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566): Tıpkıbasım. Ankara, 1994. S. 190, hüküm 466.
Документ № 2.
973 г., раби II 21/1565 г., ноября 15. – Отпуск султанского указа санджакбею Кафы о необходимости наказания жителей Азова, убивавших или захватывавших в полон черкесов и «русов», посещавших Азов в мирное время.
Указ бею Кафы. Ты прислал письмо, [в коем] сообщаешь [следующее]. В то время как некоторые из мятежных34
черкесов и русов, живущих в окрестностях крепости Азов, благодаря [твоей] политике миролюбия35 посещали вышеуказанную крепость, некоторые негодяи, живущие в крепости – лица по имени Мухаммед, Абдуррахман, Хемдем (?), Рамазан, Мустафа, другой Мустафа, Давуд, Синан и Ислам – совместно выходили на дороги и некоторых [посещавших крепость черкесов и русов] убили, а некоторых захватили в полон, в связи с чем стали причиной смуты.
Посему повелеваю: по получении [этого указа] арестуй вышеупомянутых. В отношении виновных в убийствах [черкесов и русов], посещавших крепость [Азов] в мирное время36, вина которых в убийствах будет установлена, поступишь согласно соответствующему высочайшему указу [который будет тебе направлен]. Остальных отправь гребцами на находящиеся там37 чайки38.
Пометы: 1. Над текстом документа справа: Переписано [набело]. 2. Над текстом документа в центре: Дано его39 слуге40 23 раби II 973 года. 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566): Tıpkıbasım. Ankara, 1994. S. 204, hüküm 506.
Документ №3.
29 Т. е. на «русов». 30 Даже если ошибки в предыдущем предложении нет и говорится о возвращении Касима в Кафу, а не в Азов, речь может идти о двух, следовавших один за другим, походах Касима с войсками против донских казаков. 31 Данные о разрушении турками-османами острог «зловредных неверных» в низовьях Дона могут быть исполь-зованы специалистами при решении проблемы о географии и количестве казачьих поселений в окрестностях Азова. Недаром в переписке середины 1570-х гг. царя Ивана IV с крымским ханом Девлет–Гиреем I прямо гово-рилось, что казаки донские «много лет живут под Азовом» [Сухоруков, 2001, с. 51]. 32 Т. е. санджакбея Кафы. 33 Здесь имеется в виду капу кетхудасы кафинского санджакбея. В функции капу кетхудасы бейлербеев и санд-жакбеев входило осуществление связи между своими руководителями и Портой. 34 Т. е. враждебных Порте. 35 В документе использовано слово istimālet, переводящееся как «привлечение к себе лаской, добрым отношени-ем». Обращает на себя внимание гибкая позиция кафинских властей по вопросу посещения крепости донскими казаками и черкесами, очевидно, с торговыми целями. 36 Фраза о «мирном времени» позволяет поставить вопрос о том, могли ли в тот период азовские власти само-стоятельно «замиряться» с враждебным населением, окружавшим крепость, или перемирие со стороны османов заключалось кафинским санджакбеем? 37 Т. е. в Азове. 38 Чайка (тур. şayka) – разновидность судна (беспалубный плоскодонный челн), использовалась с торговыми или военными целями, способного перевозить от 20 до 50 человек [Толстой, 2006, с. 220]. 39 Т. е. санджакбея Кафы. 40 Здесь, очевидно, имеется в виду капу кетхудасы кафинского санджакбея.
180
Не позднее 984 г., джумада I 7/1576 г., августа 2. – Отпуск султанского указа санджакбею Азова о необходимости завершения ремонта крепости Азов в следующем году и постройке, при необходимости, торговых и ремесленных лавок и караван-сарая.
Указ бею Азова Мухаммед-бею. Ты прислал письмо, [в коем] сообщаешь [следующее]. «Область Азова пребывает в мире.
Ногайские татары41 заключили мир с русами, черкесами и другими племенами42. В залог соблюдения [мира эти племена] обменялись между собой своими беками, мирзами и сыновьями. Посему подданные пребывают в полном благоденствии». [Ты также сообщил о том, что] «для обеспечения Стамбула провизией на суда загружено и отправлено много [сливочного] масла43, а необходимые для ремонта крепости камни, известь и прочие материалы заготовлены в этом году и, если захочет Аллах Всевышний, [следующей] весной будет начат ремонт крепости. После завершения ремонта крепости Азов станет полностью обустроенным44. Однако [Азов] испытывает большую потребность в постройках, [необходимых] для проезжих купцов и путников45. Поэтому возведение за счёт [государственной] казны вместительного караван-сарая, бани, торговых и ремесленных лавок и больших помещений могло бы приносить ежегодный доход в тысячу цехинов46. Места для этих строений подготовлены с прошлого года».
Ныне, приказывая с настоящего времени заготовить камни и известь и весной, если захочет Аллах Всемогущий, приступить к ремонту крепости, повелеваю: по получении [этого указа] согласно моему приказу с настоящего времени заготовь камни, известь и прочие материалы, необходимые для ремонта крепости, дабы, если захочет Аллах Всевышний, весной ты, приступив к починке крепости и организовав её добросовестный ремонт, приложил усилия и старания к его завершению. Если необходимы торговые и ремесленные лавки и караван-сарай, можешь употребить на их постройку имеющиеся в твоем распоряжении силы и средства47.
41 Имеются в виду ногаи Казыева улуса (Малой Ногайской Орды), кочевья которых располагались в центральном регионе степного Предкавказья и доходили до Азова [Трепавлов, 2005, с. 278–279]. Казыевские ногаи принимали заметное участие в жизни Азова и его округи. 42 Сообщение демонстрирует кругозор османов и широкое видение ими обстановки, от которой зависит положе-ние Азова. При этом черкесы, хорошо знакомые туркам, рисуются активными участниками местной жизни. Не-сомненно, черкесы упоминаются в одном перечне с казаками по нескольким основаниям. Можно вспомнить о боевом союзе между донскими казаками и черкесами, проявившемся в ходе антиосманских акций князя Д. Вишневецкого под Азовом в конце 1550-х гг. При этом черкесы известны как участники не только совместных с казаками акций против Азова, но и нападений азовцев на казачьи городки [Сухоруков, 2001, с. 80]. 43 Сливочное масло, в основном, закупалось у кочевников (крымских татар и ногаев) и было одним из важнейших товаров, вывозившихся из портов Северного Причерноморья в Стамбул. Вот описание особенностей этого про-дукта у турок европейским дипломатом XVIII в.: «…Сливочное масло… каковое масло прибывает (в Стамбул. – прим. авторов) в больших бурдюках из буйволовой кожи; оно прогорклое, смешано с бараньим жиром и весьма плохое, но турки… ему отдают предпочтение… перед лучшим сливочным маслом, английским и голландским» [Бродель, 1992, с. 491]. При характеристике значения, придававшегося Портой спокойствию в Азове и его округе, обратим внимание на особое положение Азова как порта значительного сельскохозяйственного района, снаб-жавшего столицу Османской империи продовольствием и строительными материалами для нужд флота: «С этой территории в столицу в значительной степени поставлялись зерновой хлеб, ячмень, сухие овощи, растительное масло (sic! – прим. авторов) и строевой лес» [Лемерсье-Келькеже, 1970, с. 54]. 44 Публикуемый документ показывает, что некоторые меры предосторожности (в частности, ремонт крепости) против донских казаков и враждебных Порте черкесских племен в то время не представлялись османским вла-стям как требующие немедленного принятия. Похожая ситуация наблюдалась осенью того же года [Мустакимов, Трепавлов, 2009. Док. № 2]. Эти факты могут быть использованы при изучении вопроса об интенсивности ка-зачьих набегов на Азов в разные периоды, а также об оценках Стамбулом и властями Азова обстановки вокруг крепости. 45 Информация может отражать возросшую во второй половине XVI в. пропускную способность Азака как цен-тра транзитной торговли и удобной перевалочной базы для разных категорий проходивших через него людей, включая мусульманских паломников [Документы, 2008, с. 216–217]. 46 Цехин (осман. filőri) – золотая монета (обычно европейская). Именовался также дукатом, стоимость которого до 1584 г. составляла 60 акча [Максим-Ворничень, 1974, с. 214]. Таким образом, ожидаемый доход должен был составить 60 000 акча. Для сравнения: во второй половине XVI в. на внутреннем рынке Османской империи на 100 000 акча можно было купить 100 000 кг пшеницы, или 700 000 кг ячменя, или 3 000 овец, или 100 лучших лошадей [Максим-Ворничень, 1974, с. 247]. 47 Sen kendü yanuňdan bina eylemek murad idinürseň bina eyleyesin.
181
Помета (над текстом документа): Дано его48 кетхуде49 Насуху 7 джумада I 984 года. BOA, Mühimme Defteri №28, hüküm 142.
Документ № 4.
Не позднее 984 г., рамазана 7/1576 г., ноября 28. – Отпуск послания султана Мурада III хану Девлет-Гирею I с запросом мнения хана о целесообразности постройки крепости на реке Бузук выше Азова.
Его высочеству хану написано [следующее] августейшее послание. Бей Азовского санджака Мухаммед и его50 кадий прислали письмо, [в коем] доложили
[следующее]. Ранее воспоследовал наш высочайший указ о выделении для ремонта крепости Азов пяти тысяч цехинов51 из кафинских доходов нашей казны52. Протекающая перед крепостью Азов река53 Дон берет начало в области русов54. Двумя дневными переходами55 выше крепости [Азов] в реку Дон впадает река Бузук56. Перед крепостью [река Дон] разделяется на протоки и, по причине низменного 48 Т. е. санджакбея Азова. 49 Имеется в виду капу кетхудасы азовского санджакбея. 50 Т. е. Азова. 51 Таким образом, на ремонт крепости выделялось сумма в 300 000 акча. 52 Kefe ĥāssa ĥarğïndan. Имеются в виду доходы казны от коронных земель султана, находящихся в Кафинском санджаке. 53 В документе вместо «река» (nehr) ошибочно «город» (šehr). 54 Реку Дон турки-османы именовали Ulu Ten (т. е. Большой или Великий Дон), что присутствует также в русских источниках, причём Великим Доном на Руси могли именовать и Северский Донец, но чаще полагали Северский Донец «малым Доном», что, в общем-то, отражено в «парном» названии указанного притока Дона. Интересно, что эта особенность отмечена в произведениях европейских авторов (А. Гваньини, С. Герберштейна), именовав-ших указанную реку Малым Доном. Выскажем предположение, что туркам-османам Северский Донец мог быть известен прежде всего под каким-то названием, отражающим его меньшую по сравнению с Доном величину. 55 Eki günlük yoqaru. Речь идёт о дневных переходах, часто обозначаемых в русских источниках словом «днище», которое, кстати, было хорошо известно донским казакам. При решении вопроса о локализации р. Бузук можно обратить внимание на тот факт, что, согласно русскому источнику, в «трёх днищах» от Азова вверх по Дону на-ходились «ближние зимовища атаманские», которые В.Н. Королёв определяет как Раздоры, первый казачий вой-сковой центр, а сами зимовища – как поселение или поселения атаманской станицы [Королёв, 2007, с. 62, 160, 165]. Эти зимовища находились по Дону выше Аксайского устья, где под Кобяковым городищем в 1570 г. со-стоялась передача участников посольства И. П. Новосильцева донскими казаками азовским туркам [Путешест-вия, 2008, с. 63]. Располагались Раздоры (Раздоры Нижние) на Поречном острове на «раздорине Донца», т. е. у впадения в Дон одного из рукавов Северского Донца [Королёв, 2007, с. 161–167; Мининков, 1998, с. 82]. Первое известное упоминание казачьего городка с названием Раздоры Донецкие относится к 1571 г. [Королёв, 2007, с. 160]. Если признать, что османы собирались ставить крепость у слияния Северского Донца с Доном, то чем объ-яснить их готовность иметь между Азовом и этой крепостью такое препятствие, как укреплённое поселение «донских русов»? 56 Локализация указанной реки представляет определённые сложности. Некоторые специалисты определяют Бу-зук как тюркское название Северского Донца [Королёв, 2007, с. 13; Козаченко, 2000, с. 45]. Река Бузук фигуриру-ет в «Пименовом хожении в Царьград» (1395 г.), когда русские путешественники, направляясь вниз по Дону и минуя указанную реку, приплыли в Азов. Река Бузук известна по восточным источникам. В грамоте 1593 г. визи-ря Синан-паши царю Фёдору Ивановичу содержались слова: «…а под щастливым государством под Азовом и на усть Дону под посадом, Сегде словет, да в ведомом месте на реч[ке] Черкаской князь живет, да на Маначи, да под посадом под Бузуком, да на Терке, да на Сунше-реке остроги поделали…» [Сухоруков, 2001, с. 81]. Непонятно впрочем, отмечал А. С. Козаченко, почему в грамоте говорится не о реке Бузук, а об одноименном посаде? [Ко-ролёв, 2007, с. 13]. О локализации городка под Бузуком см. [там же, с. 13]. Отметим, что р. Бузук в таком случае нельзя определить как р. Маныч, как предполагали авторы в самом начале поиска и как локализовал указанную реку К. В. Кудряшов [Кудряшов, 1948, с. 27]. Решая вопрос о локализации Бузука, К.В. Кудряшов отдал предпоч-тение Манычу в сравнении с Салом и с Северским Донцом.
В османской хронике Мехмеда Рашида начала XVIII в. о реке Бозук говорится в связи с событиями Була-винского выступления на Дону [Галенко, 2010, с. 271, 272]. Хронист писал о восстании «народа», т. е. донских казаков, жителей множества крепостей, расположенных вдоль Дона и Бозока. А. Галенко безосновательно опре-делил р. Бозок как Хопёр. Турецкий Аноним начала XVIII в., повествующий о тех же событиях, пишет о прожи-вании восставших донских казаков возле Азака «по течению реки Бозук» или, в другом случае, именует их кяфи-рами (неверными) из 32 военных укреплений, «которые находились по течению рек Бозук и Тен (Дон)» [Весела, 1969, с. 124, 128]. Любопытно, что количество городков, приводимых Анонимом и Мехмедом Рашидом, совпада-ет: их тридцать два. Очевидно, что наиболее активная часть повстанцев, согласно данным турок-османов, прожи-
182
характера местности, образуются болота и тростниковые заросли. Река57 Бузук не имеет явного истока, питаясь родниками, вытекающими из произрастающего рядом леса58. Некоторые неверные промысловики59 из русов, спустившись по Дону на челнах60, используя труднопроходимые лесные заросли в бассейне реки Бузук в качестве укрытия61, через заросли тростника скрытно спускаются к морю, где грабят рыбаков, промышляющих с помощью дальянов62, и грузовые суда, ночами похищают случившихся близ крепости жен и детей мусульман, [а также] грабят и похищают путников и купцов63. Строевой лес, необходимый для крепости и для изготовления дальянов, привозился с реки Бузук64. Теперь, из-за действий неверных, строевой лес [оттуда] не поступает, а [поскольку] его доставка из других мест сопряжена с большими трудностями, [крепость и дальяны] не чинятся. Поэтому крепость
вала по течению двух крупных, заметных рек – Дона и Бозука, и что эти городки повстанцев в таком случае про-блематично искать среди «малых» притоков Дона – Сала, Аксая и тем более Маныча. Действительно, жители многих казачьих городков, включая городки по течению Северского Донца и по его притокам, приняли активное участие в восстании под руководством К. А. Булавина.
Река Бузук дважды упоминается в сочинении крымского хрониста XVIII в. Абд ал-Гаффара Кырыми. Пер-вое упоминание связано с будущим крымским ханом Хаджи-Гиреем I и его братом Джихан-Гиреем, которые прятались от своего недруга – бека племени кунграт Хайдара – у «булгар под названием туру-юрекли», обитав-ших близ реки Бузук. Оттуда они скрылись в сторону Дона с тем, чтобы перебраться к черкесам-темиргойцам. Орда Хайдара располагалась в местности Фуланик (Куланынг?) Карагач, расположенной между реками Идиль (Волга) и Самара [Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми, 1343/1924–25, с. 95–96]. А. З. В. Тоган почему-то локали-зует местность Фуланик (Куланынг?) Карагач (этот топоним он приводит в форме Qunannıng Qaragaç) как нахо-дящуюся южнее Азова (Togan, 1981, s. 492, not 179]. В другом месте Кырыми цитирует требования к Петру I главнокомандующего османской армии Балтаджи Мехмед-паши в ходе переговоров на р. Прут летом 1711 г. Турки предлагали установить следующую границу между Османской империей и Россией: «По линии на рас-стоянии в восемь часов между реками Орель и Самара; начало границ от местности Кулай Карагач близ реки Днепр, далее – по месту сближения истоков рек, впадающих в Азовское море и истоков рек, впадающих в реку Бузук; конец границы на Дону – река Тимурленк, находящаяся между крепостью Азов и Черкассами» [Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми, 1343/1924–25, с. 151–152]. Пока нам не удалось обнаружить в русских источни-ках подтверждения последней информации. При этом обращают на себя внимание некоторые параллели требо-ваний, предъявленных российской стороне при заключении Адрианопольского мирного договора (1713 г.). «Важнейшим изменением в новом договоре было перенесение русско-турецкой границы с Днепра и приазовских степей на рубежи Левобережной Украины, в междуречье рек Самары и Орели, причем граница от их верховий к Азову должна была пролегать по Северскому Донцу. Этим Крымское ханство приобрело обширную буферную “зону безопасности”» [Артамонов, 1990, с. 140]. 57 В документе вместо «река» (nehr) ошибочно «город» (šehr). 58 Турки-османы выступают как знатоки донской гидрографии, что нельзя не учитывать при решении вопроса о локализации р. Бузук. Со времени захвата Таны в 1475 г. они имели возможности узнать её лучше. В 1521 г. азовские власти были готовы встречать своими каюками по Дону послов или торговых людей великого москов-ского князя [Сборник РИО, 1895, с. 672]. В том же году по указанию султана Сулеймана Кануни вверх по Дону до р. Воронеж было направлено 3 каика (каюка) с 200, вероятно, вооруженными людьми, которые должны были там остаться на зимовку [Сборник РИО, 1895, с. 680]. Н. А. Мининков полагает, что это свидетельствовало о серьёзных намерениях Турции утвердиться в Подонье [Мининков, 1998, с. 75]. В начале 1520 г. султанский посол Скиндер, отправляемый в Москву с грамотами от султана и для переговоров, несколько раз просился назад в Стамбул Доном [Дунаев, 1916, с. 38, 77]. В 1524 г. ему было отказано – посол должен быть проследовать через Путивль в Крым, а уже оттуда через Кафу в Стамбул. Причиной отказа послужило известие о том, что «Скин-дер(ь) послан смотрити мест на Дону ставити город» [Дунаев, 1916, с. 77]. 59 Букв. «охотники» (sayyād). 60 Перевод предположительный. Слово уверенно прочесть не удалось (? بيرج). 61 Локализация Бузука имеет отношение к проблеме локализации ранних казачьих городков 1550–1570-х гг. Как видим, дальше (ниже) Бузука казачьих поселений не было: недаром казаки оставляли на реке свои суда и дости-гали цели по суше, пользуясь природными укрытиями и особенностями местности, посещаемой ими, но вряд ли населённой. 62 Дальян (тур. – dalyan) – стационарная сетная ловушка для рыбы. 63 Казаки, как свидетельствует текст документа, спускались по Дону сверху вниз, доходя до р. Бузук, а уже отту-да пробирались к побережью Азовского моря для совершения «воровства». Против определения р. Бузука как Северского Донца, кажется, говорит тот факт, что казакам проблематично было заходить в его воды, чтобы отту-да оперативно и внезапно, что особенно тревожило турок-османов, наносить удары по окрестностям Азова и морскому побережью. В таком случае Северский Донец отдалял казаков от интересующих их целей. 64 Берега Северского Донца были богаты лесом ещё в конце XVII в. Напротив, солёные воды Маныча не могли способствовать заметному росту околоводной растительности, если возвращаться к аргументации К.В. Куд-ряшова.
183
и дальяны пришли в состояние совершенной разрухи. Ныне для предотвращения вреда, [наносимого русами] представляется необходимым возведение крепости в месте слияния двух [этих] рек65. В указанном месте обилие материала для постройки крепости, а все [остальные] материалы можно доставить водным путем. И если ныне реальные поступления из Азова за три года составляют сорок юков османи66, то когда, в случае возведения крепости, река Дон станет охраняемой67, [поступления] смогут достичь ста юков османи. Также в указанном месте могут причаливать морские суда. [Эта местность] изобилует строевым лесом. Для [постройки] казённых судов лес может быть легко заготовлен и доставлен на государевы верфи. Поскольку крепость Азов является единственным укреплением на реке Дон в пустынной местности [до] моря, близ него нет земли, пригодной для земледелия, а в удалённых местностях земля не обрабатывается ввиду угрозы, исходящей от неверных, продовольствие доставляется по морю, и всем [жителям Азова] приходится его покупать. И если вдруг случится, что из-за угрозы [нападения] неверных суда перестанут прибывать [в Азов], они68 будут испытывать большую нужду в продовольствии69. Если же сейчас будет возведена крепость [в месте слияния рек Дон и Бузук], земля между двумя крепостями вдоль реки Дон будет возделана и приведена в благоустроенное и цветущее состояние. Появится возможность отправлять с пристани Азова в Стамбул [сливочное] масло и другое продовольствие таким же образом, как с пристаней Кафы и Гёзлева70. А для строящейся крепости, кроме расходов на инженеров71, будет достаточно пяти тысяч цехинов, выделенных ранее на ремонт крепости Азов из кафинских доходов нашей казны. Направленный [к Вам] Бехрам владеет этим вопросом. Он сообщил, что постройка крепости вышеописанным образом в месте, которое будет выбрано инженерами, представляется весьма полезной для провинции, подданных и государственной казны.
Поскольку у Вас есть полное знание относительно тех земель, вопросы [необходимых] расходов, материалов и строительства препоручаются Вам. Нами издан высочайший указ о выделении необходимого количества инженеров и заготовки необходимых инструментов [и] материалов.
Надлежит, чтобы Вы, в соответствии с издавна присущей Вам многой любовью и чрезвычайной дружбой к нашему Порогу – прибежищу счастья, также приняли участие в этом деле. Действительно ли возможно и целесообразно возведение крепости в вышеуказанном месте согласно тому, как ими72 доложено? Будет ли73 [от этого] польза для провинции, подданных и государственной казны? В случае, если возведение [крепости] необходимо, что нужно для её постройки, сколько денег понадобится для завершения её строительства, каким образом [действовать]? – пусть [всё это] точно и достоверно, как оно известно Вам, будет подробнейшим образом сообщено [нам] с тем, чтобы в своё время [нашей Высокой Портой] были предприняты необходимые действия74.
65 Т. е. Дона и Бузука. Обратим ещё раз внимание на то, что Бузук применяется в качестве названия, «парного» Дону. Северский Донец, как одна из наиболее крупных рек Подонья, казалось бы, этому основанию вполне соот-ветствует. Однако исходя из всего, сказанного выше, считаем, что с должной определённостью локализовать ре-ку Бузук как Северский Донец ныне не представляется возможным. Ведь для грабежа судов, приплывавших в Азов, удобнее было бы пробираться по левому берегу Дона. С другой стороны, если признать, что казаки спуска-лись по Дону до Северского Донца, имея опорным пунктом Раздоры (Нижние Раздоры), тогда, вероятно, проти-воречие может быть снято. 66 Юк – единица измерения денежных сумм в Османской империи, один юк соответствовал 100 тыс. акча. Акча (акче, османи) – мелкая серебряная монета, в XIV–XVII в. являвшаяся основной денежной единицей Османской империи. Таким образом, сумма составляла 4 млн. акча. 67 Имеется в виду установление османского контроля над нижним течением Дона. 68 Т. е. жители Азова. 69 Ср. с цитатой из донесения этого же азовского санджакбея от сентября 1576 г.: «…Ногайское племя сеет хлеб близ Азака, и [хлеб] хорошо родится. Когда жители Азака нуждаются в зерне, они сеют и собирают много хлеба. Неимущие же [из них] сеют [хлеб] вместе с ногайским племенем. При этом они не только снабжают зерном Азовский вилайет, но уже года два обеспечивают [зерном] вилайеты Кафа и Крым» [Мустакимов, Трепавлов, 2009. Док. № 2]. 70Тур. Gözleve (совр. Евпатория) – город-крепость в Крыму, имевший для османов и Крымского ханства важное торговое значение. 71 Serāĥōr. 72 Т. е. санджакбеем и кадием Азова. 73 Букв. «есть ли». 74 Реакция Девлет-Гирея I на это послание султана неизвестна. 23 зилькаада 984 г. хиджры (11 февраля 1577 г.) Девлет-Гирею было направлено ещё одно его послание, уже в более лаконичной форме содержащее предписание выслать к устью реки Бузук разведчиков и доложить о целесообразности постройки там крепости, а также о си-лах и средствах, которые необходимо для этого привлечь (BOA. Mühimme Defteri №29. Hüküm 337). Настойчи-
184
Помета (над текстом документа): Дано его75 слуге Бехраму 7 рамазана 984 [года].
BOA, Mühimme Defteri №28, hüküm 963
Источники и литература
Артамонов В. А., 1990. Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709–1714). – М.: Наука. – 280 с. Беннигсен А., Лемерсье-Келькеже Ш., 2009. Большая Ногайская Орда и проблема контактов между Османской империей и Центральной Азией в 1552–1556 гг. // Восточная Европа Средневековья и раннего Нового времени глазами французских исследователей: Сборник статей / Отв. ред. И. А. Мустакимов, А. Г. Ситдиков; науч. ред. И. В. Зайцев, Д. А. Мустафина; ввод. ст. В. В. Трепавлов. – Казань: Ин-т истории АН РТ. – С. 86 –115. Беннигсен А., 1970. Россия XVIII века в архивах Оттоманской империи // Франко-русские экономические связи. – М., Париж: Наука. – С. 65–89. Быкадоров И. Ф., 1937. Донское Войско в борьбе за выход в море (1546–1646). – Париж: Издатель А. Е. Алимов. – 120 с. Бродель Ф., 1992. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. – Т. 3. Время мира. – М.: Прогресс. – 679 с. Вайнштейн Ж., 2009. Послание Селима II польскому королю Сигизмунду-Августу об астраханской кампании 1569 г. // Восточная Европа Средневековья и раннего Нового времени глазами французских исследователей: Сборник статей / Отв. ред.. И. А. Мустакимов, А. Г. Ситдиков; науч. ред. И. В. Зайцев, Д. А. Мустафина; ввод. ст. В. В. Трепавлов. – Казань: Ин-т истории АН РТ. – С. 174–193. Весела З., 1969. Турецкий трактат об османских крепостях Северного Причерноморья в начале XVIII века // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / Под ред. А.С. Тверитиновой. – М. – Вып.2. – С. 98–136. Виноградов А. В., 2007. Русско-крымские отношения. 50-е – вторая половина 70-х годов XVI века. – М.: ИРИ РАН. – Т. 2. – 343 с. Галенко О., 2010. Східна Європа 1704–1709 рр. у висвітленні Османської хроніки Мегмеда Рашида // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 9–10. – Киïв. – С. 263–295. Документы по истории Волго-Уральского региона XVI–ХIХ веков из древлехранилищ Турции, 2008. Сборник документов / Сост. И. А. Мустакимов. – Казань: Гасыр. – 464 с. +16 с. ил. Дунаев Б. И., 1916. Пр. Максим Грек и греческая идея на Руси в XVI веке. – М.: Синодальная типография. – 92 с. Козаченко А. С., 2000. Пространственная культура казаков Нижнего Дона конца XVI–XVII вв. Ростов на/Д.: Донской издательский дом. – 144 с. Королёв В. Н., 1987. Морские походы донских казаков в середине XVI в. // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Общ. науки. – №1. – С. 79–82. Королёв В. Н., 2007. Донские казачьи городки. – Новочеркасск: Дончак. – 240 с. Кудряшов К. В., 1948. Половецкая степь. Очерки исторической географии. – М.: Гос. изд-во географической литературы. – 170 с. Кушева Е. Н., 1950. Политика русского государства на Северном Кавказе в 1552–1572 гг. // Исторические записки. – Т. 34. – С. 236–287. Кушева Е. Н., 1963. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией. Вторая половина XVI – 30-е гг. XVII века. – М.: Изд-во АН СССР. – 372 с. Лемерсье-Келькеже Ш., 2009 а. Один неопубликованный источник по истории России XVI века. Реестры «Мю-химме дефтерлери» архива при ведомстве Премьер-министра // Восточная Европа Средневековья и раннего Но-вого времени глазами французских исследователей: Сборник статей / Отв. ред. И.А. Мустакимов, А.Г. Ситди-ков; науч. ред. И.В. Зайцев, Д.А. Мустафина; ввод.ст. В.В. Трепавлов. Казань: Ин-т истории АН РТ. – С. 35–46. Лемерсье-Келькеже Ш., 2009 б. Социальная, политическая и религиозная структура Северного Кавказа в XVI веке // Восточная Европа Средневековья и раннего Нового времени глазами французских исследователей: Сбор-ник статей / Отв. ред.. И. А. Мустакимов, А. Г. Ситдиков; науч. ред. И. В. Зайцев, Д. А. Мустафина; ввод. ст. В. В. Трепавлов. – Казань: Ин-т истории АН РТ. – С. 272–294. Лемерсье-Келькеже Ш., 1970. Литовский кондотьер XVI в. князь Дмитрий Вишневецкий и образование Запорожской Сечи по данным оттоманских архивов // La Russie et l'Europe XVI-е – ХХ-е siécles. Франко-русские экономические связи. М.; Париж: Наука. – С. 39–64.
вость Стамбула в данном вопросе наталкивает на мысль, что Порта склонялась к его положительному решению. Обращение султана к Девлет-Гирею I по вопросу строительства крепости в тех местах было не случайным. Во-первых, как следует из текста вышеупомянутого документа (BOA. Mühimme Defteri №29. Hüküm 337), устье реки Бузук, по крайней мере формально, находилось под властью крымского хана. Во-вторых, крымским ханам Порта традиционно поручала решать внешнеполитические вопросы, связанные с Западным Дешт-и Кипчаком [Доку-менты, 2008, с. 10]. Содержание ответа хана на это послание также остается неизвестным. Скорее всего, его мол-чание было связано с незаинтересованностью в постройке крепости, поскольку это ещё более усилило бы кон-троль Порты над Крымом. К тому же Девлет-Гирей I в то время пребывал уже в весьма преклонном возрасте. Согласно русским источникам, хан умер в июне 1577 г.; крымские историки называют причиной его смерти чуму и датируют её апрелем-маем 1577 г. [Смирнов, 2005, с. 327]. 75 Т. е. хана Девлет-Гирея I.
185
Лицевой летописный свод XVI века. Русская летописная история, 2010. Кн. 22. 1555–1557. – М.: ООО «Фирма «АКТЕОН»». – 558 с. Максим-Ворничень А., 1974. Турецкие документы о финансово-экономических обязательствах Валахии и Молдавии перед Османской империей во второй половине XVI в. // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы / Под ред. А. С. Тверитиновой. – М.: Наука. – Вып. III. – С. 235–262. Маркедонов С. М., 1997. Казачий атаман Михаил Черкашенин // Донской временник. Год 1998. Краеведческий библиотечно-библиографический журнал. – Ростов на/Д. – С. 75–78. Мининков Н. А., 1992. Донское казачество на заре своей истории. – Ростов на/Д. – 166 с. Мининков Н. А., 1998. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). – Ростов на/Д.: Изд-во РГУ. – 512 с. Мустакимов И. А., 2008. Введение // Документы по истории Волго-Уральского региона XVI–ХIХ веков из древ-лехранилищ Турции: Сборник документов / Сост. И. А. Мустакимов. – Казань: Гасыр. – 464 с. +16 с. ил. Мустакимов И., Трепавлов В., 2009. Новые османские документы по истории Большой Ногайской Орды // Га-сырлар авазы – Эхо веков. – №2 [Режим электронного доступа: http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2009_2/02/02/ ; дата обращения 22.03.2013]. Мустакимов И., Сень Д., 2010. Три османских документа XVI в. о ранней истории донских казаков // Украïна в Центрально-Схiднiй Европi. – Вип. 9–10. – Киïв. – С. 307–326. Мустакимов И. А., Сень Д. В., 2011. Османо-турецкие документы по ранней истории донского казачества // Те-зисы II Международной научной конференции «Архивное востоковедение» (Москва, 16–18 ноября 2011). – М.: Ин-т востоковедения РАН. – С. 67–69. Новосельский А. А., 1948. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. – М.; Л. – 447 с. Орешкова С. Ф., 2012. [Рец.] Восточная Европа Средневековья и раннего Нового времени глазами французских исследователей: Сборник статей / Отв. ред. И. А. Мустакимов, А. Г. Ситдиков; науч. ред. И. В. Зайцев, Д. А. Мустафина; ввод. ст. В. В. Трепавлов. – Казань: Ин-т истории АН РТ. – 428 с. // Восток (Oriens). – № 2. – С. 170–175. Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1489–1549 гг. / Сост. Б. А. Кельдасов, Н. М. Рого-жин, Е. Е. Лыкова, М. П. Лукичев. – Махачкала, 1995. – 360 с. Пронштейн А. П., 1967. К истории возникновения казачьих поселений и образования сословия казаков на Дону // Новое о прошлом нашей страны. Памяти академика М. Н. Тихомирова. – М. – С. 157–173. Пудавов В. М., 1890. История Войска Донского и старобытность начал казачества. – Новочеркасск: Типо-Литография К. М. Минаева. – Вып.1. – 342 с. Путешествия XVI–XVII вв. Статейные списки, 2008. – СПб.: Наука. – 490 с. Савельев Е. П., 1990. История Дона и донского казачества. – Ростов на/Д.: Памятники Отечества. – Ч. III. – С. 315–442. Сень Д. В., 2009. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII в. – начало XVIII в.), – Ростов на/Д.: Изд-во ЮФУ. – 280 с. Сборник Императорского Русского исторического общества (Сборник РИО), 1895. Т. 95. Памятники дипломатических сношений Московскаго государства с Крымом, Нагаями и Турциею. Т. II. 1508–1521 гг. / Изданы под. ред. Г. Ф. Карпова и Г. Ф. Штендмана. – СПб. – 706 с. +108 с. Смирнов В. Д., 2005. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты: В 2-х томах. Т.1. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / Отв. ред. С. Ф. Орешкова. – М.: Рубежи–XXI. – 314 с.; ил. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел, 1819. – М.: Тип. Селивановского. Часть вторая, служащая дополнением к первой. – 612 с. Сухоруков В. [Д.], 2001. Историческое описание Земли Войска Донского / Комментарии, дополнения, вступительная статья Н. С. Коршикова и В. Н. Королёва. – Ростов-на-Дону: ГинГо. – 516 с.; цв. ил. Толстой П. А., 2006. Описание Чёрного моря, Эгейского архипелага и османского флота / Сост. И. В. Зайцев, С. Ф. Орешкова. – М.: Наталис. –304 с.; ил. Трепавлов В. В., 2005. Малая Ногайская Орда. Очерк истории // Тюркологический сборник. 2003–2004. – М.: Восточная литература. – С. 273–311. Фаизов С. Ф., 2003. Письма ханов Ислам-Гирея III и Мухаммед-Гирея IV к царю Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру. 1654–1658. Крымскотатарская дипломатика в политическом контексте постпереяславского времени. – М.: Гуманитарий. – 168 с. Шмидт С. О., 1951. Продолжение Хронографа редакции 1512 года // Исторический архив. – М. – Т. 7. – С. 254–299. Эль-Хаджж Абд ал-Гаффар Кырыми, 1343/1924–25. Умдет ат-теварих. Стамбул. – 207 с. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). Mühimme Defteri № 29. Kronika polska Marcina Bielskiego, 1597. Nowo przez Joach. Bielskiego syna iego wydana. Cum gratia et priuilegio S. K. M. W Krakowie, w Drukarni Jakuba Sibeneychera. – [12], 804, [10] s. 3 Numaralı Mühimme Defteri (966–968/1558–1560): Tıpkıbasım, 1993. – Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. – 570 s. 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566): Tıpkıbasım, 1994. – Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. – 703 s. 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565–1566): Őzet ve indeks, 1994. – Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. – 447 s. 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Őzet-Transkripsiyon-İndex, 1995. [Cilt] I. – Ankara, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 1995. – 449 s.
186
6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564–1565): Tıpkıbasım, 1995. – Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. – 673 s. Őztűrk Y., 2000. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475–1600). İstanbul. Togan А. Z. V., 1981. Umumi Türk Tarihine Giriş. – İstanbul: Enderun Kitabevi. – Cild 1: En eski devirlerden 16. asra kadar. – 539 s. Veinstein G., 1992. Une lettre de Selim II au roi de Pologne Sigismond–Auguste sur la campagne d’Astrakhan de 1569 // Wiener Zeitschrift für die Kunde der Morgenlandes. – Bd. 82. – Р. 397–420.
Summary
OTTOMAN EMPIRE DOCUMENTS OF 1560 – 1570 YEARS ON AZOV AND DON COSSACKS
I. A. Mustakhimov, D. V. Sen'
The article describes issues related to the study and publication of Ottoman archival sources on the history of the Don Cossacks. Thematically related articles are published in different aspects of the relations of the Don Cossacks and Ottoman Azov. It documents the second half of the XVIth century, part of which is introduced into scholarly circulation.
187
Документ № 1. 973 г., раби II 11/1565 г., ноября 5. – Отпуск султанского указа санджакбею Кафы о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности Азова от набегов казаков.
Документ № 2. 973 г., раби II 21/1565 г., ноября 15. – Отпуск султанского указа санджакбею Кафы о необходимости наказания жителей Азова, убивавших или захватывавших в полон черкесов и «русов», посещавших Азов в мирное время.
188
Документ № 3. Не позднее 984 г., джумада I 7/1576 г., августа 2. – Отпуск султанского указа санджакбею Азова о необходимости завершения ремонта крепости Азов в следующем году и постройке, при необходимости, торговых и ремесленных лавок и караван-сарая.



























![Китайский чай в России: В 3-х тт. [Монография] [Текст] / И.А. Соколов. – М., 2015. – Том I. – 497 с.: илл. – Серия](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633034c7a7162bd8100c17e9/kitayskiy-chay-v-rossii-v-3-kh-tt-monografiya.jpg)