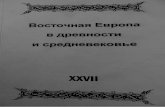"Ансамбль международной свистопляски": Европа в...
Transcript of "Ансамбль международной свистопляски": Европа в...
МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРС ГВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
П Р О Б Л Е М Ы Р О С С И Й С К О Й И С Т О Р И И
Выпуск II
Магнитогорск2003
А. В. ГолубевМосква
« А Н С А М Б Л Ь М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й С В И С Т О П Л Я С К И » : ЕВРОПАВ С О В Е Т С К О Й П О Л И Т И Ч Е С К О Й К А РИ К А Т У РЕ 2 0 -3 0 - х гг.*
Осенью 1932 г. в одном из номеров журнала «Крокодил» были опубликованы стихи В. И. Лебедева-Кумача, где, частности, были такие строки:
«В иностранных журналах, на задних страницах, где реклама царит проститутски пестро, можно выследить подлинный лик заграницы, и звериный оскал, и гнилое нутро»',
Опубликованные в том же номере карикатуры самым наглядным образом иллюстрировали «подлинный лик заграницы», подразумевавший одновременно и «звериный оскал», и «гнилое нутро». В данной статье мы попытаемся проследить, какой образ Европы - наиболее значимой и наиболее знакомой для советского общества части «заграницы» - создавала карикатура тех лег, ставшая неотъемлемой частью советской повседневности с начала 20-х годов прошлого века.
В последние десятилетия утверждения о том, что Российская Федерация (а ранее СССР) является неотъемлемой, хогя и весьма своеобразной, частью единой Европы от Атлантики до Урала, воспринимаются как аксиома, по крайней мере, в самой России. Лишь меньшинство политической и интеллектуальной элиты продолжает настаивать на некоем «евразийстве» России - но и в этом понятии европейская составляющая занимает первое место.
Примеров, иллюстрирующих все большее включение страны в жизнь Европы, можно привести немало. Но для нас сейчас важнее констатировать, что понимание принадлежности к Европе стало частью современного массового российского сознания.
Однако так было далеко не всегда2. Посмотрим, например, как воспринималась Европа в Советской России 20-30-х годов.
Если говорить о пропаганде и массовом сознании, то само понятие «Европа» играло подчиненную роль по отношению к таким, как «внешний мир», «капиталистическое окружение», «Запад». Вместе с тем Европа понималась как нечто целостное (т.е. не разделенное на Западную, Центральную. Южную, Северную, Восточную, хотя время от времени подобные определения и употреблялись). Европа была едина, Европа в целом была враж'дебиа СССР, и уж во всяком случае она представляла собой нечто особое, отделенное от Советского Союза границей, которая всегда «находилась на замке» - и привычное для советской прессы словосочетание «священные рубежи нашей Родины» на подсознательном уровне обычно приобретало некий сакральный смысл. Граница между странами воспринималась как граница между двумя мирами - в полном соответствии с механизмами мифологического сознания Европа для большей части населения лежала за пределами освоенного, обжитого мира3,
" Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Динамика формирования внешнеполитических стереотипов советского общества в межвоенный период (на примере представлений о «внешней угрозе»)». Грант № 02-01-00255а предоставлен Российским гуманитарным научным фондом.472
В публицистике и историографии последних лет советское общество, особенно применительно к периоду 1930-50-х гг., часто именуется «закрытым». Одни авторы формулируют это достаточно безапелляционно, говоря, в частности, об «информационной блокаде»4. Другие подчеркивают, что «административночиновничья система особые старания прилагала для изоляции общества от событий и явлений, происходивших в зарубежном мире»5. Третьи отмечают лишь создание предпосылок «закрытого общества»6.
История знает действительно закрытые общества (классический пример - Япония эпохи ceiynara), однако СССР в те годы поддерживал дипломатические, торговые, культурные отношения со многими странами. Советские граждане выезжали за рубеж, в СССР существовала достаточно многочисленная (20-30 тыс. человек) иностранная колония. Более того, господствующая идеология претендовала на «всемирность», особенно в первые послереволюционные годы. Впрочем, и накануне второй мировой войны в официальной пропаганде подчеркивалась перспектива превращения СССР в «мировую республику» . Существовала развернутая инфраструктура, специально предназначенная как для революционной деятельности и пропаганды1, так и для расширения официальных культурных, научных и общественных связей с заграницей4. С другой стороны, на Западе многие интеллектуалы левого толка воспринимали СССР именно как прообраз «новой цивилизации», могущий служить образцом для всего мира. Так. книга видных английских социологов С. и Б. Всбб, вышедшая впервые в 1935 г., называлась «Советский Союз - новая цивилизация?», причем вопросительный знак, содержавшийся в заглавии, снимался всем содержанием к н и ги '0. Подобные представления активно поддерживались советской пропагандой. Уже поэтому определение «закрытое» представляется преувеличением .
Более того, в первой четверти XX века произошли важные изменения в массовом сознании, связанные с восприятием внешнего мира. Помимо традиционных этнических стереотипов, отраженных прежде всего в фольклоре и преимущественно оюбражаюших личные качества, свойственные той или иной нации, появились стереотипы с ярко выраженной политической окраской. Другими словами, в обыденном сознании образ немца, англичанина, поляка дополняется образом Германии, Великобритании, Польши как геополитической реальности12.
Этому способствовала всеобщая политизация массового сознания, вызванная потрясениями начала века. Сначала - проигранная русско-японская война, заставившая даже тех, кто никогда не интересовался политическими вопросами, по- новому взглянуть на место России в мире; революция 1905 г. и последовавшие за ней изменения в политическом строе государства и жизни деревни. В еще большей степени на массовое сознание повлияла первая мировая война, в ходе которой последовательно были зафиксированы невиданный всплеск антигерманских настроений, целенаправленное формирование «образа врага» в лице немцев и их союзников, а к концу войны - стихийные, но все же достаточно распространенные антисоюзническис и даже, хотя в гораздо меньшей степени, прогерманские настроения.
Однако мировая война, при всей своей масштабности, оказалась лишь прологом к гораздо более сильным социальным, политическим, культурным, и, разумеется, психологическим потрясениям - свержению монархии, возникновению Российской республики, большевистской революции, гражданской войне...
473
Победа революции привела к дальнейшей мифологизации массового сознания, особенно в эпоху существования тоталитарного политического режима, в 1930-50- е годы. Этот режим, как и все режимы данного типа, отличался двумя особенностями. Во-первых, он стремился контролировать не только те или иные действия, но также эмоции и мысли населения. Во-вторых, подобные режимы обладают способностью создавать для себя массовую поддержку. Одним из основных средств достижения пою являлась мобилизация общества или его шачитсльной части для достижения единой пели, имеющей общенациональное значение.
Уже чти особенности тоталитарных режимов указывают на их тесную связь с процессами, происходящими в массовом сознании. С ними связано возникновение этого типа режимов; с другой стороны, тоталитаризм не мог не наложить отпечаток на общественное сознание. В частности, он способствовал консервации мифологического типа сознания, на который опирался13.
В качестве общенациональной цели, способствующей его легитимизации, сталинский режим выдвигал программу качественного обновления страны, включающую индустриализацию, преобразование сельского хозяйства и культурную революцию. В сущности. это была программа модернизации (хотя сам термин и не употреблялся), ведущая к превращению России в индустриальное общество. Процесс модернизации сам по себе сокращал сферу мифологического сознания, по крайней мерс, это происходило в других обществах. Впрочем, эти последствия модернизации проявились лишь какое-то время спустя.
В отличие от режимов авторитарных, тоталитарный режим не стремился держать массы в стороне от политики, напротив, происходила всеобщая, сознательно подталкиваемая политизация массового сознания. Уже в первые годы после революции была создана невиданная в истории система учреждений и механизмов, преследующих чисто пропагандистские цели. Определенная картина внешнего мира представляла собой неотъемлемую часть официальной мифологии. В полном соответствии с описанными выше механизмами мифологического сознания она представляла мир как арену великой борьбы между силами прогресса, олицетворяемыми » первую очередь коммунистическим и рабочим движением, и силами реакции, причем победа первых была неотвратима, как второе пришествие Христа в представлении верующих.
И новый жизненный опыт, полученный российским обществом, и все расширяющаяся система официальной пропаганды вели к тому, что внешний мир, даже в отдаленных районах страны, в сельской «глубинке», на национальных окраинах, стал восприниматься как некая реальность, имеющая отнюдь не абстрактное, а вполне практическое значение для повседневной жизни (в том числе для ведения крестьянского хозяйства, для уровня жизни рабочей семьи и т.д.). 11орой еще не до конца осознанное, почти инстинктивное, но уже очевидное понимание целостности мира, частью которого являлась Советская Россия, перестало быть прерогативой лишь образованных слоев населения.
Мир выступал либо в качестве источника вполне реальной угрозы (угрозы военной, угрозы для установившегося политического строя), или, напротив, в качестве источника благоприятных изменений, причем не только для противников Советской власти, ждавших извне освобождения от власти большевиков, но и, в ряде случаев, для ее сторонников, например, мог предоставить техническую или продовольственную помощь, выступить союзником н войне прогни общего врага
1 7 1
или просто путем давления на советское правительство добиться некоторой корректировки политики (скажем, роспуска колхозов или снятия хотя бы части ограничений с деятельности православной церкни).
Именно в этом контексте и происходило восприятие внешнего мира массовым сознанием советского общества. Важной составляющей этого процесса стало формирование внешнеполитических стереотипов, на что несомненное влияние оказывала политическая карикатура.
« Р а зя щ ее оруж ие больш евистской сатиры»Карикатура обладает несомненной ценностью как исторический источник, хо
тя лишь в самые последние годы в российской историографии появились работы, где она предстает именно в этом качестве14. Известно высказывание автора введения из «Иллюстрированной истории карикатуры с древнейших времен до наших дней», вышедшей в начале XX века: «Карикатуру можно сравнить с янтарем, который в своей золотисто-светлой массе тысячелетия хранит мельчайшие организмы во всей их целости и неприкосновенности»1̂
Изучение советской политической сатиры (карикатуры в том числе), представлявшей собой «своеобразное сочетание политики, идеологии и собственно популярной литературы» , особенно на протяжении относительно долгого периода, скажем, двух десятилетий, позволяет проследить все зигзаги, повороты, нюансы официальной пропаганды. При этом карикатура выступает одновременно и как содержательный источник, и как яркая иллюстрация, дополняющая исторический анализ.
Но есть и другой пласт исторической реальности, раскрыть который также можно через анализ политической карикатуры. Речь идет о тех образах внешнего мира, которые формируются в массовом сознании.
Информация о внешнем мире, доступная подавляющему большинству советских фаждан, была ограничена, каналы се поступления практически полностью контролировались властями. Тем более это относится к информации визуальной - помимо немногочисленных и зачастую некачественных фотографий в газетах и журналах, источником ее могла служить лишь кинохроника, которую более или менее регулярно смотрело лишь меньшинство населения, преимущественно в крупных городах. И поэтому любые официальные сообщения, газетные статьи или радиопередачи о современной жизни за рубежом очень часто вызывали зрительные ассоциации именно с карикатурами, которые публиковались в прессе, составляли часть привычной повседневности, и, что немаловажно, с точки зрения содержания практически повторяли основные темы и сюжеты советской пропаганды. И поэтому образ мира, в первую очередь Запада, для значительной части советского общества приобретал явно выраженные карикатурные, гротескные черты. Конечно, это в полной мере осознавалось и использовалось теми, кто занимался формированием у советских людей соответствующей картины мира. Более того, гротеск рассматривался как наиболее адекватное отражение внешнего мира. «В этой борьбе смехом мы имеем право изображать врага карикатурно. Ведь никто не удивляется, когда Ьфимов или кто-нибудь другой из карикатуристов ставит М аклональда17 в самые неожиданные положения, в которых тот в действительности никогда не был. Мы очень хорошо знаем, что это большая правда, чем лучшая фотография Макло- нальда, потому что этим искусственным положением, неправдоподобным положе-
475
КИМ карикатуры выясняет внутреннюю правду (курсив май Л .1’.\ ярче и острее, чем какой бы то пи было другой прием» - говорил Л. В. Луначарский .
8 образком ряду, формирующем представления о внешнем мире, политическая карикатура занимает особое место. С одной стороны, она отличается, как правило, особой емкостью образа, явной эмоциональностью (с ироническим или саркастическим опенком ), и, в ее советском варианте, абсолютной идеологизиро- ванностыо. «В листовках ли, плакатах, лубочных картинках на печатном поле газетных полос, карикатура всегда четко и ясно разрешала тот или иной политический момент даже черед теми, кто менее всего посвящеи в события политического дня. Масса знакомится с политическим моментом еще до прочтения передовицы, до отдельных статей на определенную тему» - подчеркивалось в одной из брошюр того времени'''. С другой стороны, карикатура - часть повседневности, которая не всегда воспринималась читателями как пропаганда, выступая порой под маской «развлечения», но из-за своей распространенности и особенностей восприятия запоминалась и накладывала несомненный отпечаток на формирование образа иной страны или культуры в целом. «В отличие от западного элитарного подхода к карикатуре, в России она использовалась как особая коммуникация властей с широкими массами населения. Ее злость и простота были достаточно понятны для любого читателя и зрителя» - отмечает современный исследователь20. Оставляя в стороне многие нюансы, карикатура формирует упрошенную картину реальности, в свою очередь, опираясь при пом на уже существующие установки, представления, стереотипы.
Образ страны или группы стран о карикатуре подменяется маской, упрошенной до примитивизма и за редким исключением откровенно черно-белой в своих оценках. Но и эти маски (которые могут меняться, иногда почти мгновенно, исчезать и возникать вновь) тем не менее остаются важной составной частью образа, в значительной мере определяя его эмоциональную окраску.
Как отмечал видный критик В. П. Полонский, «карикатура принадлежит к самому меткому виду оружия. Карикатура казнит смехом. А от смеха не спасает ничто - ни миллионная армия, ни наемные перья, ни каменные стены. Оттого-то искусство карикатуры - Moiy-чее искусство. Оно лается немногим. Карикатура, как и плакат, - орудие борьбы. Когда карандашом художника перестает водить боеваязадача - пафос карикатуры гаснет. Она потухает, как электролампа, в которой
21перегорела нить» .Еще более определенно о советской политической карикатуре высказался вид
ный коминтерновец Ф. Кон во введении к одному из альбомов, изданному в 1931 г.: «Часовой, вооруженный карандашом и зорко наблюдающий за готовящим новую интервенцию классовым врагом и разоблачающим его приемы»22. Необходимо отметить, что термин «политическая карикатура» в СССР межвоенного периода применялся исключительно к карикатуре па международные темы. Карикатуры, посвященные внутренней жизни СССР, независимо от темы и сюжета, таковыми не считались. Порой подобная практика вызывала обоснованные возражения, однако продолжала оставаться общепринятой. В данном очерке мы будем пользоваться именно этой терминологией.
По мнению Ь. Ефимова, уже к началу [920-х годов карикатура заняла в советской печати такое место, какого она никогда и нигде не имела на Западе, где, по его словам, карикатуры носили но преимуществу развлекательно-бытовой харак
476
тер и поянлялись главным образом в воскресных, спортивных или юмористических выпусках. «Не удивительно, что буржуазная пресса была определенно озадачена активностью советской сатиры, когда «Правда» - газета мирового значения, а вслед за ней «Известия» и другие советские газеты придали карикатуре значение важного и ответственного политического материала, используя ее как острое и сильное агитационное оружие» - писат в своих воспоминаниях Б. Ефимов . Тут же он приводит ряд примеров перепечатки советских (в частности, своих собственных) карикатур западными изданиями. По мнению художника, это говорило о «небывалом внутреннем и международном резонансе», который получала советская карикатура.
Вышедшая в 1930 г. брошюра так определяла задачи советской политической карикатуры. «Существует ходкие суждение о том, что карикатура является всемирной историей в эпиграммах. Это несомненно. Но советская политическая карикатура может к этому присоединить и то, что является отличительным для характеристики рабочей карикатуры, это - обличительный жар, который вскрывает и разит капиталистический мир... Комическое а этой сатире не служит развлечением для читателя нашей прессы, а служит разоблачением, где едким смехом уничтожается притязание врага и от кры вает ся пут ь к постиж ению истинного смысла политического события [курсивмой • А.Г. \л2'.
Не случайно вводные статьи (иногда весьма развернутые) к альбомам карикатур, выходившим в 1920-30-е годы, в ряде случаев писали видные политические деятели, такие как Л. В. Луначарский или Феликс К он 25. Автором предисловий к двум изданиям карикатур Б. Ефимова, опубликованным в 1932 и 1938 гг. был Е. Л. Гнедин26. «Если бы можно было развернуть рисунки Ефимова в виде фильмы, то перед нами открылось бы чудовищное зрелище кризиса капиталистической системы, лицемерной комедии буржуазной дипломатии, зловещей трагедии подготовки империалистической войны», - писал Гнедин в 1932 г.27 В предисловии к альбому 1938 г., он особо подчеркивал роль включенных в него рисунков как «политического [курсив документа А.Г.] разоблачения фашистских агрессоров и их пособников» и определял альбом как «своеобразный политический памфлет»28.
Особенно важна была пропат-андистская функция карикатуры в кризисных ситуациях. В 1934 г. « журнале «Крокодил» была опубликована подборка карикатур времен первой мировой войны (английских, немецких, русских). В редакционном комментарии подчеркивалось: в случае новой войны этой «буржуазной отраве» будет «противопоставлено разящее оружие большевистской сатиры»29.
Политическая карикатура публиковалась в газетах, журналах, в том числе специальных (сатирических или юмористических). Расцвет ее приходится на 20-е годы, когда работали наиболее интересные советские карикатуристы, сложившиеся как мастера еще до революции (в основном вокруг журнала «Новый Сатирикон» - Дсни. Моор, Чсремных и др.), выходило множество сатирических журналов как в столице, так и н провинции, вплоть до уездных городов. Большинство из них, однако, существовали лишь несколько месяцев. Более или менее стабильными оказались (среди столичных) московские журналы «Смехач» (1924-28) и сменивший его «Чудак» (1928-30). петроградские «Бегемот» (1924-28), «Пушка» (1926-29) и «Ревизор» (1929-30). Однако с 1930 г. количество журналов резко сокращается, вновь возникающие существуют лишь несколько месяцев. В Ленинграде с 1930 г. сатирических журналов практически не издавалось: было два или три журнала в рес
477
публиках, на языках титульных наций, сохранившихся до войны. Особняком стоят специализированные журналы «Лапоть» (1924-1933), предназначенный для крестьян, и «Безбожник» (1923—1941)'°. Политические карикатуры регулярно печатались также в «Правде». «Известиях», «Труде» (в последнем случае, однако, в основном с 1939 г.), регулярно выходили в виде альбомов видных карикатуристов. Но, конечно, наиболее стабильным, популярным и многотиражным среди советских сатирических журналов был «Крокодил», который издавался в Москве с 1922 по 2000 год с периодичностью в среднем 3 раза в месяц. Весьма значительным был и тираж издания - 150 тыс. экз. в 1923 Г., 500 тыс. в 1933 г., 275 тыс. в 1939 г."
Сатирическая печать неоднократно становилась объектом пристального внимания высшего партийного руководства. Так, в мае 1927 г. было принято постановление отдела печати ЦК ВКП(б) «О сатирико-юмористичсских журналах», опубликованное в журнале «Красная печать». В постановлении констатировалось1. «Наличие у семи основных сатирико-юморисгических журналов'2 полу миллионного тиража свидетельствует о наличии широкою интереса к литературе этого рода и выдвигает необходимость большего, чем до сих пор, использования се партией в целях культурного воспитания широких слоев рабочих и крестьян и как оружие критики и борьбы с недостатками и болезненными явлениями во всех областях нашего строительства». Однако, по мнению авторов постановления, задачи, стоявшие перед сатирическими журналами, решались ими неудовлетворительно. Завершалось постановление призывом к существующим журналам стать «органами бичуюшей политической сатиры», нацеленной «против классовых врагов внутри и за пределами СССР и против враждебной пролетариату (в частости , социал- демократической) идеологии»33.
В августе 1928 г. последовало постановление секретариата ЦК ВКП(б) «О сатирических журналах», в котором газетному сектору Агитпропогдсла ЦК и его заведующему С. Б. Ингулову поручалось не реже чем раз в два месяца проводить спс1гиальные совещания редакторов сатирических журналов с целью их инструктирования. Одновременно было решено некоторые журналы закрыть, а другим предлагалось перестроить свою работу34, Речь в первую очередь шла, как подчеркивалось в записке С. Б. Ипгулова, которая и явилась поводом для обсуждения вопроса на секретариате, о том, что журналы начали «конкурируя друг с другом, все больше и больше приспосабливаться к своей служилой и интеллигентской аудитории, сбиваться на обывательщину и мещанское зубоскальство и отходить от основных задач советской бичуюшей сатиры, назначением которой является борьба против проникновения в нашу жизнь, быт и строительство явлений классового перерождения, бюрократизма, идеологической пошлости и стихии нэпа». Характерно, что один из журналов, «Лапоть», рассчитанный прежде всего на крестьянскую аудиторию, критиковался в записке за то, что «вместо активного проведения классовой политики в деревне поверхностно и беззубо острит на международные
35темы» .И впоследствии (в частности, в 1940-50-е годы) принимались специальные по
становления ЦК на эту тему, в том числе посвященные работе журнала «Кроко-*6дил»' .Темы карикатур для газеты «Правда» (реже «Известий») иногда задавались
«сверху», что же касается журналов, если верить воспоминаниям Б. Ефимова, темы рисунков определялись редакционной коллегией. Их обычно предлагали сагирики-
478
«темисты», темы обсуждались редакцией и только после этого за нее брался кто-то из карикатуристов. Готовая карикатура обсуждалась вновь и, после необходимой доработки, шла в печать. Этот процесс занимал в среднем две недели37. Конечно, иногда публиковались карикатуры, полученные в готовом виде от карикатуристов, не работающих в данном журнале, или даже от читателей (в «Крокодиле», например, время от времени появлялись подборки читательских карикатур), норой перепечатывались рисунки из иностранных журналов.
Для советской политической карикатуры было характерно обилие деталей и многочисленных подписей различного уровня - эпиграфа (часто в виде цитаты), определяющего конкретный повод для появления данной карикатуры; названия карикатуры; подписи под рисунком, чаще всего в виде прямой речи действующих лиц; поясняющие надписи на тех или иных элементах рисунка. Не случайно читатели того времени часто в своих письмах подчеркивали, что «любят читать карика-
38туры» .
Вот как описывают изнутри знавшие «редакционную кухню» 1920-х годов И. Ильф и Е. 1 IcrpoB работу художника, рисующего карикатуру на тему «Стальной шлем и общее положение Германии»: «Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем взялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте - «Данцигский коридор», на челюсти - «Мечты о реванше», на ошейнике «План Дауэса» и на высунутом языке - «Штреземан». Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал и надпись па нем не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буковками: «Французские предложения о гарантиях безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе премьера написал - «Пуанкаре». Набросок был готов» .
Изучение политической карикатуры позволит лучше понять и проанализировать все зигзаги советской пропаганды в 20-30-с годы, вплоть до начала второй мировой войны, представить их в виде сменявших друг друга образов, которые пропаганда пыталась закрепить в массовом сознании. Характерной особенностью политической карикатуры являлась повторяемость и узнаваемость нескольких «масок» - империалист (цилиндр, монокль, мешок с деньгами), как правило, лишенный национальных п ри м а, но иногда - с явным намеком на английское происхождение; военные (чаще других в форме Франции. Японии, Полыми): социал- демократ; полицейский. Вот как, например, характеризует советский искусствовед типичный образ капиталиста в рисунках одного из видных карикатуристов того времени: «Тип капиталистов в плакатах и журнальных рисунках Черемныха двадцатых и начала тридцатых годов, хотя и имел несколько особый опенок, в целом мало отличался от изображения капиталиста в работах Моора, Дсни и других художников. Это - жирное, хищное лицо с оскаленными клыками, толстая фшура, одетая в черный фрак и белую манишку, это - лоснящийся черный цилиндр на голове, золотые кольца на руках с отточенными, как когти зверей, ногтями. Именно таким долгое время изображали художники капиталиста, как образ хищничества, беспощадности, наглости и чревоугодия»40.
479
В подобной роли выступали и наиболее одиозные для совегской пропаганды политические деятели. Вскоре искушенный читатель уже безо всяких подписей узнавал тех или иных персонажей, ориентируясь на привычные детали - подбородок Муссолини, монокль Остина Чембсрлсна, конфедератка и усы Пидсудского, пилотка с кисточкой и характерный профиль Франко.
Говоря о советской политической карикатуре, как и вообще сатире на международную тему, нельзя не отметить еще один важный нюанс. Сатириков нередко критиковали за «копание в мелочах», требовали поднимать принципиальные вопросы общественной жизни, однако здесь любого автора частушек, фельетонов, карикатур подстерегали различные, иногда весьма значительные неприятные последствия. «Выход был найден. Сатира и юмор взялись за иностранный капитал. Здесь и критика, здесь и мировой масштаб. Да и вся страна жила мировыми проблемами. Слова: Лига наций. Чсмбсрлсн, Чичерин, ультиматум и другие - не сходили со страниц газет...» - подчеркивает в своем исследовании советской повседневной жизни 1920-30-х годов Г. В. Андреевский'". Но и здесь легко было вызвать неудовольствие соответствующих инстанций, о чем товорит карикатура И. Л. Малютина с красноречивым названием «Зачембсрленились», опубликованная в «Крокодиле» в январе 1926 г. Речь шла о том, что многие сатирики и карикатуристы занимались только внешнеполитическими сюжетами и не беспокоили «внутреннего врага»4*. В результате, уже в конце того же, 1926 г., на карикатуре JO. Ганфа «Лекарь Крокодил» предлагал тому же Чембсрлену: заходите в следующий номер, сейчас я занят внутренними болезнями... 3
Внимание совегской сатиры к международной тематике то заметно увеличивалось, то снижалось. Это было связано с множеством причин, в первую очередь, конечно, с ситуацией внутри страны и с той оценкой международной обстановки, которая давалась политическим руководством.
Так, если посмотреть материалы «Крокодила» с 1922 по 1939 год, окажется, что наибольшее количество карикатур на международную тематику (180 карикатур в 48 номерах) было опубликовано в 1923 г., когда в СССР всерьез ожидали начало мировой революции. На втором месте - 1936 (обострение международной ситуации, война в Испании) и 1939 (международный кризис, начало второй мировой войны, советско-финская кампания) годы, когда в годовом комплекте из 36 журналов появилось соответственно 145 и 148 карикатур. На третьем месте - 1932 год, канун прихода Гитлера к власти в Германии (131 карикатура в 36 номерах). А меньше всего внимания внешнему миру «Крокодил» уделял в 1927-1928 годах, годах завершения нэпа и начала индустриализации (соответственно 26 и 12 карикатур в 48 номерах журнала за год). Даже знаменитая «военная тревога» 1927 г. не
44изменила ситуации .Именно материалы «Крокодила» положены в основу данного очерка.
« Е вр о п ы м р ач ен гори зон т»Послевоенная Европа в изображении советских карикатуристов на протяже
нии практически всех 1920-х годов представляла собой довольно жалкое зрелище. Как гласила стихотворная подпись к одному из рисунков 1923 года,
«Европа смотрит взглядом тусклым.Товара нет и порван зонт,И под дождем штыков французских Европы мрачен горизонт»".
480
«Французские штыки» появились здесь не случайно - в 20-е годы именно Франция воспринималась как доминирующая в военном отношении держава Европы, от Франции и ее восточноевропейских союзников, прежде всего Польши, исходила, в представлении советского руководства и, соответственно, карикатуристов, непосредственная военная угроза для СССР. Необходимо оговориться, что основным источником угрозы политической или экономической в представлении советской элиты выступала Англия, которая, однако, н соответствии с традиционными российскими стереотипами, предпочитала воевать исключительно чужими руками. Опыт мировой войны, в ходе которой Англия мобилизовала массовую сухопутную армию и потеряла на фронтах свыше 700 тыс. человек, ничего не изменил: привычные стереотипы оказались сильнее исторической реальности. Позднее, в 30-е годы, роль источника основной военной угрозы в советских геополитических представлениях перейдет к Германии, но за ее спиной все так же будет вырисовываться зловещая фигура Джона Буля46.
Показателей обобщенный образ Европы тех лет. Нищая старуха с дырявым зонтиком; та же старуха, но уже безумная, увешивающая себя оружием; официант, ожидающий чаевых от богатого клиента-американца - подобные изображения Европы в эти годы доминируют.
И общеполитическая ситуация н Европе заслуживала обычно не менее саркастических оценок советских карикатуристов. Немая сцена из «Ревизора», где в роли Городничего - Капитал, Анна Андреевна и Марья (в подписи к карикатуре почему-то Агафья) Антоновна - соответственно Ллойд-Джордж и Пуанкаре, Доб- чинский и Бобчинский - Польша и Финляндия, и так далее - так виделась Европа художникам «Крокодила» в начале 1922 г. Любопытно, что ни Хлестакова, ни жандарма, объявившего о появлении настоящею ревизора, на рисунке нет, и мож-
47но только догадываться, что именно так поразило европейцев .R эти же годы нередко встречается сравнение Европы с оркестром, например,
оркестром, играющим без дирижера, «кто в лес, кто по дрова» (так гласит подпись под карикатурой Д. Моора 1922 г.48). Но гораздо любопытней рисунок Б. Ефимова, появившийся два года спустя и озаглавленный «Европейская джаз-банда». На сей раз дирижер в европейском оркестре присутствует, это Юз. Первая скрипка Болдуин, вторая - Эррио (Пуанкаре, его предшественник на посту премьер-министра Франции, «уже отыгрался»), лорд Керзон дует в 16-дюймовую «трубу», польский пан играет на контрабанде (подчеркнуто - «опечатка»), Румыния на свирели, Макдональд после фальшивой ноты (по поводу т.н. «письма Зиновьева») уходит с рваной струной. В руках у Муссолини флейта из кости коммуниста, у Эбсрта пищик, фашист, сидящий верхом на Эбсрте, звенит в «треугольник» в форме свасти- ки49... Очевидно, подобная карикатура являлась уже не явлением искусства, пусть даже искусства карикатуры, а, скорее, пособием к лекции о международном положении, И тем не менее нужного результата она, очевидно, достигала - читатель, внимательно рассмотревший рисунок, получал в прямом смысле слова наглядное представление о расстановке сил в Европе, внешней политике и внутриполитической ситуации в отдельных странах, крупнейших политических деятелях, короче говоря - о политической ситуации в Европе в целом, конечно, с точки зрения советской пропаганды.
Другой расхожий образ Европы на рубеже 20-30-х годов - дом, то сумасшедший, то игорный, общежитие, наконец, ночлежка.
481
В феврале 1929 г. в «Известиях» появилась карикатура Б. Ефимова «Сумасшедший дом «Европа», тут же перепечатанная в ряде зарубежных изданий50. Среди персонажей карикатуры - Пуанкаре-«война», разрывающий Версальский договор и рычащий «Р-р-р-у-у-р-р!» (буйное помешательство); Муссолини, в тоге римскою цезаря, утверждающий «Италия - это я» и Пилсудский в роли Наполеона (мания величия); лорд Керзон, рвущийся к нефти: и так далее.
На многофигурной композиции К. Рогова, опубликованной в 1929 г., Европа представала как общежитие, скорее, впрочем, напоминавшее советскую, а отнюдь не европейскую, «коммуналку» '. Вокруг двери с надписью «СССР» столпились добрые соседи. Финляндия жаловалась окружающим: «Все стучит, строит», Эстония поддакивала: «Электричество жжет». Франция советовала поляку: «Вот нож. ткни его, когда отвернется». Румыния, изображенная в виде злой старухи с примусом в руках, мечтала: «Еще бы участок оттяпать» (это, конечно, был намек на Бессарабию). В стороне стояла Англия, многозначительно бормотавшая: «Нельзя не признать...» (карикатура появилась в конце июля 1929 г.; лейбористское правительство Р. Макдональда, одним из предвыборных лозунгов которого было восстановление дипломатических отношений с СССР, пришло к власти в мае этого же года, а протокол о восстановлении советско-английских дипломатических отношений был подписан в Лондоне 3 октября).
Через два года, в июле 1931, появилась новая композиция Ротова «Жилкоопе- ратив «Мировое капиталистическое хозяйство». На сей раз, помимо европейских стран, в число персонажей карикатуры вошел и «ответственный съемщик» (совершенно советское понятие, появившееся в тех же «коммуналках» и вряд ли кому знакомое за пределами СССР) Америка - с кнутом в руке. Но подавляющее большинство «членов жилкооператива» составляли европейские страны. В подвале поселились страны малые, восточноевропейские - Венгрия. Польша. Румыния, традиционно изображавшаяся со скрипкой в руках, Финляндия, вооруженная рогаткой (в 1930-1931 гг. в советско-финских отношениях существовала определенная напряженность, поводом для которой послужили антисоветские выступления крайне правых в Ф инляндии52). Первый этаж занимали наиболее респектабельные жильцы - Италия, Франция, Англия, второй этаж - Испания, Бельгия, Чехословакия. Там же оказалась и Германия, почему-то с тюремными решетками на окнах (речь вес же шла о демократической Веймарской республике). Мансарду заселили прибалтийские государства - Эстония, Латвия, Литва51. Главный смысл карикатуры был, впрочем, не в самом рисунке, а в подписи, в которой содержался совет сделать этот дом «коммунальным». Трудно сказать, что имел в виду автор подписи, вряд ли все-таки советскую коммунальную квартиру; скорее, речь шла о коммунистическом будущем Европы. И тем не менее звучала эта подпись для советского читателя довольно двусмысленно. Впрочем, необходимо учитывать, что утопические представления о грядущей «коллективизации быта» в СССР тех лет были широко распространены, и не только на уровне дискуссий или отдельных молодежных коммун. Были и попытки воплощения их на государственном уровне,-
4в ряде архитектурных проектов и даже на практике .
Разумеется, советских сатириков занимали не только нюансы современного положения Европы, но и ее перспективы. Вообще тема «мрачных горизонтов Европы» занимала видное место в советской карикатуре. При этом речь шла, во- первых, о надвигающемся или, на рубеже 1920-30-х годов, уже разразившемся
482
социально-экономическом кризисе, и, во-вторых, о перспективах европейской революции, означавшей конец старой Европы.
В 1922 г. появилась известная карикатура И. Малютина «В Европу из России», на которой был изображен Голод в виде скелета с косой на фоне силуэта западного города. Комментарий к карикатуре гласил: «В Англии 1.5 млн. безработных, в Париже рекомендуют потреблять меньше хлеба». Голод мрачно добавлял от себя. «В Европе растет безработица, зато я в этом году, кажется, буду работать сверхурочно». Надо помнить, что в самой Советской России только еще заканчивался страшный голод в Поволжье, в то время как в Европе, даже разоренной войной, ничего подобного не было ни в 1922, ни в последующие годы. Тем не менее карикатура появилась в нескольких изданиях и впоследствии неоднократно воспроиз-
55водилась .И позднее, в годы мирового экономического кризиса, карикатуры, связанные с
безработицей, закрытием предприятий, исчезновением потребительского спроса, финансовыми катастрофами регулярно появлялись в советской прессе. В частности, биржевой крах в США и последовавшие за этим финансовые потрясения в Квропе породили новый сюжет, повторенный многими карикатуристами. Речь шлао самоубийстве банкиров как факте повседневном, даже бытовом; одни стрелялись, другие (им не хватило пистолетов!) вешались или выбрасывались из окна. Не случайно появилась карикатура «На костюмированном балу в Европе», где был представлен .маскарадный костюм банкира - поношенный фрак, помятый цилиндр, в
56руке револьвер . Л кое-кто из промышленников, если верить карикатуристам, даже спас свое предприятие от кризиса, перейдя на производство пистолетов для самоубийц.
Видное место занимала тема послевоенных долгов. В качестве главного кредитора выступали, разумеется, США, но и европейские державы по мере сил пытались получить свою долю. Так, на карикатуре И Малютина «Самогонный аппарат» и на рисунке М. Чсремиых «Все с рабочего» была немного по-разному изображена одна и та же непочка - США, Англия, Франция пытаются получить долги у худой, оборванной Германии, причем одна из карикатур была снабжена стихотворной подписью:
«Англичанин на француза.Па Германию француз.Вес друг с друга без конфузаРвут, дерут, входя во вкус»".
Германские долги (и вообще положение послевоенной Германии) вызывали особое сочувствие у советских карикатуристов. Эта тема вновь и вновь появлялась на страницах «Крокодила». Так, на карикатуре Ь. Ефимова «В германском ресторане» французские офицеры (имелась в виду союзническая контрольная комиссия) заявляют немецкому официанту, «мы за тобой следим, ты за это сам нам дол-
58ж ен... »Тема задолжавшей I "ермакни позволяла заодно покритиковать и полигику Ли
ги наций. На рисунке Ю. Ганфа с красноречивым названием «Смотрит в Лигу, а видит фигу» голая, изможденная Германия, почему-то ярко зеленого цвета, просит раздевающего ее француза оставить хотя бы фиговый листок. Наблюдающий за ситуацией в качестве представителя Лиги наний английский министр иностранных дел О, Чембсрлен меланхолично поясняет: вот листок (с обещаниями), а фига от-
483
дельно... Логичное завершение отношений Германии с Лигой наций в представлениях советских карикатуристов продемонстрирована карикатура К, Рогова, на которой изображено дерево с надписью «Лига наций». На одной из веток этого
тч 60дерева висит Германия - тощая, язык высунут, в колпаке .Конечно, не остались без внимания и коллизии, связанные с отказом больше
виков платить по долгам царского и Временного правительства. На одной из карикатур, опубликованных в том же 1925 г.. в ответ на обращенные к СССР требования уплатить долги, трудящиеся европейских стран в свою очередь спрашивай» у капитала Англии, Франции. США, Германии: где наш сын, брат, муж, отец (имелись в виду погибшие на мировой войне). А закрыла тему в 1928 г. карикатура В. Козлинского «Еще об очередях». В Наркомфине СССР в очереди за царскими долгами (на кассе висит объявление «не выдаются и не будут») стоят Франция, Польша и симпатичная старушка Германия, которая вежливо интересуется: дают? нет? все равно постою, в хорошей очереди и постоять п ри ятн о ...61
Сложные отношения Европы и Советской России не сводились, однако, лишь к теме долгов. Слегка пренебрежительное отношение художников «Крокодила» к «старушке Европе» хорошо иллюстрируется такой, например, карикатурой - «Старушка Европа перед богатырской заставой». В роли богатырей, выступали, разумеется, красноармейцы. Если в данном случае в рисунке преобладает добродушная ирония, то в следующей публикации на схожую темы уже парит откровенная сатира. На многофигурной, занимающей целый разворот журнала, композиции Ю. Ганфа «Крестовый поход, Капиталисты мира против большевиков» большая группа западноевропейских политиков и российских эмигрантов (в том числе О, Чемберлен в доспехах, Э. Эррио почему-то в белье и ночном колпаке, маршал Фош на игрушечной лошадке и т.д.) длинной вереницей отправляются в поход против СССР. Отдельно тема «крестового похода» обыгрывается в том же номере в карикатуре К. Ротова - на сей раз среди участников похода только восточноевропейские страны, причем главным инициатором этого «мероприятия» является Болга- рия63. Вообще тема угрозы СССР со стороны его ближайших соседей возникает постоянно, и при этом нередко подчеркивается роль великих держав. В качестве иллюстрации можно привести одну из карикатур 1931 г. с многозначительным названием «В пан-европейской больнице». Главным персонажем является, конечно, выдвинувший идею «Пан-Европы» А, Ьриан, который заражает восточноевропейские страны (узнаваемы на рисунке, в частности, Польша и Болгария) бациллами бешенства против С С С Р63.
Советская пропаганда пользовалась любым, даже относительно незначительным, поводом, чтобы противопоставить сравнительные исторические перспективы Европы и Советской России. Например, отставка коалиционного кабинета в Англии и очередной парламентский кризис во Франции в 1922 г. вызвали к жизни карикатуру «В море истории». На ней было изображено бушующее морс; с английского корабля сбрасывают Ллойд Джорджа, французский корабль тонет, а советский корабль, с попутным ветром, рассекая волны, гордо идет вперед... 4
Не менее красноречивы три карикатуры одного автора, Ю. Ганфа, появившиеся в 1925, 1929 и 1939 гг. На первой из них несколько европейских стран, в том числе Франция, Польша, Германия, Румыния с завистью смогрят па дородную беременную красавицу - Советскую Россию (карикатура появилась в связи с утверждением бюджета СССР на 1926 г.) Две последующие представляют собой
484
вариации одного и того же сюжета - на обоих Америка и Европа бегут, обливаясь потом, но рытвинам и кочкам, а молодой атлет, СССР, уверенно догоняет их. Впрочем, la 10 лет. разделявших появление этих карикатур, догнать их он так и не
65сумел .Еще один персонаж, с которым приходится иметь дело Европе как таковой,
это Америка. Тему большинства карикатур, связанных с европейско- американскими отношениями, определяет название одной из них - «Европа, придавленная долларом». Огромный «дядя Сам» (так транскрибировалось в те годы знаменитое «дядя Сэм», и местоимение «Сам» неоднократно обыгрывалось советскими карикатуристами), «ответственный съемщик» жилищного кооператива «Мировое капиталистическое хозяйство», свысока поглядывал на маленьких европейцев, то требовал с них долги, то давал в долг... 'Гак, на рисунке Ю. Ганфа. появившемся на обложке «Крокодила» в 1933 г., в игорном доме «Европа» за столом сидели игроки - Америка, самодовольная, вальяжная, с кучей выигранных монет перед ней; франция, девица нестрогого поведения, с кучкой монет поменьше; Германия, одетая в рванье, с трубкой во рту, но без единой копейки; наконец, Англия с жалкой кучкой оставшихся монет, вся в поту. Америка, свысока поглядывая на Англию, напоминает: «А у вас, Англия, есть еще зарплаты, пособия, деньги на образование»6''. В конце концов, на новогодней карикатуре 1933 г. «дядя Сам» за
Т"1 ~ 67долги просто повесил печать на Европу и европейцев .Множество карикатур, особенно в 1920-е годы, было посвящено теме классо
вой борьбы и перспективам европейской революции. В начале 1922 г. даже появилась карикатура «Последняя мирная конференция». Сюжет ее прост: ipynna буржуазных политиков во фраках и цилиндрах сидит в тюремной камере. Текстпоясняет: происходит эта «конференция» после провозглашения Европейской
, - 6 8советской республики .Рабочие демонстрации, столкновения с полицией, репрессии против коммуни
стов, деятелей рабочего или крестьянского движения, подавление национальноосвободительной борьбы в колониях - все это постоянно возникало на страницах «Крокодила», других журналов и газет. Нет необходимости подробно пересказывать их сюжеты, как правило, лишенные оригинальности. В качестве типичного можно лишь привести рисунок, обыгрывающий заглавие знаменитого романа Ремарка. Подпись под карикатурой гласила «Па Западе не без перемен». На ней был изображен уже давно знакомый советскому читателю буржуй с сигарой во рту в полном унынии. А на календаре, висевшем на стене, помимо кризиса, безработицы, забастовок были отмечены еще и голодные походы6'. «Призрак бродит по Европе» - провозгласил на обложке журнала в конце ноября 1932 г. М. М. Черем- НЫХ Красный пролетарский призрак вставал на фоне немецкого города - 8 миллионов голосов, утверждала подпись, было подано за коммунистов на парламентских выборах в Германии . На самом деле, итоги выборов были несколько иными
на них коммунисты получили только 6 миллионов, в то время как социал- демократы более 7, а национал-социалисты - почти 12 миллионов. Впрочем, количество голосов, поданных за Коммунистическую партию Германии, выросло, по сравнению с июлем 1932 г., почти на миллион, и это действительно было пиком популярности КПГ.
Одна из карикатур К. Рогова, появившаяся в самом начале 1933 года, как бы подводила итог европейскому кризису. Она была создана по мотивам знаменитой
485
картины Брюллова «Гибель Помпеи». Па большом, занимавшем две страницы многофигурном рисунке, как и на знаменитом оригинале, на фойе зарева рушились дома, а заодно - и курсы европейских валют. Сын-француз спасает мать- белоэмигрантку (намек на то, что именно Франция дала приют значительной части эмшрантов и их политических и прочих организаций), фашист со свастикой и социал-демократ несут на руках Капитал. Кто-то стреляется, спасаются бегством Каутский и Джон Б уль..." Но после 1933 года на первый план выступаю! новые сюжеты, связанные с приближением новой войны.
« Б у р ж у азн ая Е в р о п а в к у ш а ет мир»Период 1920-30-х годов часто именуется межвоенным периодом, и для этого
есть все основания. Довольно долго мир, прежде всего, конечно, Европа, приходили в себя после цервой мировой войны. Но не успели еще излечиться нее раны, как на горизонте замаячила вторая мировая... Некоторые западные историки даже предлагают рассматривать первую и вторую мировые войны как одну войну в двух действиях - слишком очевидны были минусы Версальской системы, слишком много нерешенных вопросов оставила Великая война 1914-1918 гг.
Воздействие первой мировой войны было столь значительным, что позволило ввести новое понятие - «тотальная война», т.е. война, которая не только затрагивает, но и коренным образом меняет ситуацию во всех сферах жизни общества.
Потери на фронтах (10 млн. убитых, 20 млн. искалеченных, 5 млн. вдов и 9 млн. сирот), потери, понесенные гражданскими лицами в результате военных действий или бомбардировок (в относительно далекой от театра боевых действий Англии от авиационных бомб погибло свыше 1400 человек); от болезней (только пандемия «испанки» унесла примерно 27 млн. человек); от внутренних конфликтов (например, избиение армян в Турции или ирландские восстания); крах финансовой системы многих стран и одновременно - кратковременное процветание в колониях, сопровождавшееся переходом части функций управления в руки туземной элиты; невиданный рост государственного контроля; формирование военнопромышленного комплекса; массовое вовлечение женщин в производство; даже изменения в организации и проведении досуга - вот что такое «тотальная война»7”.
Воспоминания о предыдущей войне и страх перед будущей способствовали попыткам европейской дипломатии 20-х годов изменить традиционные правила игры. Видные европейские политики, особенно « 20-е годы, один за другим получали за свою деятельность Нобелевские премии мира - их лауреатами стали министры иностранных дел Великобритании О. Чемберлен (1925), Франции А. Ьриан (1926), Германии Г. Штрсземан (1926). а также вице-президент США Ч. Дауэс (1925) и государственный секретарь Ф. Келлог (1929). Позднее, в 1937 г., уже за деятельность на посту председателя Всеобщей конференции по разоружению Нобелевским лауреатом стал и А. Гендерсон, министр иностранных дел Великобритании в 1929-1931 гг. Была создана Лига наций, подписан пакт Бриана-Келлога о запрещении войны в качестве орудия национальной политики, созывались конференции по разоружению — и все это давало множество тем для советских карикатуристов. Впрочем, как бы ни изощрялись они, разоблачая военные приготовления Запада и лицемерие сторонников разоружения, как бы ни был оправдан их скептицизм, следует все же признать, что в те годы державы-победительницы войны действительно не хотели. Мелкие хищники Восточной Квропы, оглядываясь на
486
«старших братьев», также воздерживались, как правило, от силового метода решения своих проблем; появление же гитлеровской Германии, этого, в прямом смысле слова «уродливого детища Версальского договора», в 20-е годы предугадать было нелегко. Пройдет время, и искреннее желание избежать войны трансформируется в печально известную «политику умиротворения». Но, опять-таки, в 20-е годы об этом никто не догадывался.
Если Европа по преимуществу стремилась к длительному (а то и вечному) миру и надеялась на дипломатию в деле предотвращения войны, в советском обществе царили настроения противоположные.
Возможность войны с «капиталистическим окружением» в 20-е годы (вопреки расхожим современным представлениям) ощущалась гораздо более остро, чем в 30-е. Причин для этого много', живая память о мировой и i-ражданской войнах с участием иностранных держав; советская пропаганда, в которой эта тема муссировалась постоянно; особенности восприятия, когда доходившая, например, до деревни внешнеполитическая информация многократно искажалась и «перекраивалась» по законам мифологическою созн ан и я3. В сводках ОГПУ, постоянно встречались утверждения, что «грамотные крестьяне, читая в газетах о военных приготовлениях в Польше, Румынии и Англии, находят, что война неизбежна»74.
Как отмечалось, свою лепту вносила и пропаганда, которая не уставала напоминать о «капиталистическом окружении». Угроза новой войны всегда была одной из ведущих тем, особенно для политических карикатуристов. То Чемберлсн, то Пуанкаре, то «дядя Сам» спускали с поводка огромное бронированное чудише - войну огромную, страшную, как правило, в противогазе, ощетинившуюся пушками, на танковых гусеницах... Даже, казалось бы, шаг, определенно ведущий к укреплению мира - подписание пакта Бриана-Келлога и присоединение к нему СССР в августе 1928 г.75 - так отразился в «Крокодиле»: западные дипломаты на рисунке подписывают пакт, приговаривая: «С удовольствием подписали бы и двумя руками». Но свободна только одна - каждый из них держит за спиной пистолет или бомбу. А на карикатуре М. М. Чсремных, появившейся на обложке журнала в начале 1929 т., пакт обсуждали красноармейцы. Один говорил: «С буржуями подписали мирный пакт, значит, нам домой». Второй довольно остроумно (хотя и чисто по-советски) отвечал: «С ними, как в загсе - сегодня расписались, завтра драка, буржуйской подписи не верь...» 6. Впрочем, карикатуристы лишь следовали общему курсу советской политики - так, нарком иностранных дел Г. В. Чичерин в августе 1928 г., незадолго до того, как СССР присоединился к пакту Бриаиа- Ксллога, подчеркивал в интервью «Известиям», что «в действительные цели инициаторов этого пакта, очевидно, входило и входит стремление сделать из него орудие изоляции и борьбы против СССР... пакт Ксллога есть составная часть иод- готовки войны против СССР». А «всесоюзный староста» М. И. Калинин в марте 1929 г., уже после присоединения СССР к пакту, в публичном выступлении заявил, что пакт «рассчитан на завуалирование перед широкими массами опасности будущей войны»7'.
Не случайно на рубеже 20-30-х годов в «Крокодиле» неоднократно появлялись карикатуры на обывателя, который, сидя в своем уютном домике, не видит и не желает видеть ничего вокруг - а за стенами его дома оскаленные рожи империалистов, рабочие со скованными руками, расстрелянные индусы и китайцы, до зубов вооруженные поляки или французы, пушки, танки, отравляющие газы ...78 Зато
487
карикатуры, высмеивающие панические слухи о войне, в советской прессе не встречались.
Ожидали не только войны империалистов против республики Советов; постоянно возникала тема и новой мировой войны, главными участниками которой должны были стать великие державы в самых неожиданных комбинациях - США против Англии, Англия против Франции и т.д.
«Виновники» будущей войны уже в конце 20-х годов были названы советскими карикатуристами поименно. В конце 1927 г. появилось произведение Ю. Ганфа «Парад-алле», где на арене играли мускулами чемпионы - причем не чемпионы мира, как подчеркивала подпись, а чемпионы войны. Англию на «чемпионате» представляли О. Чемберлен и С. Болдуин, Францию Р. Пуанкаре, Италию Муссолини, Испанию Примо дс Ривера, Польшу маршал Пилсудский... Германия в этом первенстве участия не принимала7 . Прошло два года, и в журнале появилась подборка шаржей, объединенная безапелляционным названием «Виновники будущей войны». Любопытно сравнить персональный состав персонажей двух публикаций. Сохранили свое место в этом не слишком почетном ряду Пуанкаре. Муссолини, Пилсудский, Примо де Ривера. После прихода к власти лейбористского правительства английские консерваторы Чемберлен и Болдуин практически исчезли со страниц «Крокодила». Англию на данной карикатуре представлял бывший министр финансов У. Черчилль, сыгравший определенную роль в разрыве англо-советских отношений в 1927 г. На карикатуре также появились папа римский Пий XI, регент Венгрии М. Хорти, бывшие президент Франции А. Мильеран и премьер-министр Болгарии А. Цанков. Но самое интересное, что в числе виновников будущей войны и нри том - впервые на страницах «Крокодила» появился глава Национал- социалистической рабочей партии Германии А. Гитдср. Правда, его внешность была еще не слишком известна, и карикатурист, видимо, рисовал его понаслышке. Гитлера без подписи узнать невозможно - лицо у него испуганное, довольно молодое, на нем модная тирольская шляпа и совершенно не похожие на оригинал усики с острыми кончиками °.
Опубликованная в первом номере «Крокодила» за 1929 год карихатура Ю. Ганфа «Буржуазная Европа вкушает мир» как бы подводила итог всей европейской дипломатии 20-х годов. Несмотря на название, картина на рисунке представала отнюдь не идиллическая. Вечерний европейский город; в окнах военные, склонившиеся над картами и фашисты, собравшиеся вокруг стола со свастикой; буржуа внимательно слушают кюре и генерала; обыватели тем временем развлекаются, наблюдая канкан и стриптиз. А на улице - рабочая демонстрация, в порту военные- корабли с флагами США. Франции, Англии, Японии. И над всем этим нависает оф омная фигура в форме, противогазе, с винтовкой81.
Новая программа вооружений, принятая тем или иным государством, иногда просто очередной бюджет, предусматривающий рост военных расходов, хотя бы в рамках инфляции - все вызывало у карикатуриста и, соответственно, читателя, образ «безумной Европы», увешивающей себя оружием. Уже в 1922-1923 гг, понятие «гонка вооружений» прочно обосновалось среди основных стереотипов, вне-
82дрявшихся советской пропагандой, в том числе и средствами политической сатиры .Любые, достаточно, впрочем, робкие и безрезультатные, попытки западной
дипломатии ограничить гонку вооружений, заранее вызывали скептическое отношение советских сатириков. Идеи демократического пацифизма, достаточно ахту-
488
ально звучащие и сегодня призывы воспитывать отвращение к войне и насилию, начиная со школы и т.п. - все что являлось лишь благодатным материалом для новых карикатур83. Одна из них, опубликованная в 1931 г., так и называлась - «В школе Лиги наций». Ангел мира входил в школу Лиги наций ребенком с оливковой ветвью в руках, а выходил в виде здоровенного детины в военной форме, вооруженного до зубов, держащего в руках баллон с отравляющим газом и план нападения на СССР. За плечами у бедного ангела появились крылья от бомбардировщика со свастикой. Автор особо подчеркивал, что учителями в этой школе были О. Чемберлен и А. Б риан84.
I (адо сказать, что ангел мира, несмотря на подчеркнутый антиклерикализм советской пропаганды, появлялся на страницах «Крокодила» довольно часто. Иногда ОН представлял собой лишь украшение, ширму, за которой скрывалась война со всеми своими атрибутами. Неоднократно ангел мира представал, как на вышеупомянутой карикатуре, в военной форме и с винтовкой. Его давили танками, протыкали штыками, резали на куски буржуазные дипломаты... Если же автор карикатуры был в хорошем настроении, он заставлял очередного ангелочка просто поиграть с оружием"5. Логичное завершение эти сюжеты нашли в карикатуре, появившейся уже в 1940 голу, после начала второй мировой войны, на которой у закрытых дверей Лиги наций тощий, оборванный ангел мира просил подать ему на вооружение86,
Ма протяжении 20-х и начала 30-х годов тема будущей войны, при всей ее важности, вес же оставалась на втором плане но сравнению с внутриполитическими сюжетами европейской жизни - кризисы, революционное движение, репрессии, тяжелое положение трудящихся и гак далее. Да и «виновники будущей войны» иногда подбирались по очевидно случайному принципу.
В 1933 г. к власти в Германии приходит Гитлер, и постепенно тема фашистской агрессии выходит на первый план. Только в «Крокодиле» за 1933-1939 гг. этой теме было посвящено более 200 карикатур, кроме того, они регулярно публиковались в других журналах и газетах, в альбомах известных карикатуристов, например. Б. Ефимова или Кукрыниксов.
Па первых порах преобладала тема перевооружения Германии. Немецкие дипломаты изображались на фоне пушек, генералы просили разрешения построить уже готовые к полету бомбовозы, голубь мира в немецком варианте был приспособлен для фотографирования неприятельских позиций и разбрасывания бактерий . Выход Германии из Лиги наций в октябре 1933 г, был расценен карикатуристами как первый шаг к войне - вслед за немецким дипломатом двинулся в путь скелет в противогазе, с винтовкой в руке'". Не обошлось, конечно, и без выпадов в адрес мирового империализма: в полном соответствии с официальной советской пропагандой уже в 1933 г. «добрыми феями» Адольфа Гитлера были объявлены магнаты Уолл-стрита, Англии, Франции и Рура89. .
Вскоре появились сюжеты, связанные уже с конкретными территориальными претензиями Германии - относительно Австрии или Саарского бассейна. Что же касается антисоветских заявлений гитлеровского руководства, они были прокомментированы следующим образом. Стоящий перед картой пятилетки, огромный симпатичный тевтон с мечом предостерегал противного штурмовика с дубиной: «У них есть кое-что. чего не было даже у Рима»00.
Ряд карикатур отражал наметившееся сближение Германии и Японии. «Брак по любви... к чужим территориям» - так называлась карикатура Б. Ефимова 1936
489
г., на которой японец, с вожделением рассматривавший глобус, покрытый немецкими и японскими флажками, сжимал в объятиях огромную Германию в тевтонском рогатом шлеме, с длинной белокурой косой и... с неизбежными усиками".
Особый сюжет этих лет - германо-итальянское сближение, ось «Берлин-Рим». Муссолини и Гитлер фигурируют в целом ряде карикатур. На одной из них тевтон Гитлер и римлянин Муссолини «на потребу богу войны» куют ось для колесницы Марса. На другой - проект статуи германо-итальянской дружбы, изображающей Гитлера в роли всадника, а Муссолини, соответственно, лошади. И, наконец, оба союзника изображены голодными волками на европейской дороге (Муссолини, впрочем, опять не повезло - ему, по аналогии с античной легендой, досталась роль волчицы, хотя бы и капитолийской)"2.
Однако настоящей темой дня стала, конечно, немецко-итальянская интервенция в Испании. Только в «Крокодиле» появилось свыше 30 карикатур на эту тему. Вышел и специальный альбом Б. Ефимова93.
Немецкие «добровольцы» в Испании на фоне трупов и руин, гитлеровские генералы в штабе Франко, жертвы немецкой авиации - все эти сюжеты постоянна повторялись в советской карикатуре в 1936-1938 гг. В этой серии карикатур Гитлер и его союзник Муссолини выглядели опасными и могущественными злодеями, зато генерала Франко авторы карикатур то загоняли под стол, за которым сидели немецкие «советники», то заставляли чистить сапоги Гитлеру и Муссолини, а на одном из рисунков Франко - в роли туземца в юбочке из листьев - целовал ноги
94немцу-колонизатору .
Почти столь же презрительно изображались в карикатурах на испанскую тему Великобритания, Франции и их политика невмешательства: немцы и итальянцы стригли к оп и британскому льву, наступали ему на хвост, а тот предлагал им одну уступку за другой.
Если Гитлер и его союзники на фоне своих испанских сателлитов или западноевропейских дипломатических партнеров выглядели весьма грозно, то на фоне СССР они же становились подчеркнуто жалкими, уродливыми, бессильными. Подобные карикатуры с соответствующими надписями, например, «Видит око, да зуб иеймет», регулярно появлялись в «Крокодиле». У Гитлера были «коротки руки», чтобы схватить глобус с изображенным на нем С СС Р; фашистская свинья беспомощно ковырялась у высокого советского забора; немецкий фашист за школьной партой учит уроки истории (Ледовое побоище), географии (где находится озеро Хасан), арифметики (рост производства в С С С Р )'5.
Оккупация Австрии, ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону, угрозы в адрес Чехословакии и Польши - все отражалось в материалах советской сатиры. Если на карикатурах 1925 г. Германия выступала в качестве приживалки в «польском коридоре», то на рисунке 1937 Г. лакеем в Даниигском коридоре оказывался уже поляк, зато в комнатах уютно устроились хозяева-нацисты . А польский министр иностранных дел Ю- Бек, изображенный в виде собачонки, униженно ждал подачек с немецкого стола 7.
Германия предстает то в образе свирепого кабана (1936), то в образе наука, подбирающегося к нейтральным странам (Голландия, Бельгия, Швейцария, 1937), то в образе волка из сказки о Красной шапочке - только Красных шапочек на рисунке четыре, это Австрия, Венгрия. Румыния, Югославия (1937)9*.
490
И все более жалко и беспомощно выглядят перед лицом агрессора «умиротворители» - и британский лев, и Джон Ьуль, и француженка Марианна, и их восточноевропейские союзники.
В новой международной ситуации по новому переосмысливаются и знакомые сюжеты, связанные с образом Европы-«дома» и Европы-«оркестра». На двух композициях, принадлежавших кисти Ю. Ганфа, предстает совсем другая Европа - Европа, разделенная на несколько достаточно определившихся групп. Это - государства агрессивные, государства нейтральные, государства, проводившие «политику умиротворения».
Первая из карикатур, появившаяся в конце 1937 года, воспроизводила сюжеты пьесы М. Горького «На дне». В переполненной ночлежке Франко и японский оф ицер нанимали ниших белогвардейцев, журналист из «Фелькише Бсобахтср» торговал тухлыми утками, немецкий фашист жарил пушки вместо масла, помешанный чиновник немецкою общества любителей чужих колоний 1рыз карту мира, немец и итальянец играли в карты на Австрию, Муссолини штопал TOiy, побитый самурай считал шанхайские убытки, гестаповец платил «троцкистам», в форточку лезла, ученица гестаповца. Польша, и, глядя на все это, кричал, сидя на жердочке, попугай из Лиги наций".
Уже накануне второй мировой войны получила свое логичное завершение и тема «Европа-оркестр» в миогофигурной карикатуре с красноречивым названием «Ансамбль международной свистопляски». 'Эту карикатуру, как и предыдущую, можно долго «читать» и подробно пересказывать. На сей раз Европа предстает в виде не столько ансамбля, сколько сборного эстрадного представления, организованного не слишком разборчивым импресарио. Муссолини поливает водой Джона Буля; Италия режет на куски Албанию; британскому льву в хвост забили ось «Берлин-Рим»; Джон Буль и М арианна держат перед фашистом бумажный обруч; Германия крадет у Румынии нефть; нейтралы поют: «А мы просо сеяли», агрессоры же (Япония. Германия. Италия) отвечают им: «А мы просо вытопчем»; итальянские финансы поют романсы; Франко слушает японца, немца, итальянца; немецкий фашист дирижирует Р ум ы ни ей ...100
В 1938-1939 гг. появляется ряд карикатур, посвященных агрессивным намерениям Германии относительно Чехословакии, как до. так и после подписания Мюнхенских соглашений, и Польши. Однако уже в июне 1939 г. рисунков на международные, особенно европейские темы становится вес меньше.
В первые месяцы второй мировой войны советская пропаганда находится в состоянии полной неопределенности"". Неожиданный для абсолютного большинства поворот во внешней политике СССР, обозначенный пактом Риббентропа- Молотова, привел к растерянности в обществе, в том числе и среди карикатуристов. Мгновенно (и уже до 22 июня 1941 г.) исчезают все карикатуры, изображающие Германию. Тема Англии и Франции во второй половине 1939 г. возникает лишь несколько раз, в связи с тяготами войны для рядовых европейцев. Доминирует сначала польская тема (поражение Полыни и «освободительный поход» Красной Армии, ликование польского народа, преобразования на бывших польских территориях), позднее - финская, связанная с советско-финской войной.
В 1940 и первой половине 1941 г. карикатуры па европейские темы вновь возвращаются на страницы «Крокодила» и других изданий. Их основные герои - Англия. Франция, польские эмигранты, финны. Время от времени достается Румынии
491
и Швеции. Большая часть карикатур посвящена международной тематике . ходу войны и тяготам военного быта в воюющих странах (Италия и Германия в этом ряду, конечно, отсутствуют).
Пройдет еще полгода, и начнется Великая Отечественная война. Германия, Италия и их сателлиты теперь предстанут перед читателем в «образе врага», в то время как Англия, а также Франция и Польша, пусть и оккупированные, будут рассматриваться в качестве сою зников"". Впрочем, годы второй мировой войны выходят за рамки данного очерка.
К сожалению, объем статьи также не позволяет' подробно проанализировать, как в советской карикатуре 20-30-х годов отражалась жизнь отдельных европейских стран. Остановимся лишь на том, какие из них привлекали наибольшее внимание, основываясь на материалах «Крокодила».
Первое место, безусловно, принадлежало Германии. Из общего числа примерно .600 политических карикатур более 550 (свыше 30%) так или иначе -затрагивают связанные с ней сюжеты.
Великобритания занимает почетное второе место (свыше 300 карикатур или чуть меньше 20%). На третьем месте Франция (более 250 карикатур, примерно 15%), на четвертом и пятом соответственно Япония и США, а затем вновь евро
пейские страны - Польша (170). Италия (130) и. с большим отрывом, Финляндия (около 30 карикатур).
* * *
Образы внешнего мира, и в первую очередь Европы, созданные советской карикатурой 20-30-х годов во многом определили внешнеполитические стереотипы значительной части советского общества тех лет.
В своих воспоминаниях старейший советский карикатурист Ь. Е. Гфимов, со знанием дела, утверждает: «Образная форма карикатуры понятнее, эмоциональнее и, главное, нагляднее любой литературной формы, так как сатирический рисунок конкретизирует явления и ситуации, приближает их к глазу читателя, переводит факты с языка логических понятий на язы к зрительных образов»'04.
С этим согласно и большинство исследовавс.тсй. Как отмечает А. В. Дмитриев, «из-за использования визуального канала воздействия или критически нацеленного на отдельную важную тему символа политическая карикатура становится действенным средством формирования общественного мнения. Ее апелляции к эмоциям вообще трудно противостоять, и ее воздействие довольно заметно до нашего времени {курсив мои A.I.]»
Можно сделать вывод, что внешнеполитические стереотипы, сформировавшиеся в том числе под воздействием политической карикатуры в советском обществе 1920-х, а особенно 1930-х годов отличались большой устойчивостью и в значительной степени сохраняли свое воздействие до конца 1980-х годов, да и сейчас время от времени проявляют себя в общественном сознании' .
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Крокодил. 1932. № 29-30. С 7.2 О том, как формировалось отношение России к внешнему миру в целом и Европе в частности на протяжении ее истории до начала XX века, см.: Борисов Ю. С, Голубев А В., ('ахаров А Н. История. Россия и Запад / / Образ России. Русская культура в мировом контексте М„
492
1998. С. 21—37; Россия и Запал. Формирование внешнеполитических стереотипов в сознании российского общества первой половины XX века l.ewiston, 1999. С. 12-40, Россия и Европа в Х1Х-ХХ вв. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур, М., 1996; Чугров С. В. Россия и Запад: метаморфозы восприятия. М, 1993; Щукин В. Размышления о русском евро-пеизме//Европа. Т. 1. № 1 (2001). С. 65-82; и др.1 Подробнее см.: Голубев А. В. Мифологизированное сознание и внешний мир / / Ьахгинскис чтения. Философские и методологические проблемы гуманитарного познания. Орел, 1994. С. 106-118.' «Информационная блокада явилась частью общей блокады сферы духовной жизни народа.. С начала 1930-х гг. можно говорить о полной информационной блокаде в СССР», - утверждает И В. Павлова См.: Павлова И. В. Становление советской системы информационной блокады / / Культура и жгтеллигенция сибирской провинции в XX веке, теория, история, практика. Новосибирск, 2000. С. 40,45.
Куманев В. А 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991. С. 165.6 Шишки» В. А. Россия в годы «великого перелома» в восприятии иностранною дипломата (1925-1931 гг.) СПб.. 1999 С. 101
Россия и Запад Формирование внешнеполитических стереотипов... С. 90.Помимо Коммунистического (Третьего) интернационала существовали также Коммунисти
ческий интернационал молодежи (КИМ), Красный интернационал профсоюзов (Профнн- терн). Международный крестьянский совет (Крестинтерн), Красный спортивный интерна* ционал (Сиортинтерн), Интернационал инвалидов. Интернационал пролетарских свободомыслящих и i и* Об инфраструктуре, предназначенной для развития культурных и общественных связей, см.: Голубев А. В. Советская культурная дипломатия 1920-1930-х годов / / Россия и мировая цивилизация М.. 2000. С. 339-354.
Подробнее см : Голубев А. В. Иютгллигенция Великобритании и «новая цивилизация» (из истории советской культурной дипломатии 1930-х ст.) / / Россия и внешний мир. Диалог культур М., 1997. С. 258-272.
Подробнее см.: Голубев А. В. «Мировая республика» или «закрытое общество»: СССР в 1920-30-с годы / / Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Выи 2. М., 2002 С .277-306.12 Голубев А. В. Советская Россия и Запад: динамика восприятия / / История в XXI веке: исто- рико-анфонологический подход в преподавании и изучении истории человечества. М., 2001 С. 118-125.13 Подробнее см.: Голубев А. В. Мифологизированное сознание как фактор российской модернизации / / Мировосприятие и самосознание русского общества (XIX-XX вв.) М., 1994. С.187-204; Он же. Тоталитаризм как феномен российской истории XX века / / Власть и общество в СССР, политика репрессий (20-40-с гг.) М., 1999. С. 7-33.
См., например: Орлов И. Б «Новая буржуазия» в сатире 1920-х гг. / / История России XIX- XX вв : Новые источники понимания. М., 2001. С. 230-236; Филиппова Т. А Аспиды и готтентоты, Немцы в русской сатирической журналистике / / Родина. 2002 № 10 С. 31-37; Шаттенберг С. Техника - политична. О новой советской культуре инженера в 30-е годы / / Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистическою образа жизни в России, 1920-30-е годы. СПб.. 2000. С. 193-217.
Швыров А. В., Трубачев С. С. Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней. СПб., 1903. С. 6.16 Орлов И. Б. Указ. соч. С. 231.” Ефимов Борис Ефимович (род. в 1900), российский iрафик, народный художник СССР (1967). действительный член Академии художеств СССР (1975), Герой Социалистического Труда (1990). Автор злободневных политических, в т.ч. антифашистских, карикатур. С 1922 г.
493
сотрудничай в гачстах «Правда», «Известия», журнале «Крокодил» Лауреат Сталинских и Государственной премий (1950, 1951, 1972). Макдональд Джеймс Рамсей (1866-1937), один из основателей и лидеров Лейбористской партии Великобритании. В 1924 и 1929-1931 гг. премьер-министр Великобритании. Правительство Маклональда в 1924 г. установило дипломатические отношения с СССР, а в 1929 г. восстановила их после разрыва 1927 г. В 1931 г. возглавил коалиционное (т.н. национальное) правительство (1931-193S). В качестве одной из знаковых фигур международной умеренной социал-демократии был любимым персонажем советских карикатуристов.
18 Цит. по: Дмитриев Л. В. Социология политического юмора: Очерки. М., 1998. С. 68-69 Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) - видный революционер, публицист, литературный критик. С октября 1917 по сентябрь 1929 г. являлся народным комиссаром просвещения РСФСР.
Варшавский И. Наша политическая карикатура. М., 1930 С. 9.2 Дмитриев А- В. Указ. соч. С. 69.21 Цит. по: Ефичов Б. Е. Десять десятилетий. О том, что видел, пережил, запомнил. М., 2000 С. 126-127 Полонский Вячеслав Павлович (1886-1932), литературный критик, публицист, историк, редактор ряда изданий («Красная нива», «Новый мир» и др.), ректор Литннститута, директор Музея шяшных искусств.2г Лицо врага Рисунки Б. Кфимояа. М.. 1931. С. 3.
Ефимов S. Сорок лет. Записки художника-сатирика. М., 1961. С. 88.
24 /варшавский Л Указ. соч. С. 8.25 Кон Феликс Яковлевич (1864—1941) - видный деятель польского и российского революционного движения, секретарь ЦК ВКН(б) Украины, один из организаторов Международной организации помощи борцам революции, в 1922-1923 IT , секретарь Исполкома Коминтерна, впоследствии заместитель председателя Ишернашюналыюй контрольной комиссии Комин- зерна. председатель Всесоюзного радиокомитета."6 Гнедин Евгений Александрович (1898-1983) в 1922-30 гг. работал в НК ИД (заведующий надотдепом торговой политики, старший референг по Германии), затем был заместителем заведующего иностранным отделом «Известий» R 1935-37 гг. - первый секретарь полпредства в Берлине. В июне 1937 - мае 1939 заведовал отделом печати НКИД. В мае 1939 был арестован, находился в заключении до 19S5, впоследствии был реабилитирован. В 1970-е годы получил известность как нублнцисг и правозащитник В 1932 г. он работаз в «Известиях» и предисловие было подписано фамилией, в 1938 г. он был уже заведующим отделом печати Наркомата иностранных дед и поэтому предисловие подписал псевдонимом.' Ефимов Ь \ Рыход будет найден. Политические карикатуры М.; Л., 1932. С. S.
Поджигатели войны Карикатуры Бор. Ефимова. М., 1938. С. 3.29 Крокодил. 1934. № 20-21. С. 19.0 Полный перечень сатирических изданий см.: Стыкалин С, Кремеиская И. Указ. соч. С.
С 2002 г. тиражом 35 тыс. издается журнал «Новый Крокодил», формазом и некоторыми рубриками напоминающий знаменитого предшественника." Имелись в виду «Бегемот», «Бич», «Бузотер», «Крокодил», «Лапоть», «Пушка». «Смехач». "' Цит. по: «Счасгье литературы». Государство и писатели. 1925-1938 гг. Документы. М., 1997. С. 59; Стыкадик С, Кремеиская И. Советская сатирическая печать. 1917-1963 М.. 1963. С 23.54 Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)--ВКП(б). ВЧК-ОГПУ- НКВД о культурной политике. 1917-1953 гг. М., 2002. С. 131.3' «Счастье литературы».., С. 56,58. s См. Стыка-пин С, Кремеиская И. Указ. соч. С. 203-209 '7 Ефимов Б. Мне хочется рассказать. М., 1970. С. 198.
494
38 Ефимов В. Политическая карикатура. 1924-1935. М., 1935. С. 5.3 См.: Ильф И., Петров Е Двенадцать стульев. 11ервый полный вариант романа. М., 1997. С. 254.40 Костин В. И. Михаил Михайлович Чсрсмных. М., 1957. С. 14.• ” Андреевский Г В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (20-30-е годы). М.,
2003. С. 410.42 Крокодил. 1926. № 2. С. 3. Малютин Иван Андреевич (1891-1932) - художник- карикатурист, один из основателей «Окон РОСТА» и «Крокодила».
Крокодил. № 43. С. 1. Ганф Юлий Абрамович (1898-1973)- график, народный художник России (1964). Работал в газете «Правда», журнале «Крокодил»,44 Подсчитано автором по: Крокодил. 1922-1939. Всего за эта годы вышло около 700 номеров журнала, в которых было опубликовано почти 1600 карикатур на международную тема- гику.
Крокодил. 1923. № 3. С. 536 (13 1923 году, начиная со второго номера, журнал перешел на сплошную нумерацию страниц, отсчитывая их с первого номера за 1922 г. В 1924 г, была восстановлена прежняя нумерация).46 Подробнее об этом см.: Голубев А. В. Запад глазами советского руководства в 1930-е годы //РоссияХХ1. (997 №11-12. С 114-13247 Крокодил 1922. № 3. С. 8-9.” Там же. № 8. С. 5. Моор (Орлов) Дмитрий Стахиевич (1883-1946) - российский график, заслуженный деятель искусств России (1932). Мастер политического плаката 49 Крокодил 1924. X» 24. С. 8-9. Юз (Хьюз) Чарльз Эванс (1862-1948) - в 1921-1925 гг. государственный секретарь США. Председатель Вашинггонской конференции (1921-1922), один из инициаторов «плана Дауэса». В 1930-1941 гг. председатель Верховного суда США; Болдуин Стэнли (1867-1947) премьер-министр Великобритании в 1923-1924, 1924-1929, 1935-1937 гг. Правительство Болдуина разорвало дипломатические отношения с СССР (1927); Керзон Джордж (1859-1925) - министр иностранных дел Великобритании в 19191924 IT., консерватор. В 1923 г. направил Советскому правительству жесткую по тону и содер
жанию ноту, известную как «ультиматум Керзона»; Пуанкаре Раймон (1860-1934) - президент Франции в 1913-1920 гг., премьер-министр в 1912-1913, 1922-1924, 1926-1929 гг.; Муссолини Бснито (1883-1945) - глава фашистской партии и фашистскою правительства Италии в 1922-1943 гг., одновременно занимал посты министра внутренних дел, министра иностранных дел, военного и военно-морского министров и др.; Эберт Фридрих (1871-1925) - президент Германии в 1919-1925 гг., лидер Социал-демократической партии.
В своих воспоминаниях, в частности, Б. Ефимов воспроизводит в качестве иллюстрации вариант, появившийся в английской газете. См.: Ефимов В. Сорок лет. Записки художника- сатирика М., 1961. С. 89.51 Крокодил. 1929. № 28. С. 8. Рогов Константин Петрович (1902-1959) - советский карикатурист, много лет сотрудничал в «Крокодиле»52 См.: Документы внешней политики СССР. Т. XIV. М„ 1968. С 327-330, 361-364 и др. -'Крокодил. 1931. № 20. С. 4.
Подробнее см.: Готова О. В. Социалистические города (новая социальная утопия советской эпохи) / / История России: на перекрестке мнений. Волгоград, 2001. С 91-101; Рожков А. Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в советской России 1920-х годов. Т. 2. Краснодар, 2002.55 Красный дьявол. 1922. № 12 С. 1; Крокодил. 1923. № 1. С.12. и Крокодил. 1932. № 31. С. 4.” Гам же. 1922. № 2. С. 12; Ла 4. С. 7. Чсрсмных Михаил Михайлович (1890-1962) график и карикатурист. Народный художник РСФСР (1952), действительный член Академии художеств (1958), лауреат Сталинской премии (1942).
495
5,11 Крокодил. 1923. № 2. С. 523.54 Там же. 1425. Л» 27 С. 9. Чемберлсн Остин (1863-1937), видный британский консерватор С 1903 ПО 1931 гг занимал различные министерские посты, в том числе министра иностранных дел в 1924-1929 гг. С его деятельностью на этом посту связано заключение в рамках Локарнских договоров Рейнского «гарантийного пакта», призванного обеспечить стабильность западных границ Германии (1925), за что Чемберлен был удостоен Нобелевской премии мира.00 Крокодил. 1925. № 38. С. 1261 Там же. 1925. № 10. С. 5; 1928. № 46. С. 4.62 Там же. 1923. № 17. С. 755; 1925. № 4. С. 8-9; 16. Эррио Эдуар (1872-1957) - французский политик, лидер партии радикалов. С 1905 по 1947 гг. (с перерывами) мэр Лиона. С 1916 г. неоднократно входил в правительство, в 1924-1925, 1926, 1932 гг. занимал пост премьер- министра. Его правительство установило дипломатические отношения (1924) и подписало пакт о ненападении (1932) с СССР. В 1947-1954 гг. председатель национального собрания.83 Крокодил. 1931. № 5. С. 13. Ьриан Аристид (1862-1932) - французский политический деятель, неоднократно занимал пост министра иностранных дел (1915-1917, 1921-1922, 1925-1932) и премьер-министра (1909-1911, 1913, 1915-1917, 1921-1922. 1927-1929). Автор
знаменитого проекта создания «Пан-Гвропы», который предусматривал укрепление «федеральных связей» между европейскими странами. Проект Ьриана был рассчитан в первую очередь на решение экономических проблем в условиях мирового кризиса, однако в Советской России его в первую очередь воспринимали как попытку Запада заключить союз, направленный против СССР.64 Крокодил. 1922. № 12. С. 8. Ллойд Джордж Дэвид (1863-1945), один из крупнейших лидеров Либеральной партии, премьер-министр Великобритании в 1916-1922 гг. Один из главных участников Парижской мирной конференции и Генуэзской конференции. Возглавляемое им коалиционное правительство пало в результате ipebo-турецкой войны. R 1926-1931 гг. - лидер либеральной партии, с 1945 г, член палаты лордов.45 Крокодил 1925. № 38. С. 9; 1929. № 19. С. 1; 1939. № 9. С. 1.66 Там же. 1931. № 22, С. 1.67 См.: Крокодил. 1924. № 16. С. 2.; 1926. № 6. С. 1; № 9. С. 1; № 13. С. 9; 1927. № 6. С. 9; 1929. № 40. С. 7; 1931. № 20. С. 4; №22. С. 1; 1933. № 2. С. 7.68 Там же. 1923. № 2. С. 522.69 Там же. 1931. № 1. С. 3.70 Там же. 1932. № 33. С. 1.71 Там же. 1933. № 1С. 6-772 См.; Ходнев А. С. «Великая войнз» в зарубежной историографии: концепция тотальной войны / / Преподавание истории в школе. 2000 № 10 С. 16-20; Сыч А. И. О некоторых социально-психологических последствиях первой мировой войны / / Вопросы истории. 2001 №11-12. С. 109-113.
Подробнее СМ.: Голубев А В. «Призраки войны» и реальность / / Знание -сила. 2001. № 7. С.12-22; Ливший А Я, Орлов И. Б. Власть и общество, диалог в письмах М., 2002. С. 175-189,
Симонов Н. С. «Кренить оборону страны Советов». «Военная тревога» 1927 года и ее последствия //Отечественная история. 1996 № 3. С. 155-161.74 Российский государственный архив социально-политической истории (РГЛСПИ). Ф. 17. Оп 87. Д. 187. Л. 71.
«Пакт Ьриана-Келлога» или договор о воспрещении войны в качестве орудия национальной политики был подписан в Париже 27 августа 1928 г. предетавжелями Германии. Бельгии. США, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Польши. Чехословакии От имени СССР пакт подписал временно исполняющий обязанности наркома по иностранным делам М М. Литвинов 6 сентября 1928 т
496
W Крокодил. 1928 № 32. С. 5; 1929. № 7. С. 1." Документы внешней политики СССР. Т. XI. 1., 1966. № 463,464; Т. XII. М, 1967. С. 105.
См., например, карикатуры IO. Ганфа «В норе за самоварчиком» и «Иван Иваныч почитывает». Крокодил. 1927. № 19. С. 1; 1929. № 32. С. 10.79 Крокодил. 1927. № 33. С. 1. Мигель Примо де Ривера, маркиз дс Эстелья (1870-1930) - генерал, в 1923-1930 гг. - глава правительства и фактически диктатор Испании.80 Крокодил. 1929. К« 28. С. 4-5. Пий XI (Акилле Ратта, 1857-1939) - папа римский с 1922 г.; М. Хорти (1868-1957) - контр-адмирал, регент и фактический правитель Всжрии в 19201944; А. Ми.тьсран (1859-1943)- французский политический деятель, адвокат, публицист. С
января по сентябрь 1920 г председатель Совета министров и министр иностранных дел Франции. В сентябре 1920 - июне 1924 г, президент Франции, Л. Цанков (1879-1959) - организатор государственного переворота 1923 г в Болгарии, в 1923-26 гг. премьер-министр "'Крокодил 1929. № 1С. 1282 См.: Там же. 1922. № 8. С. 7; 1923. № 21. С. 802; 1931. №13 С. 14;идр 85 Там же. 1923. № 6. С 577; 1924. № 28-29. С. 13." Там же. 1931. № 23-24. С. 2.85 См.: Там же. 1925. № 48. С. 2; 1926. № 1С. I; 1928. № 1. С. 5; 1930. № 9. С. 7; 1932. № 19. С. 2; 1935. № 28-29. С. 9; и др,80 Там же. 1940. № 4. С. 9.87 Там же. 1935. № 7-8. С. 5; № 9. С. 1; № 28-29. С. 21; 1936. № 5. С. 6.88 Там же. 1933. № 30. С. 3.
Борис Вфимов в «Известиях». Карикатуры за полвека М., 1969. С. 80.90 Крокодил. 1934. № 5. С. 5.
Поджигатели войны... С. 67.92 Крокодил. 1937. № 26. С. 1, Поджигатели войны... С. 5,15.93 Фашистские интервенты в Испании. Карикатуры Бор. Ефимова. М , 1937.94 Крокодил. 1937. № 23 С. 4; 1938. № 12. С. 11; Фашистские интервенты в Испании... С. 2995 Крокодил. 1936. № 34. С. 13, 15; 1938. № 31. С. 4. На одном из рисунков Геббельс в образе Микки Мауса старательно дирижировал антисоветским хором. См : Поджигатели войны. С. 99.96 Крокодил. 1937. № 1С. 7.
Поджигатели войны. . С. 61.98 Крокодил. 1936. № 35. С. 5; Поджигатели войны. . С. 48, 5599 Крокодил. 1937. № 29-30. С. 10-11.100 Там же. 1939. № 12. С. 8-9.
Подробнее см : Иевежин В. А. Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии «священных боев», 1939-1941 гг. М.. 1997.°' В частности, этим сюжетам был полностью посвящен восьмой номер «Крокодила» за 1940
г. под общим названием «Сегодня «Крокодил» принимает иностранных гостей».Подробнее см.: Голубев А. В «Царь Китаю не верит...» Союзники в представлении россий
ского общества 1914-1945 гг. / / Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприя- тия. Вып. I. М.,2000. С. 317-355.104 Ефимов Ь. Сорок лет. С. 90.,os Дмитриев А В. Указ. соч. С. 74.
Подробнее см.: Россия и Запал. Формирование внешнеполитических стереотипов... С. 6995; Яковеико И Г. Динамика образа Запала в отечественной культуре 1990-х годов / / Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 2. М., 2002. С. 387-399.
497



































![Дэвид Истон. Новая революция в политической науке [1969, перевод]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/634129521794ae79840d1c2d/devid-iston-novaya-revolyutsiya-v-politicheskoy.jpg)


![Тайны советской демографии [The Secrets of Soviet Demography]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633ca7f270f9415ce7029283/tayni-sovetskoy-demografii-the-secrets-of-soviet-demography.jpg)