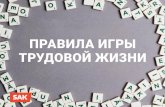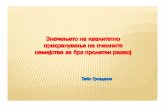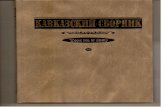Кривенко А. Молдова: страна массовой трудовой эмиграции в монографии «Открывая миграционные процессы
НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТВЕТ РОССИЙСКИХ...
Transcript of НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТВЕТ РОССИЙСКИХ...
НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОТВЕТ РОССИЙСКИХ РАБОЧИХ НА
«НЕНАДЕЖНОСТЬ» ОФИЦИАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
Джереми Моррис, Бирмингемский университет, Соединенное Королевство
Краткое содержание
Статья посвящена изучению обнищания трудящихся (бедности работающих
представителей рабочего класса), «сомнительного» (precarious – англ.) характера
официальной работы, а также неформальной трудовой деятельности в России. В статье
приведены этнографические данные о мобильности (перетекании) рабочей силы между
официальными и неофициальными местами работы в России. При этом «нормативная»
работа по найму в промышленности рассматривается как «сомнительная» и
«ненадежная» из-за присущих ей рисков (Standing 2011) . Признаками такой ненадежности
являются низкие зарплаты, невозможность для рабочих самостоятельно контролировать
свой труд, но в наибольшей степени – предъявляемые к рабочим требования стать
«гибкими и саморегулирующимися» субъектами трудового процесса в условиях
реформируемой неолиберальной России. При обсуждение этих требований,
предъявляемых к рабочим, информанты сравнивали современные условия труда с более
привычными и удобными для них условиями труда при социализме (Burowoy 1992). В
статье также рассматриваются способы противостояния и выхода из новой структуры
официального найма. Эти способы связаны с устоявшимися представлениями «синих
воротничков» о своей идентичности, а также определяются доступом к социальной
сети, поддерживающей контакты между рабочими.
Ключевые слова: саморегулирование (governmentality – англ.), неформальная экономика,
«сомнительность» (precarity – англ.), Россия, цеховая культура.
Съехав с шоссе в Излучино, небольшой городок («поселок городского типа») в трех
часах езды от Москвы, вы попадаете в индустриальную зону, где наиболее явными
признаками трудовой деятельности является не производство цемента или линолеума на
уцелевших пост-советских предприятиях, а неформальная экономическая активность,
которая, по некоторым сведениям, дает почти половину ВВП России (Andrew et al 2011).
Это – скопление таксистов на личных автомобилях и фургончиков независимых (и
незарегистрированных) строительных рабочих, снующих взад-вперед между
размножившимися, как грибы, частными стройками, а также лотки потрепанных
торговцев, продающих сезонную с/х продукцию на обочинах дороги. В Излучино имеется
пять таксомоторных фирм; в часы пик около двадцати такси припарковано на пыльной
ухабистой «главной площади» городка. Все водители – мужчины разного возраста, в той
или иной степени отказавшиеся от официальной работы. Шансы заработать больше
одного доллара в час (в рублевом эквиваленте) невелики, потому что большинство
местных жителей предпочитают ездить в областную столицу на рейсовом автобусе,
курсирующем каждый час. В любом случае водитель такси должен отдать значительную
часть своего заработка диспетчерам, распределяющим работу. Кроме того, таксисты
должны за свой счет покупать рации и знаки, обозначающие «такси», устанавливаемые
на крыше автомобиля. Почему же люди отказываются от, может быть, плохо
оплачиваемой, но постоянной работы на производстве ради подобной нестабильной и
«сомнительной» (precarious – англ.) трудовой деятельности?
Саша, опытный оператор автопогрузчика, часто меняет официальную работу на
производстве на самостоятельную работу в качестве таксиста. К 2010 году ему осточертел
цементный завод, на котором он проработал последние восемнадцать месяцев:
«Я вернулся в такси. Сказал своему начальнику: «Идите вы куда подальше со своей
работой!». Я был одним из лучших рабочих в смене, но они никогда не оставляли меня в
покое. Похоже, что они просто не могут видеть тебя без дела, даже если ты штабелируешь
свои грузы в два раза быстрее, чем остальные рабочие в бригаде.»
Как Саша объяснял потом, несмотря на то, что он свою часть «договора» выполнял, т.е.
работал умело и быстро, не нуждаясь в надзоре, менеджеры завода не были довольны и
давали ему дополнительную работу после выполнения основного задания. У Саши
сохранилось понимание трудовой морали и дисциплины с социалистической эпохи, и он
не хотел становиться рефлексивным работником. Поэтому он был все более склонен к
переходу на неофициальную работу.
Другие причины, почему постоянная официальная работа утратила для Саши свою
привлекательность, обусловлены неопределенностью преимуществ, даваемых такой
работой. Иногда Сашу лишали выходных из-за перемены смен; время от времени рабочих
отправляли в вынужденный отпуск в периоды простоя завода. Саша не хотел подчиняться
промежуточным начальникам, основной задачей которых (по мнению рабочих) было
шпионить за рабочими и «стучать» на них. И, наконец, «вопиюще низкой зарплаты»
(Morrison 2008: 149) хватало на только еду и оплату коммунальных услуг, но она не давала
возможности делать сбережения и строить долговременные планы на улучшение
жилищных условий и увеличение семейства. Соотношение этих факторов риска на
официальной работе могло меняться, но основными причинами недовольства у Саши
оставались следующие: низкая зарплата и отсутствие социальных гарантий (т.е. выгод и
преимуществ, которые были обеспечены рабочим в социалистическую эпоху). Важным
отрицательным фактором был также усиленный персональный контроль за рабочими,
связанный с утратой цеховой автономии. Очень важным обстоятельством было также
наличие социальной сети (т.е. большого числа знакомств и связей), возникшей
вследствие дефицитного характера советской экономики и играющей огромную роль в
поиске неофициальной работы в пост-советскую эпоху. Хотя рабочие не в состоянии
организованно противостоять плохим условиям труда в цехах, они все же имеют
возможность использовать свои обширные связи для временного или окончательного
ухода в неформальную экономику.
Изменение формы контроля над рабочими на производстве в условиях неолиберализма
вызывает недовольство рабочих. Хотя это наблюдение нельзя распространить на всех
«синих воротничков», полученные автором этнографические данные показывают, что
неприятие чрезмерного надзора на рабочих местах и принципа «управляемости»
рабочих (govermentality - англ.) и связанной с ними «утраты рабочего достоинства»
играют не менее важную роль при оценке «сомнительности» (precarity) работы, чем
неадекватное вознаграждение за труд. Все это говорит о различной интерпретации
понятия «ненадежности и сомнительности» работы в наше время. Clarke (2007)
утверждает, что подчинение производственного процесса принципу выгоды привело к
кардинальному изменению роли менеджеров низшего звена – они перестали быть
представителями рабочих коллективов (традиционная роль при советском режиме), а
превратились в агентов высшего менеджмента. Как показывает данное исследование,
этот процесс происходит даже в экономически отсталых местах.
Исследования, посвященные ненадежной или «сомнительной» (precarious) работе
в индустриальных странах часто описывают нестандартные или временные случаи
трудовой занятости и трудовых контрактов. Понятие «ненадежной « работы определяется
по-разному, но всегда по контрасту с нормативной концепцией стабильной работы у
одного работодателя. Эта модель подразумевает, что рабочий, имеющий «надежную»
работу по стандартной схеме, может рассчитывать на все даваемые такой работой выгоды
и преимущества., а также на гарантированную и долговременную занятость (Kalleberg,
2009, Standing 1999, Vasko et al. 2003). Не ставя своей целью переосмысление термина
«ненадежности» (precarity) работы, автор данного исследования показывает, что
индустриальные рабочие вроде Саши могут считать официальную постоянную работу
такой же «ненадежной», как и неофициальную работу. В пост-социалистической Европе
позднейшие исследования были сконцентрированы на бедности работающих людей
(обнищании трудящихся) – (in-work poverty – англ.) , которая приводит к необходимости
найма на несколько должностей одновременно (portfolio – англ.) в формальной и
неформальной сфере (Stenning et al. 2010:90-101); см. также (Williams and Round 2007).
Настоящее исследование расширяет этот анализ «ненадежной» трудовой занятости среди
бедных представителей рабочего класса, рассматривая другие аспекты «ненадежности»,
помимо нестабильности дохода – хотя, безусловно, рост реальных доходов россиян в
последние двадцать лет отстает от темпа инфляции. В исследовании рассматривается
также «сомнительность» самой выполняемой работы (job) в отличие от ненадежности
найма (employment) (Standing 2011). Отсутствие контроля над трудовыми процессами и
излишне индивидуализированный подход к труду – это основные факторы, делающие
работу «сомнительной» даже в восприятии рабочих с постоянной занятостью. Таким
образом, документально подтвержденное отсутствие какой-либо организованной ответной
реакции рабочего класса на пауперизацию рабочих (Crowley 2001) и утрата
социальной ответственности предприятий, существовавшей при социализме, объясняют
явление окончательного или временного ухода рабочих из официальной производственной
сферы. Предшествовавшие исследования обнаруживали противоположную тенденцию:
рабочие считали низкооплачиваемую работу в официальной сфере более надежной из-за
чрезмерной авторитарности работодателей в неофициальной сфере (Yaroshenko et al 2006).
Данное исследование показывает динамичный характер изменений в российской
экономике, особенно в западной части России, где близость к Москве означает
постоянный спрос на рабочую силу. Как и в большинстве антропологических
исследований, этнографический аспект сам по себе придает исследованию аналитический
характер. Таким образом, из материалов полевых работ естественно возникает вопрос:
«Почему рядовые рабочие часто уходят из официальной (формальной) сферы экономики?»
(Glaser and Strauss 1967).
Реакцию рабочих на «ненадежность» их работы также можно рассматривать с
точки зрения морального аспекта (Burawoy 1992:102) внутрицеховых отношений в
промышленности, основанных на первичной роли труда. Такое отношение к труду,
сохранившееся у рабочих с социалистических времен, является основанием для их
оценки современной ситуации (Straugh 2007). Burawoy убедительно доказал, что
внутрицеховой производственный процесс при социализме требовал значительной
автономии труда рабочих ; из-за дефицита и других факторов рабочие были способны на
самоорганизацию (там же, 108), они активно участвовали в решении производственных
проблем. Самоуважение, рабочая гордость, социальная значимость труда в жизни людей
(Alasheev, 1995) и признание себя агентами, т.е. основными участниками производства –
были важными положительными психологическими и социальными факторами при
социализме. Разочарование и поиск альтернативы работе «за зарплату» возникают в том
случае, когда производственные процессы, требовавшие адаптивности и сотрудничества
рабочих (там же: 100-1), сменились императивными технологическими и
управленческими схемами, требующими более жесткого контроля над рабочими и,
одновременно, большей самодисциплины рабочих. Позднейшие социологические
подходы к производственным процессам, основанные на фукальдианской теории
управляемости (governmentality – англ.) (Miller and Rose 1990, Larner 2000),
предполагают такую степень самостоятельности рабочих, как саморегулирующихся
субъектов трудового процесса, которая делала бы рабочих еще более
приспособленными (flexible – англ.) к требованиям пост- фордистской эпохи (Atkinson
2010). Однако, этнографические материалы показывают, что социально устоявшаяся
модель трудовых отношений может находиться в противоречии с господствующими
теориями по поводу гибкого подчинения рабочего в официальной сфере занятости. В то
же время получает право на существование концепция «предприимчивости» (
entrepreneurialism – англ.) рабочих в противовес ненадежности работы по официальному
найму. Эта концепция скорее основана на социальной общности и солидарности рабочих,
чем на их «индивидуализации» ( Beck and Beck-Gernsheim 2002, Atkinson 2010:414).
Например, понятие «стыда» при уходе рабочего с официальной работы, неэффективно с
точки зрения управления (Bjerg and Staunaes 2011), поскольку информанты имеют доступ
к социальной среде, в которой бытует критическое мнение о работе в официальной
промышленной сфере.
Целью данного исследования является освещение социальных, исторических и
географических особенностей «ненадежности» работы и реакции на нее. В нашем
исследовании в центре внимания находится ненадежность самого характера работы для
работающих, помимо ненадежности найма и доходов, в то время как аналогичные
исследования в развитых странах сконцентрированы на ненадежности случайной или
частичной занятости (см. Rodgers 1989: 2-4, Standing 1999 b 2009, Thornley et al 2010,
Vosko 2006). Полезно сравнить наш подход с другими исследованиями на рабочих местах
по изучению «предприимчивости» людей с небольшим социо-экономическим капиталом,
например, с исследованиями Macdonald , изучавшего неформальную занятость
получателей социальных пособий на севере Англии (1994). Как и англичане, российские
информанты успешно пользовались ресурсами, связанными с их классовой
принадлежностью, и, исходя из опыта своей прежней работы, представляли себя умелыми
работниками (там же), но в основном они пользовались своими связями в замкнутой
социальной среде (Smith 2010) или своими горизонтальными связями (Burawoy 2001:
1113; Dunn 2004). Неудивительно, что все вышеупомянутое демонстрирует как силу, так и
слабость противостояния «синих воротничков» «ненадежности» работы, и те ресурсы,
которые предоставляют наемным рабочим возможность альтернативной работы, не
отменяют классовой ограниченности этих альтернатив. Концентрируя внимание на
цеховой культуре, а именно, на системе норм, связей и взаимной поддержки, автор
вступает в диалог с последними исследованиями, касающимися рабочих мест и положения
рабочего класса в социалистический и пост-социалистический период ( в частности,
исследованиями Burawoy 1992). Именно Burawoy недавно настаивал на необходимости
рассмотрения «живого опыта» альтернативных капиталистических систем, в то время как
многие исследователи таких систем «не интересовались положением подчиненных
классов, которые в смущении, и порой в вынужденном молчании, наблюдают изменения в
обществе, увлекающие их за собой» (2001: 1107)
Таким образом, вслед за исследованиями, посвященными отдельным цеховым культурам и
отношениям между рабочими и предприятиями при социализме (Burawoy 1992) и
пост-социализме (Ashwin 1999, Dunn 2004, Morrison 2003), автор данной статьи
использовал свои данные полевого изучения российских «синих воротничков», чтобы
показать, как вопреки своему ненадежному положению, обедневшие рабочие используют
свою индивидуальную идентичность, опыт работы и ресурсы памяти для противостояния
«ненадежности» официальной работы. Конечно, нельзя утверждать, что наши
информанты, работающие на цементном и линолеумном заводах, а также на печах для
обжига извести в провинциальном российской городке, представляют «все солидарное
рабочее сообщество» (Standing 2011). Напротив, рабочие официальных предприятий, ,
за некоторыми исключениями (см. Ilyin 2006), разобщены в России, где гражданское
общество очень слабо. Однако, рабочие, которые ищут пути окончательного или
временного спаcения от «сомнительных» (precarious) труда, образуют большинство
местных и классово укорененных солидарных сообществ. Это противоречит утверждению
Standing, который утверждал, чтотакие ценности, как «братство и взаимная поддержка»,
присущи именно профессиональным сообществам, и обычно отсутствуют у рабочих,
занятых на «ненадежных» работах. Автор данной статьи признает полезность
дифференциации показателей «ненадежности» по Standing, но стремится расширить
существующие у других исследователей представления о «ненадежности» работы как о
росте объема временной и случайной работы в высокоразвитых странах (на Глобальном
Севере), так как согласно этим представлениям традиционный рабочий класс «синих
воротничков» рассматривается как нечто малозначащее для процессов глобализации и
неолиберализма, которые в основном и являются причинами «ненадежность» трудовой
занятости (там же).
Этнографические методы и социальная география «градообразующего предприятия»
Материалы исследования были получены в Калужской области европейской части
России за три рабочих периода, составляющие в совокупности шесть месяцев
этнографических полевых работ, в промежутке между ноябрем 2009 года и декабрем 2010
года. Основными методами были наблюдение со стороны и внутреннее наблюдение, а
также частично структурированные интервью.
Основными информантами в этом этнографическом исследовании были примерно
двадцать рабочих, сменивших официальную работу на неофициальную. Все они были
заняты физическим трудом в цехах различных предприятий: упаковкой и переработкой
мяса, сваркой различных деталей для строительных целей, производством
промышленных фильтров, сборкой окон из ПВХ и других изделий для домашнего
пользования, ремонтом трубопроводов для горячего водоснабжения (как для домашнего,
так и поселкового использования), изготовлением цемента и ремонтом строительных
машин. Проживая дома у троих рабочих, автор имел возможность наблюдать их
социальную среду, включавшую семью, друзей и знакомых, на которых люди могли
рассчитывать в поиске работы в формальной и неформальной экономике. Кроме того,
автор посетил места работы большинства информантов, и в некоторых случаях имел
возможность наблюдать работу в цехах. Автор также провел несколько интервью с
местными бизнесменами, некоторые из которых были работодателями основных
информантов.
С помощью двадцати основных информантов и участников опросов были выбраны
четыре типичных варианта рабочих биографий, на примере которых можно видеть
существующие сложности и формы перехода от официальной к неофициальной трудовой
деятельности в месте проведения полевых работ. В качестве этнографического, данное
исследование скорее имело целью интерпретацию, а не репрезентативность и
обобщение, тем не менее, основные пути, выбираемые российскими рабочими после 1991
года, вполне очевидны, что дает возможность более широкого толкования полученных
данных.
Во всех четырех изученных случаях действующими лицами были мужчины, поэтому
результаты исследования, в основном, касаются мужчин. Женщины-информанты также
играли важную роль для описания домашнего уклада рабочих, а в тех случаях, когда
была возможность проинтервьюировать женщин в отдельности, они позволяли дополнить
сведения о работе мужчин. Сравнение мужской и женской точки зрения на роль и
характер субординации на работе выходит за рамки данной статьи. Однако, надо отметить,
что женщины, принимавшие участие в исследовании, были более способны и склонны
приспособиться к новым , требующим большей гибкости (рефлективности), условиям
работы. На основании опыта, полученного автором, он может согласиться с
существующими исследованиями, в которых говорится о различной реакции мужчин и
женщин на изменение экономических условий (см. Ashwin 2006). Трое из четырех
основных информантов женаты и имеют детей. Принимая во внимание, что по российской
традиции основным добытчиком в семье является мужчина, отказ от «стабильной» работы
связан с немалыми рисками. Исследование показало, что женатые мужчины могут не
подвергаться осуждению за то, что избирают путь ухода с официальной работы.
Территорией полевых работ является район, включающий два небольших городка
(поселка городского типа) - с населением 15 000 и 20 000 человек - на расстоянии
около тридцати километров от областного центра. В советское время в обоих этих
населенных пунктах доминировали единственные предприятия-работодатели
(градостроительные предприятия). Меньший из двух городков, Излучено, в котором
проводилось настоящее исследование , был так называемым «рабочим поселком»
(company town – англ.) , построенным в послевоенный период вокруг местных
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий. Термин «рабочий поселок»
означает по-русски, что фактически в этом населенном пункте существовало одно
экстенсивное градообразующее предприятие, которое осуществляло строительство жилья
и формировало всю инфраструктуру городской и промышленной зон. Предприятие
предоставляло большинство относительно хорошо оплачиваемых рабочих мест для
«синих воротничков», а также отвечало за работу столовых, транспорта и развлекательных
учреждений для рабочих ( в основном,мужчин) и их семей. Как и большинство подобных
поселений, Излучино притягивало к себе рабочую силу из соседних районов отчасти из-за
того, что работа по найму на градообразующем предприятии гарантировала быстрое
получение жилья (в 1980х годах некоторые рабочие получали постоянное жилье в
5-этажных домах в течение шести месяцев с начала работы). В 1990х годах большинство
этих квартир стало собственностью жильцов, что в значительной степени
препятствовало перемещению рабочей силы в другие места, несмотря на экономический
упадок, наступивший в этом районе. В тоже время собственное жилье давало людям
чувство безопасности и обеспечивало их «выживание» в периоды безработицы.
«Поселок городского типа» при градообразующем предприятии – это один из немногих
видов городских поселений в СССР (Lehmann and Ruble 1997). Такие поселки в
основном населены рабочими, как раньше, так и теперь. Несмотря на то, что в середине
1990-х годов Излученский машиностроительный завод, производивший машины для
перемещения грунта для оборонной промышленности, распался на несколько меньших
частных компаний, что привело к потере свыше 50% рабочих мест, существовавших для
«синих воротничков» при советской власти, до сих пор в городке имеется несколько
заводов и предприятий цехового типа (свыше 1000 рабочих), а также несколько
специализированных цехов, в которых заняты от 10 до 100 рабочих. Тот факт, что в
Излучино существовала горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, а
также другие производства, означал, что, по советским стандартам, в поселке имелись
разные виды занятости, что несколько сдерживало процесс деградации после 1991 года.
Кроме того, разнообразие индустриальных видов работы в городке можно рассматривать
как наследие «высокой степени автаркии на заводском уровне» (Gentile and Sjoberg 2006:
714) у советских предприятий. Поскольку «градостроительное производство» являлось
географически и административно изолированной производственной единицей,
работавшей в условиях дефицитной экономики, в нем была создана значительная сеть
вспомогательных микро-производств (например, авторемонтных мастерских), служивших
для поддержания основной деятельности. Это явление, названное подходом «делай сам»
или по-английски «do-it-yourself» (Winiecki 1989, Gentile and Sjoberg 2006: 714),
обусловило наличие множества «периферических» рабочих мест. Поскольку основное
производство больше не привлекает рабочую силу из окрестностей городка и с трудом
удерживает своих квалифицированных рабочих ввиду низких зарплат, в индустриальной
зоне появилось множество независимых малых предприятий «автаркийного» типа,
отделившихся от основного предприятия. Cуществование такой «тыловой» зоны, а также
относительно плотная общественная и социальная география городка в значительной
степени объясняют наличие готовой социальной сети (т.е. системы связей), помогающей
информантам расстаться с работой в официальной сфере. Вопреки исчезновению
единственного промышленного работодателя, повсеместно продолжается трудовая
деятельность «синих воротничков», сопровождаемая созданием системы личных связей,
зависящей от социального положения и профессии рабочих. Большинство рабочих
зарабатывает только примерно $500 в месяц, и даже высококвалифицированные
профессионалы получают около $1000 в месяц, в то время как затраты на еду, транспорт и
коммунальные услуги сопоставимы с аналогичными затратами в западной Европе.
Многие люди регулярно тратят свыше половины своего заработка на еду. Снижение
покупательной способности рабочих хорошо освещено в литературе, посвященной
экономическим отношениям в промышленности России (Morrison 2008: 143). Обнищание
трудящихся характерно для всего пост-социалистического пространства. (Stenning et al
2010). Уровень доходов на неофициальной работе весьма различен. Некоторые виды работ,
например, вождение такси, дают независимость, но приносят намного меньше денег, чем
официальная работа (примерно 60% заработка на производстве). Другие виды работ, такие
как работа в качестве опытного слесаря или электрика по совместительству, могут
приносить даже двойной доход по сравнению с ежемесячной зарплатой, но вероятность
получить заказ на такую работу зависит от везения и связей рабочего. Некоторые более
молодые рабочие ездят на работу в Москву, затрачивая по три часа на дорогу, или снимают
в Москве жилье. В официальной сфере экономики для мужчин имеется мало других
вакансий, а сервис и торговля по-прежнему считаются «женской работой». В
сельскохозяйственном секторе работы мало, и она плохо оплачивается. В местной
«неформальной» экономике есть возможность заниматься физическим трудом на малых
производствах ( там, где и владельцы производства, и рабочие уклоняются от уплаты
налогов), в частном строительстве и связанных с ним областях (например, на слесарных
работах), а также водить такси и выполнять другую «неквалифицированную» работу,
упомянутую в начале данной статьи.
Интерпретация «сомнительности» официальной работы:
индивидуальные истории
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С ОФИЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА НЕОФИЦИАЛЬНУЮ: ЧЕТЫРЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Материалы исследования , полученные из нескольких индивидуальных историй,
подобных истории Саши, показывают различные точки зрения и различную реакцию на
«сомнительность» официальной работы. В данной статье приведены краткие рабочие
биографии двух информантов, оставивших официальную работу, одного информанта,
находящегося на промежуточной стадии и частично еще зависящего от официальной
работы, и, наконец, последнего информанта, который остался на официальной работе, но
собирается с нее уйти, так как уже подыскал неофициальный источник дохода. Эти
истории не являются «репрезентативными» для всех «синих воротничков», но, тем не
менее, дают представление о разных видах предпринимательства, являющегося ответом на
«сомнительность» официальной работы на обследованной территории.
Главный информант Володя (44), как и Саша, проработал три года на цементном
заводе в возрасте тридцати с небольшим лет. До этого он после окончания обычной
средней школы все время работал на основном предприятии городка. С цементного завода
он перешел на завод по производству пластмасс, который был поменьше размером. Затем
он вернулся на цементный завод, а потом перепробовал много видов работ в
неофициальном секторе – ночным сторожем на парковке, таксистом, частным мастером по
ремонту автомобилей, где в основном занимался сваркой.
Важную роль для его семьи играл семейный земельный надел размером в один акр,
находящийся в нескольких километрах от городка. Этот надел не только давал с/х
продукцию для его семьи, но и служил местом его неофициальной работы (там был гараж,
где Володя ремонтировал автомобили). Кроме того, этот участок позволял Володе
расширить сеть знакомств и социальных контактов в большей степени, чем его небольшая
городская квартира. На свою «дачу», где были деревянный домик и русская баня, Володя
регулярно привозил своих знакомых.
Главный информант Дмитрий (29) ко времени моего второго приезда в Излучино
поступил на один из автомобильных заводов в Калуге. Но через несколько месяцев он
ушел с этой работы и в течение полугода работал таксистом. До поступления на завод
по сборке автомобилей рабочая биография Дмитрия была аналогична рабочей
биографии Саши. После некоторого периода безработицы он был занят на нескольких
сезонных и краткосрочных неофициальных работах - в строительстве, на погрузке и
разгрузке товаров для местных предпринимателей, в доставке грузов и на дальнобойном
такси. Проработав в разных местах на официальной и неофициальной работе, Дмитрий
обзавелся очень широкой сетью знакомств, которая была очень полезна для постоянного
притока предложений по одноразовой подработке за наличные. Дмитрий продал свой
семейный земельный надел и купил дорогой многоцелевой автомобиль для
самостоятельной деятельности.
Главный информант Виктор (26) частично ушел из официальной экономики. Он в
течение нескольких лет занимался физическим трудом за очень низкую плату, работая на
местную администрацию, сочетая эту работу с хорошо оплачиваемой неофициальной
работе в строительстве в Москве и в окрестностях Излучино. В конце концов он бросил
официальную работу в государственном секторе в качестве низкооплачиваемого рабочего,
так как не получал достаточного вознаграждения за свой труд и необходимых социальных
гарантий. После некоторого периода безработицы он нашел выгодную сезонную работу на
7-9 месяцев в году в незарегистрированном цеху по сборке ПВХ-окон. В остальные
месяцы он либо не работал, либо поступал на работу к одному из своих бывших
работодателей, либо выполнял случайные разовые работы за наличные. Поскольку Виктор
молод и холост, у него имеется очень широкая сеть разнообразных знакомств, которую он
успешно использует для поиска работы.
Главный информант Георгий (35) – единственный представитель большой
социальной группы: квалифицированных рабочих-совместителей с официальным и
неофициальным доходом. Он продолжал работать по официальному найму, в то же время
получая значительный дополнительный доход от неофициальной работы, что является
обычным явлением в нынешней разнородной экономической ситуации в России (Williams
and Round 2007:2331). Он получал скромную зарплату за квалифицированную работу на
заводе пластмасс. Значительную часть своего свободного времени (по вечерам и часто в
выходные дни) он занимался установкой домашних нагревательных приборов и
водопроводных систем, что являет собой типичный пример «подработки ради денег» у
клиентов, приобретенных через обширную социальную сеть (там же), а также через
непосредственные знакомства и связи (например, для соседа тещи Георгия).
Нерегулярность, анти-социальный характер и риски, присущие такой подработке ( хотя
она могла принести за 2-3 дня до 200% ежемесячной зарплаты Георгия) привела к тому,
что к концу полевых исследований (декабрь 2010) Георгий сообщил о своем решении
уйти с официальной работы. Тем не менее, необычно щедрые премии и гибкий график на
официальной работе поставили Дмитрия перед сложной дилеммой.
ОБНИЩАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ КАК КРИТЕРИЙ «НЕНАДЕЖНОСТИ» РАБОТЫ
Рабочие, как вместе, так и по отдельности жалуются на свою бедность, неадекватную
оплату труда и отсутствие социальных гарантий. «Я пришел к выводу, что на этой /т.е.
официальной/ работе не стоит работать. Я как-то подсчитал, сколько времени мне нужно
потратить, чтобы получить эти жалкие гроши, и пришел домой очень злой» (Виктор).
«Унизительно работать за такую зарплату. Лучше рискнуть и не работать какое-то
время. Я могу получить трехмесячную зарплату, копая землю на дачной стройке у
какого-нибудь богатого москвича. Эти хозяева платят мне реальные деньги, и я могу
немного посидеть и передохнуть» (Дмитрий).
«Время – это не деньги, потому что его нельзя вернуть. Работать таксистом я могу в
своем собственном режиме – могу пахать сутками, или съездить в Москву и обратно и
заработать столько же, сколько мог получить за неделю работы на заводе. По крайней
мере, я могу при этом оставаться самим собой. Никто из моих знакомых не смотрит на
меня сверху вниз из-за того, что у меня нет постоянного заработка. Это как проклятие из
известного кинофильма: «Чтоб тебе жить на одну зарплату». (Саша).
«Я работаю не за зарплату. Никто не работает. Конечно, мы получаем премии, но
если бы у нас не было социальных гарантий в виде нормально оплаченных дней болезни и
отпусков, мы все ушли бы с работы. Я допускаю, что наш шеф – не такой как другие […],
он ценит хороших рабочих, но даже он не может обеспечить нам необходимые для жизни
заработки» (Георгий).
Информанты отзывались о размере вознаграждений в официальной сфере экономики
следующим образом: такие заработки не позволяют задумываться о семейном развитии
(нельзя накопить денег на долговременные цели, такие, как образование детей или
улучшение жилищных условий). Покупательная способность денег, необходимых на
кратко- и среднесрочные нужды все время падает, особенно в сравнении с покупательной
способностью заработков «синих воротничков» при советском режиме. Важно также
учитывать, что из-за компактной и однородной социальной географии между рабочими
возникают тесные связи и между ними распространяется мнение, что их несправедливо
эксплуатируют, и что они тяжело работают – в отличие от образованных «бумагомарак»
или владельцев капитала. Чувство общности и дружбы усиливается благодаря
традициям гостеприимства: бывшие и теперешние коллеги по работе встречаются в
общественных местах и на своих земельных участках. Однако, поддержание таких связей
в большой степени носит случайный характер – встречи со знакомыми случаются в
общественных местах (на единственном рынке, в немногочисленных магазинах, на
единственной в поселке магистральной дороге, по которой автобусы перевозят людей,
едущих на свою смену в одно и то же время).
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ И ТРЕБУЩИЕ САМОДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ, КАК
КРИТЕРИЙ «НЕНАДЕЖНОСТИ» ОФИЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Несмотря на явное обнищание рабочих в Излучино, низкие заработки не являются
единственной причиной неудовлетворенности информантов официальной работой и их
решением перейти на неофициальную работу. Как указывали некоторые из информантов,
их опыт работы в официальной экономике привел к тому, что люди захотели быть «самими
собой». Опыт официальной работы порождал у рабочих чувство стыда и снижал их
самооценку из-за изменения трудовых отношений, где теперь требуется инициативность и
самоконтроль в уже и без того достаточно унизительной ситуации (связанной с условиями
труда и низкой оплатой), а также существует мелочный надзор со стороны промежуточных
менеджеров вне зависимости от того, мирятся ли с этим рабочие или нет. Переход на
неофициальную работу в качестве индивидуальных предпринимателей или по найму в
частном секторе воспринимался как «меньшее из двух зол», или даже как способ
повышения самооценки.
Реакцию рабочих на рост индивидуализации труда в цеховых отношениях можно
объяснить, сравнивая нынешнюю ситуацию с трудовыми отношениями в советскую
эпоху, когда система поощрений и дисциплина носили «персонифицированный»
(Morisson 2008:135), а не «индивидуализированный» характер. Все вопросы, касающиеся
материальной компенсации труда рабочих (премии, нормы выработки, сверхурочные
работы) имели сугубо персонифицированный характер. Решения мастеров и бригадиров
тогда играли важную роль (Morisson 2008: 139); как и в Венгрии, по Burrowoy,
российские рабочие пользовались некоторой автономией в цеху. Каждый рабочий по
отдельности в бригаде не был объектом такого надзора и подчинения, как теперь. Нормы
выработки были ниже, премии за выполненную работу выплачивались регулярно
(Morisson 2008: 138) независимо от качества конечного продукта, хотя размеры премии
могли быть различными. Даже в хороших бригадах попадались слабые рабочие с меньшей
производительностью труда, но их индивидуальный вклад в конечный продукт или
отсутствие такого вклада не были очевидны на фоне общего результата работы бригады.
В новых условиях все этапы производственного процесса контролируются
супервайзерами различного уровня, и не только непосредственно на рабочем месте.
Жесткое давление на рабочих со стороны руководителей ставит рабочих перед
необходимостью быть «гибкими» и самостоятельно подстраиваться под требования
супервайзеров, что часто вызывает недовольство рабочих.
Даже самые маленькие по числу рабочих бригады, в которых рабочие тесно
взаимодействуют, как, например, на заводе по производству пластмасс, могли стать
объектом подчинения. Я сам был свидетелем такого явления во время моего первого
визита на это производство. Ожидаемое сырье не поступило в бригаду вовремя, и мастер
другой бригады тут же заставил рабочих заниматься другими делами – переналадкой
токарных станков, чисткой оборудования и доставкой сырья со склада, т.е. работой,
которая была, в основном, обязанностью подсобных работников. Как только мастер ушел
к сменному менеджеру, рабочие из бригады стали делать вид, что усердно работают.
После возвращения руководителей сразу же появилась пустая грузовая тележка, и всех
рабочих заставили грузить на нее готовую продукцию для заказчика. Еще один конфликт
возник в другой бригаде, где рабочий пожаловался, что для участия в погрузке он
должен был покинуть свое рабочее место, на котором осуществлялся температурный
контроль, а это повлекло бы за собой затягивание производственного процесса.
Вот как Георгий прокомментировал этот случай: «Они хотят, чтобы мы находились
всюду одновременно, и при этом выполняли в срок свою собственную работу. Эти
надсмотрщики как осы жужжат вокруг и только отвлекают вас от дела. Но если я
пожалуюсь, они напишут на меня докладную и меня лишат премии. […] Иногда даже
смешно, насколько далекую от наших прямых обязанностей работу они нам поручают.
Они просто не могут выносить, когда мы сидим без дела. От этого страдают даже хорошие
бригады, в которых все действуют умело и дружно, благодаря чему быстро справляются с
заданием. Надзиратели готовы даже дать нам в руки метлы, чтобы мы подметали цех, хотя
всем известно, что это бессмысленно. Начальник смены, сволочь такая, заявил всем
бригадирам, что они должны проявлять инициативу и находить, чем занять своих рабочих.
[…] Все эти супервайзеры сами ничего не делают, а только стучат на нас. Всю работу
выполняем мы, а они только наблюдают и командуют. Они не должны с нами так
обращаться – ведь мы известная бригада с хорошей репутацией, и шеф знает, что мы
всегда хорошо работали».
Мнение Георгия разделяют его товарищи по бригаде. На следующий день после
описанного случая один из его товарищей бросил работу. Как он объяснил Георгию в
более крепких выражениях, «ему надоело заниматься подобной ерундой». То же
недовольство требованием «подчиняться, но проявлять гибкость», а также мелочным
контролем на рабочем месте высказал и Володя, вспоминая опыт своей работы на
автопогрузчике на цементном заводе:
«Я могу загрузить грузовик мешками с цементом так же легко, как уложить спичечные
коробки, и даже с закрытыми глазами. Но если я работаю в ночную смену и, закончив
свою работу на три часа быстрее, захочу вздремнуть, на меня будут смотреть как на вора.»
Володя ушел с цементного завода во второй раз после того, как отказался выполнять
дополнительное задание помимо работы на погрузчике, за что его наказали переводом на
неудобные часы работы и отправили в вынужденный, т.е. неоплачиваемый отпуск во
время сезонного затишья на заводе.
Дмитрий охотно рассказывал всем желавшим его выслушать о том, как он утроился
работать на новый автомобильный завод в Калуге. Когда через несколько месяцев
Дмитрий ушел с этой новой работы, я предположил, что его друзья и родные станут его
осуждать (рабочую биографию Дмитрия обсуждали в группе информантов как в его
присутствии, так и без него). В конце концов, зарплата на автозаводе была повыше
средней в Излучино, были и другие преимущества. Однако, Дмитрий сразу же положил
конец этому обсуждению следующим аргументом: поработав на заводе, он понял, что ни
один уважающий себя рабочий не сможет смириться с виду «гибкой», но на самом деле,
очень жесткой системой управления на заводе. Он ожидал, что его сразу направят в
сборочный цех, но сначала его заставили несколько недель проработать фактически в
женской бригаде, которая даже не занималась распаковкой деталей, а просто снимала
полиэтиленовую пленку с деревянных ящиков. Поначалу он смирился с таким
положением, понимая , что таким образом проверяют его готовность подчиниться нуждам
производства. Но, придя на сборочный конвейер, он увидел, что и там его жизнь будет
нелегкой. «Эти иностранные менеджеры постоянно суют свой нос во все, что происходит
на конвейере».
Освоив, по понятиям Дмитрия, работу, он не хотел, чтобы его постоянно
контролировали. Как это ни парадоксально, Дмитрий решил уйти с работы как раз после
того, как он «проявил инициативу», к чему рабочих все время призывали. На конвейере
рядом с ним стоял рабочий, который быстро обучил Дмитрия небольшому числу
повторяющихся сборочных операций на их участке конвейера, где происходило
закрепление выхлопной трубы под шасси автомобиля. Эти операции требовали
постоянного перемещения сборщика от конвейера к рабочему столу, на котором были
разложены по размерам крепежные элементы, и обратно. Дмитрий был очень удивлен, что
во время подробного тренинга (в том числе, с помощью видео) перед началом его работы
в сборочном цеху, ему не показали, как можно ускорить работу. Его удивило также, что
иностранные менеджеры настаивали на строгом следовании протоколу сборки и строгой
очередности всех операций. В то же время, во время обучения рабочим постоянно
внушали, как важны «инициативность и приспособляемость» рабочих – компании были
нужны «самообучаемые» рабочие, которых можно было бы перебрасывать с одного
участка конвейера на другой по требованию менеджера. Дмитрий быстро сообразил, за
счет чего можно убыстрить его сборочные операции, слегка нарушив регламент. После
нескольких недель работы на конвейере он начал раскладывать по карманам комбинезона
то количество болтов каждого размера, которое требовалось для каждой сборочной
операции. Таким образом он мог держать свой гидравлический сборочный пистолет в
правой руке, а левой доставать на ощупь болт нужного калибра. Это позволяло сократить
число перемещений от конвейера к рабочему столу и убыстряло работу. Дмитрий
интуитивно нашел способ ускорить свою работу, но при этом нарушил порядок учета и
контроля, необходимый для эффективного восполнения деталей, необходимых для работы
на других участках конвейера. За это Дмитрий получил довольно мягкий выговор от
иностранного менеджера, но этот урок подтвердил опыт, уже полученный Дмитрием
ранее: цеховая культура на этом заводе требовала не столько «гибкости», сколько
строгого подчинения вышестоящему персоналу. «Ты должен делать все так, и только так,
как они требуют, иначе ты совершаешь нарушение, даже если вы сами что-то придумали и
на самом деле правы». Относительной автономии рабочих, которые раньше стояли в
центре производственного процесса и могли сами решать производственные проблемы, в
новых условиях производства не стало.
ВАЖНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ (СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ) ДЛЯ ПОИСКА
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ РАБОТЫ
Вскоре после описанного эпизода Дмитрий ушел с автомобильного завода и начал
самостоятельно работать на своем большом автомобиле (MPV). В процессе наших
дискуссий информанты обсуждали общение Дмитрия с его бывшими коллегами,
некоторые из которых работали на автозаводе, а другие - на цементном заводе. В эту
группу людей входил и Виктор, некоторое время работавший вместе с Дмитрием. В
настоящее время Виктор работает в незарегистрированной мастерской по сбору
ПВХ-окон, где, в частности, происходили встречи между бывшими и теперешними
коллегами. В это место можно было просто «зайти», оно служит не только для работы, но
и для общения и досуга, что важно для укрепления чувства общности между людьми. В
этом же месте люди рассказывали о своем нежелании работать в официальной сфере и
рассматривали варианты выживания без официальной работы. Такие места, как эта
мастерская, а также другие места встреч, вроде семейных земельных наделов, в
совокупности с тесной социальной географией общественных мест в городке помогали
поддерживать социальные контакты между рабочими и облегчали поиск неофициальной
работы. Именно после случайного посещения мастерской Виктор впервые получил
сезонную работу по сборке окон. Он также продолжал общаться с большим количеством
строительных рабочих. С одним из них он как-то зашел «выпить водочки» в мастерскую,
где потом и получил работу. В свою очередь, благодаря знакомству Дмитрия и Виктора,
Дмитрий смог получить неофициальные заказы на доставку изделий из мастерской.
В социальной сети, создаваемой благодаря совместной работе или дружеским
отношениям, существуют одни и те же ценности и коды, касающиеся контроля над
трудовыми процессами – так возникает своего рода «мега-профессиональная община»
(Van Maanen and Barley 1984), а вследствие обсуждения альтернативных форм занятости,
индивидуумы и семьи все более интенсивно врастают в эту социальную среду. Так
Дмитрий узнал, что Виктор успешно занимается сезонной и временной самостоятельной
работой, а Виктор, в свою очередь, поддержал мнение Дмитрия о неразумности тех
требований, которые предъявляли к нему на автомобильном заводе.
«Ты ведь не просто кусок глины, из которого они могут лепить что угодно [ …]
Нормальный рабочий человек знает и умеет многое, и с ним нельзя так обращаться».
И далее Виктор так комментировал свой переход на самостоятельную работу: «Там
(т.е. на заводе) мы должны были работать гораздо больше, чем соответствовало нашей
зарплате, и все равно этого им было недостаточно. А теперь мы работаем столько, сколько
считаем нужным, пусть даже за меньшие деньги».
Другой информант, Николай, заметил по этому же поводу: «Вы можете сами решать,
когда и как вам работать, даже если вас кто-то нанял (как при выполнении частных
слесарных заказов). Заказчик платит вам за конечный результат, а не за то, каким именно
образом вы получаете этот результат. Ему надо только быть уверенным, что работа
выполнена хорошо, и этого достаточно».
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
«Нормативная» индустриальная работа в России, которая теперь зачастую оплачивается
недостаточно для развития семьи, больше не воспринимается, как «нормальная». Для
некоторых рабочих отсутствие «безопасности», т.е. социальных гарантий, на официальной
работе делает ее «сомнительной» (precarious). «Надежность» работы для них
подразумевает достаточный для нормального (а не нищенского) потребления уровень
зарплаты; некоторую степень автономии на рабочем месте, признание ценности их
труда, а также уважение достоинства «синих воротничков» на предприятии. Большинство
рабочих считают официальную работу «сомнительной», потому что они могут
сравнивать современные условия труда с теми, которые они помнят с социалистических
времен, а также с воображаемыми «нормальными условиями» для рабочего класса ,
которые отсутствуют в пост-социалистической действительности. До 1991 года между
патерналистским государственным работодателем, выступавшим в роли социального
гаранта, и наемными рабочими существовал некий негласный договор. Культ труда и
сильное формальное и неформальное противодействие паразитическому образу жизни
способствовали тому, что индустриальные рабочие, несмотря на отсутствие
организационной базы для борьбы с зачастую ужасными условиями труда на производстве
и низкой зарплатой при социализме, чувствовали свою значимость и пользовались
некоторой автономией на цеховом уровне (Alasheev 1995). Из-за того, что эксплуатация
была явной, рабочие могли критически относиться к обществу – т.е. у них было
«негативное классовое сознание» (Burawoy 1992:134-5). После перехода на рыночные
экономические отношения и неолиберальных реформ те счастливчики. которые не
потеряли работу, в значительной степени утратили свои выгоды и льготы, а также
потеряли в зарплате. При этом мощные факторы, препятствующие отказу от
официальной работы – административно-правовое воздействие, общественное
порицание, зависимость рабочих от своих предприятий – утратили силу. Кроме того,
благодаря либерализации и появлению рыночных отношений возникло много доступных
вакансий в неформальной экономике, хотя, возможно, для получения такой работы
приходилось жертвовать чувством собственного достоинства. В самом деле, небольшие
неофициальные предприятия, рассмотренные в данном исследовании, не только служат
своего рода «спасительным клапаном» из-за наличия «труднопреодолимых барьеров в
формальной экономике» (Andrews et al, 1011:7), но также дают работу людям и приносят
доходы, составляющие почти половину валового внутреннего продуктаВВП в России.
Тенденции роста разнообразия источников доходов в России были заметны уже в
социалистической экономике, но теперь они стали еще более явными – от 500 руб.($15),
которые безземельный крестьянин зарабатывает в день, собирая грибы для своего богатого
соседа-москвича, до удесятеренной суммы, получаемой слесарем-совместителем за
установку системы центрального отопления в большой квартире. Для перехода от
командной экономики к рыночным отношениям в России была использована «шоковая
терапия». Но, несмотря на прошедшие с той поры двадцать лет, воспоминания об этом
переходе до сих пор служат в качестве критерия, что является «нормальным», а что
таковым не является. Быстрое (в отличие от постепенного) снижение стандартов оплаты и
уровня жизни в официальной сфере занятости, а также уменьшение преимуществ,
предоставляемых работой в этой сфере, привело к тому, что люди остро ощутили
«ненадежность» официальной работы. Поскольку в их повседневном труде не осталось
ничего «нормального», информанты начали искать альтернативные пути обеспечения
себя и своих семейств. В официальной работе существует много подводных камней, и в
России, в силу исторических и других причин, официальная занятость еще менее
привлекательна, чем на Западе.
Для того, чтобы осуществить неолиберальную модель саморегулируемой рабочей
силы, которая позволяет максимизировать отдачу от трудовых ресурсов, требуются
личные навыки саморегулирования и правильной самооценки у рабочих. «Самоуважение»
и общественное порицание считаются средствами, помогающими добиться
управляемости (governmentality - англ.) и послушности субъектов управления
(Cruickshank 1993). Раньше работа в официальной сфере и регулярное получения зарплаты
были очень важными стабилизирующими критериями в самооценке индивидуума. Но
сейсмический сдвиг от коллективного труда к индивидуализированному труду и
изменение структуры рисков в пост-социалистической экономике в сравнении с
социалистической экономикой, породили проблемы в самооценке трудящихся. Следует
также повторить, что «дорыночное сознание» (Verdery 1996) и «ресурсы памяти» о
социалистическом строе (Straugh 2007) все еще существуют у самих трудящихся и их
домочадцев, что позволяет им сравнивать существующее положение дел с мифическим ,
но все еще важным для людей «социальным договором с трудящимися» в прошлом.
Самоуважение информантов теперь все более связано с отсутствием зависимости от
мизерной оплаты и работы в официальной сфере. Одновременно с этим рабочие
вынуждены теперь подчиняться внешним и внутренним регулирующим факторам, что
невыгодно отличается от условий дисциплины в советскую эпоху.
Из-за слабости механизмов внешнего и внутреннего контроля и недостаточной
«управляемости» информанты могут зачастую посылать своих работодателей «к черту с
их работой», что также следует понимать в специфическом культурном и социальной
контексте трудовых отношений при социализме. Корпоративный характер трудовых
отношений между работодателем и наемным работником при социализме породил
ощутимую пассивность и зависимость рабочих (Friebel and Guriev 2000), а также чувство
их идентичности и обширные социальные связи. Вся рабочая сила моногородов часто
была сконцентрирована на единственном градообразующем предприятии. Такие
предприятия и компании определяли всю жизнь рабочих, устраивая для них магазины,
парки, детские сады, столовые, транспорт. В свою очередь, рабочие были социально
зависимы от своих предприятий, которые обеспечивали им не только рабочие места, но и
места отдыха и общения. Рабочие ощущали свою общность и были преданы своим
предприятиям, несмотря на довольно трудные реальные условия жизни. Elizabeth Dunn
определила такие взаимные социальные обязательства как результат «личностного
импринтинга», т.е. подсознательной и сознательной подчиненности рабочих своей работе
(2004: 162-74). После 1991 года предприятия, с которыми рабочие идентифицировали
себя, развалились, а с ними исчезла инфраструктура и социальная поддержка для
рабочих, порождавшая их зависимость от работы на предприятии.
Хотя в пост-социалистическую эпоху количество рабочих значительно уменьшилось,
социальные контакты и самоидентификация рабочих, определяемая их работой,
продолжали играть важную роль. Значимость неформальных социальных связей и
взаимопомощи для жителей Восточной Европы хорошо изучена (Caldwell 2004; Dunn
2004; Ledeneva 1998; Patico 2008). Социальные сети и традиции взаимопомощи,
возникшие при социализме в условиях дефицита не только рабочих мест, но и
медицинской помощи и жилья, пережили те обстоятельства, при которых они
зародились. Таким образом, при смене занятий и образа жизни люди все равно могут
получить поддержку благодаря широкой сети знакомств, связанных с отношениями на
работе и компактному проживанию в одном населенном пункте. Наличие широкой сети
знакомств (часто связанных с работой) у многих трудящихся и их домочадцев важно для
понимания желания людей, занятых на «ненадежной» официальной работе, пойти на риск
дальнейшей маргинализации, покинув свою работу. Поистине удивительно, что сети
социальной поддержки, сохранившиеся от прежних экономических условий, продолжают
играть такую роль в рыночно-ориентированной экономической действительности. Такие
социальные сети играют гораздо более важную роль, чем на Западе, где люди более
мобильны и, следовательно, менее связаны со своим окружением (communities – англ.) в
месте проживания.
Не только отдельный индивидуум, т.е. «дизайнер, жонглер и режиссер своей
собственной судьбы» (Beck 1997:95), может столкнуться с неопределенностью и
ненадежностью в жизни, но и все «представление» в целом зависит от скрытых
закулисных отношений (т.е. явных и неявных социальных связей), а также от
специфической культурной истории «театра» ( т.е. пространственно-временного
контекста). Опора на горизонтальные социальные связи, т.е. на взаимоопомощь, в России
(Dunn 2004:119) играют особую роль главным образом в определенной
социально-экономической среде, и это показывает, что «социальный капитал» людей,
подвергаемых маргинализации, имеет также маргинальный характер. Вместе с тем, это
явление говорит о том, что в дискуссиях по поводу «сомнительной» (precarious) трудовой
деятельности следует уделять все большее внимание «предприимчивости» рабочих. И
если мы хотим лучше понять ситуацию с «сомнительной» трудовой занятостью рабочих,
мы должны учесть общность самосознания рабочих, так как именно эта общность
объясняет существование социальных сетей и взаимопомощи среди рабочих.
Заключительные замечания
1. Dunn отмечает недостаточно успешное внедрение тейлор-фордистского
подхода к производству в Советском Союзе и вместе с Burawoy
показывает, как узкие места в производстве и институциональные
преимущества социалистической системы приводят к большей степени
цехового самоуправления (2004:9-18) . В другой главе Dunn
неолиберальной «управляемости» (governmentality) в
пост-социалистическом производстве.
2. ООН относит Россию к стране «переходного» типа – она не является ни
развитой, ни развивающейся страной.(2010). С точки зрения доли
национального дохода на душу населения (?) Россия обычно
рассматривается , как страна с доходом выше среднего (World Bank 2010),
но этот показатель, в силу неравномерного распределения огромных
природных богатств, не позволяет объяснить низкий уровень жизни
большинства рабочих.
3. Для сохранения анонимности наших информантов автор изменил название
городка и имена информантов и скрыл некоторые детали, касающиеся
характера производства.
4. Термин «синие воротнички», конечно, не учитывает все разнообразие
рабочих мест для ручного, полуквалифицированного и
квалифицированного труда на предприятиях в Излучино. Однако,
несмотря на ограниченное применение этого термина (Spencer 1977), он
полезен для определения основных характеристик официальной
занятости в регионе (полная занятость в течение рабочего дня,
субординация на производстве и т.д.)
5. Благодаря строительному буму в Москве некоторые местные предприятия
значительно расширились. Более полное обсуждение судьбы
градообразующих предприятий и роль «унаследованных от них условий»
после 1991 года имеется в работе Golubobchikov 2006.
6. Средняя зарплата в районе составляла 16000 руб./мес.,т.е. примерно ¾
средней зарплаты по стране, составляющей 20000 руб./мес. или
$675/ мес. (Росстат 2010а). «Прожиточный минимум» или уровень
бедности в регионе составлял 5400 руб./мес. для людей трудоспособного
возраста (Росстат 2010в). Важно отметить большой разрыв между
доходами населения в Москве и за ее пределами. Так аналогичная работа
для «синих воротничков» и «белых воротничков» оплачивалась как
минимум в два и более раз выше.
7. Более 10% рабочей силы области занято в Москве.
8. Lehman and Ruble (1997) указывают, что 17% квалифицированной рабочей
силы в изученном ими провинциальном городе составляли женщины. В
Излучено этот показатель составляет менее 10%.
9. Работодатель Георгия предлагал всем своим рабочим ссуды под низкий
процент, что является очень необычным.
10. Так называемая «работа за прилавком» (?) - это работа на публике
перед многоквартирными домами в Румынии, формирующая характер
общественных мест вокруг этих домов (Kideckel 2004:46).
11. В ресурсы памяти не только входят личные или совместные воспоминания
о «лучшей жизни рабочих» при социализме, но также фотографии,
мемуары и советские сооружения, позволяющие сравнивать нынешнюю
ситуацию с прошлой не в пользу настоящего времени. Так, информанты
часто вспоминали о своем личном вкладе в производство при советской
власти, который позволил улучшить жизнь в городе , например, в своем
участии в создании инфраструктуры и жилищном строительстве.
12. Pahl (1980) считает, что связанная с работой идентичность рабочих
может сохраняться и после ухода с конкретной работы, если у рабочего
имеются определенные навыки, которые могут быть использованы в
альтернативной экономике ( см. Harding and Jenkins 1989: 24).
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Джереми Моррис – преподаватель русского языка в Бирмингемском университете,
Соединенное Королевство. Он является специалистом в региональных исследованиях. В
данной работе использовался этнографический подход к изучению «действительного
образа жизни» в бывшем Советском Союзе, причем особое внимание уделялось
трудовым отношениям в разнообразных экономических условиях.