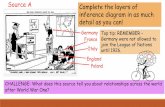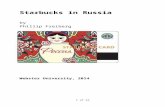Europe and Russia at the flames of WWI
Transcript of Europe and Russia at the flames of WWI
Российская академия наук Институт экономических стратегий
Центр исследования военно-стратегических и военно-исторических проблем
Главный военно-исторический совет Научно-экспертное бюро исторических исследований
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Под редакцией действительного государственного советника
Российской Федерации I класса В.А. Золотарева
МОСКВА • ИНЭС • РУБИН • 2014
ЕВРОПА И РОССИЯ В ОГНЕ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ К 100-летию начала воины
Москва Институт экономических стратегий
2014
УДК 355 /359 ББК 63.3(0)53-6
Е241
Серия основана в 2009 году
Рецензенты: Ганелин Рафаил Шоломович — член-корреспондент РАН; Медведко Леонид Иванович — доктор исторических наук, профессор; Филипповъх Дмитрий Николаевич — доктор исторических наук, профессор.
Европа и Россия в огне Первой мировой войны. К 100-летию Е241 начала войны/В.Р. Мединский, вступ. слово — (Военная история
Российского государства/под ред. В.А. Золотарева) — М.: ИНЭС, РУБИН, 2014. — 880 с.
ISBN 978-5-93618-211-2
28 июля 1914 г. — один из самых трагических дней мировой истории. В этот день 100 лет назад началась Первая мировая война, названная еще и Великой. Тогда никто и предположить не мог, что именно эта трагедия станет некоей точ-кой отчета для всех последующих мировых событий XX в., а ее отголоски будут слышны и сегодня, в веке XXI.
В России эта война из империалистической стала гражданской, а после — забытой. Бурный характер последовавшей эпохи (революции, иностранная интервенция и Гражданская война) привел к утрате многих источников и сви-детельств.
В данной книге Великая война рассматривается в логической последователь-ности: геополитические построения — оформление военных блоков — война — ее восприятие обществом и влияние ее результатов на судьбы Европы.
При этом особое внимание уделено новым государствам, возникшим после распада Российской империи. На основе анализа общественных настроений и последствий войны в заключительной части труда рассмотрена взаимосвязь Первой и Второй мировых войн. При подготовке издания были использованы редчайшие документы из российских, европейских и японских архивов.
УДК 3 5 5 / 3 5 9 БК 63.3(0)53-6
Исследовательско-издательский проект «Военная история Российского государства» реализуется в рамках программы Клуба православных предпринимателей, одобренной Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в декабре 2009 года
РПП ИНЭС Р1401 ISBN 978-5-93618-211-2 © Авторский коллектив, 2014
© Главная редакционная коллегия, 2014 © Институт экономических стратегий, 2014 © Русский биографический институт, 2014
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Агеев А.И. — пролог Артамошин С. В. — часть I, гл. 1; часть III, гл. 1, разд. 1.1; часть IV, гл 1. Буранок С. О. — часть III, гл. 1, разд. 1.2; гл. 2, разд. 2.2.; гл. 3, разд. 3.2; гл. 4, разд. 4.2; часть IV, гл. 9. Буранок А. О. — часть IV, гл. 4. Глухарев Н.Н. — часть III, гл. 2, разд. 2.1.; гл. 3, разд. 3.1. Зотова А.В. — часть II, гл. 1. Кудрина Ю. В. — часть IV, гл. 10, разд. 10.1. Лавренов С. Я. — часть IV, гл. 5, разд. 5.3. Литвин А. М. — часть IV, гл. 5 разд. 5.4. Матвеева А.М. — часть I, гл. 3. Мединский В.Р. — вступительное слово Медников И. Ю. — часть IV, гл. 10, разд. 10.4. Назария С. М. — часть IV, гл. 5, разд. 5.5. Новикова И. Н. — часть IV, гл. 5, разд. 5.1. Полторак С.Н. — часть III, гл. 4, разд. 4.1; гл. 5. Саксонов С.И. — часть II, гл. 4. Селиверстов Д. — часть I, гл. 2; часть IV, гл. 6. Симиндей В. В. — часть IV, гл. 5, разд. 5.2. Смирнов В. П. — часть IV, гл. 7. Смольянинов М. М. — часть IV, гл. 4 разд. 5.4. Суржик Д. В. — часть IV, гл. 2; часть 4, гл. 8; эпилог. Шевель А.А. — часть II, гл. 2. Шкундин Г. Д. — часть I, гл. 4; часть II, гл. 3; часть IV, гл. 3; часть IV, гл. 10, разд. 10.2, 10.3.
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРОЕКТА «ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА»
A.И. Агеев — д.э.н., профессор, академик РАЕН, генеральный директор Института экономических стратегий РАН;
B.А. Золотарев — председатель Главной редакционной коллегии проекта «Военная история Российского государства», действительный государственный советник РФ I класса, д.и.н., д.ю.н., профессор, вице-президент РАЕН, член-корреспондент РАРАН, президент Ассоциации историков Второй мировой войны;
А.М. Соколов — заместитель председателя Главной редакционной коллегии проекта «Военная история Российского государства», почетный доктор истории Международного университета «PRO DEO» (Италия), академик РАЕН, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны;
A.Г. Бах — лауреат РАЕН, общественный деятель, организатор шахматного движения в России;
Л.А. Буланов — член-корреспондент РАЕН, академик МААНОИ, ЕАЕН;
О.П. Ермилина — член-корреспондент МАНПО; Г.И. Загорский — д.ю.н., профессор, академик РАЕН; B.П. Зимонин — д.и.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент РАРАН, академик РАЕН; А.Е. Карпов — президент Ассоциации фондов мира; А.В. Кирилин — к.и.н., действительный член МАНПО;
М.Н. Кожевников — д.ю.н., профессор, академик РАЕН; B.Г. Кикнадзе — к.в.н.; Г.Э. Кучков — член-корреспондент МАНПО; И. И. Максимов; Марк — архиепископ Егорьевский; Н. М. Москаленко — почетный профессор ЕАЕН,
член-корреспондент МАНПО; А.К. Никонов — к.и.н., член-корреспондент РАЕН; Н.А. Петухов — д.ю.н., профессор; C.Н. Полторак — д.и.н.; профессор, академик РАЕН,
ЕАЕН; Б.Г. Путилин — д.и.н., профессор, академик РАЕН; О.А. Ржешевский — д.и.н., профессор, почетный доктор
истории, академик РАЕН, почетный президент Ассоциации историков Второй мировой войны;
A.А. Саркисов — академик РАН; Д.В. Суржик — к.и.н., доктор философии (исторические
науки) Европейского Университета (Германия); С.Л. Тихвинский — академик РАН; B.Г. Тъминский — профессор, президент ЕАЕН; C.А. Тюшкевич — д.ф.н., профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик РАЕН; В. С. Христофоров — д.ю.н., профессор, академик РАЕН; Е.П. Челышев — академик РАН; В. Е. Чуров — председатель Научного совета Российского
военно-исторического общества; П.А. Шашкин — к.ф.н.
Главный военно-исторический совет, Главная редакционная коллегия проекта «Военная история Российского государства» и Клуб православных предпринимателей выражают искрен-нюю благодарность за неоценимую помощь в подготовке и из-дании книги
Бабанину Павлу Юрьевичу, Барсукову Александру Михайло-вичу, Бурматову Сергею Владимировичу, Васильеву Виктору Григорьевичу, Горячеву Игорю Евгеньевичу, Зубченко Владимиру Васильевичу, Ищенко Василию Витальевичу, Кехтеру Влади-миру Эриковичу, Ковригину Валерию Евгеньевичу, Коновалову Алексею Анатольевичу, Коротченко Игорю Юрьевичу, Кудряв-цевой Елене Леонидовне, Мальчевскому Анджею Рышардовичу, Махаеву Владимиру Александровичу, Минину Виктору Влади-мировичу, Михайловой Евгении Исаевне, Мусинову Сергею Васи-льевичу, Недовиченко Александру Андреевичу, Осиповичу Олегу Валерьевичу, Рябикову Алексею Евгеньевичу, Симоновой Ольге Геннадьевне, Сомову Александру Викторовичу, Уваровскому Вла-димиру Юрьевичу, Чумаковой Татьяне Арсентьевне,
а также руководству и сотрудникам компаний, при участии и поддержке которых было выпущено данное издание:
НП «ИНЭС», ООО «Кехтер и К», ЗАО «Аппаратура систем свя-зи», ООО «Компания "ЛЕОН"», ЗАО «НИИ Материаловедения», Консорциум «ФИНХОЛКОМ-ГРУПП», Фонд возрождения народных традиций «Национальный Фонд Святого Трифона», ОАО «Му-ромский радиозавод», ЗАО «Трансстроймеханизация-98», ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза», ОАО «Научно-производственное предприятие «Эталон», ГК «Стройпромет», ЗАО «Кемберлит», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод», Межрегио-
нальная общественная организация «Ассоциация руководи-телей служб информационной безопасности», ЗАО «Ариада», ЗАО «ИнжЭнергоПроект», ООО «МНП "Электро"», ООО «Спец-геологоразведка», ООО «АМС—Мед», ООО «Машук», ЗАО «ЭЦМ-Сервис», ООО «ВекторПро», ООО «ИД "Национальная оборона"», ОАО «Авиатехприемка», ОАО «Страховое общество ЖАСО», ЗАО «Ачимгаз», Федеральное государственное автономное об-разовательное учреждение высшего профессионального обра-зования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», ООО «Модер Индастри», ООО «Транспортно-экспедиторская компания Нижегородский экспресс».
Кроме того, хотим выразить благодарность тем лицам и ор-ганизациям, которые по тем или иным причинам предпочли оказать нам поддержку анонимно.
Ъ+ЕМБЕРЛИТ7
<ШСТРОЙПРОМЕТ ГРУППА КПМПЛНМЙ
А / ? / н ш п ^ЧЛЫХШШЭШШ
ОАО НПП
Э ЭТАЛОН ИНЭС Ф Р |
^ я ^ I— ™ СВФУ КП JT КОНСОРЦИУМ «ФИНХОЛКОМ-ГРУПП»
V: ФИН ком
Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ РФ В.Р. МЕДИНСКОГО 13 ПРОЛОГ. РАСПЛАТА ЗА МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 15
ЧАСТЬ I. ГЕОПОЛИТИКА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Глава 1. Возникновение и императивы немецкой школы геополитики на пути к мировому господству 31 Глава 2. Цели Великобритании и Франции в будущем конфликте 54 Глава 3. Державные интересы России в Первой мировой войне (из опыта отечественной геополитической мысли) 81 Глава 4. Балканский узел противоречий великих держав 106
ЧАСТЬ II. ПОДГОТОВКА ОСНОВНЫХ СТРАН-УЧАСТНИЦ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИБЛОКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Глава 1. Модернизация оборонно-промышленного комплекса России накануне и его развитие в ходе войны 127 Глава 2. Рождение Антанты и организация взаимодействия ее вооруженных сил 147 Глава 3. Борьба за союзников на Балканах 182 Глава 4. «Все немцы — под властью кайзера»: вопросы политического союза и военного взаимодействия Германии и Австро-Венгрии 194
С О Д Е Р Ж А Н И Е 11
ЧАСТЬ III. БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ Глава 1. Кампания 1914 года 229
1.1. Боевые действия на европейском континенте: «бег к морю», формирование основных фронтов 229 1.2. Боевые действия на море: начало битвы за Атлантику и блокады флота Германии. Успехи немецких подводных лодок. Сражение в Гельголандской бухте. Набег на Ярмут. Итоги морской кампании 1914 года на Западе 254
Глава 2. Кампания 1915 года 264 2.1. Боевые действия на европейском континенте: позиционная война на Западе, попытки вывести Россию из войны и бои на Кавказском фронте 264 2.2. Боевые действия на море: планы на 1915 год. Сражение у Доггер-банки. Попытка захвата проливов Дарданеллы и Босфор. Итоги 1915 года 289
Глава 3. Кампания 1916 года 299 3.1. Боевые действия на европейском континенте: Западный фронт остался не сокрушен, успехи России на Кавказе 299 3.2. Боевые действия на море: планы на 1916 год. Ютландское сражение: ход и итоги 325
Глава 4. Кампания 1917 года 334 4.1. Боевые действия на европейском континенте: падение российского исполина, американцы на европейской земле 334 4.2. Боевые действия на море: планы на 1917-1918 годы. Итоги морской войны. Успехи союзников в борьбе с подводными лодками. Подготовка и реализация США операций 1917-1918 годов 354
Глава 5. Кампания 1918 года. Победа Антанты и капитуляция стран Тройственного (Четверного) союза 364
12 С О Д Е Р Ж А Н И Е
ЧАСТЬ IV. ОБЩЕСТВО И ВОЙНА Глава 1. Лояльная Германия и рефлексия войны германским обществом 391 Глава 2. Противоречивая Австро-Венгрия 415 Глава 3. Армянский вопрос в политике Османской империи и великих держав 432 Глава 4. Непредсказуемая Россия 446 Глава 5. Новые европейские государства в годы Первой мировой войны 470
5.1. Финляндия 470 5.2. Первая мировая война и общество в Прибалтике 506 5.3. Украина накануне и в годы Первой мировой войны 528 5.4. Беларусь в годы Первой мировой войны 546 5.5. Молдавия 586
Глава 6. Патриотичная Великобритания 603 Глава 7. Французское общество в годы Первой мировой войны 623 Глава 8. Распропагандированная Америка 654 Глава 9. Таинственная Япония 686 Глава 10. Нейтралитет стран в годы Первой мировой войны 714
10.1. Скандинавские страны 716 10.2. Швейцария 740 10.3. Албания 753 10.4. Нейтральная Испания 767
ЭПИЛОГ. Мир, который не дал мира 787 Литература 790
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Первая мировая война — вначале вто-рая отечественная, затем империалисти-ческая. Забытая на протяжении десятиле-тий история геополитической борьбы и военных союзов, история подвигов наших прадедов, история народов и краха импе-рий. Важнейшее событие ХХ века, без ко-торого не было бы ни Советской России,
ни Второй мировой, — эта война возвращается на страницы научных трудов. Разными авторскими коллективами готовятся многотомные издания, посвященные боевым действиям, ди-пломатии, рисующие образы союзников и противников, то есть освещающие основные аспекты любой войны.
Что же отличает эту работу? Читателю предстоит вслед за авторами проделать путь из кабинетов императоров, канцле-ров, военачальников от самого начала войны, от ее рождения в головах политиков — к дипломатической и экономической подготовке, через опутанные пороховой гарью и боевыми газа-ми поля сражений и океанские волны — и посетить основные страны, вовлеченные в эти события. Перед ним предстанет и энергичная Великобритания, и усталая Франция, и противо-речивая Австро-Венгрия, и измотанная Германия, и загадочная Япония, и непредсказуемая Россия, и целый ряд новых госу-
14 В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О
дарств, образовавшихся в Восточной Европе. Читатель узнает о подготовке войск, о миротворческих усилиях нейтральных стран, об искусственно созданном в Вене движении украино-филов, о геополитических размышлениях российских мысли-телей, ныне незаслуженно забытых.
Многие другие аспекты событий столетней давности рас-кроются на страницах этой книги. Книги о прошлом ради бу-дущего.
Мединский Владимир Ростиславович, министр
культуры РФ, председатель Российского военно-
исторического общества
ПРОЛОГ
Расплата за место под солнцем
К столетию начала Первой мировой войны
Первая мировая война началась для России не с выстрела Г. Принципа. Ее объявил германский посол в Российской им-перии Ф. фон Пурталес, пришедший к С.Д. Сазонову. Объявил и разрыдался. Посол был настолько спутан своей обязанностью, что оставил российскому министру в папке два варианта ноты: жесткий и более мягкий, а затем обнял министра и вышел вон. Через 27 лет другой немецкий посол, граф В. фон Шуленбург, признается наркому В.М. Молотову, что также не хотел войны, о которой ему надлежало уведомить Советский Союз. Совпа-дения. Случайные ли?
Теперь, спустя многие десятилетия, мы можем оценить ис-кренность чувств обоих дипломатов. Зная перспективы разви-тия отношений с Россией, видя ее каждый день, они, безуслов-но, понимали ее намного глубже, чем берлинские стратеги. И наверное, они глубже воспринимали трагедию кровопроли-тия между двумя соседними государствами. Но если чувства и подвели двух дипломатов, то интуиция их не обманула. Хотя в обоих случаях посланники лишь анонсировали объявление великих трагедий.
Подготовка к ним во всех сферах жизни наших противников велась уже длительное время, и отлаженный механизм войны
16 П Р О Л О Г
уже работал, опережая слова. В 7 часов вечера 1 августа, ког-да расстроенный Пурталес находился у Сазонова, немецкие войска уже вошли в Люксембург. Когда вручалась нота Молото-ву, немецкая авиация и артиллерия уже в течение нескольких часов бомбила советские города, а вермахт пересек государ-ственную границу.
И в 1914, и в 1941 г. агрессор стремился завоевать свое ме-сто под солнцем.
Любые войны ведутся за исход, последствия, которые будут после них, а определяются причинами, которые возникли на-кануне конфликта. Между причинами и исходом — собственно война, крайний способ разрешения международных противо-речий. При этом определяющими факторами войны являются не только причины — набор реальных фактов, явлений, ана-лиз перспектив развития текущей ситуации. К причинам тес-но примыкает совокупность интерпретаций — и настоящего, и будущего. А там, где есть толкование разными людьми, есть риск ошибки.
Представляя ход и итоги будущей войны, каждая из сторон рассчитывает на свое превосходство. Франция полагалась ис-ключительно на «элан виталь» — массовый порыв воодушев-ленных войск, который сотрет память об «ампутации, контри-буции и оккупации» в 1871 г. Несколько поколений французов со школьной скамьи воспитывались с идеей вернуть Эльзас и Лотарингию, с чувством ненависти к своему мрачному со-седу, который, поигрывая мускулами, не раз подвергал респу-блику унизительным «военным опасностям».
Для Германии превосходство над противниками подкрепля-лось технологическим рывком и идеей единства немецкого на-рода, который может развиваться, только обеспечив страну стабильным импортом сырья из колоний. Если немецкая фило-софия признана всем миром, а промышленность и тем более военный флот уже конкурируют с английской «кузницей мира» и «владычицей морей», кайзеровскому руководству казалось, что настало время для рывка к мировому господству.
Реалистичнее и изощреннее рассматривала обстановку Великобритания, которая стремилась избежать участи мор-ской блокады и, продолжая политику «блестящей изоляции»,
Э П И Л О Г 17
исподволь влиять на европейские дела, не допуская усиления какой-либо державы.
Сложнее и противоречивее было обретение смысла и реали-зация своих национальных интересов Россией, где, как показа-но ниже, существовало не менее трех основных направлений внешнеполитической мысли.
В отличие от мирного времени, допускающего стратегии «победитель — победитель», окончание войны оперирует только двумя альтернативами: «победитель — проигравший» и «проигравший — проигравший». В Первой мировой войне победу одержала Антанта, Германия и ее союзники проиграли, а России судьба уготовила особую роль — «проигравший по-бедитель». В то же время для всех европейских держав победа далась неимоверным напряжением сил, крахом не только фи-зическим, но и нравственным. Длительная позиционная война с отдельными кровавыми прорывами, которые также не несли облегчения, новые виды оружия, крах империй и демобилиза-ция общественных настроений на длительное время обесце-нили прежние этические идеалы и ценности, создали хаос на несколько лет вперед и заложили мину, которая детонирует через два десятилетия. Но этот «человеческий фактор» не идет в учет, когда «реаль-политик» подводит свой холодный баланс. В категориях интересов влияния, мощи и потенциалов люд-ские жертвы и разрушения выглядят холодно, арифметично. Кто-то, воспользовавшись крахом соперника, увеличил свой потенциал. Другие, сменив политические режимы и даже спо-соб государственного устройства, обрели опыт жестких, праг-матичных оценок и опоры на свои силы. Третьи же, де-юре сохранив государственный суверенитет, де-факто стали сильно зависимыми в экономическом плане.
Германии потребовалось всего лишь 15 лет, чтобы при по-пустительстве Лиги Наций начать экономический демонтаж своего международного статуса. А затем, основываясь на лжи-вых и преступных иллюзиях, привлечь для этой цели свои вос-становленные вооруженные силы, СС и даже подростков из гитлерюгенда.
Россия, изойдя реками крови в ходе Первой мировой и Граж-данской войн, спустя 20 лет после своего исключения из числа
1 8 П Р О Л О Г
победителей обрела такую силу, которую после краха династии Романовых мало кто мог себе представить. Вместе с тем были заново выстраданны концепции, воспроизводящие неизмен-ные интересы и целеполагания, вектора приложения энергии и развития нашей страны.
Надо признать — и об этом будет сказано ниже, — что не всегда геополитические интересы России в должной мере осознавались и реализовывались отечественными дипломата-ми. Если российские мыслители конца XIX в. сосредотачивали свое внимание на Средней Азии, то для окружения Николая II главенствующей идеей было сохранение влияния на Балка-ны, а министр иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюков видел Россию на Проливах, хотя и не учитывал мощного, исторически и геополитически обусловленного здесь противодействия Великобритании. И здесь англо-французским дипломатам удалось переиграть молодых российских дипло-матов. Уже 13 марта 1914 г. английский посол Дж. Бьюкенен подтвердил, что «британское правительство соглашается на исполнение вековых притязаний России на Константинополь и Проливы на условиях, которые ему нетрудно будет принять»1, а 8 марта 1915 г. французский посланник М. Палеолог, получив соответствующую телеграмму от Делькассе, заявил С.Д. Са-зонову, что тот «может рассчитывать на искреннее желание французского правительства, чтобы константинопольский во-прос и вопрос о Проливах были решены сообразно с желани-ем России»2. Однако британские дипломаты и их французские коллеги были настроены против «чрезмерно пророссийской» позиции Э. Грея. Так, английский посол в Париже Ф. Берти пи-сал в дневнике: «...в случае ухода турок из Константинополя создается положение, совершенно отличное от того, при кото-ром давались все эти обещания; что в правах и привилегиях, предоставляемых России, нельзя отказать Румынии, имеющей границу по Черному морю, или Болгарии. Правильное реше-ние заключалось бы в следующем: Константинополь превра-
1 Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Международные отношения, 1991. С. 147-148.
2 ПалеологМ. Царская Россия во время мировой войны. М.: Международ-ные отношения, 1991. С. 169.
Э П И Л О Г 9
щается в вольный город, все форты на Дарданеллах и Босфоре разрушаются, к Дарданеллам и Босфору применяется под ев-ропейской гарантией режим Суэцкого канала.» — и далее: «Здесь <в Париже> все больше возрастает подозрительность касательно намерений России в отношении Константинополя. Считают целесообразным, чтобы Англия и Франция (в этом вопросе Англия ставится вне Франции) заняли Константи-нополь раньше России, дабы московит не имел возможности совершенно самостоятельно решить вопрос о будущем этого города и проливов — Дарданелл и Босфора»1. И эти слова под-тверждают современные исследователи: «Франция стала про-тивником заключения соглашения по признанию за Россией прав на Константинополь и Проливы.»2
Преемственность стремления России обладать Пролива-ми подтвердил в мае 1917 г. и министр иностранных дел Вре-менного правительства П.Н. Милюков. Однако его преемник, 30-летний М.И. Терещенко, обратив внимание Бьюкенена на картину И.Е. Репина «Запорожские казаки пишут письмо ту-рецкому султану», подчеркнул свое происхождение, но не дер-жавные задачи России на Проливах. И подобное явление — снижать внешнеполитические амбиции быстрее и значитель-нее, чем происходит реальное падение мощи страны, — увы, было характерно для динамики стратегической субъектности России3.
Спустя 22 года после крушения той империи, на XVIII съезде ВКП (б), глава Советского государства выступит со своей про-граммной речью, в которой определит сложившееся положение и место в нем нашей страны. Прежде всего он подчеркнет, что уже идет «новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и захва-тившая более 500 миллионов населения. Насильственно пере-
1 Цит. по: Шацилло В.К. Первая мировая война 1914-1918. Факты и до-кументы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 280.
2 Гришина В.Ю. Позиции Великобритании и России по вопросу воен-ных целей в период Первой мировой войны, август 1914 — декабрь 1916 г. Дисс. ... канд. ист. наук. Томск, 2002. С. 205.
3 См.: Агеев А.И., Куроедов Б.В. Особенности применения методологии стратегической матрицы при прогнозировании развития государств (на примере России и Китая). М.: ИНЭС, 2008.
2 0 П Р О Л О Г
краивается карта Европы, Африки, Азии. Потрясена в корне вся система послевоенного так называемого мирного режима . экономический кризис . приводит к дальнейшему обострению империалистической борьбы. Речь идет уже не о конкуренции на рынках, не о торговой войне, не о демпинге. Эти средства борьбы давно уже признаны недостаточными. Речь идет теперь о новом переделе мира, сфер влияния, колоний путем военных действий. В этих трудных международных условиях прово-дил Советский Союз свою внешнюю политику, отстаивая дело сохранения мира»1.
Перечень событий, которые втягивали мир в новый миро-вой конфликт, снова повторяет предысторию Первой миро-вой войны. Случайно ли, что снова полыхает Северная Афри-ка (Абиссиния, Марокко), Балканы, Восточная Европа? Снова общественное мнение и шумиха в прессе, скрывающие реаль-ные причины войны. Снова разрушение системы договоров, сумасбродное перекраивание государственных границ и втя-гивание России (СССР) в пожар войны. Снова наше отставание по размеру промышленного производства на душу населения, а значит — и в военно-экономической м о щ и . В любом случае «запаса прочности» Версальско-Вашингтонской системы хва-тило чуть более чем на 10 лет. Неизбежность новой мировой войны была «родовым пятном» этого договора девяти держав.
Тем не менее решения о начале, продолжении и конце вой-ны принимаются сторонами и лицами, которые находятся под властью не только стереотипов, но и своей среды, информаци-онной и человеческой, которая также может искажать реалии. Эта среда зачастую может препятствовать вертикальной связи между высшим и низовым уровнями управления, становиться препятствием для объективного контроля решений «верхов» и их реализации «низами». Так, исключительную ценность для российского верховного командования, как можно судить из настоящей книги, имели стратегические представления офи-церов Генерального штаба, равно как и альтернативные про-гнозы будущей войны, рожденные французским и германским военным аппаратом — для Парижа и Берлина.
1 СталинИ.В. Сочинения. Т. XIV. М.: Писатель, 1997. С. 290, 294, 300.
Э П И Л О Г 21
То, что сама оценка обстановки всеми заинтересованны-ми сторонами накануне, в ходе и после войны зачастую мо-жет быть недостоверной, на примере Первой мировой войны вскрыл русский военный мыслитель, создавший в эмиграции своеобразную «академию Генштаба» Н.Н. Головин. Например, весной 1916 г. командиры и солдаты воспринимали позицион-ные бои как вполне нормальную боевую ситуацию. Заметно улучшилось снабжение войск, армия готовилась наступать и успешно наступала на некоторых фронтах и участках. Да-лее складывается следующая схема: от низового командира наверх уходит вполне достоверная информация. Но когда та-кие сведения сводятся воедино в штабе армии или фронта, как правило, возникает искажающий эффект. Дело не в заговоре против вышестоящего командования, о котором не без осно-ваний порой говорят исследователи1. Причина здесь — жела-ние высокого начальства перестраховаться, тем более в памяти живы воспоминания о гибели армии А.В. Самсонова, несо-гласованность действий, шапкозакидательство, «снарядный голод». В Петрограде на эту сводку накладывается столичное восприятие политической и околополитической публики, уни-чижительные стереотипы, переплетение клановых интересов и интриг. Положение на фронте рисуется этими «салонными стратегами» уже намного страшнее, чем в действительности. Кулуарная среда также хаотично возбуждена частыми пере-становками в правительстве, а Государственная дума остает-ся лояльной только союзникам России, но не ее верховному военно-политическому руководству. Вполне штатные события, препарированные прессой из этих кругов, резонируют на руко-водящие инстанции. Вирус искаженной картины «захватывает частоту» и подчиняет себе другие информационные сюжеты, влияет на процессы принятия или неприятия решений, испол-нения или неисполнения пришедших сверху распоряжений. Вспомним сказанные в сердцах слова Николая II французско-му послу Палеологу: «Эти петербургские миазмы чувствуются даже здесь, на расстоянии двадцати двух верст. И наихудшие
1 См., например, Мультатули П.В. «Господь да благословит решение м о е . » . Император Николай II во главе действующей армии и заговор гене-ралов. СПб.: Сатисъ, 2002.
22 П Р О Л О Г
запахи исходят не из народных кварталов, а из салонов. Какой стыд! Какое ничтожество! Можно ли быть настолько лишен-ным совести, патриотизма и веры?»1
Тот же вирус провоцирует болезненные, неадекватные реак-ции столичной публики и их коалиций, которые различными способами подрывали авторитет императорской четы. Отме-тим, что сложные отношения между двумя императрицами, Марией Федоровной и Александрой Федоровной, понятны. Возможно даже, здесь стоит искать корни неприятия двором, а затем и народом последней российской императрицы. Но противоречия матери и невестки не могли служить основанием для обвинений последней в тайных переговорах с Германи-ей. Как писал в дневнике упомянутый М. Палеолог, «основа ее <Александры Федоровны> натуры стала вполне русской. Прежде всего и несмотря на враждебную легенду, которая, как я вижу, возникает вокруг нее, я не сомневаюсь в ее патриотиз-ме. Она любит Россию горячей любовью»2.
Из столицы отправляется ответный сигнал, явно неадек-ватный содержанию первоначального сообщения. Легко обо-зреть всего лишь несколько раундов такой переписки, когда буквально «песчинка обретает силу пули». На выходе же фор-мируется синтетическая реальность, которая постепенно ста-новится действительностью. Сходные метаморфозы происхо-дят и сегодня накануне «цветных революций». Подробнее это описано в теории катастроф3. В предреволюционной России это усиливалось наличием официальной и вполне свободной в своих суждениях оппозиции, которая не стеснялась открытой клеветы на власть из опасений, что победа в войне произойдет без и даже против участия этих «либеральных» партий.
Объективное восприятие войны осложнялось известными транспортными проблемами, когда Москва была крупней-шим железнодорожным транспортным узлом, через который на фронт уходили войска, а военные лазареты, раненые и де-мобилизованные прибывали с фронта. Нельзя также сбрасы-
1 Палеолог М. Указ. соч. С. 221. 2 Палеолог М. Указ. соч. С. 145. 3Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990.
Э П И Л О Г 23
вать со счетов и антивоенную немецкую пропаганду, которая обретала весьма изощренные формы. Так, о публикациях одного такого автора руководитель контрразведки Петро-градского военного округа полковник Б.В. Никитин записал следующее: «Внешним образом статьи э т и . удовлетворяли всем условиям для напечатания: темы интересны и в выс-шей степени патриотичны, а форма изложения не оставля-ла желать лучшего. Однако после прочтения у вас остается какой-то неприятный о с а д о к . вы лишены возможности об-личить автора, ибо все его выводы одинаково патриотичны, как и все содержание. Но на его статью у вас самого вывод напрашивается совершенно иной, а в результате мысли, им затронутые, оказываются для вас отравлены»1. Эта подрыв-ная пропаганда легла на благодатную почву, ибо «в русском общественном мнении все более выкристаллизовываются два течения: одно — уносящееся к светлым горизонтам, к волшебным победам, к Константинополю. другое — останавливающееся перед непреодолимым препятствием германской скалы и возвращающееся к мрачным перспек-тивам, достигая пессимизма, чувства бессилия и покорности Провидению. Что чрезвычайно любопытно, это — то, что оба течения часто сосуществуют или по крайней мере сменяются у одного и того же лица, как если бы они оба удовлетворяли двум наиболее заметным склонностям русской души: к меч-те и разочарованию»2. Неуравновешенность национального характера, его порой оторванная от реальной жизни мечта-тельность и неожиданный пессимизм — на этих чувствах играли пропагандисты той великой войны.
Все эти зафронтовые перипетии сознания также необходимо учитывать верховному главнокомандующему при принятии ре-шений. И как показали события вековой давности, разведдан-ные о своих войсках или противнике при всей своей важности не могут заменить знание воли своего народа. Государственные лидеры не всегда чувствуют ее надлежащим образом. Нередко лучше их это удается писателям и мыслителям. Когда в августе
1 Никитин Б.В. Роковые годы. М.: Айрис-пресс, 2007. С. 100. 2 Палеолог М. Указ. соч. С. 141.
2 4 П Р О Л О Г
1914 г. и столичную, и провинциальную Россию захлестнула па-триотическая волна, малоизвестный писатель М.М. Пришвин записал в дневнике: «Россия вздулась пузырем — вообще стала в войну как пузырь, надувается и вот-вот лопнет < . > если разобьют, то революция ужасающая. Последствием этой вой-ны, быть может, явится какая-нибудь земная религия»1. Нельзя не поражаться и глубине известной записки П.Н. Дурново от февраля 1914 г., пророчествам Иоанна Кронштадтского. И как показали дальнейшие события, энергии народа бывает доста-точно, чтобы смешать, спутать или вовсе разрушить расчеты руководителей, стратегов и командиров.
«Черные лебеди» Первой мировой войны вызвали колос-сальные изменения, ожидать которые вряд ли мог кто-либо из современников. «Как часто я мечтал о русской революции, которая существенно облегчила нам жизнь; и вот она сверши-лась, совершенно внезапно, и у меня с души свалился тяжелый камень, сразу стало легче дышать. А что она позднее переки-нется и к нам, об этом я тогда и подумать не мог», — при-знавался Людендорф2. Так желаемое для некоторых ключевых игроков той войны сплелось с непредсказуемыми «черными лебедями».
Новое, не скрывавшее своего временного характера россий-ское военно-политическое руководство пыталось утвердиться через очернение и клевету на своих предшественников, а обще-ние с подчиненными приобрело либерально-попустительский стиль. Вирусный «приказ № 1», изданный 1 марта 1917 г., стал детонатором социального протеста в рядах вооруженных сил. Если все описанные негативные факторы сами по себе были слабы и не представляли серьезной угрозы, то, собранные во-едино и канализованные в войска названным приказом, они взломали империю накануне победы.
Но раскрытый ящик Пандоры таил гораздо больше из того, о чем не мог и подумать Людендорф. Соучастие Германии в провоцировании внутренней смуты в России дало импульс попыткам ряда игроков воспользоваться историческим шан-
1 Пришвин М.М. Дневники. 1914-1917. М.: Московский рабочий, 1991. С. 86. 2 Людендорф Э. Мои воспоминания о войне. Первая мировая война в запи-
сках германского полководца. 1914-1918. М.: Центрполиграф, 2007. С. 188.
Э П И Л О Г 25
сом. В декабре 1917 г. подписывается тайное соглашение между Великобританией и Францией, отдавшее в сферу интересов Ве-ликобритании Кавказ и казачьи территории на Кубани и Дону, а в сферу интересов Франции — Бессарабию, Украину и Крым. США вскоре заявили о своих интересах на севере России и на Дальнем Востоке и отправили экспедиционные войска. Разва-ливающаяся империя быстро наполнялась активно действую-щим по своему усмотрению вооруженным контингентом: воз-вращающимися с фронта частями и тысячами разрозненных военнослужащих, красногвардейцами, пленными чехами, словаками, австрийцами, китайцами, латышами, анархиста-ми и т.д. Через год революция смела империю, которой служил мечтавший о революции для России Э. Людендорф. Историче-ский бумеранг действует безукоризненно. В хаос вверглись все. Даже США, позже всех вступившие в войну, в апреле 1917-го, в 1920 г. с трудом справлялись с нормализацией внутреннего положения в стране.
Германия, внешне потерпевшая весьма скромные измене-ния в ходе поражения, внутри напоминала бурлящий котел. Акт капитуляции Германии, подписанный в компьенском вагоне, был не только ее геополитической и экономической, но и эк-зистенциальной катастрофой. Ведь всего лишь за 60 лет гер-манское национальное самосознание совершило невероятный прыжок вверх и оземь, плашмя. Когда в России состоялась ко-ронация нового императора Николая Александровича, кайзер подвел первые итоги стремительного развития: «Германская империя превратилась в мировую империю». Означало это не только сдвиг самоощущения, но вполне реальную промыш-ленную политику — «мировая политика как задача, мировая держава как цель, строительство военно-морского флота как инструмент». Прошло немногим более года, как новый россий-ский император осваивался со своими обязанностями, а фон Бюлов в рейхстаге уже заявил: «Времена, когда немец уступал одному соседу сушу, другому—море, оставляя себе одно лишь небо, где царит чистая теория, — эти времена миновали. мы требуем и для себя места под солнцем».
Однако стратегические цели империи, возникшей, по сло-вам Макса Вебера, как следствие «мальчишеской выходки»,
2 6 П Р О Л О Г
выкристаллизовывались более трети века и определялись жаждой самореализации империи в форме мирового господ-ства в экономике и политике как продолжении триумфа нации в области духа. В конфигурировании союзников для нового, имперского этапа своего подъема, у Германии был стратегиче-ский выбор. Прежде всего он предполагал определение линии в отношении России.
В 1890 г. эпоха Бисмарка закончилась. Страна, наливавшая-ся экономической мощью, подстегиваемая кайзером и новым канцером Л. фон Каприви, ощутила в себе готовность вырвать себе новые трофеи не только в Европе, но и на просторах Аф-рики, Азии, Южной и даже Северной Америки. В 1900 г. Гер-мания захватывает в формате 99-летней аренды полуостров Циндао и соучаствует в подавлении, вместе с Великобритани-ей, Францией, Россией и Японией, «боксерского восстания». В 1900 г. Вильгельм посещает Иерусалим, налаживая тесные связи Германии с Османской империей.
Колониальный азарт всячески пропагандировался, опирал-ся на сеть общественных организаций и прежде всего — на многочисленный Всегерманский союз, включивший в себя первоклассных промышленников и ученых, раскинувший сеть по всей стране и сыгравший огромную роль в теорети-ческом обосновании необходимости расширения жизненного пространства и раздувании националистической эйфории. Ее, эту эйфорию, заряжают памятью об Аттиле, гуннах и всерьез, устами кайзера, воинственно заклинают: «Вы должны сделать так, чтобы слово «Германия» запомнили в Китае на тысячу лет вперед». Обращаясь к Китаю, кайзер, очевидно, имел в виду более широкую аудиторию.
Россия практически весь XIX в. благоволила Германии. Не-смотря на это и теплые строки многочисленных посланий, у «дяди Вилли» были планы в отношении «кузена Никки». Кон-фигурация противников оформилась задолго до сараевского покушения — и предшественниками тех, кто отдал приказы о всеобщей мобилизации. Начал плести паутину антирос-сийского союза Германии с Австро-Венгрией еще Бисмарк, в 1879 г. Спустя три года в него вошла Италия. Истоки русско-французского союза восходят к началу 1890-х гг.
Э П И Л О Г 27
К началу XX в. мир был уже поделен на колонии между ве-дущими метрополиями. Но вкус к экспансии, вскормленный на чужой крови и легких трофеях, предопределял дальнейшую неумолимую логику действий — борьба за передел колониаль-ных сфер влияния. В Китае Германия натыкалась на интересы Великобритании, Франции, Японии, России. На Ближнем Вос-токе — Великобритании и Франции, в Африке — Франции, Португалии, Великобритании. В Латинской Америке — Испа-нии и Португалии. На Среднем Востоке — Англии и России. Сближение со Стамбулом вело к германскому контролю над Проливами, что было неприемлемо ни для России, ни для Великобритании. Строительство немцами железной дороги задевало интересы англичан в Персидском заливе и грозило подрывом влияния в Иране и Индии.
Подготовка военных планов и боевые действия Первой ми-ровой войны разворачивались вокруг двух осей, определив-ших интересы и мотивы, военную и экономическую стратегию и тактику сторон.
Первая ось — доступ к рынкам сбыта и источникам поста-вок минеральных ресурсов для стремительно накапливавших-ся экономической и технологической мощью ведущих стран мира. Как следствие, повышались внешнеполитические амби-ции их руководящих кругов. Люди и территории — особый вид ресурсов, хотя в начале ХХ в. акцент делался в основном на тер-риториях с ресурсами, население рассматривалось только как источник мобилизации. Россия своему военно-политическому руководству представлялась страной с неисчерпаемыми люд-скими ресурсами (вспомним слова из царского рескрипта от 27 июня 1915 г. о созыве Государственного совета и Государ-ственной думы: «С твердой верой в неиссякаемые силы России я ожидаю от правительственных и общественных учреждений, от русской промышленности и от всех верных сынов родины, без различия взглядов и положений, сплоченной, дружной работы для нужд нашей доблестной армии. На этой, единой отныне, всенародной задаче должны быть сосредоточены все помыслы объединенной и неодолимой в своем единстве Рос-сии»). Миф о неисчерпаемости людских ресурсов России от-рицательно сказывался при планировании военных операций.
2 8 П Р О Л О Г
Лишь немногие эксперты реалистично оценивали положение с кадрами. А они не были такими бездонными, как было при-нято думать тогда.
Вторая ось — борьба за пути доступа к этим ресурсам, за транспортные магистрали на суше и на море. В некотором смысле контроль над транспортными артериями нередко яв-лялся самоцелью (вспомним КВЖД и железную дорогу Бер-лин — Багдад, канал кайзера Вильгельма, поперечные дороги между Восточным и Западным побережьем Африки, Босфор и Дарданеллы).
Черноморские проливы — особый сюжет и мировых войн, и евразийской геополитики. Установление контроля над ними было важнейшей геополитической задачей Российской им-перии после Крымской войны. Но свои интересы были здесь и у Парижа, увязавшего свою поддержку притязаний России на Проливы с возвращением Франции Страсбурга и Лотарингии, и у Лондона, стремившегося не выпустить Россию из Черного моря на просторы Средиземноморья. В зоне своих интересов видел Проливы и Берлин, готовый вытеснить отсюда не только Россию, но и Англию с Францией. Не случайно «водворение Германии на Босфоре и Дарданеллах» Сазонов, которому вручил ноту Пурталес, считал «смертным приговором России». До 70% российского экспорта хлеба и треть всего экспорта шло именно через эту артерию. Прагматично эту тему обозначал фон Бюлов, будущий канцлер Германии: «В будущей войне мы должны от-теснить Россию от Понта Евксинского и Балтийского м о р я . которые дали ей положение великой державы. Мы должны на 30 лет, как минимум, уничтожить ее экономические позиции, разбомбить ее побережья». Разбомбить и уничтожить прибреж-ную российскую инфраструктуру не удалось, и был взят курс на блокирование российского прохода через Проливы.
Война, подогреваемая геополитическими и экономически-ми амбициями, была неотвратима. Но почти никто не пред-полагал, что мировой пожар закончится тяжелейшими по-следствиями для всех, даже для его формальных победителей. Причина тому — не только мощный военно-экономический
Э П И Л О Г 2 9
потенциал двух противостоящих друг другу блоков. Они вош-ли в действие, предопределив переплетения военных союзов и результаты боев, когда сыграли свою роль другие, информа-ционные асимметрии. Эти сознательные и неконтролируемые искажения были общим свойством как Первой мировой, так и любой другой войны. При ее анализе, как видим, необходи-мо учитывать не только полноту и достоверность информаци-онных потоков, на основе которых принимались решения, но и рамки восприятия, предпочтения, стратегическую и миро-воззренческую картину мира у лиц, принимающих решение, а также их зависимость от явлений, которые представлялись им непреложными императивами выбора. Так, для российского руководства накануне войны ключевую роль играли два обсто-ятельства: понимание державных своих интересов и внешняя зависимость (дипломатическая, военно-техническая, династи-ческая, религиозная). Оба они предопределили вступление на-шей страны в войну. Уроки ее еще извлечены не все.
Агеев Александр Иванович, академик РАЕН, профессор,
доктор экономических наук, генеральный директор
Института экономических стратегий РАН
ЭПИЛОГ
М и р , который не дал мира
11 ноября 1918 г. в штабном вагоне маршала Ф. Фоша близ станции Ретонд в Компьенском лесу было подписано переми-рие, остановившее кровопролитие между Антантой и (пока еще) Германской империей. Условия соглашения содержали статьи об эвакуации немецких войск по состоянию на 1 августа 1914 г., о передаче союзникам отдельных наименований во-енного и железнодорожного имущества, о расторжении Брест-Литовского и Бухарестского мирных договоров и ряд других пунктов. По данному соглашению Германия лишалась только территории Эльзаса и Лотарингии.
Куда более серьезные ограничения были наложены на Гер-манию Версальским мирным договором. Он был подписан 28 июня 1919 г., ровно через пять лет после убийства эрцгер-цога Франца-Фердинанда. Версаль, запечатлевший унижение Франции и рождение второй, кайзеровской Германской импе-рии, теперь стал свидетелем отмщения. За свой «рывок к ми-ровому господству» Германия расплачивалась отторжением территорий в пользу Франции, Дании, Бельгии, Чехословакии, Польши, Литвы, а также приданием статуса вольного города Данцигу. Если два первых государства немецкие националисты могли понять, то другие народы и страны, только сейчас обре-тавшие суверенитет, не воспринимались немецким обществом как равные. Условия договора включали уголовное преследо-вание кайзера, культ которого сопровождал немцев последние три десятилетия, уничтожение флота и резкое сокращение ар-мии — двух оплотов имперско-милитаристской пропаганды, поразившей всех немцев в начале ХХ в. Неисполнение его по-
ложений привело в 1923 г. к франко-бельгийской оккупации Рура — промышленного сердца и гордости немцев .
Казалось, мщение союзников свершилось и Первая мировая война закончилась. В действительности же эти и многие дру-гие, более конкретные причины привели к новому глобально-му конфликту. Кстати, его творцы проходили свои «первые уни-верситеты» в окопах Первой мировой и затем всю жизнь тесно чувствовали связь с тем временем, за поражение в котором они пришли отомстить. Перемирие между гитлеровской Германией и Францией будет подписано в том же вагоне в Компьенском лесу, который будет уничтожен специальным отрядом эсэсовцев во время агонии третьего (после второго, кайзеровского) рейха.
Первая мировая война завершилась, но не миром. Воору-женная борьба продолжилась в России, где высадились ее вчерашние союзники. Клубок противоречий, копившийся в Российской империи и на ее национальных окраинах, при-вел к вооруженному противостоянию на территории совре-менных Белоруссии, Украины, Польши, Прибалтики. Причем нередко в этих странах противостояли друг другу три-четыре силы. Но даже там, где не было борьбы против иностранных войск — в Финляндии и Германии, гражданский мир также установился лишь по прошествии нескольких лет. Не было спокойно и в странах-победительницах: в 1919 г. разгорелась война за независимость Ирландии, а группа итальянских на-ционалистов захватила город-порт Фиуме.
Новый миропорядок рождался не за столом переговоров, а сквозь пороховую гарь. Но уже тогда в его фундамент были заложены мины замедленного действия: территориально-по-граничные споры, попытки построить этнократически «чи-стые» государства (особенно остро эта проблема проступила в Прибалтике и на Балканах), общая экономическая разруха и эмоциональная усталость в странах-победительницах (лю-бой ценой, предательством своих союзников умилостивить, «умиротворить» агрессоров), неоправданная жестокость к по-терпевшим поражение и неудовлетворенность последних своим положением, русофобия. Окончание Первой мировой войны не избавило мир от новых глобальных конфликтов. Почти ни-кто из стран-победительниц не мог поверить в то, что такой
Э П И Л О Г 7 8 9
ужас, какой они испытали в 1914-1918 гг., может повториться. Едва созданная Лига Наций стала не инструментом мира (ин-струментом принуждения к миру, увы, не стала и Организация Объединенных Наций), но инструментом для решения техни-ческих проблем, вызванных послевоенным урегулированием.
Уже через два десятилетия мир разделится на пресытившихся местью, потускневших от социально-экономических неурядиц победителей и неудовлетворенных своим положением «на вторых ролях», сплотившихся для отмщения за 1919 год побежденных. Их идея о превосходстве государства над личностью и одной расы над другой покажется очень соблазнительной для других, и в ряду агрессоров 1939-1941 гг. будет уже около 10 стран (не считая «нейтральных»). Они поставят вопрос уже не о доминировании в Европе и колониях, как было в 1914 г. Агрессоры 1939-1941 гг. своими силами и руками предателей будут проводить политику уничтожения «лишних народов» и построения своей «зоны эко-номического процветания» на спинах оставшихся, низведенных до положения полуграмотных рабов. Поэтому с первых же дней борьба на китайско-японском и советско-германском фронтах решала для Китая и Советского Союза задачу физического вы-живания и суверенного развития.
Несмотря на понесенные жертвы и лишения, победите-ли 1945 года оказались мудрее и милостивее, чем победители 1919-го. Возможно, поэтому до сих пор удается избежать ново-го всемирного вооруженного конфликта. Но избежать противо-стояния Евроатлантика — Евразия не удалось. Антироссийские постулаты оказались чрезвычайно живучими, и Большая игра продолжилась. Редьярд Киплинг сказал: «Когда все умрут, только тогда закончится Большая игра», а значит, России предстоит сно-ва и снова доказывать свое право на самостоятельное развитие. И события последнего времени подтверждают, что нам нельзя ни на минуту отступить от духа и памяти наших великих предков.
Д. В. Суржик, кандидат исторических наук, Ph. D. (im Geschichte),
руководитель авторского коллектива труда «Россия и Европа в огне Первой
мировой войны», 28 августа 2014 г.