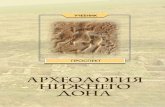Этничность в археологии или археология этничности?...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Этничность в археологии или археология этничности?...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УрО РАН
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Т5Э912
Этничность в археологииили археология этничности?
Материалы Круглого стола
Челябинск ЦИКР “Рифей”
2013
ББК Т51(2Р36) + Т4(2Р36) + Т3(2Р36) Э 912Этничность в археологии или археология этничности?:
Материалы Круглого стола / отв. ред.: В.С. Мосин, Л.Т. Яблонский. — Челябинск: ЦИКР Рифей, 2013. — 136 с.: ил.
В сборнике представлены материалы Круглого стола, прове-денного в рамках V региональной (с международным участием) на-учно-практической конференции «Этнические взаимодействия на Южном Урале» (Челябинск, 20—23 ноября 2012 г.), осуществленной при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 12-01-14037 г.
Издание рассчитано на широкий круг исследователей, занима-ющихся различными проблемами в области археологии, этнологии, истории и других гуманитарных дисциплин.
Ответственные редакторы:В.С. Мосин - доктор исторических наукЛ.Т. Яблонский - доктор исторических наук
Печатается по решению совета исторического факультета Южно-Уральского государственного университета
Рецензенты:доктор исторических наук С. Г. Боталовдоктор исторических наук А.Д. Таиров
ISBN 978-5-88521-176-5 © ЦИКР Рифей, 2013 © Коллектив авторов
СОДЕРЖАНИЕ
Л. Т. Яблонский Вступительное слово ...........................................................................5
В. С. МосинЮжно-Уральский филиал ИИА УрО РАНРЕАЛЬНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ СОЦИУМОВ В АРХЕОЛОГИИ КАМЕННОГО ВЕКА .........................................7
Л. Т. ЯблонскийИнститут Археологии РАНПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ ЭТНОГЕНЕЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ .........................................................33
В. А. ШнирельманИнститут этнологии и антропологии РАНЭТНИчНОСТЬ В АРХЕОЛОГИИ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ фАНТОМ? .................................................................................49
С. В. СоколовскийИнститут этнологии и антропологии РАНСОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭТНИчЕСКОЙ ИДЕНТИфИКАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ АРХЕОЛОГИчЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ......................................81
А. В. ГоловнёвИнститут истории и археологии УрО РАНЭТНИчНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ ...........................................115
5
Вступительное слово
Л.Т. Яблонский:С вашего позволения я сразу и приступлю к нашей работе. Надо
сказать, что переход от эпохи бронзы к раннему железному веку со-провождался, в том числе, появлением разного рода этнонимов. Как известно, древнейшие этнонимы упоминаются в Истории Геродота, и с тех пор этнонимы, этносы, этнические взаимоотношения стали непременным атрибутом в археологической науке. Еще в 19 веке российские археологи были уверены, что в Северном Причерно-морье жили скифы, в начале 20 века М.И. Ростовцев впервые ото-ждествил памятники, курганные могильники Южного Приуралья с историческими сарматами; в ХХ столетии усилиями, в том числе Е.Е. Кузьминой, доказывалось, что степи Евразии еще в эпоху брон-зы были заселены индо-иранцами, и, наконец, в археологической ли-тературе сначала появляется выражение «культура скифов Алтая», а затем просто «скифы Алтая», «скифы Хорезма» (у С.П. Толстова). Сравнительно недавно мне пришлось читать про скифов Якутии, и сегодня уже дело дошло до скифов Китая. Таким образом, эта этно-нимика сопровождает почти все работы, касающиеся раннего желез-ного века, в первую очередь. Я уже в свое время написал в статье, что такое часто неосмысленное жонглирование этнонимами не придает историзма археологии, наоборот лишает ее историзма, чем вызвал неудовольствие многих своих коллег. Между тем, все, что связано с этносами, тема болезненная. Я не только имею в виду наши научные дискуссии по поводу древних этносов, но эти дискуссии непремен-но вмешиваются в современные этнические взаимоотношения, как вам хорошо известно. Но между тем, с конца 60-х годов в археоло-гической науке не обсуждались какие-либо проблемы, связанные с этнической археологией (я имею в виду работы С.А. Арутюнова и А.М. Хазанова). С тех пор эта тема не поднималась в археологиче-ской науке, а мне кажется, что напрасно. И вот сегодня в Челябинске нам предоставлена площадка для обсуждения вопросов археологии и этноса. В Москве, между прочим, у нас такой площадки нет. Я хочу выразить благодарность организаторам данной конференции за то,
6
Л. Т. Яблонский Вступительное словочто нам дали возможность поговорить на эти темы, волнующие мно-гих, в том числе и присутствующих в этом зале. У нас предусмотре-но четыре «заказных» доклада, и мы рассчитываем, что вокруг этих заказных докладов и будет происходить обсуждение. Я хочу пред-ставить вам Мосина Вадима Сергеевича, хотя он в представлении не нуждается. Вы хорошо его знаете, доктор исторических наук, ди-ректор Южно-Уральского филиала Института истории и археологии УрО РАН. Виктор Александрович Шнирельман, доктор историче-ских наук, главный научный сотрудник Института этнологии и ан-тропологии РАН, по университетскому образованию, между прочим, археолог, всю жизнь проработал в Институте этнографии, сегодня занимается проблемами национализма, современными межэтниче-скими отношениями. Сергей Валерьевич Соколовский, доктор исто-рических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, главный редактор центрального этнологическо-го журнала «Этнографическое обозрение», и Ваш покорный слуга, по первому образованию археолог, по второму - антрополог. Таким образом, у нас все возможности приступить к дискуссии и после это-го короткого вступления я предоставляю слово В.С. Мосину.
7
В. С. МосинЮжно-Уральский филиал ИИА УрО РАН
РЕАЛЬНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ СОЦИУМОВ В АРХЕОЛОГИИ КАМЕННОГО ВЕКА
Почти 100 лет прошло с тех пор, как Вир Гордон Чайлд ввел в научный оборот понятие археологической культуры, как комплекса связанных между сосудов, орудий, украшений, похоронных обрядов и форм домов, которые постоянно воспроизводятся, и предположил, что такой комплекс — материальное выражение того, что можно было бы назвать «народом». Именно такое понимание комплексов артефактов, получаемых в процессе раскопок, основательно укоренилось в архео-логии. В научной литературе предложено немало определений понятия археологическая культура — и, как совокупности взаимосвязанных типов явлений материального мира, данных нам в археологических остатках; и, как реально существующую совокупность связанных меж-ду собой объектов, определенным образом ограниченных во времени и пространстве, но, в основном, как — единство археологических па-мятников, расположенных на конкретной территории в определённый отрезок времени, выраженное в близком сходстве различных категорий артефактов: орудий труда, керамики, архитектуре, погребальном обряде и т. д. [Смирнов, 1964, c. 3—10; Монгайт, 1967, с. 53—69; Каменецкий, 1972, с.18—36; Ганжа, 1988; Массон, 1989, с. 17; Клейн, 1991, с. 391 и др.]. Несмотря на то, что археологическая культура у большинства археологов ассоциируется с неким социумом, по сути, выделение архе-ологической культуры — это создание фактологической базы археоло-гии в систематизированном виде.
В советской археологии 20-х годов XX века социологическое направление, ставившее перспективные и актуальные задачи из-учения развития человеческого общества с привлечением археоло-гических источников, к сожалению, быстро себя дискредитировало, поскольку чрезмерное увлечение социологизацией привело к под-мене реальных исследований проблем социальной истории офици-ально принятыми социологическими штампами или цитатами из
8
В. С. Мосинпроизведений классиков марксизма-ленинизма [Генинг, 1982, c. 80; Васильев, 2008, c. 21]. В конце 30-х годов XX века теоретические споры о путях развития археологии, характерные для этого перио-да, затихли и на многие годы доминирующим стал культурно-исто-рический (локально-культурный, классификационный) подход, в котором отождествляются археологические культуры с племенами и даже мифическими «этносами» [Васильев, 2008, c.110—112]. Ис-токи этого подхода можно увидеть еще в классическом направлении русской археологии конца XIX — начала XX в., когда археология рассматривалась как источниковедческая наука с главной задачей скрупулезного описания полученных в результате раскопок вещей и археологических фактов. Во главу угла была поставлена хронологи-ческая классификация археологических материалов на основе гене-тической преемственности культурных традиций и взаимодействия различных культур между собой [Генинг, 1982, c. 61—75]. Повтор-ная дискуссия по теоретическим проблемам археологии 70—80-х гг. [см. работы В.Ф. Генинга, Л.С. Клейна, Ю.Н. Захарука и других] практически ни к чему не привела и советская (российская) археоло-гия к концу XX века зашла в тупик в исследовании происхождения, развития и взаимодействия археологических культур.
Большинство археологов, завершая свое исследование, осоз-нанно, а чаще не осознанно, употребляют расхожее словосочетание «…племена такой-то археологической культуры…», подразуме-вая под этим некое общество прошлого. Подобные формулировки встречаются во многих, не только региональных, но и крупных ака-демических изданиях, правда, с некоторыми оговорками. Например: «Основными единицами археологии были и остаются культуры, ко-торые в отдельных регионах объединяются в культурные общности или области. …для большинства исследователей культура всегда со-ответствует определенному этносу, который иногда называют пле-менем или группой племен, что тоже достаточно условно» [Архео-логия. Неолит Северной Евразии, 1996, c. 9].
Как же в реальности соотносятся археологическая и социологи-ческая составляющие изучаемой нами древности? Рассмотрим постав-ленную нами проблему на примере археологии каменного века Урала.
9
В. С. МосинВ поздневалдайскую-сартанскую эпоху в рамках огромной
перигляциальной гиперзоны Северной Евразии, протянувшейся от Западной Европы до Восточной Сибири, выделяется группа памят-ников позднего палеолита от Пермского Предуралья и Среднего По-волжья до Приобья. Сходство индустрий этих памятников отчетливо фиксируется в технике расщепления и сочетании основных катего-рий инвентаря, основанных на технике изготовления мелких пла-стин, появившейся еще более 30 тыс. лет назад в кара-бомовской и усть-каракольской традициях [Зенин, 2002, c. 22—44; Павлов, 2008, c. 33—45], и представляющих одну линию развития технокомплек-сов позднего палеолита Урала и Западной Сибири. Близкие приемы и технологии в изготовлении орудий, существовавшие на огромной территории от Волги до Оби и в значительном хронологическом диапазоне от 25 до 11 тыс. лет назад могли существовать только в единой системе жизнеобеспечения, направленной на максималь-ную адаптацию человеческих коллективов в окружающей, далеко не всегда благоприятной среде позднего неоплейстоцена. В Волго-Уральско-Западно-Сибирском регионе палеоэкологические условия этого времени были благоприятны для увеличения численности ма-монтов и их спутников. Миграции стад животных в перигляциаль-ной тундростепи могли достигать несколько сотен километров, что существенно влияло на мобильность общин древних охотников, вы-нужденных следовать за животными. Повышенная мобильность, с одной стороны, могла быть одной из причин микролитизации инвен-таря, с целью получения более легких полифункциональных орудий, что приводило к определенной унификации техники расщепления и сокращению набора специализированных орудий. С другой сто-роны, мобильность предполагает высокую вероятность пересечения маршрутов отдельных общин, частые межобщинные контакты и до-пускает возможность передачи и преемственности некоторых тех-нических стандартов, составляющих особенные элементы сходства между достаточно удаленными друг от друга каменными индустри-ями [Зенин, 2002, c. 40].
На рубеже неоплейстоцена и голоцена происходит резкий при-родно-климатический перелом, связанный с потеплением и смягче-
10
В. С. Мосиннием континентальности климата. В последующие пребореальный и бореальный периоды распадается периляциальная зона, происходит перестройка структуры ландшафтов от гиперзонального к зонально-му. Широкое распространение вкладышевой техники изготовления орудий создало явную потребность в переходе к отжимному расще-плению кремнистых пород и получению практически одинаковых пластинчатых и микропластинчатых заготовок. При всеобщей стан-дартизации только устойчивые сочетания оригинальных орудий по-зволяют отличать одну традицию от другой. Техника и технология изготовления орудий может передаваться от поколения к поколению только путем непосредственного обучения. У коллективов не связан-ных между собой системой жизнеобеспечения они неизбежно будут отличаться, поскольку в разных социумах формируются свои пред-ставления о форме, удобстве и функциональности того или иного орудия, что в конечном итоге приводит к оформлению традиции. По-скольку эта традиция связана с жизненно важной сферой, она очень устойчива и может существовать не одну тысячу лет. На фоне фор-мирующихся ландшафтов пребореала и бореала в мезолите Урала начинает проявляться вполне определенное территориальное своео-бразие отдельных традиций.
Близкие приемы и технологии в изготовлении орудий верхнего па-леолита, существовавшие от Волги до Оби определили общую техно-логическую составляющую мезолитических традиций микропластин-чатого расщепления, но с начинающим формироваться своеобразием систем орудийных наборов, соответствующих различным географиче-ским регионам Урала: Волго-Уралью, Зауралью, Прикамью.
При переходе к неолиту и установлению в атлантике различий природно-ландшафтных зон указанных регионов, окончательно оформляется и своеобразие технологических традиций, маркирую-щих границы крупных социумов. Так, в появляющейся в Волго-Ура-лье, елшанской традиции, технология расщепления была направлена на получение нестандартной заготовки, определяющей лицо инду-стрии. Здесь главным становится форма рабочего лезвия. В Зауралье же, переход от мезолита к неолиту не вызвал заметных перемен в производстве, основанном на микропластинчатом расщеплении и
11
В. С. Мосинвкладышевой технике, и использовании каменных орудий. Не из-менилась стратегия расщепления, структурная схема распределения орудий, ни их типология. Единственной существенной новацией стало появление новых типов в вооружении – наконечников стрел с двухсторонней обработкой, что вызвало и некоторые изменения в традиции оснащения наконечника вкладышами. Появление кера-мической посуды с оригинальными системами орнаментации еще более оттенило своеобразие трех крупных уральских регионов – За-уралья, Прикамья и Волго-Уралья.
Основной акцент при изучении материалов археологических памятников, начиная с неолита, делается на анализ керамических комплексов, поскольку формы и системы орнаментации сосудов более очевидны и легче поддаются различным операциям археоло-гического исследования, чем технолого-типологические составляю-щие комплексов каменного инвентаря. На основе анализа керами-ческих комплексов выделяются типы керамики, типы памятников и археологические культуры. Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере Зауралья.
К настоящему времени в Зауралье для периода неолита выде-лено пять археологических культур: кошкинская и козловская для раннего этапа, боборыкинская, полуденская и сосновоостровская для позднего этапа, а также четыре типа керамики: кокшаровско-юрьинская, евстюнихская, сумпаньинская и басьяновская. При этом кокшаровско-юрьинский, евстюнихский и сумпаньинский типы рас-сматриваются, как правило, в рамках козловской культуры, а басья-новский тип в рамках боборыкинской.
Посмотрим, что же стоит за этими многочисленными названи-ями. Начнем с хронологии. По имеющимся сегодня 52-м радиоугле-родным датам кошкинская и козловская культуры одновременны в хронологическом диапазоне 6000—4700 cal BC. Посуда кошкинской и козловской культур имеют общую технологическую основу – ис-пользование илистых глин с органическим раствором [Васильева, 2011, c. 103—124]. Отмеченные при технологическом анализе И. Н. Васильевой некоторые различия в использовании талькосодержаще-го сырья в кошкинской и козловской (кокшаровско-юрьинской) по-
12
В. С. Мосинсуде объясняются тем, что обе традиции формировались как в пред-горных районах Зауралья, где распространены тальковые глины, так и в лесостепной части Притоболья, где тальковые породы (хлори-ты) полностью отсутствуют. Оба типа посуды имеют много общих черт: орнамент нанесен одними техническими приемами – гладким прочерчиванием, отступающими наколами без отрыва орнаментира от поверхности, отдельными наколами. Важной общей чертой яв-ляется использование так называемого «двузубого штампа». Среди орнаментальных мотивов общими являются самые простые: гори-зонтальные волнистые линии, вертикальные зоны, заполненные на-клонными линиями, взаимопроникающие треугольники. В качестве отличий можно отметить преимущественное использование отсту-пающего накола и разреженность орнамента на кошкинской посу-де и более разнообразную орнаментацию козловской керамики. И, наконец, оба типа посуды залегают совместно в культурных слоях памятников, например, стоянки Варга 2 и основании Кокшаровско-го холма [Жилин, Антипина, Зарецкая и др. 2007; Шорин, Шорина, 2011, c. 70—77].
Таким образом, можно вполне определенно констатировать, что население кошкинской и козловской культур имеет одну технологиче-скую основу в изготовлений орудий из камня, применяет одну техноло-гию изготовления керамической посуды и близкие системы орнамента-ции, в один временной промежуток занимает одну и ту же территорию для проживания и, более того, сосуществует в рамках одного поселе-ния. Объяснять все это взаимодействием и взаимовлиянием археологи-ческих культур в настоящее время уже неприемлемо. Из приведенных фактов можно сделать вполне закономерный вывод – население ран-него неолита Зауралья принадлежит одному социуму, включающему в себя несколько традиций изготовления керамической посуды. Так по-чему же мы делим его на разные археологические культуры? Вопрос на сегодняшний день определенно риторический.
Близкая, до идентичности в некоторых чертах, ситуация сохра-няется и в позднем неолите Зауралья. Прежде всего, важно отметить, что в современной радиоуглеродной хронологии по 40-а имеющим-ся датам для позднего неолита существует период примерно от 5000
13
В. С. Мосиндо 4700 cal BC, когда сосуществуют практически все типы керами-ки, присущие как раннему, так и позднему неолиту. В целом, вы-деленные культуры позднего неолита: полуденская, боборыкинская и позднего гребенчатого неолита, которую определяют как сосно-воостровская сосуществуют на этой же территории с 4700 до 4300 cal BC. Так же как и в раннем неолите посуда различных археологи-ческих культур встречается в совместном залегании на одних и тех же поселениях. Так, кошкинская и козловско-полуденская керамика были встречены вместе на стоянках Полуденка I, Чебаркуль XVI, Краснокаменка, где найдены обломки плоских днищ с наплывом по краю и насечками; кошкинская, кокшаровско-юрьинская и басьянов-ская в святилищном комплексе Кокшаровский холм; кошкинская, боборыкинская и басьяновская на поселении II Береговом; евстю-нихская, полуденская и боборыкинская не только в одном слое, но и совместно на полах построек на поселении Кочегарово I. Кроме этого, фиксируются факты не только совместного залегания посуды этих традиций в одних культурных слоях и в жилищах, но и суще-ствование симбиотических сосудов – с басьяновской морфологией и полуденской орнаментацией (например, на стоянке Ук VI). Техно-логический анализ, проведенный И. Н. Васильевой показал, что со-став навыков составления формовочных масс полуденских гончаров «аналогичен басьяновским, но различны их количественная пред-ставленность и качественные особенности, … сам факт появления новой традиции подготовки формовочных масс именно в среде этих групп населения может указывать на вероятность периода их сосу-ществования и взаимодействия» [Васильева, 2011, c. 122—123]. И все это, также на фоне единых технологических традиций в изго-товлении орудий из камня. Так что и для позднего неолита Зауралья можно констатировать сосуществование басьяновско-боборыкин-ских и полуденских комплексов в рамках одних социумов.
О каких же социумах может идти речь? Чтобы сопоставить ар-хеологические данные с социологией необходимо обратиться к ма-териалам этнологии и социальной (культурной) антропологии.
Поскольку, в данном случае, мы имеем дело с эгалитарными обществами и при анализе археологических материалов, прежде
14
В. С. Мосинвсего, рассматриваем технологические и орнаментальные традиции, начинать нужно с такой категории как «родство», которое существу-ет по рождению или по браку, сюда же можно отнести «свойство» и приемное родство, которое практически не отличалось от родства по рождению. В современной этнологии — социальной (культурной) антропологии русский термин род, как впрочем и международные термины: клан, линидж, сиб, рэмидж и др., признаются не достаточ-но релевантными и уже не удовлетворяют потребностям фактиче-ского материала. Следует согласиться, что типологической универ-салией является не конкретная форма родственного института (род и др.), а «родство» — единый и повсеместный структурообразующий принцип, с различными формами реализации [Шнирельман, 1986, c. 358; Артемова, 2009, c. 293—343].
Связи по рождению создают десцентные группы — это экзогам-ные группы людей, объединенные кровнородственными, социально институциализированными связями, которые широко варьи ровались по своим функциям. Первостепенное значение, как правило, имела передача тех или иных социально-значимых прав (на землю, иные ресурсы, религиозные знания и реликвии и т.п.) в пределах дес-центной группы [Тишков, 2003, c. 76], а также осуществление связи между поколениями в преемственности традиций, контроль за со-хранением экзогамии, мифологии, обрядов и т.п.
И, если технологические традиции, как исторически сложив-шиеся совокупности наборов технологических приемов с характер-ной последовательностью их применения, составляют и определя-ют специфику всего социума и детерминированы поведенческими шаблонами и особенностями культурной трансмиссии технологий в данном социуме [Корякова, Молодин, 2012, c. 82—102] то, орнамен-тальные традиции можно рассматривать как проявление своеобра-зия в мировозрении в различных десцентных линиях в рамках этого социума.
Первым уровнем социальной организации принято считать социум, который в русском языке называется семьей, правда, да-леко не всегда он имеет конкретное словесное обозначение со смыслом, к которому мы привыкли. Основной среди форм семьи
15
В. С. Мосинявляется «элементарная, или нуклеарная семья». Это муж, жена и дети, родные или приемные [Мердок, 2003, с. 106; Тишков, 2003, c.75—78] или в другой формулировке — женщина, ее дети и муж, если он признает этих детей своими [Гиренко, 1991, c. 161—164; Артемова, 2009, c. 342]. Остатки жилых построек на стоянках Ура-ла характеризуются средним показателем площади от 25 до 70 кв. м, с преимущественными значениями в 40—50 кв. м. Этнографи-ческие данные для оседлых охотников и рыболовов Сибири, Даль-него Востока и северо-запада Северной Америки показывают, что жилая площадь, приходящаяся на одного человека, составляет при-мерно от 3,5 до 8 кв. м (Бузин 1990, c. 32—43; Старков 1980, c. 183; Хлобыстин, 1972, c. 31; Кабо, 1986, c. 220; Борзунов, Кирюшин, Матющенко, 1993, c. 4—45]. Следовательно, можно предполагать, что эти жилища были местом проживания коллектива примерно из 5—10 человек, который мы можем ассоциировать с понятием про-стой или расширенной семьи или «домашним уровнем социальной организа ции». Уже на этом уровне с точки зрения археологической классификации возникают трудности, поскольку очень часто в жи-лищах неолита и энеолита встречаются совместно остатки посуды, относимые к разным орнаментальным традициям, и соответствен-но, к разным археологическим культурам. Объяснить такие факты с позиций классификационного подхода крайне сложно и поэтому, чаще всего такие жилища объявляются «смешанными» или же, что тоже бывает часто, керамика численно значительно меньшего ко-личества и отличающаяся от основного массива просто не публи-куется, что совершенно недопустимо.
Хотя основным стержнем десцентных линий при патрилиней-ности являлись мужчины, связанные кровным родством, хранитель-ницей очага и традиций, как это не парадоксально была женщина. Приходя после замужества в семью мужа, первоначально она счита-лась «инородкой», но, в течение жизни, постепенно впитывая изна-чально чужие устои, к старости, после потери детородных функций (устное сообщение А.В. Головнева) становилась главной хранитель-ницей теперь уже ее родовых традиций и начинала передавать их своей молодой невестке. Во все времена женщина была связана с
16
В. С. Мосиндомашним хозяйством и, по этнографическим данным, в обществах с присваивающим хозяйством при отсутствии гончарного круга, из-готовление керамической посуды было преимущественно женским занятием [Семенов, Коробкова, 1983. c. 209]. Но в течение жизни женщина практически меняла свою идентичность и, если до заму-жества она орнаментировала посуду согласно с традициями дес-центной линии отца, то после замужества — по традициям линии мужа. Существуют различные варианты браков, но у народов Урала и Сибири традиционным можно считать вирилокальный брак, при котором жена переходит в семью (общину, род) мужа [Головнев, 1995; Перевалова, 2004]. В таком случае, женщина после замужества приносит в общину мужа часть традиций отцовского социума, что отражалось и в конкретных вещах, и в умениях и навыках деятель-ности. На этом этапе при изготовлении посуды она неизбежно руко-водствуется этими принципами, что в археологических источниках отражается как присутствие в одном жилище сосудов двух различ-ных систем орнаментации, например, отступающе-накольчатой и зубчатой. Воспитываясь в традиции накольчатой орнаментации, по прошествии времени, становясь хранительницей традиций социума мужа, она орнаментирует керамику уже не отступающими накола-ми, а оттисками зубчатого штампа или же и той и другой техникой. Со сменой поколений ориентация брачно-семейных связей может изменяться, и, соответственно, будет меняться состав керамической посуды как в рамках одной семьи, так и в рамках коллективов бо-лее высокого уровня. Помимо этого, каждый человек индивидуален, соответственно и керамическая посуда несет на себе большой от-печаток субъективности и огромного разнообразия. Например, мать ставит штамп вертикально и правой рукой, а дочь — чуть под углом и левой рукой, для одной треугольник имеет одни пропорции, для другой другие, а мы все это формализуем и разносим по разным культурам. Состав керамического комплекса жилища, стоянки или поселения будет зависеть от конкретного места в пределах обживае-мой территории, хозяйственной принадлежности памятника, остав-лен ли он одной семьей, резидентной группой в целом или целевой хозяйственной группой и т.д. Это значит, что даже на первом уровне
17
В. С. Мосинсоциумов можно говорить о совместном проживании представите-лей разных традиций.
Рангом выше в археологической классификации стоят стоян-ки и поселения — места адаптации определенного социума в окру-жающем ландшафте. Провести статистику распределения жилищ в площади поселений к настоящему моменту сложно, поскольку полностью раскопанных стоянок и поселений в Уральском регионе единицы. По предварительным оценкам на кратковременных стоян-ках существовало по одно—два жилища, на более долговременных поселениях — от трех до шести.
Если это стоянка с остатками одной постройки (жилища) или без формально зафиксированного факта наличия такого сооруже-ния, то подразумевается, что на этом месте определенное время (один сезон, несколько сезонов, много раз) проживал социум перво-го порядка — семья, или же функциональное объединение неболь-шой численности – целевая или хозяйственная группа. Поселение, обычно состоящее из трех—пяти жилищ привычно ассоциируется с понятием «община». В настоящее время применяется более адекват-ный термин — «резидентная группа». Это понятие, предполагающее объединение нескольких семей, в этнологии (социальной антропо-логии) является менее разработанным и спорным. В привычном для нас понимании — это первичная локальная группа, объединяющая несколько родственных семей, и возможно, не родственных членов коллектива и, имеющая целью хозяйственное освоение определен-ной территории [Кабо, 1986, c. 258—263; История первобытного общества, 1986; Гиренко, 1991, c. 101—103]. Средний размер общи-ны — «резидентной группы» живущей за счет охоты, собиратель-ства и рыболовства, составляет не более 50 человек [Мердок, 2003, c. 106—108; Кабо, 1986, c. 245].
Однако, в большинстве известных обществ автохтонные терми-ны, обозначающие общину как особое объединение людей, отсут-ствовали. Это во многом связано с непостоянством и большой теку-честью состава этих групп людей, что выступает высоко адаптивной чертой в обществах с присваивающей экономикой. Любой член общества — один или с семьей мог на неопределенное время при-
18
В. С. Мосинсоединиться к другой семье или группе семей, в которой у него най-дутся родственники или свойственники, причем таких потенциаль-ных вариантов всегда было несколько. Более того, в случае потерь, например, в результате эпидемий община могла принять адоптиро-ванных неродственных членов в свой состав, а для снижения соци-альной напряженности отдельные представители общины меняли свою общинную принадлежность [Шнирельман, 1986, c.364, 377; 462—463]. Слова, которые исследователи традиционно связывали с понятием «община», обозначали либо стоянку, или поселение, либо конкретную местность, либо людей, располагавшихся стоянками в конкретной местности. Вместе с тем, в этих группах присутствует структурирующее звено близких родственников, обладавших перво-степенными правами на используемую территорию и остававшихся на этой территории большую часть жизни [Артемова, 2009].
Учитывая данные обстоятельства, можно говорить о том, что обычное для археолога поселение представляет собой сложное со-циальное явление. Даже, если при удачном стечении обстоятельств, мы начинаем раскапывать поселение, которое считаем однослойным и археологически одновременным, состоящим из трех жилищ, это может означать, что мы исследуем место проживания или расширен-ной семьи, или резидентной группы, в которой неизбежно сочетают-ся представители разных десцентных линий, и следовательно, среди артефактов может находиться керамическая посуда разных орнамен-тальных традиций. Подход с позиции археологических культур уже на этом уровне перестает работать, поскольку коллектив родствен-ников не может относиться к разным культурам. Но найти единов-ременное поселение крайне сложно, для археолога это большая уда-ча. Чаще всего археологи исследуют поселение, площадка которого обживалась пусть даже одной резидентной группой, но в течение многих лет или сезонно в зависимости от хозяйственного цикла и период использования данной площадки занимал не одно десятиле-тие или столетие, что вполне реально, исходя из данных этногра-фии современных угорских народов. В таком случае количество артефактов, оставленных представителями различных десцентных линий значительно возрастает, и они очень вариативны. Керамиче-
19
В. С. Мосинские комплексы таких поселений включают в себя посуду, относя-щуюся к нескольким орнаментальным традициям, типологически разнообразную, статистически в разном процентном соотношении, но вместе с этим, оставленную все же одним социумом, а не разны-ми археологическими культурами. По сути дела, каждое поселение, на котором методически четко выявлен археологически одновремен-ный комплекс жизнедеятельности, является своеобразным узлом, в котором сплетаются нити родства и свойства резидентной группы и нескольких десцентных линий.
Определенное количество резидентных групп (общин) занима-ют общую территорию и соединены между собой отношениями род-ства, свойства, обмена, общей мифологией, другими коммуникатив-ными формами и образуют социальную систему (сеть) из поселений и стоянок, функционировавшую на определенном отрезке истории.
Такие социальные системы у археологов привычно ассоцииру-ется с термином «племя», уже давно не употребляемым в среде уче-ных, изучающих общества охотников, рыболовов и собирателей. Не стоит забывать, что вводя в широкий научный оборот понятие «пле-мя» Л. Г. Морган имел в виду, прежде всего, социальную систему конфедерации ирокезов, как идеальный (в философском понимании этого термина) эталон социального устройства общества догосудар-ственного уровня развития.
В языках обществ с соответствующим уровнем экономики от-сутствуют слова, которые отражали бы представления о таком объе-динении людей, которое исследователи ранее определяли в качестве племени. Вместе с тем, фактом является регулярное межгрупповое взаимодействие, обусловленное: необходимостью экономической взаимопомощи и выражавшееся во взаимном посещении оптималь-ных для хозяйствования сезонных мест; «путями» мифических геро-ев, связывавших широкие группы людей общими культами, с взаим-ным посещением сакральных центров; и главное — обмен брачными партнерами согласно со сложным комплексом различных условий и экзогамных запретов. Эти взаимодействия имели свои особые на-правления и очертания и создавали специфические родственные «макроструктуры», действовавшие в пределах широких географиче-
20
В. С. Мосинских ареалов и основывавшиеся на локальных родственных «микро-структурах» [Шнирельман, 1982, c. 83—109; Артемова, 2009].
Социальную систему такого уровня В. А. Шнирельман пред-лагал называть протоэтносами или протометаэтническими общно-стями, механизмы существования которых основывались на ши-рокой социальной сети [Шнирельман, 1982, c. 102; Шнирельман, 1986, c.462, 467], Н. М. Гиренко считал, что можно оставить услов-ное название «племя» [Гиренко, 1991], О. Ю. Артемова говорила о специфических родственных «макроструктурах», опиравшихся на «социальную сеть индивидуальных связей» [Артемова, 2009, c. 473, 479]. В. С. Мосин предложил понятие сообщинность — со-циальная сеть, состоящая из узлов (семей и общин — резидентных групп), связанных между собой родством, свойством, мифологией, экономической взаимопомощью и, осуществлявших свою жизне-деятельность в определенном окружающем ландшафте [Мосин, 2007, c. 7—19; Мосин, 2008, c. 159—174]. Границы таких социу-мов, то есть их идентичность определяется системой жизнеобеспе-чения в рамках вмещающих ландшафтов, своеобразной техникой и технологией, отраженной в специфических комплексах орудий и сочетанием нескольких традиций, характерных для определенных десцентных линий и, проявляющихся в системах орнаментации ке-рамики. Например, для раннего неолита Урала можно обозначить следующие социальные системы (сети) — сообщинности: кош-кинско-козловская, волго-камская, елшанская или, например, для позднего неолита — полуденско-боборыкинская, камская и сред-неволжско-волго-уральская, сосуществовавшие в определенные промежутки времени в различных вмещающих ландшафтах Пред-уралья и Зауралья. Приведенные названия нужно признать весьма условными, поскольку они отражают, в основном, типологически выделенные традиции в орнаментации посуды, а каждая из этих традиций существовала около тысячи лет. Более того, по современ-ной радиоуглеродной хронологии, например, около 4800 cal BC в Зауралье сосуществовали сразу несколько традиций: кошкинская, козловская, полуденская, боборыкинская, которые в археологиче-ской классификации относятся к различным периодам неолита.
21
В. С. МосинС другой стороны, возможно, именно эти факты являются свиде-тельством единства в рамках сообщинностей.
Именно в таких пределах сохраняются стабильные технологи-ческие и типологические традиции в изготовлении каменного ин-вентаря и определенные наборы керамических сосудов, разнообраз-ных в единстве комплексов каждый раз на каждом поселении в силу текучести состава резидентных групп и широты социальных связей. Только в этих пределах мы можем определить этничность социумов [Барт, 2006, c. 9—48; Тишков, 2003, c. 114—117].
Определить приблизительную территорию этнической иден-тичности можно лишь оценив интенсивность социальных связей между отдельными одновременными резидентными группами-об-щинами, оставившими нам поселения и стоянки. Таких полностью исследованных поселений должно быть, наверное, несколько де-сятков для каждого исторического отрезка, учитывая внутри-реги-ональное разнообразие ландшафтов и соответствующие варианты в системе жизнеобеспечения, о которых говорил Ф. Барт: «Внешние культурные формы, рассматриваемые в каче стве характерных ком-понентов, несут на себе следы воздействия экологии. Говоря это, я не имею в виду только тот факт, что они отражают историю адап-тации к окружающей среде; более непо средственным образом они также отражают внешние обстоятель ства, к которым должны при-спосабливаться члены сообщества. Одна и та же группа людей с од-ними и теми же ценностями и иде ями, несомненно, будет вести раз-ный образ жизни и институциализировать разные формы поведения перед лицом разных возмож ностей, открывающихся в различных обстоятельствах. Точно так же мы можем ожидать, что этническая группа, занимающая терри торию с варьирующимися экологически-ми условиями, будет про являть региональное многообразие инсти-туциализированного внешнего поведения, не отражающее различий в культурной ори ентации» [Барт, 2006, c. 13—14].
Социумы второго и третьего уровня не могли быть «закрыты-ми». В условиях нередких природных колебаний и стихийных бед-ствий резидентная группа (община) не смогла бы выжить, не опира-ясь на поддержку и помощь соседних общин. В отсутствие серьезных
22
В. С. Мосингеографических барьеров территориальные и социальные границы не были жесткими. Каждая община была центром своей социальной сети со своими направлениями брачных связей и эти сети соседних общин — резидентных групп неизбежно перекрывали друг друга во всех направлениях [Шнирельман, 1986, c. 462—463]. Например, для зауральско-западносибирской лесостепи, мы не сможем провести границу и четко обосновать разницу между комплексами Зауралья, Притоболья и Приишимья, Приишимья и Прииртышья, Приирты-шья и Приобья, поскольку это и есть мозаика взаимосвязанных об-щин. Суть явления определена тем, в какую сторону направлены социальные связи конкретной резидентной группы (общины), оста-вившей археологический памятник (стоянку или поселение). Для зауральско-западносибирской лесостепи эти связи разнонаправлен-ные, поэтому отдельные памятники, оставленные одним и тем же населением, относят к разным археологическим культурам, что и создает путаницу. Население, адаптируясь во вмещающем ландшаф-те лесостепи, в процессе годовых хозяйственных циклов осваивало свои общинные территории, и в случае необходимости заходили и в южную часть тайги и в южную лесостепь. Отсюда и направление брачно-семейных связей с родственным населением таежной зоны и северо-казахстанских степей. Обмен, на который обычно ссыла-ются, если найдут «инокультурный» горшок на «своей» стоянке, не сводился к обмену посудой или иной хозяйственной утварью. Ме-жобщинный обмен и обмен между сообщинностями – это, прежде всего взаимообмен ресурсами общинных земель и людьми, сочета-ние в обмене экологических и социальных тенденций.
При таком подходе первоначальной задачей является полное исследование всей площади выбранного для раскопок поселения, с тем, чтобы изучить его внутреннюю структуру, как замкнуто — открытую систему, проанализировать применяемые технологии, выявить комплекс традиций в каменном инвентаре и керамике, по-пытаться смоделировать социальную структуру изучаемых челове-ческих коллективов. Следующим шагом будет установление направ-лений и интенсивности связей с другими синхронными поселениями и определение всех ячеек этой сети, создающей этничность.
23
В. С. МосинИзучать такую систему мы можем с позиций синхронии и диа-
хронии. На современном уровне развития археологии в части иссле-дованности территорий, наличия полностью раскопанных поселе-ний и уровня точности датирования изучение синхронных объектов очень затруднительно. Пока что, единственно возможным методом анализа археологических материалов является диахронный, когда рассматриваются отдельные отрезки времени, периоды жизни раз-ных по природе объектов, как целые и большие конечные блоки, кластеры событий и состояний, когда сопоставление материалов стоянок и поселений осуществляется, образно говоря, по ступен-чатой диагонали, рассекающей весь исторический блок (например, ранний неолит). Поэтому моделировать историческую ситуацию пока возможно или для отдельного поселения, или для системы в целом, учитывая ее пространственно-хронологическую протяжен-ность. Предполагаемым результатом будет модель картины жизни как отдельного социума в рамках поселения, так и всей социальной идентичности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Артемова О.Ю. Колено Исава: Охотники, собиратели, рыболо-вы (опыт изучения альтернативных социальных систем). — М.: Смысл, 2009. — 560 с.
2. Археология. Неолит Северной Евразии. — М.: Наука,1996. — 379 с.
3. Барт Ф. Введение // Этнические группы и социальные границы. — М.: Новое издательство, 2006. — С. 9—48.
4. Борзунов В.А., Кирюшин Ю.Ф., Матющенко В.И. Поселения и жилища эпох камня и бронзы Зауралья и Западной Сибири // Па-мятники древней культуры Урала и Западной Сибири. Екатерин-бург. — 1993. — С. 4—45.
5. Бузин В.С. Поселения и жилища волосовской культуры как ис-точник социологической реконструкции // СА. — 1990. — № 3.
24
В. С. Мосин6. Васильев С.А. Древнейшее прошлое человечества: поиск россий-
ских ученых. — СПб.: ИИМК РАН, 2008. — 179 с.7. Васильева И.Н. О технологии изготовления керамики Кокшаров-
ского холма // Вопросы археологии Урала. — Екатеринбург-Сур-гут, 2011. — Вып. 26. — С. 103—124.
8. Ганжа А.И. Историография проблемы «археологической культу-ры» в отечественной науке: Автореф. дис. … канд. ист. наук. — Казань,1988. — 18 с.
9. Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. — Киев: Наукова думка, 1982. — 226 с.
10. Гиренко Н.М. Социология племени. — М., 1991.11. Головнев А.В. Говорящие культуры. Традиции самодийцев и
угров. — Екатеринбург: УрО РАН, 1995.12. Жилин М.Г., Антипина Т.Г., Зарецкая Н.Е., Косинская Л.Л., Ко-
синцев П.А., Панова Н.К., Савченко С.Н., Успенская О.Н., Чаир-кина Н.М. Варга 2. — Екатеринбург, 2007.
13. Зенин В.Н. Основные этапы освоения Западно-Сибирской рав-нины палеолитическим человеком // Археология, этнография и антропология в Евразии. — 2002. — Вып. 4 (12). — С. 22–44.
14. История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. — М.: Наука, 1986.
15. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община. — М., 1986.16. Каменецкий И.С. Археологическая культура — ее определение
и интерпретация // Советская археология. — 1972. — № 2. — С. 18—36.
17. Клейн Л.С. Археологическая типология. — Л.: Ленинградское научно-исследовательское археологическое объединение, 1991. — 448 с.
18. Корякова Л.Н., Молодин В.И. Изучение культурной изменчиво-сти в археологии // Вестник НГУ. Серия: история, филология. — 2012. — Том 11. — Вып. 3: Археология и этнография. — С. 82—102.
19. Массон В.М. Первые цивилизации. — Л.: Наука, 1989. — 275 с.20. Мердок Дж. П. Социальная структура. Пер. с англ. А.В. Коротае-
ва. — М.: ОГИ, 2003. — 608 с.
25
В. С. Мосин21. Монгайт А.Л. Археологические культуры и этнические общно-
сти // Народы Азии и Африки. — 1967. — № 1. — С. 53—69.22. Мосин В. С. Социально-адаптационная система Урало-Сибир-
ской лесостепи в конце каменного века // Культурно-экологи-ческие области: взаимодействие традиций и культурогенез: Сб. науч. статей. — СПб.: ИИМК РАН, СПб Гос. ун-т, 2007. — С. 7—19.
23. Мосин В.С. Центральный Урал в IV—III тыс. до н.э. // ВАУ. — Екатеринбург—Сургут: Изд-во «Магеллан», 2008. — Вып. 25. — С. 159—174.
24. Павлов П.Ю. Палеолит северо-востока Европы: новые данные // Археология, этнография и антропология Евразии. — 2008. — 1(33). — С. 33—45.
25. Перевалова Е.В. Северные ханты. Этническая история. — Екате-ринбург: УрО РАН, 2004.
26. Семенов С.А., Коробкова Г.Ф. Технология древнейших произ-водств. Мезолит-энеолит. — Л.: Наука, 1983. — С. 209.
27. Смирнов А.П. К вопросу об археологической культуре // Совет-ская археология. — 1964. — № 4. — С. 3—10.
28. Старков В.Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. — М.: Наука, 1980. — 220 с.
29. Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. — М.: Наука, 2003. — 544 с.
30. Хлобыстин Л.П., Проблемы социологии неолита Северной Евра-зии // Охотники, собиратели, рыболовы. — Л., 1972.
31. Шнирельман В.А. Протоэтнос охотников и собирателей (по ав-стралийским данным) // Ю.В. Бромлей (ред.). Этнос в доклассо-вом и раннеклассовом обществе. — М.: Наука, 1982. — 254 с., — С. 83—109.
32. Шнирельман В.А. Позднепервобытная община земледельцев-скотоводов и высших охотников, рыболовов и собирателей. Де-мографические и этнокультурные процессы эпохи первобытной родовой общины // История первобытного общества. Эпоха пер-вобытной родовой общины. — М.: Наука, 1986. — 574 с.
26
В. С. Мосин33. Шорин А.Ф., Виллисов Е.В. Объект 15 Кошкинской культуры
Кокшаровского холма: версии использования // ВАУ. — Екате-ринбург—Сургут, 2008. — Вып. 25. — С. 128.
34. Шорин А.Ф., Шорина А.А. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм // Археология, эт-нография и антропология Евразии. — 2011. — № 3 (47). — С. 70—77.
27
В. С. МосинВопросы и обсуждение
Л.Т. Яблонский: Уважаемые коллеги! Формат круглого стола пред-полагает живое общение, поэтому я предлагаю задавать вопросы в любой форме, кому как угодно, можно или устно или письменно.Вопросы: Т.С.Малютина: Вадим Сергеевич, Вы, начиная свой анализ памят-ников, общности, исходите из позиции эгалитарности общества …В.С. Мосин: Для каменного века, безусловно.Малютина: Но существуют разные точки зрения на предмет обществ каменного века. А у Вас совершенно однозначно.В.С. Мосин: Татьяна Сергеевна, я других определений для социумов этого времени не встречал.С.А. Григорьев: У меня небольшой вопрос. Нарисованная картина, имею ввиду не теоретическую часть, а в плане материала: в сущно-сти, она нормально отражает межэтнический контакт. Вопрос такой: каким образом могут в течение тысячи, двух тысяч лет сохраняться эти керамические традиции, отражающие эти десцентные линии в условиях совместного существования и в условиях отсутствия не-ких ареалов, где эта традиция должна существовать в чистом виде. Как может сохраниться тысячу, две тысячи лет, это кажется корот-кий промежуток, если мы смотрим отсюда на неолит далеко, но на самом деле с учетом продолжительности жизни сменилось безумное количество поколений, все уже давно перемешалось, трансформи-ровалось и т.д. Только, пожалуйста, ответ конкретный, как могло со-храниться в условиях отсутствия ареалов компактного существова-ния этих традиций.В.С. Мосин: Ареал компактного существования этих традиций как раз отражен. Что касается неолита - может быть на предыдущем ри-сунке. Вот ареалы компактного существования этих традиций.С.А. Григорьев: Там внутри безумное количество, ведь имеются вви-ду не конкретные традиции, скажем кошкинская, боборыкинская и т.д., имеется ввиду ареал, где все эти традиции вместе сосуществуют.В.С. Мосин: Традиции сосуществуют в одно и то же время и харак-терны для разных десцентных групп. Одной из задач десцентной
28
В. С. Мосингруппы является сохранение и передача традиций. Я не понимаю сути вопроса.С.А. Григорьев: Суть вопроса в чем: как может отдельная конкрет-ная традиция, повторяю…В.С. Мосин: Любая традиция технологическая, прежде всего, пере-дается путем непосредственного научения от человека к человеку. Поэтому если это традиция жизненно важная, она может существо-вать и тысячу лет, в чем проблема? По каменному инвентарю мы это и видим. И то же самое мы видим и по традиции орнаментированной керамики. Мы же специально с А.А. Выборновым собрали все даты для каждой орнаментальной традиции и получили для Урала более трехсот дат, и эта система отражает именно тот факт, что каждая ор-наментальная традиция существует около тысячи лет. Если Вы хоти-те слышать, как это передается, я не могу ответить на этот вопрос. Может, Сергей Валерьевич или Виктор Александрович …С.В. Соколовский: Я могу прокомментировать, могу переформу-лировать Ваш вопрос. Если традиции передаются только в рамках десцентной группы, т.е., грубо говоря, от отца к сыну, от матери к дочери, то каким образом она изолирует себя, т.е эти люди изолиру-ют себя в этих трудовых операциях, находясь в прямом контакте с носителями других традиций в рамках резидентной группы.В.С. Мосин: Я, к сожалению, не могу ответить на вопрос - как имен-но передается традиция. Вопрос конечно интересный, но я не в со-стоянии дать на него ответ.В.А. Шнирельман: И правильно, что не в состоянии. Я сейчас буду популяризировать то, что я еще лет тридцать назад писал. Речь об этноархеологии. Эт-ноархеология – это вовсе не этническая археология, как это пони-мают в Омске, это этнографическая археология. Так вот, есть масса интереснейших исследований и, в частности, о передаче традиций. Это не только от матери к дочери, что, в общем-то, нормально и ло-гично, но и от свекрови к невестке. Например, приходит женщина по браку и учится здесь, вопреки тому, что мы обычно представляем: якобы если она приходит из другой общины, она приносит другую традицию с собой и здесь ее воспроизводит. Иногда так бывает, а
29
В. С. Мосининогда бывает иначе. Тем интересна этнография, что она дает (о чем я буду говорить в докладе) нам представление о вариативности, при-чем такой, какую археологу даже трудно представить. И эта задача очень важная. К ней все подходят, но детальных исследований пока нет. Следует изучать рамки вариативности, причины вариативности, и это можно делать по этнографическим материалам. Но эта зада-ча окончательно не решена, хотя и поставлена. Теперь, что касается племени: от термина «племя» отказались не потому, что это не со-ответствует какой-то специальной социальной организации, которая существовала в традиционных обществах. Отказались по другой причине, когда этноисторики выяснили, что очень многие племе-на (те, которые фигурировали в этнографии как «племена») были сконструированы в колониальный период и сконструированы искус-ственно. Ведь тот же Эванс-Притчард в Африке, например, был, с одной стороны, социальным антропологом, с другой - колониальным чиновником. Этнографы следующего поколения изучали ситуацию иначе и показали, что там имелось очень диффузное общество, ко-торое нельзя втиснуть в какие-то оформленные общности с четкими границами. Вот модель прямо для нас. Речь идет о взаимоотношени-ях между динка и нуэрами, где шел перелив населения туда и обрат-но. Не было жестких границ, которые ещё до недавнего времени мы себе представляли и выстраивали: чем больше этнографы в поле из-учают такие ситуации, тем больше границы расплываются. В таких случаях этносы - это наследие представлений 19 века, которые были воспринято Советской властью. Отсюда стремление формировать этническую федерацию в 20-е годы, что требовало опоры на хоро-шо обоснованную этническую классификацию, обоснованную ста-тистически; отсюда потом в паспорт вошла 5-ая графа, и потом это передавалось из поколения в поколение, и к нашему времени люди (пока не упразднили эту 5-ую графу) уверились, что они это полу-чают чуть ли не с кровью! А в ситуациях, где этого нет в паспортах, если мы возьмем Передний Восток, Южную Америку, Африку, там этого нет, там диффузное общество, там можно переходить из одной категории в другую. Поэтому все значительно сложнее. Насколько термин «племя» удовлетворителен, это большой вопрос. На Западе
30
В. С. Мосинот него отказались, потому что он политизирован. Для Южной Аф-рики предложили новый термин «нексус», группа общин, то, что Вы называете «сообщинностью». Кстати, сообщинность похожа на то, что Ю.В. Бромлей называл соплеменностью. Был же этот термин. Т.е. люди думают в одном направлении, но придумать название сложно и, наверное, любой термин, который будет введен, встретит критику, т.к. нам всегда трудно согласиться с терминами. Но это большой во-прос. Теперь вопрос, который Вы затронули и который очень важен и много может решить. Это - вопрос о сезонности, т.к. действитель-но, особенно в доземледельческий период не вся десцентная группа передвигалась, а где-то община целиком собиралась вместе, где-то собиралась десцентная группа, но где-то были отдельные специали-зированные хозяйственные коллективы, например, группа охотни-ков, и все это можно фиксировать. Этнографы об этом давно писали, а лет 30 назад археолог Кольцов стал это изучать. Но почему-то это дальше не пошло, хотя есть интересные методы, которыми можно определять сезонность стоянок, поселений. Это важно, т.к. сезон-ность уже дает нам некоторый ключ к вопросу о том, что это будет за группа, т. е. идет ли речь об общине в целом или о какой-то отдель-ной хозяйственной группе. Есть особые методы изучения и ими надо пользоваться. И последнее. Вы тут говорили, что каждая традиция формируется в своем локусе, в своем географическом ландшафте. Все это правильно, но возникает вопрос: возможно ли конвергент-ное возникновение традиций? Когда-то я занимался археологией Передней Азии, неолитом, докерамическим неолитом. Там первые стрелы имели специфическую форму, это были выемчатые стрелы, которые датировались VIII – VII тысячелетиями до н.э. Потом я обнаружил точно такие же стрелы в I тысячелетии н.э. у индейцев Калифорнии. Абсолютно никакой связи тут нет, но вот Вам пример конвергентного возникновения одной и той же буквально традиции. Так бывает все-таки.В.С. Мосин:Я согласен. Безусловно, такие факты существуют. Геометрические микролиты появляются в Африке около 70 тыс. лет назад, потом они появляются на Дальнем Востоке около 12 тыс. лет назад, в Прибалти-
31
В. С. Мосинке - около 8 тыс. лет назад, на Южном Урале - около 8-9 тыс. лет назад. Это все конвергентные явления. Они независимы друг от друга. С этим трудно спорить. Но те традиции технологические, которые определяют ареал, они отличаются друг от друга. Они принципиально отличаются во времени, если бы мы по разным системам технологии говорили о типологии. Это одно, но когда это на технологическом уровне, это кри-терий, как мне кажется, очень конкретный. А по поводу передачи тра-диций, конечно, этим я тоже интересовался (в доклад все невозможно включить). Например, в беседе с А. В. Головневым я выяснял, как пере-даются традиции в рамках определенного социума. Он говорит: да, тра-диции передаются. Вот приходит молодая жена откуда-то, естественно, из другой фратрии, со своим представлением о традициях. Её учит све-кровь, старая, которая сидит в этом чуме и начинает ее учить. Но дело в том, что свекровь в свое время тоже пришла из другой десцентной линии, так скажем, и она становится хранителем этих традиций после того, как теряет детородную функцию, т.е. будучи бабкой, она становит-ся хранителем традиций того социума, в котором изначально она была чужой. Безусловно, это очень сложная хитрая система, которую мы в археологии никогда не поймем, но я просто попытался представить свое понимание этого процесса.Л.Т. Яблонский:Уважаемые коллеги! У меня два замечания по ведению. Во-первых, оргкомитет просит всех, кто задает вопрос или выступает, обозна-чать себя, место работы. И второе замечание. Дело в том, что пред-полагается издание, протокол нашего заседания. Нам нужно поду-мать, как нам вести круглый стол, стоит ли после каждого доклада открывать широкие дискуссии. Может, стоит заслушать всех, если все же кому-то не терпится что-то сказать после доклада, я думаю, это могут быть короткие выступления или короткий обмен мнения-ми, а основное обсуждение все-таки оставить на конец, когда будут заслушаны все материалы, будет возможность соответствующим об-разом сравнить и обсудить.С.В. Соколовский:Можно короткую реплику, для справки: Михаил Александрович Ро-зов. Здесь, в Сибири, был замечательный философ. Он занимался,
32
В. С. Мосинв том числе, и проблемой традиций. Мы используем это слово, а за ним - целый спектр довольно разных значений и в 2008 году он опу-бликовал книгу, которая называется «Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии». Он предложил там метафору «волны». Вот социальные эстафеты - это волна, говорит он. Такая волновая функция. Почему метафора волны? Если кто помнит про физику волны, частицы, допустим, волны любой жидкости вращаются во-круг собственной траектории на месте, а волна всегда распространя-ется на новом материале точно так же как традиция, она передается, все время на новом человеческом материале распространяется. И он в этой книге довольно концептуально разработал понятие традиции, и исторически он берет довольно широкий спектр, начиная с 18 века, когда это понятие вошло в научный оборот в более или менее со-временном его значении и заканчивая его всеми современными раз-мышлениями о том, что такое традиция. Я думаю, просто эта книга будет очень полезна для археологов в том числе. Тем более, что она довольно свежая, всего четыре года.Л.Т. Яблонский:Спасибо, я думаю, мы можем перейти к следующему докладу. Кол-леги, два предварительных замечания. Во-первых, название моего доклада отличается от того, что записано в программе, хотя суть до-клада от этого не меняется, в новой редакции он звучит: «Проблемы концепции этногенеза на современном этапе развития гуманитарно-го общества». И второе замечание, мой доклад будет носить заведо-мо провокативный характер. Я хочу воспользоваться присутствием здесь не только археологов, но и двух ведущих этнологов для того, чтобы в ходе обсуждения получить от них ответы на некоторые во-просы, которые я найти не могу сам.
33
Л. Т. ЯблонскийИнститут Археологии РАН
ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ ЭТНОГЕНЕЗА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
Введение. В. П. Алексеев не только теоретически сформулиро-вал концепцию этногенеза, но и убедительно показал возможности этногенетического подхода к решению практических вопросов ло-кальных этногенезов [Алексеев, 1986; 1989].
Однако, со времени выхода в свет книг В. П. Алексеева ситуация с этногенетическими исследованиями в нашей стране стала меняться и, боюсь, не в лучшую сторону. Для того чтобы в этом убедиться, рассмо-трим состояние этногенетических реконструкций в современной архе-ологии, этнологии и физической антропологии. База этногенетического исследования, образно выражаясь, покоится на табуретке, где в каче-стве ножек выступают археология, этнология, лингвистика и антропо-логия. Рассмотрим нынешнее состояние каждой из этих ножек только под углом зрения этногенетической концепции.
1. Археология1.1. Археология и национальное самосознание сегодня. Не се-
крет, что одним из результатов распада СССР стал мощный всплеск национального самосознания не только за пределами современной России, но и в самой России. Одной из форм этого всплеска стали попытки использования в индивидуальных или групповых полити-ческих интересах разного рода спекуляций, направленных на доказа-тельства особой древности того или иного народа на данной терри-тории и/или его преимущественного права на данную территорию. Для такого рода доказательств часто стали использовать и данные археологии, поскольку именно археологические артефакты позволя-ют, как думают, не только точно их датировать, но и напрямую свя-зать с тем или иным древним этносом. При этом без всяких сомне-ний подразумевается, что этнос, населяющий данную территорию
34
Л. Т. Яблонскийсегодня, является прямым и неизменным потомком этноса древнего. Отсюда — «русские арийцы» в их различных исторических прояв-лениях [обзор данных: Шнирельман, 2008], отсюда — паранаучные рассуждения о прародине ариев в Северном Причерноморье (на тер-ритории Украины) эпохи бронзы [Шилов, 1995], отсюда — верхне-палеолитические башкиры [Котов, 2006]. Примерам — несть числа.
1.2. Археологические области/общности. Во многом, некор-ректному использованию данных археологии способствуют теоре-тические недоработки в самой археологической науке. Так, в архе-ологической литературе часто, но далеко не всегда оправданно, для обозначения сходных проявлений в материальной культуре населе-ния степной Евразии раннего железного века применяются термины «культурно-историческая область» и «культурно-историческая общ-ность», которые часто оказываются понятиями синонимичными.
Возникают вопросы, которые требуют ответа. В чем, например, состоит андроновская общность, если ее алакульский и федоров-ский компоненты, как выясняется, не совпадают по времени суще-ствования, а носители указанных культур антропологически разли-чаются нам уровне рас второго порядка [Багашев, 2000], и имеют, следовательно, разное генетическое происхождение?
Что имеется в виду под «киммерийско-карасукской общно-стью» [Членова, 1971], если киммерийцы — это исторический эт-ноним (по Геродоту), а карасукская культура — условное название группы памятников, объединенных в карасукскую археологическую культуру? Какую общность [Мошкова, 1989] могли составлять Геро-дотовы савроматы и разделенные с ними территориально и хроноло-гически сарматы?
По мнению авторов учебника «Археология» [Канторович, Кузь-миных, 2006, с. 14] «археологические культуры могут группировать-ся в культурно-исторические общности и области» (понятие «общ-ность» в данном случае предполагает более тесные этнокультурные связи, нежели «область»). Ниже, однако, [там же, с. 15] термины общность и область пишутся через «/», как «общность/область», что, как будто, делает оба термина синонимичными. Головоломка для студентов, и не только для студентов.
35
Л. Т. ЯблонскийДанные антропологии [Алексеев, Гохман, 1984], свидетельству-
ющие об исключительной гетерогенности носителей этой мифиче-ской общности («скифо-сибирский мир»), игнорируются.
В литературе понятия «скифо-сибирская общность» и «скифо-сибирский мир» применяются как синонимы, но оба они содержа-тельно противоречивы, так как в них смешиваются этническая и географическая нагрузки, что, в принципе, терминологически не-допустимо. Неодушевленные «археологические культуры» никак не могут образовывать общности, как их не могут образовывать даже совершенно однотипные горшки или мечи, по природе своей не об-ладающие социальными характеристиками.
1.3. Археологические культуры и археологические иллюзии. Переходя от археологических комплексов к «общностям» мы неми-нуемо попадаем из области археологии в область этнологии.
Еще в старой работе классиков отечественной этнографии, М. Г. Левина и Н.Н. Чебоксарова [1955] четко формулируется: «Под историко-этнографической (читай — культурно-исторической - Л.Я.) областью мы понимаем территорию (курсив мой — Л. Я.), на которой в результате длительных связей, взаимного влияния и общности исторических судеб народов, населяющих эту террито-рию, сложилась определенная культурная общность (курсив мой — Л. Я.»). Еще за несколько лет до выхода в свет этой работы при участии одного из ее соавторов — М. Г. Левина, был сформулирован теоретический принцип, который и сегодня остается краеугольным камнем в теории отечественного расоведения и этнической истории. Этот принцип постулирует причинную независимость признаков социальной, языковой и биологической природы человека при воз-можности, однако, географической приуроченности социальных, биологических и лингвистических общностей в определенный хро-нологический период на данной территории.
Точно так же совокупность типологически сходных признаков материальной и духовной культуры в определенные эпохи может оказаться географически приуроченной к той или иной территории, что создает археологическую иллюзию существования здесь некоей человеческой или «историко-этнографической общности».
36
Л. Т. ЯблонскийВ пределах Волго-Уральской культурно-исторической области в
раннесарматскую эпоху сосуществуют, и археологически прослежи-ваются два разных хозяйственно-культурных типа — оседлых или полуоседлых земледельцев лесной и лесостепной полосы и степных кочевников-номадов.
В археологии термин «общность» подразумевает, как правило, общность этническую. Классический пример названия этнически окрашенной общности так называемый «скифский мир».
По традиционному определению классика отечественной архе-ологии, А. Л. Монгайта [1955], археологическая культура — это условный термин, употребляемый археологами для обозначения комплекса археологических памятников, объединенных общим вре-менем, общей территорией и характеризуемых общими чертами. Ус-ловность и неоднозначность понимания этого термина в археологии [Клейн, 1991] принципиально не дает возможности напрямую пере-ходить от археологических культур к этнографическим общностям.
Археологам вслед за этнографами и антропологами надо при-знать, что только географическая территория действительно мо-жет являться ареной формирования культурных общностей или их распада. Признаки материальной культуры, с которыми работает археология, могут с большим или меньшим успехом косвенно сви-детельствовать об особенностях этнических процессов на данной территории и в данное время, но методические возможности архео-логии не позволяют ей самостоятельно, и с достаточной долей объек-тивности и уверенности, вмешиваться в реконструкцию этнических или антропологических процессов, которые являются неотъемлемой частью этногенеза и этнической истории. Поэтому поле археологии — не изучение мифических общностей, а структурирование и харак-теристика материальной и духовной культуры историко-культурных областей, то есть понятий географических. И это уже с успехом де-лается с применением компьютерных гео-информационных систем — ГИС [Археология и геоинформатика, 2006].
Антропологи, которые вынуждены группировать свои выбор-ки на основе данных археологов о культурах и их датировках, часто сталкиваются с известными трудностями из-за путаницы в суще-
37
Л. Т. Яблонскийствующей системе археологических культур. И это при том, что в археологии само понятие «археологическая культура» воспринима-ется разными специалистами все еще далеко не однозначно. Ситу-ация остается сложной и не способствует пониманию палеоантро-пологами, которые при составлении выборок вынуждены метаться между одной археологической классификации культур и другими.
1.4. Археологические культуры и культурно-хронологические горизонты. Перспективной в этом смысле, как кажется, является ис-пользование в ряде случаев концепции «культурно-хронологических горизонтов» [Яблонский, 2012].
Под культурно-хронологическим горизонтом (англ. — cul-tural horizon), мы понимаем географический регион, который зна-чительно превышает размеры культурно-исторической области и, практически, не имеет географических пределов. Специфика горизонта состоит в том, что на определенном хронологическом этапе (фазе) получают широкое распространение археологиче-ские артефакты и их комплексы, признаки духовной культуры (в т.ч. признаки погребального обряда и декоративно-прикладного искусства), которые и маркируют данный горизонт (англ. — ho-rizon makers) или маркеры горизонта. К числу таких маркеров можно отнести, например, так называемую «скифскую триаду», некоторые типологические особенности керамики, предметов вооружения, торевтики, признаков погребального обряда и т. д. Хронологически смыкающиеся культурно-хронологические го-ризонты не образуют «прямых» абсолютно последовательных повсеместно наслоений. Культурно-типологические и, предпо-ложительно, этнокультурные ситуации в различных областях го-ризонта могут не иметь причинно-зависимых связей во времени. Особенности хронологического перехода от одного горизонта к последующему и от одной фазы горизонта к другой будут зави-сеть от конкретных обстоятельств в каждом локальном районе. В числе этих обстоятельств — экологические, военно-политиче-ские, этно-социальные, демографические, локальные миграцион-ные, разнонаправленные торгово-экономические и другие диффе-ренцирующие факторы.
38
Л. Т. ЯблонскийТак, например, в древней дельте Сырдарьи и Акча-Дарьинской
дельты Амударьи известны памятники эпохи бронзы, а Присарыка-мышская дельта Амударьи в эпоху бронзы вообще не была заселена, что и обусловило дифференцирующий культурный эффект этих рай-онов при переходе от культурно-хронологического горизонта (КХГ) эпохи бронзы к культурно-хронологическому горизонту раннего железного века (Яблонский, 2003). На территории Челябинской об-ласти фиксировалась система памятников раннесакского типа, а на территории Оренбургской области их либо вовсе нет, либо они еди-ничны — Гумаровский курган [Зуев, Исмагилов, 1999].
При внимательном рассмотрении оказывается, что переходу от эпохи бронзы к раннему железному веку в степи сопутствовали не только этноэволюционные, но и этно-трансформационные [Козлов, 1988] процессы. Вообще, этот переход больше не представляется, мне, по крайней мере, столь плавным и прямолинейным, как это ка-залось ранее и по моим работам [Яблонский, 1988; 1996], и по рабо-там Е. Е. Кузьминой [Кузьмина, 1986].
К тому же, переходы от одного КХГ к другому и, тем более, от одной фазы КХГ к другой не совершаются по команде «поворот все вдруг!!!» и, поэтому могут не совпадать по времени в различных ре-гионах или даже разных районах степи.
В отличие от археологических культур КХГ не имеет географи-ческих границ или каких-либо рамок в плане «горизонтальном», а вертикальном плане его границы «плавают» и во многом зависят от хронологических схем того или иного исследователя.
Важно подчеркнуть, что концепция КХГ, сама по себе, не про-тиворечит концепции археологических культур и не отрицает ее, но позволяет расширить кругозор рассмотрения археологических мате-риалов на более высоком таксономическом уровне, и способствует их обобщению, в том числе, на уровне археологических областей или даже провинций.
2. Этнология.Практика исследований показывает: чем меньше археолог ори-
ентируется в теории современной этнологии, тем охотнее, чаще и
39
Л. Т. Яблонскийувереннее он использует в своих реконструкциях всякого рода этни-ческую номенклатуру, почерпнутую из древних письменных источ-ников или просто выдуманную им самим.
2.1. Реквием по этносу. Между тем, само существование этно-сов, как исторической реалии, сформулированное Ю.В. Бромлеем и его школой теперь подвергается сомнению именно профессионала-ми-этнологами [Тишков, 1992; 2003; Малахов, 2003; Соколовский, 2009]. Таким образом, традиционная дискуссия о соотношении по-нятий «этнос» и «археологическая культура» сегодня переносится из плоскости теоретической проблемы соотношения в плоскость про-блемы существования этноса, как некой исторической реалии со-временности и древности вообще. В. А. Тишков упрекает школу Ю. В. Бромлея в политизированности. И с этим нельзя не согласиться. Школа Ю. В. Бромлея да и он сам работали в условиях политической и идеологической системы СССР. Но и концепция В. А. Тишкова тоже в достаточной степени политизирована и приспособлена к эт-нополитическим условиям современной России. Нет рас — нет про-блемы расизма [Яблонский, 2001]. По аналогии: нет этносов — нет проблемы острых сегодня межэтнических отношений при очевид-ных, однако, их проявлениях.
2.2. «Мифические этносы» и археология. «Этничность» [Тиш-ков, 2003, с. 60] в материальной культуре современных и древних сообществ если и отображается, то еще менее четко, чем этническая культура. «Под категорией народ в смысле этнической общности мною понимается группа людей, члены которой имеют общее на-звание и элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем происхождении и общей исторической памятью, ассоциируют себя с особой территорией, и обладают чувством солидарности [Тиш-ков, 2003, с. 60; курсив В.А. Тишкова]. По мысли В. А. Тишкова, понятие «этнической группы» надо заменить понятием «этническая идентичность», которую следует рассматривать больше как форму социальной организации, чем выражение определенного культурно-го комплекса [Тишков, 2003, с. 105].
Если так, то новая концепция «этничности» при всей ее веро-ятной привлекательности, как будто, образно говоря, выбивает еще
40
Л. Т. Яблонскийодну ножку из-под ног исследователей этногенеза, две ножки этой табуретки — археологическую (с ее этнокультурными комплексами) и этнографическую (с ее теорией этноса).
Любопытно, что дискуссия в современной этнологии о роли в ней классификаций народов и их языков — добавим сюда и расо-вые классификации — очень напоминает дискуссию в современной археологии о подходах к понятию «археологическая культура» — историческая реалия или только инструмент исследователя?, что, очевидно, неслучайно.
3. Антропология (третья ножка табуретки).В последние десятилетия в антропологии довольно отчетливо
обозначилось направление, суть которого состоит в определенной ревизии традиционных положений школы советской и российской антропологии. Это проявляется не только в замене понятия «антро-пология» (в российском понимании этого термина) на понятие «фи-зическая антропология» или «биоархеология» (в их американском понимании). Не в этом суть. Суть в том, что вместе с безобидной, казалось бы, заменой терминов, произошла подмена самого понятия «антропология» [программное выступление: Бужилова и др., 2008]. Еще недавно российская антропология, в том числе, и физическая, определялась как «наука об изменчивости человека (курсив оригина-ла) во времени и пространстве на всех уровнях организации живой материи: молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организ-менном или онтогенетическом [Антропологический словарь, 2005, с. 19]. Теперь же делаются попытки объявить, что, на самом деле, физическая антропология — это исследования в области этологии (суть наука о поведении животных), наука о болезнях древнего че-ловека, его диете, об изучении травм, искусственных деформаций и трепанаций на антропологическом палеоматериале. Не вызывает сомнений значимость подобного рода исследований, особенно для археологов и их научных отчетов. Но, строго говоря, хотя методи-чески они проводятся на антропологическом (костном) материале, в категорию собственно антропологических исследований они не по-падают, так как в них отсутствует главное антропологическое усло-
41
Л. Т. Яблонскийвие (по определению науки) — изучение собственно изменчивости человека. И это при естественной казуальности объектов изучения «биоархеологии».
Полезность «новой антропологии» или, как ее еще уж совсем необоснованно называют «биоархеологии» [Тернер, 2007] или «био-антропологией» [Ражев, 2009], никаких сомнений не вызывает. Но, в рамках нашей темы понятно, что эти исследования мало что дают для изучения этногенеза. Между тем, антропологические публи-кации последних лет показывают, что специалистов по этногенезу становится все меньше, а «биоархеологов» все больше. И это об-стоятельство тоже наводит на грустные размышления о судьбах и перспективах междисциплинарных исследований в нашей стране.
Результаты и их обсуждение. Изложенные и не изложенные здесь материалы позволяют, как кажется, говорить о кризисе этно-генетического направления в современной гуманитарной науке Рос-сии. И заставляют думать о путях преодоления этого кризиса, если еще не поздно.
В. П. Алексеев, призывая к интеграции наук для решения про-блем исторической антропологии, неоднократно повторял, что та-кая интеграция имеет смысл только при сохранении целостности и специфичности каждой из интегрируемых наук, заложенных в них самой их природой. У каждой из таких наук имеются преимущества перед прочими, но имеются и серьезные ограничения. Так, методами антропологии не удается, как правило, датировать костные остан-ки. Это дело археологов, которые применяют разработанные с этой именно целью методы. Проблемами выявления этнической спец-ифики или проявлений этничности занимается этнология, которая не в состоянии, однако, ни датировать артефакт, ни, тем более, са-мостоятельно установить антропологический тип изучаемой группы людей. Антропология не в состоянии ни датировать погребение, ни определить этническую принадлежность погребенного. Хотя такие необоснованные попытки делаются и сейчас. Мы видим, что на со-временном этапе развития каждая из научных дисциплин, участвую-щих в этногенетической реконструкции испытывает определенный методологический кризис.
42
Л. Т. ЯблонскийИзвечный вопрос: Что делать?Для обсуждения можно было бы предложить следующие шаги:1. Проведение цикла школ-семинаров по проблемам методики
изучения этногенеза с участием специалистов смежных дисциплин, придерживающихся желательно разных точек зрения на эти пробле-мы. Создать оргкомитет таких семинаров из специалистов в обла-сти теории археологии, антропологии и этнологии. Такие семинары (факультативно) можно было организовать на базе соответствующих кафедр ВУЗов с привлечением студентов этих кафедр и специали-стов из институтов РАН. Обеспечить публикацию главных итогов таких школ-семинаров.
2. Когда-то И. И. Гохман в одном из своих выступлений выра-зился в том смысле, что специалисту-смежнику только кажется, что проблемы существуют именно в его дисциплине, а у соседей никаких проблем нет, и там все в порядке, а выводы абсолютно обеспечены, и им можно доверять абсолютно. Подобно туристу, который прогули-вается по празднично украшенному Бродвею, и не знает и не видит проблем Нью-Йоркских трущоб. Чтобы увидеть эти проблемы надо пожить в чужом городе (Нью-Йорке, Санкт-Петербурге с его блестя-щими фасадами и знаменитыми дворами, в Лондоне, Париже и т.д.). От себя добавлю, что простое цитирование смежников, особенно в случае, когда цитата удобна в контексте собственного исследования, мало что дает для решения проблем этногенеза. Специалистов в рав-ной степени ориентирующихся в смежных науках с их проблемами у нас нет или почти нет, и оценить достоверность выводов смежника очень непросто. Вообще, надо понимать, что смежная дисциплина может дать в распоряжение исследователя некоторые гипотезы, но доказывать жизнеспособность этих гипотез следует специфически-ми методами собственной дисциплины. Поэтому представляется целесообразным создание временных междисциплинарных групп профессионалов-смежников для решения конкретных проблем ло-кальных этногенезов или формирования развития носителей кон-кретных археологических культур.
3. Удачный результат такого сотрудничества имеется в Институ-те археологии и этнографии СО РАН, где разнопрофильные специа-
43
Л. Т. Яблонскийлисты провели этногенетическое исследование носителей пазырык-ской археологической культуры, и пришли к убедительным выводам [Молодин, 2011]. Этот пример вносит ноту оптимизма в проблему современного и перспектив изучения локальных этногенезов.
4. Согласно своему определению понятия «народ» В. А. Тиш-ков [2003, с. 60] не исключает из формирующих его элементов и «об-щие элементы культуры», что дает принципиальную возможность перекинуть, пусть шаткий, мостик между этногенетическим иссле-дованием и материальной культурой, в том числе, древней, археоло-гической. Дело антропологов подтвердить или доказать еще раз, что, как думал Ю. В. Бромлей и представители его научной школы, фи-зический облик людей, также является составляющим элементом в понятии «народ». Тогда и антропология, опирающаяся на традиции советской и российской школы, как опирался на них В. П. Алексеев, его ученики и соратники, сможет занять достойное место в процессе этногенетического исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев В.П. Историческая антропология. М. 1979.2. Алексеев В.П. Этногенез. М. 1986.3. Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. М. 1989.4. Алексеев В.П., Бромлей Ю.В. Переселение народов и формирова-
ние новых этнических общностей // СЭ. №2, 1968.5. Алексеев В.П., Гохман И.И. Антропология Азиатской части СССР
// М. 1984.6. Анучин Д.Н. О древнем луке и стрелах, в кн.: Труды 5-го археоло-
гического съезда в Тифлисе. 1881. М., 1887.7. Антропологический словарь (под ред. Т.И.Алексеевой и
Л.Т.Яблонского). М. 2005.8. Археология и геоинформатика. Вып. 3. 2006 (CD).9. Багашев А.Н. Палеоантропология Западной Сибири. Новоси-
бирск. 2000.10. Балабанова М.А. Антропология Древнего населения Южного
Приуралья и Нижнего Поволжья. Ранний железный век. М. 2000.
44
Л. Т. Яблонский11. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М. 1983.12. Бужилова А.П., Добровольская М.В., Медникова М.Б. Антропо-
логические исследования в контексте современной российской археологии // Труды II (XVIII) археологического съезда в Сузда-ле. Т. I. М. 2008.
13. Грач А.Д. Историко-культурная общность раннескифского вре-мени в Центральной Азии // АС. Вып.23. Л. 1983
14. Зуев В.Ю., Исмагилов Р.Б. Курганы у дер. Гумарово в Южном Приуралья // АПО. Вып. III. Оренбург. 1999.
15. Канторович А.Р., Кузьминых С.В. Введение // Археология. М., 2006.
16. Классификация и периодизация памятников андроновской куль-турной общности // БМАИКЦА. Вып.9. М. 1985.
17. Клейн Л.С. Археологическая типология. Л. 1991.18. Козлов В.И. Этнические процессы // Свод этнографических по-
нятий и терминов: Этнография и смежные дисциплины. Этно-графические субдисциплины. Школы и направления. Методы (Бромлей Ю.В., Шторбах Г. – ред.). М. Наука. 1988. с. 53-57.
19. Котов В.Г. Башкирский эпос «Урал-Батыр»: историко-мифологи-ческие основы. Уфа. 2006.
20. Кузеев Р.Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: Этно-генетический взгляд на историю. М. 1992.
21. Кузьмина Е.Е. Классификация и периодизация памятников ан-дроновской культурной общности // БМАИКЦА. Вып.9. М. 1985.
22. Кузьмина Е.Е. Древнейшие скотоводы от Урала до Тянь-Шаня. Фрунзе. Илим. 1986.
23. Кузьмина Е.Е. Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев // Автореф. докт. дисс. Новосибирск. 1988
24. Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографичекие области // СЭ. 1955. №4.
25. Малахов В.С. Вместо заключения. Валерий Тишков и методо-логическое обновление российского обществоведения // Тишков В.А. Реквием по этносу. М. 2003.
45
Л. Т. Яблонский26. Молодин В.И. Этногенез носителей пазырыкской культуры //
Международный симпозиум «Terra Scythica». Программа. Тези-сы докладов. Новосибирск. 2011.
27. Монгайт А.Л. Археология СССР. М. 1955.28. Мошкова М.Г. Понятие «археологическая культура» и савромато-
сарматская культурно-историческая общность // Проблемы сар-матской археологии. Тез. докл. конф. Азов. 1988.
29. Мошкова М.Г. Пути и особенности развития савромато-сармат-ской культурно-исторической общности. Автореф. дисс. ... уч. ст. докт. ист. наук. М., 1989.
30. Пименов В.В., Понятие этнос в теоретической концепции Ю.В.Бромлея // Академик Ю.В.Бромлей и отечественная этноло-гия. 1960-1990-е годы. М. 2003.
31. Проблема расы в российской физической антропологии (под ред. Т.И.Алексеевой и Л.Т.Яблонского) М. 2002,
32. Ражев Д.И. Биоантропология населения саргатской общности. Екатеринбург. ИИА УрО РАН. 2009.
33. Скифо-сибирский мир. Новосибирск, 1987.34. Скифский мир. Киев, 1975.35. Соколовский С.В. Российская антропология: иллюзия бюлагопо-
лучия // Неприкосновенный запас. 2009. №1(63)36. Тернер К.Д. Биоархеология: учебно-методическое пособие. Но-
восибирск Новосибирский гос. ун-т 2007.37. Тишков В.А. Советская этнография: преодоление кризиса // ЭО.
2002. №1.38. Тишков В.А. Реквием по этносу. М. 200339. Членова Н.Л. Памятники 1 тысячелетия до н.э. Северного и За-
падного Ирана в проблеме киммерийско-карасукской общности // Искусство и археология Ирана. Всесоюзная конференция. До-клады. М. 1971.
40. Шевченко А.В. Антропология населения южно-русских степей в эпоху бронзы // Антропология современного и древнего населе-ния Европейской части СССР. Л. 1986.
41. Шилов Ю.А. Прародина ариев. Киев. 1995.
46
Л. Т. Яблонский42. Шнирельман В.А. Возвращение арийства: научная фантастика и
расизм // Неприкосновенный запас. 2008. №6 (62).43. Яблонский Л.Т., 1988. Население раннесакского времени в При-
аралье: археолого-палеоантропологический подход к проблеме этногенеза // Проблемы этногенеза и этнической истории наро-дов Средней Азии и Казахстана. Тез. докл. М. 1988.
44. Яблонский Л.Т. «Скифская триада» и проблема этничности ар-хеологических признаков // Проблемы исторической интерпре-тации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Тез. докл. VIII Западно-сибирского археолого-этногра-фического совещания. Томск. 1990.
45. Яблонский Л.Т. Саки Южного Приаралья (археология и антропо-логия могильников). М. 1996
46. Яблонский Л.Т., Культура этноса, этническая культура и археоло-гическая культура // Российская археология: достижения ХХ века и перспективы XXI в. Материалы научной конференции. Ижевск. 2000.
47. Яблонский Л.Т. Отрицание рас: против расизма или навстречу расизму? // IV Конгресс этнографов и антропологов России. Те-зисы докладов. М. 2001.
48. Яблонский Л.Т. Археолого-антропологическая гипотеза к про-блеме формирования культур сакского типа // (Мкртычев Т.К. – отв. Ред.) Центральная Азия. Источники, история, культура. Тез. Докл. Конф, посв. 80-летию Е.А.Давидович и Б.А.Литвинского. М.2003. с. 167-170.
49. Яблонский Л.Т.Археология и параэтногенетическое исследова-ние в современной России // Фальсификация источников и наци-ональные истории. Материалы круглого стола. М. 2007
50. Яблонский Л.Т. Новое о хорошо забытом старом: некоторые теоретические подходы к современной скифо-сарматской архе-ологии // Проблемы современной археологии. Сборник памяти В.А.Башилова. МИАР №10. М. 2008.
51. Яблонский Л.Т. Некоторые теоретические подходы в современ-ной археологии в контексте разработок Р.Г.Кузеева // Этнос, об-щество, цивилизация: кузеевские чтения. Матер-лы международ-
47
Л. Т. Яблонскийной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Р.Г. Кузеева. Уфа. 2009а.
52. Яблонский Л.Т. От антропологии Бунака и Дебеца, исторической антропологии Алексеева к биоархеологии Jane Buikstra: путь куда? // ВеА. Вып. 17. 2009б.
53. Яблонский Л.Т. Осторожно: этническая археология (спички де-тям не игрушка) // XVIII Уральское археологическое совещание: культурные области, археологические культуры, хронология. Уфа. 2010.
54. Яблонский Л.Т. Культурно-хронологический горизонт южно-уральской культурно-исторической области в эпоху формиро-вания раннесарматской культуры // Средневековая городская культура и кочевая цивилизация бассейна реки Урал. Материа-лы международной научной конференции. (Сдыков М.Н. – ред). Уральск. 2012. с.370-392.
55. Bashilov V.A., Yablonsky L.T. Some Current problems concerning the History of Early Iron Age Eurasian Steppe Nomadic Scieties // Kurgans, Ritual Sites, and settlements. Bronze and Iron Age. Oxford. 2000.
56. Willey G.R. A Functional analyses of the “Horizon Style” in Peruvean Archaeology // A Reappraisal of Peruvean Archaeology (Memories of the Society for American Archaeology. 4). New York. 1948.
57. Yablonsky L.T. Archaeological Mythology and Some Real Problems of the Current Archaeology // Complex Societies of Central Eurasia from the 3rd to the 1st Millennium BC. Regional specifics in Light of Global Models. V.1. Washington. 2002.
48
Л. Т. ЯблонскийВопросы и обсуждение
С.В. Соколовский:У меня вопрос такой. Как Вы все-таки сопрягаете в одном докладе отрицание возможности этнической атрибуции в некоторые эпохи с понятием этногенеза.Л.Т. Яблонский:Это как раз мой вопрос к Вам. Не я отрицаю существование этносов как реальных исторических единиц, а Ваш директор. Я только за-фиксировал в своем докладе этот факт и обратил ровно к Вам этот самый вопрос. Как же сопрягать отсутствие реальных этносов с ар-хеологическими изысканиями, которые по большей части направле-ны на сопрягание археологической культуры с каким-то историче-ским этносом?С.В. Соколовский:Хорошо, я отвечу на этот вопрос в докладе.Л.Т. Яблонский:Я на это рассчитывал. Пожалуйста, ещё вопросы. Тогда переходим к следующему докладу: Виктор Александрович Шнирельман.
49
В. А. ШнирельманИнститут этнологии и антропологии РАН
ЭТНИчНОСТЬ В АРХЕОЛОГИИ — РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ фАНТОМ?
Проблема «Этничность в археологии или археология этнично-сти?», по сути, включает три важных темы. Во-первых, что может сказать археология об этничности, и может ли вообще что-либо об этом сказать? Во-вторых, сегодня мы не имеем права упускать из вида политическую и социальную роль этногенетических построе-ний, включая влияние этничности специалиста на его археологиче-скую деятельность и интерпретацию полученных археологических данных. Наконец, в-третьих, каков выход из сложившейся ситуации?
В советское время несколько наук (археология, физическая ан-тропология, лингвистика, этнография) вели бесплодный спор о том, какая из них имеет приоритет в изучении истории первобытного общества. На мой взгляд, речь идет о междисциплинарном поле, где должны присутствовать разные науки, внося по мере возможности вклад в пополнение и развитие наших знаний. Место этнографии в этом не всегда правильно понимается. В эпоху эволюционизма счи-талось, что этнография (антропология) сама по себе, не прибегая к данным других наук, способна дать адекватное представление об эволюции человечества. Отдельные советские авторы по-прежнему следовали этим курсом, тогда как некоторые другие, ссылались на случайно выбранные этнографические материалы, и ими иллю-стрировали свои в целом априорные идеи (метод дедукции). Другой крайностью были построения тех археологов, которые полностью отказывались от использования этнографических аналогий, и до-казывали, что, имея дело с аутентичными материалами, только ар-хеология способна дать истинные знания о первобытном обществе. Этнография же, на их взгляд, была не способна адекватно осветить проблемы первобытности, ибо имела дело с обществами, подверг-шимися тем, или иным изменениям в эпоху колониализма, а затем — в ходе модернизации и глобализации.
50
В. А. ШнирельманДействительно, традиционные общества, изучаемые этно-
графией, имеют свою специфику, и ни в коей мере не могут счи-таться «первобытными» в полном смысле этого слова [Першиц, 1983, с. 39].
Однако любая культура является сложным сочетанием тради-ций и инноваций, и умелое обращение с этнографическим матери-алом способно познакомить специалиста с некоторыми традици-онными практиками, дающими пищу для размышления о том, что и как происходило в первобытности. Например, в 1991 году мне посчастливилось исследовать индейцев-тлингитов на Аляске. Это — вполне современное общество: их молодежь иной раз учится в американских университетах, а люди среднего поколения занима-ются современным коммерческим рыболовством. В то же время у них сохранилась система матрилинейных кланов, которая и сегодня является важнейшим элементом их социальной структуры. Вожди кланов (даже те, что находятся в домах престарелых) обладают не-пререкаемым авторитетом: они принимают важнейшие решения, к ним обращаются за советом в сложных жизненных ситуациях. Кро-ме того, клановая система определяет брачную политику, тем самым, контролируя весьма значимые сферы жизни людей.
Мне также довелось изучать айнов на острове Хоккайдо. У них тоже постоянно происходят изменения, связанные с модерни-зацией и глобализацией. Так сегодня, наряду с лососевыми, они подносят своим богам и героям киви, виноград, бананы. Но важно не то, какие именно они делают подношения, а то, что такие под-ношения по-прежнему делаются, и то, как вообще организуют-ся церемонии. В свою очередь в конце XIX века церемониальная пища тлингитов обогатилась завезенным туда рисом. Эти приме-ры говорят о том, что даже ритуальная сфера подвержена опреде-ленной динамике, то есть не является абсолютно консервативной и закрытой, как иной раз думают.
Модернизация также имеет свои пределы и региональную спец-ифику. Например, в 1992 году на Камчатке мне довелось видеть, как эвенская старуха очищала шкуру от мездры кремневым скребком. По-добная ситуация наблюдалась в годы гражданской войны и разрухи, и
51
В. А. Шнирельманвовсе не случайно вскоре после нее один из отечественных специали-стов предложил программу исследований, которая сегодня получила название этноархеологии [Щавинский, 1923, № 2, с. 98—102].
Иными словами, разные сферы культуры развиваются с разной скоростью, и развитие культуры не является исключительно однона-правленным процессом. Бывают и периоды отката, когда архаичные практики возвращаются. Причем едва ли не самой консервативной является социальная структура. Все это надо иметь в виду, чтобы адекватно представлять возможности этнографии и правильно ис-пользовать предоставляемые ею данные для понимания процессов, происходивших в первобытности.
Важен и вопрос о понимании закономерностей, с которыми мы имеем дело. Ведь еще в 1950—1960-х годах Л. Уайт и другие неоэ-волюционисты (Э. Сервис, М. Салинз и др.) показали, что имеются разного рода социально-исторические закономерности: одни из них имеют универсальный характер, другие составляют специфику от-дельных регионов [Шнирельман, 1979, с. 146—148].
Например, мои собственные исследования процессов станов-ления производящего хозяйства показывают, что, с одной сторо-ны, хозяйственная эволюция демонстрирует ряд общих особенно-стей (с переходом к земледелию растет продуктивность с единицы площади; этот переход позволяет снизить степень подвижности, а в отдаленной перспективе обусловливает переход к прочной осед-лости и росту плотности народонаселения; соответственно услож-няется социальная организация), а с другой, в отдельных регионах выявляются свои закономерности (первичные и вторичные очаги становления производящего хозяйства; особенности хозяйственной деятельности, связанные со специфическим набором местных куль-турных растений и техникой их выращивания; соотношение между подвижностью и оседлостью, между преимущественно земледель-ческой или скотоводческой эволюцией, и пр.) [Шнирельман,1986, с. 236—426; 1988, с. 5—139;1989].
Поэтому модели однолинейной и многолинейной эволюции во-все не отменяют друг друга. Зато важно четко понимать, что именно за ними скрывается. С этой точки зрения, сегодня проблемой явля-
52
В. А. Шнирельманется вовсе не выбор между ними, а выявление и учет разного рода закономерностей, понимание особенностей их привязки к разным контекстам и эффективное их применение для археологических ре-конструкций.
Что касается археологии, то в отличие от этнографии, она имеет дело с мертвой, а не с живой культурой. Археология оперирует поня-тием «культура» одновременно, и в очень широком, и в очень узком смыслах. В широком смысле под культурой археология имеет в виду образ жизни и все его многообразные проявления [о малой операци-ональной ценности такого определения см. Иглтон, 2012, с. 53—61].
Но в то же время фактически она имеет дело с культурой в очень узком смысле как отображением всей многообразной человеческой дея-тельности и человеческих взаимоотношений в материальной культуре, больше того, в остатках этой культуры, дошедших до нас в видоизме-ненном виде в силу действия пост-депозитарных процессов. А мертвая культура имеет свои особенности, и одних лишь знаний о ней недоста-точно для того, чтобы перейти к реконструкции былой живой культуры [Eggers, 1950, p. 53—55; Захарук, 1975, c. 4—6].
Поэтому интерпретация полученных материалов и ныне явля-ется одной из самых сложных и наименее разработанных процедур археологического исследования. Одних лишь археологических зна-ний для этого недостаточно. Ведь, отказываясь от обращения к эт-нографическим материалам, археолог вынужден полагаться на здра-вый смысл. Но, как показал еще Ф. Боас, здравый смысл культурно окрашен и потому нередко ведет к псевдообъяснениям. Примером неудачной реконструкции служит модель ботайской землянки на Аркаиме, где ее создатели разместили у задней стены рабочую пло-щадку. Этнографические данные из самых разных регионов мира показывают, что задняя стенка жилища и место у нее служили свя-щенным пространством, которое не использовалось для утилитар-ных целей.
Я глубоко убежден в том, что никакие социальные или социо-культурные реконструкции невозможны без глубокого знания живых культур, их структуры, характерных для нее взаимосвязей между от-дельными культурными или социальными блоками, а также особен-
53
В. А. Шнирельманностей взаимоотношений между культурами. Необходимо знать, как устроена живая культура, каковы ее компоненты, какова связь между ними, как, и почему они изменяются, какая именно социальность скрывается за различными культурными феноменами, и как они ее отражают.
В то же время, вопреки встречающимся порой наивным ожи-даниям, знания о традиционных культурах, разумеется, не могут дать однозначного ответа на вопрос о том, с каким именно обще-ством имеет дело археолог. Однако они могут послужить основой для построения моделей, способных помочь археологу в постановке «правильных вопросов», и мобилизовать его на поиск именно тех материальных остатков, от которых можно ожидать «правильных ответов». Такие модели позволяют отойти от упрощенных схем, ос-нованных на «здравом смысле», и разрабатывать более тонкие под-ходы к анализу древних обществ, которых не знала традиционная археология. Однако создание этих моделей требует сравнительного анализа десятков, если не сотен, традиционных обществ [см., напр., Шнирельман, 1980; 1991, с.17—28;1993 б, с. 98—121].
При этом нужны знания не просто абстрактной традиционной культуры, а культурной вариативности и ее причин, а также того, как живая культура превращается в мертвую. Речь идет не о меха-нических аналогиях, а о понимании динамики развития культуры во взаимосвязи ее отдельных компонентов. Следует также иметь в виду, что между одними компонентами существует жесткая связь, а между другими — слабая, более опосредованная. Кроме того, раз-личные сферы культуры в разной степени поддаются изменениям: некоторые из них более динамичны, другие более консервативны. Например, пища и религия демонстрируют больший консерватизм, чем, скажем, военное дело. Но в области пищевого рациона и в рели-гиозной сфере в то же время от времени происходят революционные изменения.
Хотя пригодность этнографических данных для реконструкций иногда оспаривается [Trigger, 1989], они, на мой взгляд, сохраняют свою важность. Этнографические материалы показывают, во-первых, функциональные связи между отдельными сферами культуры, во-
54
В. А. Шнирельманвторых, динамику развития в парадигме «контролируемого сравне-ния» [Eggan, 1954, v. 56], в-третьих, культурную вариативность и ее границы (в частности, этнографические материалы, показывают, как не может быть никогда). Хорошим примером служит идея «домести-кации» стад охотниками, которая, с точки зрения этнографических моделей, просто нереальна. Для построения этнографических мо-делей нужны широкие сравнительные исследования, учитывающие, во-первых, большую выборку (не менее нескольких десятков раз-нообразных культур), а во-вторых, динамику культурного развития (поэтому этнографический атлас Мердока, являющийся коллекцией статичных культур, имеет серьезные изъяны, и может служить лишь для ограниченных целей). Только это может дать представление об общих закономерностях и особенностях их проявления в конкретных условиях. Но, для такого исследования у археолога просто нет, ни времени, ни возможностей. Это требует уникальных специалистов, во-первых, хорошо знакомых с особенностями археологических и этнографических материалов, а, во-вторых, способных заниматься сравнительным анализом и имеющих для этого время и ресурсы. Без такого широкого подхода невозможно понять суть общих закономер-ностей, а без этого наблюдается расцвет этноцентризма, отрицаю-щего вообще какие-либо закономерности.
Представляется, что деконструкция этноцентристских этно-генетических мифов [об одном из удачных примеров, основанного на этом обучения студентов см. Williams, 1991] может стать тем су-щественным вкладом, который способны сделать специалисты для смягчения межэтнической напряженности. В этом смысле полезно отметить различия между западными и советским (а он сохраняет свое значение и в современной России) подходами к изучению эт-ногенеза и этнической истории. Ключевым различием является под-ход к определению народа или этнической группы. Наиболее рас-пространенный на Западе подход исходит из того, что этническая группа определяется, прежде всего, по самосознанию. Иначе говоря, если люди относят себя к какой-либо определенной культурной общ-ности, то эту общность и следует считать соответствующей этни-ческой единицей. Поэтому западные ученые делают упор, прежде
55
В. А. Шнирельманвсего на психологический фактор и понимают процесс этногенеза как вызревание чувства единства, независимо от того, на чем оно ос-новано. А такое чувство возникает в условиях культурной границы и питается отношениями того или иного неравенства, опирающегося на культурные различия. Соответственно предполагается, что толчок этногенезу в ряде случаев может дать сложившаяся государствен-ность, выковывающая общественное единство и устанавливающая внутренние социокультурные границы политическими методами.
Некоторые авторы приписывают современному государству кри-тическую роль в этногенезе и прямо связывают последний с осознан-ной борьбой против дискриминации или даже этноцида в условиях бы-стрых и резких социо-политических изменений. Ряд авторов считают, что во многих регионах мира этничность явилась плодом колониализ-ма и капитализма. Очень важным моментом в этой концепции, отли-чающей ее от российской, служит акцент на сознательном поведении, направленном на создание особой общности, противостоящей доми-нирующему населению [Banton, 1977, p. 136–155; Gellner, 1983, p. 75; Horowitz, 1985, p. 64—70; Roosens, 1989; Verdery, 1988, vol. 15; Eriksen, 1993, p. 78—83; Keating, 1996, p. 13; Gladney, 1996, vol. 9, no. 4; Hill, 1996; Whitten, 1996; Laitin, 1998; Kaufman, 1999, vol. 33, p. 437—457; Об ином подходе см. Smith, 1991, p. 25—37; Greeley, 1974, p. 293—309; Bakalian, 1993, p. 48—49]. Иногда этногенезу придается еще более уз-кое значение — под ним понимается процесс появления этнического сознания и рост этнической сплоченности у иммигрантов, осознающих свое единство в рамках чужого государства [Greeley, 1974, p. 293—309; Bakalian, 1993, p. 48—49].
Впрочем, даже если делается попытка различить разные модели формирования этнических групп, этот процесс все-таки относится к недавнему прошлому, или же считается явлением, происходящим на наших глазах [Petersen, 1997, p. 19—24].
В любом случае одним из важнейших моментов такого процес-са считается создание альтернативной этноистории [Alonso, 1988, vol. 1, no. 1; Sider, 1994, vol. 1, no. 1, p. 118—120].
Этот подход позволяет, в частности, понять, почему домини-рующее население, в отличие от меньшинств, очень часто отлича-
56
В. А. Шнирельманется слабовыраженным этническим самосознанием, что отравляет жизнь соответствующим великодержавным этнонационалистам. Действительно, как показывает исторический опыт, представители доминирующего большинства, культура которого находится в от-носительной безопасности, более склонны развивать политически нейтральную версию отдаленного прошлого, чем представители меньшинств, опасающиеся за свое будущее [Diaz-Andreu, Champion, 1996, p. 7, 15].
Доминирующее большинство, как правило, ассоциирует себя с универсальными общечеловеческими, а не со специфически этниче-скими ценностями, и поэтому его этническое самосознание неизбежно ослаблено [Rex, 1997, vol. 20, no. 3, p. 457, 463; cм. также Banks, 1996, p. 149—160]. Как это сформулировал один аналитик, «прелесть положе-ния правителя [заключается в том], что не нужно беспокоиться о том, кто он такой… В то время как другие культуры отличаются, твоя соб-ственная является нормой …» [Иглтон, 2012, c. 73].
Вместе с тем, нетрудно заметить, что западный подход при всей своей справедливости не позволяет углубляться достаточно далеко в историю, так как источники, из которых можно почерпнуть дан-ные о четком групповом самосознании, относятся к сравнительно недавнему прошлому. Поэтому появившиеся в последние двадцать лет на Западе исследования по этногенезу касаются по большей ча-сти процессов относительно недавнего прошлого или тех, которые происходят буквально на глазах у исследователей, когда имеется воз-можность проследить особенности формирования групповой иден-тичности [см., напр., Roosens, 1989].
В российской науке и в бывшем СССР в целом издавна практи-ковался иной подход: изучение культурных групп прошлого велось по внешним формальным признакам, включавшим физический тип, язык, культуру. Эти признаки и их преемственность можно просле-живать с очень отдаленных времен, на чем и основаны популярные в России этногенетические исследования, ставящие целью изучение формирования народа. Надо отметить, что ведущие советские ис-следователи никогда не настаивали на том, что древние культурные группы, которые изучает этногенетическая наука, можно отождест-
57
В. А. Шнирельманвлять с современными народами. В советской науке со временем сложилось представление о том, что собственно историю современ-ных народов надо начинать с появления этнического самосознания, закрепленного этнонимом. Поэтому до этого момента исследователи говорили об этногенезе, а после – об этнической истории. В этом и заключается применяемый в российской науке внешний подход к этногенезу.
Сегодня совершенно очевидно, что у этого подхода имелось одно весьма уязвимое звено. Ведь и для древних реконструируемых культурных или языковых групп применялись, и до сих пор приме-няются такие термины как «этнос», «этнокультурная» или «этноязы-ковая» группа, хотя не имеется никаких убедительных свидетельств того, что данная группа имела единое самосознание. Тем самым создавалась иллюзия наличия такого самосознания. Вот почему та-кой подход вел к неизбежному отождествлению археологической культуры с этносом. И вот почему он повсюду, будь то СССР или нацистская Германия, был с благодарностью воспринят национали-стами, которые пытались протянуть прямую нить от древних этно-культурных сообществ к современным народам. Надо отметить, что популярный в Европе, особенно, в Германии в довоенные годы, этот метод после войны перестал использоваться на Западе, будучи дис-кредитирован связями с нацистской расистской идеологией [впро-чем, примордиалистский подход к этногенезу до сих пор находит приверженцев на Западе. См., напр., Smith, 1986; Hudson, 1999].
Следует также отметить, что в первой половине 1930-х годов советские авторы были, пожалуй, единственными, кто указывал на прямую связь этого метода с расизмом, этноцентризмом и террито-риальной экспансией [Шнирельман, 1993 а, № 3; 1995 а, № 6].
Но во второй половине 1930-х годов в СССР произошел офи-циальный поворот к советскому патриотизму, за которым скрывался имперский национализм, а интернационалисты подверглись репрес-сиям, ярчайшим примером чего стал разгром марризма [Илизаров, 2012, c. 339; Ср. Шнирельман, 1993 а; 2011, т. 1, с. 233—250].
С тех пор, этногенетические исследования, основанные на вы-шеупомянутой методике, стали одним из самых популярных направ-
58
В. А. Шнирельманлений в советской науке и остаются таковыми в современной Рос-сии. Тем самым открылась дорога к расцвету националистического исторического мифотворчества, или уже — этноцентристских этно-генетических версий [Шнирельман, 1999; 2000; 2003; 2006; Shnirel-man, 1996], которые фактически превращали современные этносы едва ли не в вечные категории, делая их аналогами рас (правда, это далеко не всегда внятно артикулировалось). Ведь, как правильно отмечает Т. Иглтон, «национализм — это то, что приспосабливает примордиальные связи к сложностям современности». Со ссылкой на Э. Геллнера он поясняет, что с распадом традиционных социаль-ных связей основой социальности по необходимости становится «культура», под которой понимают единство языка, образа жизни и общего исторического наследия [Иглтон, 2012, с. 44]. В этом смысле «культура» относится к категории «воображенных сообществ» и во-преки надеждам археологов не поддается объективизации. Нетруд-но заметить, что такой подход имеет прямую связь с романтизмом XIX века.
Этносы, какими мы их знаем в России, являются плодом бюро-кратического конструирования и статистических процедур, превра-тивших их в жесткие сооружения с малопроницаемыми границами. Однако в тех регионах мира, где культурная идентичность не учи-тывалась паспортной системой и бюрократическими формами, она чувствовала себя много свободнее. Похоже, что этничность приняла жесткую форму только в эпоху модерна и национализма. До этого идентичность имела плавающий, ситуационный характер и отнюдь не отличалась жесткостью, что сегодня хорошо описано культурны-ми антропологами.
Все это заставляет нас заново вернуться к вопросу о правомер-ности поиска этничности путем археологических исследований, ставшего популярным в последние советские десятилетия, когда от-дельные теоретики писали об «этническом процессе в первобытно-сти» [Генинг, 1970].
Причем некоторые верили, что первые этносы появились еще в палеолите [Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе / под ред. Ю.В. Бромлея. М.: Наука, 1982]. Я тоже участвовал в этом сбор-
59
В. А. Шнирельманнике. Но уже тогда, изучая традиционное общество аборигенов Ав-стралии, я заметил, что они существенно отличаются от того, что понималось под этносом советской наукой. Поэтому в изначальном варианте моей статьи термин «племя» был взят в кавычки. Но ка-вычки были сняты редактором сборника под тем предлогом, что Энгельс использовал этот термин без кавычек. В результате смысл статьи был искажен. Все же, чтобы показать своеобразие австралий-ской ситуации, я использовал термин «протоэтнос», хотя сегодня правильнее было бы вообще не использовать в этом случае этниче-скую терминологию.
Оперируя терминами «этнос», «этнический» и другими, мало кто задумывается о том, применимы ли они вообще к первобытным или раннеклассовым обществам, а если да, то в каком смысле. В одном из своих выступлений Е. И. Крупнов совершенно справед-ливо заметил, что, говоря о родоплеменном строе, пусть и на за-ключительном его этапе, специалист имеет дело с племенами и пле-менными союзами, но не с народами, о которых говорить еще не приходится [Крупнов, 1967, с. 318]. В частности, вряд ли можно на-зывать скифов, сарматов или алан народностью (народом, этносом), как это иной раз делается в литературе [см., напр., Мурзин, 1990; Петрухин, Раевский, 1998; Хетагуров, 1996, № 6 (ноябрь)]. В свое время И. М. Дьяконов удачно показал, что в разные эпохи в разных социальных условиях люди очень по-разному относились к своей идентичности [Дьяконов, 1989, № 4]. В частности, в традиционных обществах идентичность могла опираться даже на хозяйственно-культурный тип [Шнирельман, 1992, с. 208—233].
Если связывать этнос, прежде всего с лояльностью языку и культуре, как в наше время часто и происходит, то в первобытности первостепенное значение имело социальное родство, то есть соци-альное пространство определялось родственными или псевдород-ственными отношениями, перед которыми все остальные параме-тры не представлялись сколько-нибудь важными. В соответствии с этим, в силу брачных норм переселяясь в другую общину, человек мог сменить и язык, и культуру! Это не представляло особых труд-ностей из-за распространенности билингвизма и бикультурализма.
60
В. А. ШнирельманСледовательно, современное понимание этноса мало соответствует той реальной ситуации, которая могла встречаться в первобытности (в свое время я связал такую ситуацию с «протоэтносом» [Шнирель-ман, 1982, c. 83—109], но, исходя из современных установок, ее пра-вильнее называть безэтнической).
Поэтому у меня большие сомнения в том, что мы вообще мо-жем говорить об этничности и этнических предках для ранних эпох – первобытности, античности или раннего средневековья. Я гово-рил об этом на конференции в Махачкале в 1997 году [Шнирельман, 1997, с. 9—11], а также на заседании Ученого совета Института ар-хеологии РАН 3 июня 2005 года.
В современном понимании этническая группа определяется прежде всего языком и культурой (в отдельных случаях религией), которые служат этническими маркерами для самих носителей эт-ничности. Однако в традиционных обществах самоидентификация людей опиралась, прежде всего, на социальные семейно-клановые и общинные связи, имевшие лишь опосредованное отношение к языку и культуре, как они сегодня понимаются. Например, то, что современные лингвисты считают диалектами одного языка, абори-гены Австралии представляли отдельными языками. В подобных традиционных обществах царили билингвизм или многоязычие. Еще сложнее обстоит дело с традиционной культурой, которая была представлена большой вариативностью, включавшей многочислен-ные уровни иерархии. Мало того, благодаря обычаю адопции, весь-ма распространенному в традиционных обществах, в клан могли принимать выходцев из совершенно иных общин (иного лингвокуль-турного облика), причем не только детей, но и взрослых. И браки стремились заключать с членами отдаленных общин, чтобы расши-рить свою социальную сеть. Групповая лояльность в традиционных обществах определялась клановой и племенной принадлежностью, перед которой языковые и культурные факторы, свойственные со-временной этничности, отступали на второй план.
На Камчатке мне довелось брать интервью у молодой женщи-ны, которая вышла замуж в отдаленную общину, где она должна была сменить свою одежду и носить то, что было принято в общине
61
В. А. Шнирельманмужа. И я видел, какой была ее радость, когда, вернувшись, домой, чтобы навестить родителей, она смогла снова надеть те платья, кото-рые носила до замужества. Там же я познакомился с погребальным ритуалом (обрядом кремации) коряков. Оказалось, что для покой-ных шили особую одежду каждый раз с новыми украшениями, и все это отличалось от того, что носили живые. У традиционных татар в Татарстане до недавнего времени было принято хоронить супругов порознь на их общинных кладбищах. Что в таком случае (если су-пруги похоронены на разных кладбищах) сможет сказать археолог о брачной системе и живых социальных практиках, основываясь на данных погребального обряда?
Археологи обычно ассоциируют этничность с более или менее гомогенной археологической культурой. По сути, в этом выражается приверженность устаревшим подходам, когда внешний наблюдатель (нередко этнограф) считал себя вправе выделять этническую группу, не интересуясь тем, что думают сами члены такой группы о своей идентичности. Теперь мы от этого отказались, и огромное значение придается самосознанию.
Но даже в русле прежнего подхода все оказывается не столь убедительным, как это представляется иным теоретикам. Ведь раз-ные археологические культуры, относящиеся к разным эпохам или расположенные на разных территориях, выделяются по разным при-знакам – многое зависит от специфики археологического материа-ла и предпочтений конкретных археологов. Например, некоторые археологические культуры эпохи неолита выделяются по керамике (потому что других показательных материалов просто нет), а для более поздних культур используются так называемые «руководящие типы», скажем, скифская триада. Но в первом случае не учитывается возможность наличия общин инокультурных и иноязычных ремес-ленников, которые могли обслуживать соседние группы, не знавшие ремесленного производства (как это известно, в Северной Африке). Такую модель можно вполне ожидать в степном и лесостепном реги-онах, где тесно взаимодействовали кочевые и оседлые группы.
А во втором случае не учитывается роль престижного богатства и престижных вещей, широко использовавшихся в элитных кругах
62
В. А. Шнирельманнезависимо от лингвокультурной принадлежности. Примером мо-гут служить обычаи обучения панамских вождей в Колумбии, когда ученик (будущий вождь) возвращался в Панаму с богатыми дарами, полученными от своего наставника [Helms, 1979].
Кроме того, надо учитывать моду, заставлявшую самые разные группы ориентироваться на наиболее выдающуюся, в результате чего отдельные престижные вещи или комплексы таких вещей (то есть те же «руководящие типы») распространялись в широких ареа-лах, охватывавших несколько разных племенных групп (копья у воз-растных групп маа-язычных народов [Hodder, 1982; Larick, 1985, vol. 4, no. 1, p. 201—215], кабардинский наряд на Северном Кавказе). Эта модель могла иметь место в степной зоне в эпоху раннего железного века и раннего средневековья. Поэтому, наличие огромной единой гомогенной культурной области или ареала однотипных престиж-ных вещей вовсе не говорят однозначно о каком-то социальном или лингвокультурном единстве (хотя говорят о социальных связях, ха-рактер которых еще следует определить). В пределах таких ареалов вполне могли обитать группы с разными языками или с диалектами одного языка, которые вовсе не ассоциировали себя с какой-либо единой социальной целостностью.
Далее, даже если (допустим такой вариант) все исследователи согласны в отношении выделения данной археологической культуры, все-таки остается проблема того, какой социальной общности она соот-ветствовала. Ведь, во-первых, как археологические культуры, так и эт-нокультурные общности отличаются иерархичностью. Во-вторых, ар-хеологическая культура в ряде случаев вполне могла отражать сложную систему взаимодействия разных неродственных групп, говоривших на разных языках. Наконец, в-третьих, чаще всего нелегко интерпретиро-вать саму эволюцию археологической культуры, понять, что стояло за переходом от одного этапа к другому в рамках одной традиции или за сменой археологических культур на данной территории. Сталкиваясь с такой картиной, исследователь неизбежно должен ставить вопрос, мож-но ли в этих случаях говорить о непрерывном развитии одного населе-ния, предполагать его взаимодействие или даже смешение с какими-ли-бо пришельцами или утверждать безусловную смену населения. Ведь
63
В. А. Шнирельмануже давно было показано, что известные по письменным источникам миграции с трудом улавливаются или вовсе не улавливаются археоло-гами [Титов, 1982, c. 89—145].
Поэтому встречающиеся иногда в литературе представления о «скифском этносе», «аланском этносе» и других не основаны на убедительных доказательствах. Ведь, как правило, названия древних народов мы знаем из внешних источников, то есть от внешних на-блюдателей античной и раннесредневековой эпох, которые не про-водили специальных этнографических исследований, а получали информацию от случайных людей и в случайных ситуациях. Иными словами, ссылаясь на их мнение, мы не можем с полной уверенно-стью сказать, к какой именно общности относились такие опреде-ления как «скифы», «сарматы», «аланы», «гунны» и другие, и, что именно представляли собой эти общности. Во всяком случае, нет никаких оснований считать их этническими.
Кроме того, особый вопрос касается языка. Ведь те скудные письменные источники, которые дошли до нас от древних общно-стей, относятся к культуре знати; большинство населения не владело письменностью. Но знать могла говорить на ином языке, чем про-стые общинники. Мало того, знать нередко вырабатывала особые формы культуры, чтобы отличить себя от остального населения. Поэтому есть все основания говорить об особой «культуре знати» [Шнирельман, 1985, с. 64—122].
Но она имела иной раз столь специфический облик, что по ее остаткам археолог мог бы выделить отдельный «этнос». Такие ошибки допускали даже те, кто наблюдали такую ситуацию в живом виде. Скажем, отсюда популярное когда-то представление о том, что вожди в Океании были пришельцами, представителями какого-то «другого народа».
Археологи вовсе не учитывают (да и не могут учесть) ситуацию смены идентичности. Например, такое происходило с изменением хозяйства и образа жизни, скажем, при переходе от кочевого ското-водства к земледелию и обратно (баггара и фур в Судане), или при переходе от земледелия к торговле и обратно (болгары и греки на Балканах в XIX веке).
64
В. А. ШнирельманИными словами, огромную роль в первобытности и раннем
средневековье играла вовсе не этничность, а социальность — семей-но-клановые и родоплеменные связи. Приписывая им этничность в современном ее понимании, мы не только допускаем неприемлемую модернизацию, но открываем дорогу для построения этноцентрист-ских схем, создающих болезненные ситуации борьбы за древних предков и их наследие.
Вслед за культурой, которая в эпоху постмодерна стала поли-тикой [Иглтон, 2012, с. 69], сегодня «этногенез» тоже превратился в политическую науку [Shnirelman, 1996; Шнирельман, 2003; 2006], и находится немало энтузиастов (включая иногда ученых), соревную-щихся в том, кто сможет более искусно использовать научные зна-ния о древних племенах для обоснования политических привилегий своих этнических групп. Между тем, как отмечалось выше, никаких «этносов» в современном понимании этого термина в первобытно-сти не было. Этнографам следовало бы признать свою долю вины за чрезмерную этнизацию исторической и современной действитель-ности. Однако, и археологи небезгрешны в том, что касается соз-дания политизированной «этногенетической науки». Ведь полити-зация науки далеко небезопасна. Она, позволяет нечистоплотным политикам опираться на псевдонаучное знание для продвижения своих авантюристических проектов и манипулирования обществен-ным сознанием. Политизация вредна и самой науке, ибо заставля-ет жертвовать методологией во имя идеологии. О печальной участи науки говорит пример Германии, где необычайный взлет интереса к политизированной первобытной археологии в 1930-х годах сме-нился глубоким разочарованием, приведшем к ее маргинализации в послевоенный период.
Установлено, что все современные народы выросли на гетеро-генной основе, и имеют многокомпонентный состав. В свое время В. И. Абаев совершенно правильно и убедительно ставил вопрос об участии двух компонентов — пришлого и местного — в формирова-нии осетин [Абаев, 1967].
Но его работа показала и трудности, с которыми сталкивается ученый, пытающийся выявить такие компоненты. Процессу асси-
65
В. А. Шнирельманмиляции неизбежно сопутствует период билингвизма и бикульту-рализма, а им в свою очередь соответствует нечеткая «плавающая» идентичность. Поэтому вопрос о том, какой из компонентов гла-венствовал, вопреки оптимистическим ожиданиям [Крупнов, 1967, с. 37—38], решить не просто трудно, но зачастую и невозможно. Ре-шение такого вопроса требует предварительно определить, что по-нимается под главенством, кто и в какой сфере мог главенствовать: идет ли речь о политическом доминировании, о преобладании ка-кого-либо языка, о демографическом доминировании, о культурном влиянии и в какой именно области, о межкультурном разделении труда, о практике межплеменных браков или о чем-либо еще. К со-жалению, археологи обычно избегают такого дифференцированного подхода, и ограничиваются чересчур общими замечаниями.
Между тем, националистический подход требует безусловно-го и однозначного ответа на поставленный вопрос, касающийся, в частности, лингвистической принадлежности создателей археологи-ческих комплексов. Все это изначально ставит решение о доминиро-вании тех или иных компонентов в этногенезе в зависимость от ряда привходящих эмоциональных факторов. В частности, настаивая на идее многокомпонентности аланской общности, современные бал-карские и карачаевские ученые видят ее доминирующий компонент в тюрках, а чеченские и ингушские — в вайнахах. Со своей стороны осетины, причисляя аланский язык к иранским, придают термину «аланы» прежде всего этническое значение, в лучшем случае до-пуская, что лишь в поздний период этот термин в устах чужаков мог использоваться и для каких-то маргинальных неираноязычных групп [Шнирельман, 1996, № 5, c. 100—113; 2006].
Возникает неразрешимая ситуация, заводящая этногенетиче-скую науку в тупик. Мало того, как пишет один автор, «в Боснии или в Белфасте культура — это не только то, что вы вставляете в маг-нитофон, но еще и то, за что вы убьете» [Иглтон, 2012, с. 63]. Этот список можно дополнить словами «в Абхазии, в Нагорном Карабахе, в Пригородном районе Северной Осетии» и т. д.
Этноцентристский подход ведет к присвоению чужого культур-ного наследия, а также создает тупиковую ситуацию в сфере обра-
66
В. А. Шнирельманзования. Так, в 1995 году в Нальчике был опубликован школьный учебник, где в одной главе скифы назывались иранцами, а майкоп-ская культура объявлялась творением рук абхазо-адыгских предков, тогда как в другой главе и майкопская культура, и степное население, начиная с раннего бронзового века, однозначно отождествлялись с тюрками. А несколько лет спустя аналогичный учебник вышел в со-седней Карачаево-Черкесии [Шнирельман, 2004, № 37, c. 79—87].
Поэтому сегодня требуется не только совершенствование науч-ных подходов, но и чувство социальной ответственности с учетом общественной роли научных построений — наука должна, с одной стороны, открыто выступить против этноцентризма и расизма, а с другой, быть чувствительной к интересам общества. Кроме того, де-тальное знание живой культуры и ее функционирования показывает рамки возможностей археологии, которые оказываются далеко не-безграничными, вопреки былым радужным надеждам «новой архео-логии» (Л. Бинфорд) и советских археологов (В. М. Массон).
Одним словом, занимаясь этногенетическими реконструк-циями, специалистам надлежит, во-первых, серьезнее подходить к используемым методикам, а во-вторых, сознавать социальную и политическую роль своих построений и последствий своей дея-тельности. Необходимо уделять гораздо больше внимания сравни-тельным кросс-культурным исследованиям, позволяющим строить модели древних социо-культурных процессов, изучать воздейству-ющие на них факторы и выявлять зависимости между этими фак-торами и результатами происходящих процессов. Особое внимание следует уделить развитию этноархеологических исследований, ко-торые позволяют преодолеть бытовые представления о характере зависимости между социальными процессами и их материальными результатами, и ведут к получению гораздо более надежных выво-дов. В частности, этноархеология дает превосходную возможность для проверки надежности ретроспективного метода [Шнирельман, 1984, № 2, с.100—113; 1990 а, с.16—19; 1990, с. 49—56; 1993; 1995, c. 141—152]. Вопреки мнению ряда российских авторов, этноархео-логия не имеет прямого отношения к вопросам этничности и этноге-неза. Это — не «этническая», а «этнографическая» археология.
67
В. А. ШнирельманПри обсуждении проблемы древних лингвистических процес-
сов необходимо шире опираться на данные социо- и этнолингвисти-ки и применять лингвоархеологические приемы, разработка которых уже ведется в отечественной науке [Библиографию см. Шнирельман, 1996 а, № 4, c. 89–95].
Наконец, следует осторожнее обращаться с понятием «архео-логическая культура» и воздерживаться от прямых и некритических отождествлений ее с этносом. Возможно, следует отказаться и от широкого использования понятия «этнос» в применении к перво-бытной и раннесредневековой эпохам. А вместо «этногенеза» лучше пользоваться терминами «культурогенез» и «лингвогенез».
ЛИТЕРАТУРА
1. Абаев В.И. Этногенез осетин по данным языка // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетинского народа. — Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967.
2. Генинг В.Ф. Этнический процесс в первобытности. — Сверд-ловск: Уральский ун-т, 1970.
3. Дьяконов И.М. Все мы – люди. Размышления историка об этниче-ском самосознании // Знание-Сила, 1989, № 4.
4. Захарук Ю.Н. К вопросу о предмете и процедуре археологическо-го исследования // Предмет и объект археологии и вопросы мето-дики археологического исследования. – Л., Наука, 1975. — С. 4—
5. Иглтон Т. Идея культуры. — М.: ВШЭ, 2012. — С. 53—61.6. Илизаров Б.С. Почетный академик Сталин и академик Марр. —
М.: Вече, 2012. — С. 339.7. Крупнов Е.И. Проблема происхождения осетин по археологиче-
ским данным // Х. С. Черджиев (ред.). Происхождение осетин-ского народа. — Орджоникидзе: Северо-Осетинское кн. изд., 1967. — С. 37—38.
68
В. А. Шнирельман8. Крупнов Е.И. Заключительное слово // Х. С. Черджиев (ред.). Про-
исхождение осетинского народа. — Орджоникидзе: Северо-Осе-тинское кн. изд., 1967. — С. 318.
9. Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапы формиро-вания скифского этноса. — Киев: Наукова думка, 1990.
10. Першиц А.И. Понятие и классификация источников // Ю.В. Бромлей, А.И. Першиц, Ю.И. Семенов (ред.). История первобыт-ного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. — М.: Наука, 1983. — С. 39.
11. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в древности и раннем средневековье. — М.: Языки русской куль-туры, 1998.
12. Титов В.С. К изучению миграций бронзового века // В. И. Гуляев (ред.). Археология Старого и Нового Света. — М.: Наука, 1982. — С. 89—145.
13. Хетагуров Т. Слово о словах (заметки начинающего языковеда) // Фыдыбаестае, 1996, № 6 (ноябрь).
14. Шнирельман В.А. Методы использования этнографических данных для реконструкции первобытной истории в зарубежной науке // А. И. Першиц (ред.). Этнография как источник рекон-струкции истории первобытного общества. — М.: Наука, 1979. — C.146—148.
15. Шнирельман В.А. Происхождение скотоводства. — М., Наука, 1980.
16. Шнирельман В.А. Протоэтнос охотников и собирателей (по ав-стралийским данным) // Ю.В. Бромлей (ред.). Этнос в доклассо-вом и раннеклассовом обществе. — М.: Наука, 1982. — С. 83—109.
17. Шнирельман В. А. Этноархеология – 70-е гг. // Советская этно-графия, 1984, № 2. — С.100—113.
18. Шнирельман В.А. Классообразование и дифференциация культу-ры (по океанийским этнографическим материалам) // А. И. Пер-шиц, Н. Б. Тер-Акопян (ред.). Этнографические исследования развития культуры. — М.: Наука, 1985. — С. 64—122.
69
В. А. Шнирельман19. Шнирельман В.А. Позднепервобытная община земледельцев-
скотоводов и высших охотников, рыболовов и собирателей // Ю.В. Бромлей, А.И. Першиц, В.А. Шнирельман (ред.). История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. — М., Наука. 1986. — С. 236—426.
20. Шнирельман В.А. Производственные предпосылки разложения первобытного общества // Ю.В. Бромлей, Л.Е. Куббель, А.И. Першиц (ред.). История первобытного общества. Эпоха классоо-бразования. — М., Наука, 1988. — С. 5—139.
21. Шнирельман В.А.. Возникновение производящего хозяйства. — М.: Наука, 1989.
22. Шнирельман В.А. Оружие как этнический и/или социальный маркер (этноархеологические заметки) // Проблемы историче-ской интерпретации археологических и этнографических источ-ников Западной Сибири. Тезисы. — Томск, 1990. — С.16—19.
23. Шнирельман В.А. Керамика как этнический показатель: некото-рые вопросы теории в свете этноархеологических данных // Про-блемы теории и методики в современной археологической науке / КСИА, 1990 а. — Вып. 201. — С. 49—56.
24. Шнирельман В.А. «Диффузия идеи», кризисы и хозяйственная динамика в традиционных обществах (к постановке вопроса) // Советская этнография, 1991, № 2. — С. 17—28.
25. Шнирельман В.А. Хозяйственно-культурные типы и парадоксы этнического самосознания: прагматизм против иррационализма // А.И. Першиц (ред.). Исследования по первобытной истории. — М.: ИЭА РАН, 1992. — С. 208—233.
26. Шнирельман В.А. Археологическая культура и социальная ре-альность (проблема интерпретации керамических ареалов). — Екатеринбург, 1993.
27. Шнирельман В.А. Злоключения одной науки: этногенетические исследования и сталинская национальная политика // Этногра-фическое обозрение. —1993 а, № 3.
28. Шнирельман В.А. Рыболовы Камчатки: экономический потен-циал и особенности социального развития // В. А. Попов (ред.).
70
В. А. ШнирельманРанние формы социальной стратификации. — М.: Наука, 1993 б. — С. 98—121.
29. Шнирельман В.А. Археология и этнография: проблемы корре-ляции // Л.А. Чиндина (ред.). Моя избранница наука, наука, без которой мне не жить. — Барнаул: АГУ, 1995. — С. 141—152.
30. Шнирельман В.А. Националистический миф: основные характе-ристики // Славяноведение. — 1995 а, № 6.
31. Шнирельман В.А. Борьба за аланское наследство (этнополити-ческая подоплека современных этногенетических мифов) // Вос-ток. — 1996, № 5. — С. 100—113.
32. Шнирельман В.А. Археология и лингвистика: проблемы корре-ляции в контексте этногенетических исследований // Вестник древней истории. — 1996 а, № 4. — С. 89—95.
33. Шнирельман В.А. Уроки националистической археологии // Со-временное состояние и перспективы развития исторической на-уки Дагестана и Северного Кавказа / Тезисы докладов научной конференции. — Махачкала: Дагестанский научный центр РАН, 1997. — С. 9—11.
34. Шнирельман В. А. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Е.И. Пивовар (ред.). Теоретические про-блемы исторических исследований. — М.: Изд-во МГУ, 1999. — Вып. 2.
35. Шнирельман В.А. Ценность прошлого: этноцентристские исто-рические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность эт-нических мифов. — М.: Гендальф, 2000.
36. Шнирельман В.А. Войны памяти: мифы, идентичность и полити-ка в Закавказье. — М.: ИКЦ Академкнига, 2003.
37. Шнирельман В.А. Очарование седой древности: мифы о проис-хождении в современных учебниках // Неприкосновенный запас. — 2004, № 37. — С. 79—87.
38. Шнирельман В.А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. — М.: НЛО, 2006.
39. Шнирельман В.А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма. — М.: НЛО, 2011. — Т. 1. — С. 233—250.
71
В. А. Шнирельман40. Щавинский В. А. Живая археология и новые формы // Краеведе-
ние, 1923. — № 2. — С. 98—102.41. Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе / под ред. Ю.В.
Бромлея. — М.: Наука, 1982.
1. Alonso A.M. The effect of truth: representations of the past and the imaging of community // Journal of Historical Sociology. — 1988, vol. 1, no. 1.
2. Bakalian A. American-Armenians. From being to feeling Armenian. — New Brunswick: Transaction Publishers, 1993. — P. 48—49.
3. Banks M. Ethnicity: anthropological constructions. — London and New York: Routledge, 1996. — P. 149—160.
4. Banton M. The idea of race. – London: Tavistock Publications, 1977. – P. 136–155.
5. Diaz-Andreu M., Champion T.C. Nationalism and archaeology in Europe: an introduction // M. Diaz-Andreu, T.C. Champion (eds.). Nationalism and archaeology in Europe. — London: UCL Press, 1996. — P. 7, 15.
6. Eggan F. Social anthropology and the method of controlled comparison // American anthropologist, 1954. — V. 56.
7. Eggers H.-J. Das Problem der ethnischen Deutung in der Frьgeschichte // Ur- und Frьgeschichte als historische Wissenschaft. — Heidelberg, 1950. — P. 53—55.
8. Eriksen T. Ethnicity and nationalism. Anthropological perspectives. – London: Pluto Press, 1993. — P. 78—83.
9. Gellner E. Nations and nationalism. — Oxford: Basil Blackwell, 1983. — P. 75.
10. Gladney D.C. Relational alterity: constructing Dungan (Hui), Uygur, and Kazakh identities across China, Central Asia, and Turkey // His-tory and Anthropology, 1996. — Vol. 9, no. 4.
11. Greeley A. Ethnicity in the United States. — New York: John Wiley, 1974. — P. 293—309.
12. Helms M.W. Ancient Panama: chiefs in search of power. — Austin, 1979.
72
В. А. Шнирельман13. Hill J.D. Introduction: ethnogenesis in the Americas, 1492—1992
// J. D. Hill (ed.). History, power and identity. Ethnogenesis in the Americas, 1492—1992. — Iowa: Univ. of Iowa Press, 1996.
14. Hodder I. Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture. — Cambridge, 1982.
15. Horowitz D. Ethnic groups in conflict. — Berkeley: University of California Press, 1985. —
P. 64—70.16. Hudson M. J. Ruins of identity. Ethnogenesis in the Japanese islands.
— Honolulu: University of Hawai’i Press, 1999.17. Kaufman E. American exceptionalism reconsidered: Anglo-Saxon
ethnogenesis in the «universal nation», 1776—1850 // Journal of American Studies, 1999. Vol. 33. — P. 437—457.
18. Keating M. Nations against the state. The new politics of nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland. — N. Y.: St. Martin’s Press, 1996. — P. 13.
19. Laitin D. D. Identity in formation. The Russian-speaking populations in the Near Abroad. — Ithaca and London: Cornell University Press, 1998.
20. Larick R. Spears, style, and time among Maa-speaking pastoralists // Journal of Anthropological Archaeology, 1985. Vol. 4, no. 1. — P. 201—215.
21. Petersen W. Ethnicity counts. – New Brunswick: Transaction Publishers, 1997. — P. 19—24.
22. Rex J. The problematic of multinational and multicultural societies // Ethnic and Racial Studies, 1997. Vol. 20, no. 3. — P. 457, 463.
23. Roosens E. E. Creating ethnicity: the process of ethnogenesis. — Newbury Park, Calif.: Sage, 1989.
24. Sider G. Identity as history: ethnohistory, ethnogenesis and ethnocide in the Southeastern
United States // Identities, 1994. Vol. 1, no. 1. — P. 118—120.25. Smith A. D. National identity. — London: Penguin books, 1991. — P.
25—37.26. Smith A. D. The ethnic origins of nations. — Oxford: Blackwell,
1986.
73
В. А. Шнирельман27. Shnirelman V. A. Who gets the past? Competition for ancestors
among non-Russian intellectuals in Russia. — Washington, D. C., Baltimore: Woodrow Wilson Center Press, Johns Hopkins University Press, 1996.
28. Trigger B. A History of Archaeological Thought. — Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
29. Verdery K. Ethnicity as culture: some Soviet-American contrasts // Canadian Review of Studies in Nationalism, 1988. Vol. 15.
30. Williams S. Fantastic archaeology. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991.
31. Whitten N.E. Ethnogenesis // D. Levinson, M. Ember (eds.). The Encyclopedia of Cultural Anthropology. Vol. 2. — N. Y.: Henry Holt, 1996.
32. Whitten N.E. The Ecuadorian Levantamiento Indigena of 1990 and the epitomizing symbol of 1992 // J. D. Hill (ed.). History, power and identity. Ethnogenesis in the Americas, 1492—1992.
74
В. А. ШнирельманВопросы и обсуждение
В.С. Мосин:Насколько я понимаю, понятие этничности у Барта и у Тишкова очень близки между собой в той степени, что касается границ соци-ума. Я так и не понял, Вы согласны с этим или нет?В.А. Шнирельман: Я говорил здесь о границе. Граница - это очень важная вещь. Конечно, она создает представление о различиях, но вопрос заключается ещё в том, что это за граница. Часто это граница, которая подразумевает не просто различие культур, а ещё и некото-рую дискриминацию. В этом все дело.Л.Т. Яблонский:Пожалуйста, есть ли ещё вопросы? Виктор Александрович, у меня есть несколько вопросов. В бытность обучения в университете меня уверяли, что археология - это есть этнография, опрокинутая вглубь веков. В последующее время, когда я работал в Институте этногра-фии, мне говорили, что данные этнографии вообще нельзя исполь-зовать для археологических реконструкций. Пожалуйста, Ваше от-ношение.В.А. Шнирельман:В принципе, я об этом уже говорил. Я считаю, что, в конечном сче-те, реконструкция должна быть археологической, хотя вопрос не так прост как кажется. Дело в том, что из-за некоторой политкоррект-ности на Западе, прежде всего, в Америке, возникло представле-ние о том, что этнографию нельзя использовать. Я говорил как-то с Ламберг Карловским об этноархеологии. А он мне сказал: как же мы можем этим заниматься; если мы начинаем это делать, мы тут же расставляем народы по некоторой иерархии, одни выше, другие ниже, а это подрывает уже политкорректность. Тут есть проблема, серьезная проблема, касающаяся современности и, тем не менее, я считаю, что без этнографических моделей, без представлений о живой культуре никакие реконструкции просто невозможны, пото-му что нам надо представлять, как работает культура. Только тогда мы можем по её остаткам как-то попытаться реконструировать что-то. Опять же я в этом отношении не являюсь большим оптимистом.
75
В. А. ШнирельманЕсть вопросы, проблемы серьезные, которые, к сожалению, архео-логическим путем решить невозможно, и всегда археология будет над этим биться. Все-таки кое-какие проблемы археология решать может, но с учетом этнографических материалов. А дальше возника-ет вопрос, как использовать этнографический материал. Вот скажем, в начале 80-х годов появились книги типа «Этнографии для архео-логов». Очень неплохие книги, между прочим. И я, когда занимался этими вопросами в 70-80-е годы в силу именно того, что по перво-му образованию я археолог (за плечами 20 полевых сезонов), всегда пытался выстраивать какие-то модели, которые, как я ожидал, будут использоваться археологами, и я думаю, они могут использоваться археологами. Но я что-то не вижу большого интереса у археологов к этим моделям, хотя они есть, они публиковались и в том же нашем трехтомнике «История первобытного общества», были и другие пу-бликации. Я думаю, можно использовать этнографию, но умело!Л.Т. Яблонский:Тогда ещё один вопрос. Вы, очевидно, Виктор Александрович, ого-ворились, когда сказали: археологи придумали концепцию этноге-неза. На самом деле, концепцию этногенеза в отечественной науке, как Вам известно, сформулировал и опубликовал В.П. Алексеев. Со-гласно этой концепции, этногенез и этническая история не совпа-дают. Алексеев придерживался позиции школы Бромлея в том, что этнос возникает с возникновением этнонима, и вместе с этнонимом начинается этническая история, а вот этногенез может уходить сколь угодно глубоко. Значит, Вы сказали, что в соответствии с нынеш-ними западными пониманиями, этногенез может начинаться только после образования государства, а вот до государства этногенез не существует. И как Вы относитесь к позиции, концепции Алексеева, её надо поправлять?В.А. Шнирельман:Для начала скажу следующее: в нашей науке, сколько я знаю, пер-вым об этом заговорил Ефименко в 1922 году, только он называл это этногенией или этногонией. Потом это подхватил Марр, он об этом писал во второй половине 20-х годов, тогда это ещё называлось этногонией. Термин этногенез появляется уже во второй половине
76
В. А. Шнирельман30-х годов и тоже связан с изменением политической ситуации, но не буду долго об этом говорить, т.к. это очень далеко нас уведет. Это к вопросу о том, как этот термин и само понятие появились, это первое. Второе: да, В.П. Алексеев и не только он, считали, что этно-сы появляются в палеолите. Если возьмете наш сборник, он вышел в 1982 году «Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе», там статьи Арутюнова и Алексеева, там это можно почитать.Л.Т. Яблонский:В отличие от С.А. Арутюнова, В.П. Алексеев никогда так не считал.В.А. Шнирельман:А дальше вопрос заключается в том, что понимать под этногенезом. Я думаю, что бы ни понималось, уже само то, что в этом термине отражено что-то этническое, это уже открывает дорогу этноцен-тристским построениям, которых сегодня очень много. Я считаю, что археологи и занимались и занимаются плодотворно историей культуры, поэтому мне думается, что правильнее было бы говорить все-таки аккуратнее о культурогенезе и лингвогенезе, но не об этно-генезе, потому что это тут же открывает дорогу совершено другим концепциям, которые имеют мало отношения к науке. Мы об этом не думали в 70-80-е годы, такой проблемы тогда не было, а вот за последние 20 лет вспыхнуло это увлечение этноцентристскими вер-сиями. Я думаю, пора нам всем об этом задуматься и пора как-то на это реагировать, но сегодня большая часть ученых просто молчат по этому поводу и считают, что это их не касается. Мне кажется, это неправильно.Л.Т. Яблонский:Я только хотел уточнить, дорогие коллеги, что в соответствии с концепцией Алексеева, этногенез - это не есть наука археологи-ческая или наука лингвистическая, это есть междисциплинарное исследование, поле которого лежит за пределами отдельно архе-ологии, отдельно лингвистики, отдельно антропологии и пред-ставляет собой, следовательно, совершенно особую методику из-учения формирования этносов. Я, как и Виктор Александрович, думаю, что только археология не может заниматься этногенезом, но и по Алексееву, это так.
77
В. А. ШнирельманВ.А. Шнирельман:Я думаю, в общем, Алексеев так считал, но не всегда; иногда он го-ворил, что хотя это междисциплинарная наука, но главное здесь все-таки физическая антропология (это он мне лично говорил).Л.Т. Яблонский:Но это нигде не написано. По поводу этногенеза, у него две моно-графии, но нигде этого не написано. В.А. Шнирельман:Во-вторых, мне приходилось заниматься междисциплинарными ис-следованиями в 80-е годы, когда мы пытались создавать лингвоархео-логию, и, в общем, некоторые вещи получились удачно. Я имею пред-ставление о том, насколько это сложно. Ведь только извне человеку, который конкретно этим не занимался, дело кажется просто: одна на-ука дает одно, другая наука дает другое, мы соберем все, и у нас по-лучится. Ничего подобного! Наоборот, возникает не столько решение проблемы, сколько масса вопросов, масса новых проблем. Поэтому заниматься междисциплинарными исследованиями не так просто, и чем дальше, тем сложнее. И вообще, я думаю, это не под силу одно-му специалисту. Это должна быть междисциплинарная группа. Когда мы занимались лингво-археологическими исследованиями, то был человек, который знал культуру и археологию, и были люди, которые знали лингвистику, и мы долго пытались это увязать и смотрели, как это увязывается. Иногда у нас не получалось. Значит, возвращались к первичному материалу, надо было ещё раз его осознать, возвращались к тому, как мы получаем факты, и почему мы интерпретируем так, а не иначе. Возникают очень интересные вопросы. Но все равно, хотя мы в результате реконструировали некий культурный процесс, который был окрашен ещё лингвистическими всякими вещами, все равно, на мой взгляд, речь шла отнюдь не об этносе, потому как, сколько бы мы ни занимались междисциплинарными реконструкциями, нам не дано знать, как люди, которые умерли несколько веков или тысячелетий на-зад, себя ощущали и какова была их идентичность. В таком случае мы искусственно им навязываем собственное понимание. Этим зани-мались этнографы в свое время, о чем я уже упоминал. Они говори-ли: вот вы такие-то и такие-то, по таким-то признакам. И мы лучше
78
В. А. Шнирельманзнаем, кто вы такие. Сегодня этнографы от этого отказались, но ар-хеологи прямо или косвенно в ходе этногенетических исследований способствуют этому. Я сомневаюсь, что это плодотворно. Мы навязы-ваем этничность тем, о ком мы ничего не знаем. Мы не знаем, как они себя ощущали, кем себя представляли. Откуда она брали то, что мы называем этнонимами, а главное, даже если мы действительно имеем дело с древними этнонимами, мы не знаем, что за ними скрывается. Мы не знаем, сами люди так себя называли или нет. Мы не знаем, вся общность так себя называла или только те, с кем встречались или о ком знали наши источники-информаторы. Мы очень много не знаем, поэтому у меня здесь больше вопросов, чем ответов.Г.Б.Зданович:Скажите, вот современные процессы этнической идентификации, с чем все-таки они связаны? Иногда в Вашей речи звучит: во всем ви-новаты археологи… В чем виноваты в Германии в 30-е годы, только ли это всплеск? И сегодня мы везде видим этот рост. Все-таки, ка-ковы причины этого роста? И ещё, я хотел бы сказать, Вы в своем докладе страшно политизированы, именно Ваш доклад очень поли-тизирован. Так что, нам без политики нельзя?В.А. Шнирельман:Вы имеете в виду рост национализма?Г.Б.Зданович: - Нет, национальной идентичности. В чем проблема? Это же не ученые сочинили. А Вы все говорите: оглядываемся на современность. В чем причины этой идентификации, роста иденти-фикации в любом государстве.В.А. Шнирельман:Я вкратце отвечу, я затрагивал эти вопросы. Поэтому об этом тоже надо поговорить. Во-первых, если я говорю о том, как ар-хеологи это выстраивают, я не обвиняю археологов. Во-вторых, я говорил не только об археологах, этнографах, политиках, а о на-уке вообще. Если мы знаем историю науки, мы знаем, что, начи-ная с Гердера, эта парадигма внедрялась. Гердер, как Вы знаете, не был ни этнографом, ни археологом. Почему сегодня всплеск? Он не сегодня начался, намного раньше и по разным причинам, в разных странах по-разному. Сегодня это - ответ на глобализа-
79
В. А. Шнирельманцию. Ответ, прежде всего, тех культурных общностей, которые чувствуют свою маргинализацию. Это, так сказать, их реакция, реакция политическая, политизированная. И не я политизирую, я просто рассказываю о том, что происходит в современном мире. Те, кто не хочет этого видеть, считают, что они далеки от поли-тики. На самом деле, они больше всего увязли в политике. Они, сами того не желая, не осознавая, начинают говорить о древних арийцах, ещё о ком-то, даже не понимая, о чем, на самом деле, идет речь. Поэтому здесь стоит очень много вопросов, в том чис-ле и тех, которые я не затронул в силу недостатка времени, но я об этом писал во многих своих работах, и это можно почитать. Я считаю, что эти вопросы назрели и перезрели, и мы обязаны их обсуждать. Правда, археологи считают, что они занимаются древностью, что современные процессы их не касаются. На мой взгляд, ещё как касаются. Это видно сегодня во всем мире. Мож-но привести массу примеров, как это происходит сегодня во всем мире: и в Азии, и в Африке, и в Америке, даже в Европе. Поэто-му археолог, который занимается сегодня этногенетическими ре-конструкциями, непременно должен помнить о социальной роли науки. Вообще, всем ученым неплохо об этом подумать, потому что наука - это не просто познание чего-то, она ещё играет со-циальную роль. Потому что то, что она озвучивает, тут же идет в народ, поскольку народ у нас грамотный, умеет читать и тут же все это подхватывает. Но важно, от кого народ получает такую информацию, это тоже может многое рассказать. Обычно инфор-мация распространяется при посредничестве совершенно других людей, а отнюдь не напрямую от ученых. Очень жаль, что сегодня нет научно-популярной серии, которая когда-то издавалась уче-ными. Сегодня то, что называется научно-популярным, пишут со-всем другие люди и часто политизированные, имея в виду вполне определенные политические цели. Поэтому об этих проблемах надо думать и, если я сегодня затронул проблемы современности, национализма, то только потому, что сегодня это всех затрагивает. И археологов особенно, потому что археологические построения очень популярны в совершенно определенных кругах.
80
В. А. ШнирельманЛ.Т. Яблонский:Друзья мои! Я очень благодарен Геннадию Борисовичу Здановичу за то, что он вмешался в главный ход нашего круглого стола, потому что я стал вспоминать, была такая истории на заседаниях европейской ассоциации археологов: на конференциях существовала секция по археологии степей, на эту секцию приезжало 20 россиян и на дурном английском языке что-то там объясняли друг другу про проблемы археологии степей. У меня возникли параллели: по какому-то запро-су на конференцию в Челябинск приехали три москвича, почему-то в Челябинск, задают друг другу вопросы, что-то дискутируют …, вот такие возникли параллели. Третий москвич, Сергей Валерьевич Соколовский, выступит с докладом после обеда, начало заседание в 2 часа, а в заключение - дискуссия, дискуссия обещает быть интерес-ной. Я, во всяком случае, к дискуссии готов.
81
С. В. СоколовскийИнститут этнологии и антропологии РАН
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭТНИчЕСКОЙ ИДЕНТИфИКАЦИИ
И ПРОБЛЕМЫ АТРИБУЦИИ АРХЕОЛОГИчЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
Кажется, не будет большой ошибкой предположить, что архео-логи в значительно большей степени сосредоточены на исследовани-ях материальной культуры и, скорее, заимствуют готовые концепции этнического, разрабатываемые в этнологии, социологии и политиче-ских науках, нежели сами занимаются их разработкой. Междисци-плинарный перенос знаний – вещь обыденная и вполне нормальная, но, как и всякое заимствование, он должен сопровождаться крити-ческой оценкой и настройкой на нужды собственной дисциплины. С моей точки зрения, в российской археологии ощущается нехватка такой критической работы в отношении распространенных в совет-ское время различных версий теории этноса, а критика этих концеп-ций за рамками археологии — в этнологии/антропологии – не была должным образом усвоена, в силу чего этнические интерпретации археологических памятников отмечаются и для периодов заведомо предшествовавших той конфигурации идентичности, которую при-нято сегодня называть этнической.
В этой связи мой первый тезис заключается в том, что сама по себе материальность как совокупность артефактов позволяет с не-которой степенью надежности реконструировать маршруты мигра-ции вещей (причем, не обязательно сопровождаемые миграцией лю-дей) и, тем самым, существовавшие некогда пути обмена товарами, а также некоторые локальные ритуалы и обычаи, но мало что сообща-ет о разворачивавшихся в прошлом процессах идентификации насе-ления и исторически бытовавших формах идентичности, лежавших в основе различных коалиций, союзов, или, напротив, противопо-ставлений и вражды с соседями; следовательно, даже в случаях на-
82
С. В. Соколовскийдежной привязки к локальной культуре сама по себе материальность не может служить источником для сколько-нибудь надежной этниче-ской атрибуции. Отсюда вопросы: всякие ли различия между людь-ми, в особенности различия в отношениях материальной среды и культуры, могут использоваться для реконструкции идеологических предпочтений, политических союзов и противостояний, обычно ле-жащих в основе того феномена, который в политических науках и международном праве обозначается термином «народ» и который в советской традиции рассматривался как синоним термина «этнос»? И какие собственно археологические источники и материалы все-таки предоставляют возможность проведения этнической атрибуции археологических памятников? На второй вопрос должны отвечать сами археологи, но по поводу первого есть что сказать и этнологам или антропологам.
Второй тезис, который я предлагаю для обсуждения – это те-зис об исторически относительно недавнем становлении той формы самосознания, которую принято называть сегодня этнической или национальной идентичностью. Я пока не буду рассматривать низо-вую политику идентичности, в результате которой множество людей официально или неофициально меняют свой этнический статус, а также политику признания этих групп со стороны государства и по-стоянно меняющуюся сетку категоризации населения (в том числе постоянно уточняющиеся системы научных лингвистических и эт-нических типологий и классификаций), которые не оставались теми же ни в одной из советских и российских переписей населения, где, как известно, учитывалась этническая принадлежность опрашивае-мых. В данный момент важно подчеркнуть утверждение, что насе-ление Европы, и тем более других континентов, фактически не было знакомо с такой формой идентичности как этническая вплоть до эпо-хи формирования буржуазных государств: до эпохи Нового времени ее место занимали иные регистры идентичности и формы групповой принадлежности — локальная и территориальная, конфессиональ-ная, сословная; идентичности, связанные с вассальной зависимо-стью, родством; наконец политические (политический союз), ген-дерные, возрастные, профессиональные и языковые идентичности.
83
С. В. СоколовскийЭта точка зрения, сколь бы экзотической она не казалась сегодня носителям массового сознания, особенно в современной России, на-ходит свое подтверждение в ходе более скрупулезного и неангажи-рованного идеологически анализа исторических и этнографических источников, а также в публикациях многих исследователей, как от-ечественных, так и зарубежных, где можно обнаружить множество конкретных примеров иных конфигураций идентичности и их сме-ны. Я приведу здесь лишь несколько таких примеров. Начну со став-шего хрестоматийным примера из монографии П.И. Кушнера (Кны-шева) «Этнические территории и этнические границы» [М.: Изд. АН СССР, 1951). Он пишет: « ….во время переписи 1921 г. та часть крестьянского населения воеводства Всходнего [...], которая была по этническому происхождению белорусами, а по религии — като-ликами, на вопрос о национальной принадлежности часто отвеча-ли: ‘тутейшие’ (местные), а на вопрос о родном языке — ‘говорим по-прусту’» [Кушнер, 1951, с. 48].
Аналогичные ситуации в зоне украинско-русского пограничья описаны этим же автором в разделе «О методах определения нацио-нального состава населения в полосе этнических границ» (с. 70-77) этой же монографии.
А вот вывод известного американского историка Роберта Дже-раси, сделанный им на основе многолетних исследований в архивах Санкт-Петербурга, Москвы и Казани (его книга Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia, Cornell University Press, 2001; издательство «Новое литературное обозрение» планиру-ет опубликовать ее перевод в 2013 г.). Он пишет в отношении населе-ния Казанского ханства буквально следующее: «Для московитов XVI века обращение в православие было провозглашением лояльности, что должно было усиливать царский контроль над регионом. Русь, однако, не являлась нацией в современном смысле слова, а категория «русский» не имела иного культурного значения помимо обозначения православных по религии и лояльных царю жителей определенного географического пространства. Московиты также смотрели на покоренные ими народы по преимуществу в терминах религиозных и политических [Geraci, 2001, p. 16].
84
С. В. СоколовскийВ другом месте он пишет уже о населении петровской и ека-
терининской России — эпохах, когда исследования восточных рос-сийских владений привели к возникновению уже несколько более развитой и строгой сетки категоризаций: Многие нерусские про-должали считать наиболее важной религию, или, по меньшей мере, рассматривать ее как синоним таких идентификаторов как язык и этничность. Они, например, часто меняли самоназвание из вотяка или чуваша на «татарин» после обращения в ислам, или на «рус-ский» после крещения … (во многих случаях само обращение со-провождалось языковой татаризацией или русификацией). … Даже «татары»-мусульмане вплоть до второй половины XIX века предпо-читали называть себя просто мусульманами или булгарами [Geraci, 2001, p. 30].
Василий Владимирович Бартольд в своем очерке по истории таджиков также пишет о том явлении, которое мы сегодня можем квалифицировать как несовпадение и конфликт категоризаций на-селения, обозначаемого этим термином, в различные эпохи и на раз-ных территориях: у армян он обозначал арабов, у турок – персов. «По понятиям того времени, – пишет Бартольд о периоде исламиза-ции населения Средней Азии, — принявший ислам тем самым ста-новился арабом; когда бухарские вельможи в 728 г. сообщили араб-скому наместнику Ашрасу об успехах мусульманской пропаганды в Туркестане, они употребили выражение «все люди сделались араба-ми» [Бартольд, 1963, c. 456].
Последний пример уже не из области массовых процессов идентичности на низовом уровне и их различных конфигураций, но может быть отнесен к особой сфере – политической, администра-тивной и научной категоризации населения, обособившейся сегодня в т.н. политику категоризации.
Вопросы «Кто ты?», «Кто такие?», «Кем они в действительно-сти являются или являлись?» (как и одна из их более современных версий — «Ваша национальная принадлежность?») просты лишь по видимости. Контексты, в которых они появляются и задаются, — это контексты взаимодействия носителей разных культурных миров, образов жизни, мировоззрений и идеологий, разных уров-
85
С. В. Соколовскийней образования и эрудиции, поэтому ответы на них всегда либо представляют собой взаимоприемлемый компромисс, либо счита-ются одной из сторон неверными. Происходит это потому, что взаи-моприемлемый результат идентификации, спровоцированный эти-ми вопросами, возникает на стыке нескольких обширных областей практики, и в каждой из этих областей действуют свои субъекты или акторы, с собственными взглядами, идеологиями, или дискур-сами. Говоря более абстрактно — это области политики, законода-тельной деятельности и науки, взаимодействие которых в интере-сующей нас сфере порождает три специфических вида политики — низовую политику идентичности, политику категоризации населения и политику признания отдельных категорий населения в качестве особых объектов попечения, преференций, поддержки, защиты, либо, напротив, преследования, запрещения (пример из действующего российского законодательства — т.н. деструктив-ные секты) и т.п. Процедуры, сценарии и ритуалы этих областей политических практик различаются в той мере, в которой разли-чаются интересы, потребности и обстоятельства осуществляющих их субъектов. В каждой из этих областей политики и управления есть свой ведущий или доминирующий субъект или группа взаи-модействующих субъектов: политику идентичности осуществляет население, политику категоризации — управленцы во взаимодей-ствии с учеными, политику признания — законодатели и полити-ческая элита, иногда (в основном, для легитимации собственных решений) консультируясь с учеными. Исторически сложившиеся и текущие особенности политики в каждой из этих трех областей политического действия, как и прочие обстоятельства места и вре-мени, и определяют диапазон используемых конкретными людьми регистров идентичности или набор возможных ответов на вопро-сы «Кто ты?» или «Ваша национальная принадлежность?» Здесь лишь очевидно, что в разных обстоятельствах люди могут давать и дают разные ответы на эти вопросы. Такая картина отличается от прежде распространенного убеждения, что люди обладают раз и навсегда фиксированным этническим самосознанием, которое дается ему готовым при рождении и остается неизменным на про-
86
С. В. Соколовскийтяжении всей жизни человека. Иногда такая картина действитель-но соответствует реальности, но для такого соответствия требуется особый институциональный контекст и слаженная работа целого ансамбля социальных институтов. Забегая вперед, скажу, что та-кие институты встречаются не повсюду — есть территории и го-сударства, где они представлены лишь частично и работают менее эффективно, в силу чего индивиду легче менять свою групповую принадлежность, чем это сегодня происходит в странах Восточной Европу и постсоветских государствах.
Этнографам хорошо известно, что бытующих самоназваний (этнонимов) в сотни раз больше, чем фиксируется переписями или официальными перечнями народов. Часть этих самоназваний при-знаются государством в качестве официальных наименований этни-ческих сообществ или вариантов этих наименований. В таком при-знании свою роль играет и наука, поставляя чиновникам языковые и этнические классификации, выверенные в соответствии с существу-ющими на данный момент ее развития критериями и концепциями языковой и культурной дифференциации. Политика признания1 со стороны государства, разумеется, исторически меняется: либерали-зация режима приводит к росту числа официально признанных ка-тегорий населения, особенно если с такой категоризацией связаны льготы или негласная система преференций.
Можно задать вопрос, а какое же отношение имеют современ-ные процессы идентификации к реконструкции этнической истории и этнической атрибуции археологических памятников. В том-то и дело, что практически никакого. Этничность производится и вос-производится в результате согласованной работы многих социаль-ных институтов, в прошлом отсутствовавших. Вместо них работали феодально-династические, конфессиональные и семейно-родствен-ные институты, порождая и поддерживая иные формы, режимы и конфигурации идентичностей. Достаточно подробно изученный и описанный историками кризис власти аристократии и церкви на ру-беже Нового времени привел к рождению современного государства с его особыми институтами, породив новые формы легитимации власти и новых ее субъектов.
87
С. В. СоколовскийЧто это за институты? Они хорошо известны. Каким образом
сознание этнической принадлежности, да еще и находящееся в отно-сительном соответствии с официальными представлениями и при-знанными в науке типологиями, стало фактом массового сознания? Это произошло не вдруг. Материалы наших переписей показывают, что в некоторых местностях или у некоторых людей этого не про-изошло до сих пор, хотя теперь такие случаи – скорее исключения, нежели правило. В институализации этничности самое деятельное участие принимали ученые, и, разумеется, администраторы на раз-ных уровнях управления. Применительно к конкретному случаю российской истории начало такой институализации было положено статистическими обзорами империи и ее населения, территориали-зацией и картографированием этничности. Под территориализацией этничности я имею в виду привязку языкового и конфессионального многообразия населения к конкретным территориям. Известно, что феодально-династические и церковные права на земли и территории не обосновывали и не увязывали эти права с особенностями языка или культуры их населения; для этой цели существовали податные сословия. Попытки картографирования языка и конфессиональной принадлежности, объединяемых в единое, но нечеткое представле-ние о культуре и культурном многообразии, стали сколько-нибудь систематически и масштабно предприниматься в России лишь на рубеже XIX и XX веков. Напомню, что например, в феврале 1917 г., за несколько недель до февральской революции, петербургские эт-нографы, озабоченные тем, что немцы организовали изучение этно-графического состава ряда западных территорий (Литвы, Галиции, Буковины, Бессарабии и др.), обратились в правительство с пред-ложением изучить племенной состав (именно так тогда и именова-лось культурное многообразие населения) приграничных террито-рий европейской и азиатской России. Аналогичное обращение во Временное правительство в марте 1917 г., в котором подчеркивалась стратегическая и экономическая ценность этнографической инфор-мации, привело к тому, что к середине 1917 г. правительство одобри-ло бюджет для создания Комиссии по изучению племенного соста-ва населения России (КИПС) при ИРГО. Картографическая работа
88
С. В. Соколовскийчленов этой комиссии была осложнена разногласиями относительно объективных критериев племенной и национальной идентичности. С. Ф. Ольденбург, председатель Комиссии, рекомендовал придер-живаться языка и религии как основных показателей национальной принадлежности, информация о которых была доступна благодаря переписи 1897 г. Другие члены комиссии считали, что язык являет-ся ненадежным показателем этнографического типа, и предлагали взять в качестве определяющих иные характеристики, в частности, культуру и антропологический тип. Представления об этнической идентичности в то время были довольно расплывчатыми, и в тра-дициях большинства ученых, составлявших комиссию ИРГО, было принято ставить знак равенства между национальной принадлеж-ностью, с одной стороны, и языковой и религиозной принадлежно-стью — с другой. Различия в специализациях (в комиссию, помимо этнографов, входили лингвисты, географы, антропологи) не позво-лили выработать общего подхода к определению национальности вплоть до переписи 1926 г. Например, делимитация границ между Украиной, Белоруссией и РСФСР в 1919 г. была произведена ис-ключительно на основе языковых данных (это именовалось «наци-ональность, определяемая по языку»). Но оказалось, что в других регионах страны (на востоке и юге) язык переставал играть роль сколько-нибудь надежного показателя национальной принадлежно-сти, и известный этнограф В. В. Богданов, член правительственной комиссии по делимитации границ 1919 г., сомневался, что язык как показатель национальности может использоваться за пределами европейской России. Замечу, что с этими проблемами этнографы, антропологи и лингвисты сталкивались при работе с, так сказать, живым населением, что уж говорить о попытках этнической атри-буции памятников давно ушедших эпох.
Еще одним мощным стимулом территориализации этничности и вместе с ней механизмом внедрения этнического самосознания стал большевистский принцип национального самоопределения, по-требовавший выработки более строгих и стандартизованных крите-риев определения национальной принадлежности. Уже к 1920 году родной язык перестал рассматриваться членами КИПС как основ-
89
С. В. Соколовскийной показатель народности, и этот подход был заменен довольно сложной методикой определения национальной принадлежности населения, включавшей вопросы об официальных и неофициаль-ных наименованиях групп населения, родовых и территориальных подразделениях в рамках отдельных народностей и т.п. Столь же де-тальные сведения собирались о языке и вероисповедании, причем выяснялись отношения и связи между ‘национальным самоопреде-лением’ и вероисповеданием. Все эти исследования, и дискуссии о принципах национального районирования и регионализации, по-зволили выработать новый подход, положенный в основу перепи-си 1926 года и использованный затем во всех советских переписях. Работа КИПС и, в особенности, полевые материалы исследований по вопросу национальности, выявили, что далеко не во всех регио-нах население понимает термины ‘национальность’ и ‘народность’; у некоторых групп населения эти термины вообще не имели соот-ветствий на родных языках. Формулирование вопросов и инструк-ций для будущей переписи заняло несколько лет, и сопровождалось острой дискуссией между представителями различных подходов к пониманию национальности. В период 1924—26 гг. в КИПС были разработаны инструкции по регистрации национальности, и состав-лен Список национальностей СССР. В. П. Семенов-Тян-Шанский, руководитель подкомиссии по переписи, подготовил список из пяти вопросов, который должен был помочь переписчикам определить национальность опрашиваемых. Согласно его предложению пере-писчики должны были узнать национальную принадлежность ро-дителей опрашиваемого, вероисповедание, в «котором он родился», принадлежность его к тому или иному вероисповеданию на время опроса, его разговорный язык в детстве, а также язык, которым он пользуется сегодня дома, наконец, его владение русским языком.
Помимо картографирования и переписей самостоятельными институтами в процессе институализации официальных этниче-ских категорий и, их постепенного превращения в признаваемые широкими слоями населения социально значимые статусы стали паспортизация населения с пресловутым пятым пунктом, когда каждый получивший паспорт оказался «приписанным» к опреде-
90
С. В. Соколовскийленной национальности официально утвержденного перечня (за-мечу, что помимо паспортов национальность записывалась еще в огромном количестве официальных документов — в разнообраз-ных справках, свидетельствах о рождении, вообще в актах граж-данской регистрации, в похозяйственных книгах, партийных и профсоюзных билетах, членских билетах различных организаций и ассоциаций и даже в читательских удостоверениях). Она стала важной в связи с активной национальной политикой правитель-ства, в том числе известной программой коренизации кадров, и «кадры» быстро отреагировали соответствующими изменениями в низовой политики идентичности, так что нельзя говорить, что институализация этничности происходила исключительно сверху – открывающиеся возможности для карьерного роста или эконо-мических и образовательных преференций активно использова-лись населением, «вписывающимся» в категории и ячейки офи-циальных типологий (подобно имевший место гораздо раньше записи мигрировавших в Сибирь казанских татар «на породу», то есть в тугумную систему сибирских татар для получения налого-вых привилегий) [подробнее см.: Соколовский 2004; 2009].
Мощным механизмом институализации этничности стал т.н. этнофедерализм, в соответствии с которым в зависимости от численности этнического сообщества и экономико-политическо-го веса региона ее преимущественного проживания определялся статус территории и одновременно роль и значимость ее элиты в складывавшейся системе управления. В сталинской конституции 1936 г. была проведена четкая грань между различными статусами национальных образований: республики, как союзные, так и ав-тономные, рассматривались в качестве форм национальной госу-дарственности и наделялись пусть номинальным суверенитетом, в то время как автономные области и округа определялись как форма административно-территориального деления, отличающе-гося от областей только тем, что их аппарат управления был при-способлен к особенностям проживающего в них населения. При этом в ходе самого процесса административно-территориального деление не только отражало существующие лингвокультурные
91
С. В. Соколовскийразличия в населении территорий, но и активно формировало но-вые, прежде не существовавшие идентичности, объединяя разные группы населения и наделяя эти конгломераты едиными именами, унифицирующими языковые различия алфавитами и грамматика-ми и т.п. (алтайцы, хакасы, узбеки, селькупы, долганы). Посколь-ку в утверждении отдельных единиц официальных перечней на-циональностей важную роль играл язык или их лингвистическая уникальность, то языковые классификации и языковая политика оказались самостоятельными и весьма значимыми факторами в производстве сетки собственно этнических категорий. В силу это-го, особыми механизмами в институализации этничности стали программы грамотности, алфавитизации, реформы письменности и образования на родных языках и т.д. Аналогичные процессы развивались и в сфере официальной или высокой культуры (соз-дание национальных театров, литератур, школ в изобразительном искусстве, музеев и т.п.).
Все это перечисление конкретных механизмов и практик ин-ституализации этничности (как вы успели, наверное, заметить, я являюсь сторонником именно институциональной концепции этничности2) приведено здесь для демонстрации и подкрепления двух связанных между собой утверждений: 1) в концепции Бром-лея все эти механизмы не рассматривались, а основным механиз-мом складывания этноса объявлялась эндогамия, что по существу приравнивало его к любой относительно изолированной чело-веческой популяции; 2) поскольку эти механизмы и практики, ответственные за рост прагматической значимости культурных и языковых отличий и складывание современной формы само-сознания или идентичности, которую мы опознаем как этниче-скую идентификацию, в отдаленном прошлом не существовали, постольку сторонники взгляда на древность этнического самосо-знания, прежде чем заявлять о его существовании, должны про-демонстрировать наличие каких-то альтернативных институтов и практик, которые бы поднимали эту значимость и обеспечивали складывание и воспроизводство именно этнической идентично-сти в столь отдаленные от нашего времени эпохи.
92
С. В. СоколовскийПРИМЕчАНИЯ
1 Понятие «политика признания» наиболее обстоятельно рассматрива-лась известными политическими философами Чарльзом Тейлором [Taylor, 1992]. Обстоятельный комментарий этой концепции [см. Markell, 2003]. На уровне индивида категория признания разрабатывалась представителями франкфуртской школы, идеи которой суммированы и развиты в известной работе Акселя Хоннета «Борьба за признание: моральная грамматика со-циального конфликта» [Honneth, 1996].
2 Подробно она изложена в книге «Перспективы развития концепции этнонациональной политики в Российской Федерации» [М., 2004].
ЛИТЕРАТУРА
1. Бартольд В.В. Таджики. Исторический очерк // Бартольд В. В. Сочинения. Т.2, Ч.1. — М.: Изд-во Вост. литературы,1963. — С. 449—468.
2. Кушнер (Кнышев) П.И. Этнические территории и этнические гра-ницы. — М.: Изд. АН СССР, 1951.
3. Соколовский С.В. Перспективы развития концепции этнонацио-нальной политики в Российской Федерации. — М, 2004. — 258 с.
4. Соколовский С.В. Кряшены во Всероссийской переписи 2002 г. 2-е изд. — Набережные Челны, 2009. — 247 с. [первое изд. М.: Путь, 2004].
5. Geraci, Robert. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia, Cornell University Press, 2011.
6. Honneth A. The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of So-cial Conflict. — Cambridge, M.A.: MIT Press, 1996.
7. Markell P. Bound by Recognition. — Princeton, N.J.: Princeton Uni-versity Press, 2003.
8. Taylor Ch. Multiculturalism and the Politics of Recognition. — Princ-eton, N.J.: Princeton University Press, 1992.
93
С. В. СоколовскийВопросы и обсуждение
Л.Т. Яблонский: Есть ли вопросы?В.А. Шнирельман:Можно добавить одно слово к тому, о чем говорил Сергей? К вопро-су о конструктивистской и конструирующей роли государства. То, что происходит с этничностью, Вы сейчас слышали. Но посмотрите, как в разных странах это делается по-разному. В Штатах эти формы катего-ризации опираются на расу, и вот отсюда все эти расовые идентичности до сих пор там существуют. В Индии это опирается на религию, которая тоже изначально была включена в британскую перепись конца 19 века. И в Индии многие индийцы говорят: у нас нет никакой этничности, это западная какая-то концепция и нам не нужная. Но вот религия для них очень важна. Что из этого следует: наш специалист, приезжая куда-ни-будь в другие страны, тут же начинает искать этносы. Американец, при-езжая в разные страны, тут же начинает искать расу. Индиец (я говорю об ученых), приезжая в разные страны, тут же начинает искать религии. Вот так это происходит, и что из этого следует, и как это потом отража-ется на научных выводах. С.В. Соколовский:Еще одна ремарка. Иногда спор между конструктивистской позици-ей и примордиалистской, между советской теорией этноса и пост-советской, в данном конкретном случае, в случае нашей конкрет-ной дисциплины изображают так, что конструктивисты говорят, что никаких этносов не существует, я бы сказал, что это слишком простое и несправедливое утверждение. Ведь речь идет на самом деле о разных модусах существования. Я бы сказал так: нет этносов как субъектов действия, как исторических субъектов, как субъектов истории. Именно так утверждают конструктивисты. Невозможно создать такую форму солидарности, когда огромная совокупность людей действовала бы как единая личность с собственной волю и единые интересы. Это фантазм на националистической идеологии. Любой народ, я имею в виду народ как политическое единство, всег-да имеет разные интересы, конфликтующие. Они действуют, если говорить об исторических субъектах, скорее объединяясь в группы
94
С. В. Соколовскийинтересов, чем в группы по самосознанию. Вот такие разные фор-мы солидарности, о которых нам говорят. Социологи знают об этом значительно больше, чем социальные антропологи, поэтому в аме-риканской версии разные теории этничности, разные концепции эт-ничности развивались социологами, не антропологами. И советская теория этнических процессов, она заимствована из американской социологии, не антропологии.В.С. Мосин:Можно вопрос? Честно говоря, последняя фраза Вашего доклада … Мы же зафиксировали в артефактах условия существования тради-ций как негенетическую передачу навыков, представлений и умений в рамках определенного исторического периода. Тогда в какой пло-скости, пусть это будет не этническая идентичность, я абсолютно не привязываю к этому термину, мы должны рассматривать существо-вание вот такого феномена?С.В. Соколовский:Традиция есть традиция, но для националиста любая традиция име-ет “этническую прописку”. Традиция может быть связана (и Вы сво-ем докладе это хорошо показали) с сообществами иными по своей сущности, чем этнические, сообществами родства, например. Никто не отменяет работу, объяснительную работу, связанную с понятием “традиция”. В Вашем случае это технологическая традиция. Я бы указал на интересное направление, которое пока мало известно в археологии, потому что археологи недостаточно интересуются со-циальной и культурной антропологией. Оно стартовало лет 20 назад и произвело настоящую революцию в исследованиях материальной культуры. Началось это все в такой достаточно экзотической области исследований как антропология науки и технологий. Бруно Латур предложил совершенно революционную концепцию материально-сти, в которой люди, материалы, вещи, тексты, животные (он изучал лабораторию биотехнологии в Массачусетском технологическом университете) оказались связанными единой сетью отношений, где упразднялись субъект-объектные связи, а вещи в его концепции ак-тантов оказывались столь же способными к действию, сколь и люди, поскольку они меняют наш образ действия и наши умения и тела.
95
С. В. СоколовскийЭто легко показать на современных технологиях. Вот, в Москве ми-лиция ловит приезжих, знаете, как? Москвич становится на эскала-тор. Если эскалатор движется, все в порядке, москвич едет. А приез-жий становится на движущий эскалатор и начинает падать. Москвич же падает на стоящем эскалаторе. Если эскалатор стоит, он ступает на него, делает первый шаг и падает, потому что привык, что эскала-тор движется. Технология уже встроена в тело, уже стала привычкой, это уже рефлекс. Технология определяет наше телесное поведение. Таким образом и стол, и мебель, все это определяет наше телесное поведение как городских людей, но точно также оно ограничивает мышление, запрещая некоторые ходы мысли и позволяя другие. Вы-сокие технологии внедряются в наше мышление очень мощно. Вот пример технологической традиции, но попробуйте определить, чья это традиция? Вот Вы откопали, допустим, на каком-то поселе-нии через тысячу лет какие-то вещи и начинаете ломать голову. Ну, Вы определите это как технологическую традицию, да, но как Вы ее пропишете по этническим признакам, да и зачем? В.С. Мосин: Я согласен, т.е. Вы предлагаете из нашего лексикона ис-ключить термины, связанные с этничностью?С.В. Соколовский:Я предлагаю проблематизировать хотя бы это, посмотреть, какие формы солидарности объединяют тамошние коллективы, производ-ственные или технологические, за счет чего держались эти цепочки традиций. Не обязательно сразу подсовывать автоматически слово «этнический» туда. К этому нас толкает национализм.Л.Т. Яблонский:Сергей Валерьевич, мне кажется, Вы не ответили на тот вопрос, ко-торый Вам задавали.С.В. Соколовский: Этногенез?Л.Т. Яблонский:Относительно концепции Бромлея и Тишкова. Они, вообще, как-то пересекаются?С.В. Соколовский:Для того чтобы эти концепции могли друг с другом спорить, нуж-но рассматривать не их точки сближения, а их точки расхождения.
96
С. В. СоколовскийОни спорили друг с другом 25 лет на страницах разных журналов, в основном В.А Тишков сражался уже, так сказать, с тенью, т.к. Ю.В. Бромлей не мог уже отвечать. Но это сражение происходило, поскольку нужно было убедить последователей Ю.В. Бромлея, что есть альтернативная точка зрения. А эта точка зрения была действи-тельно альтернативной. Но В.А Тишков ведь не придерживается, в отличие от меня, институциональной теории этничности. Он усма-тривает происхождение этничности как идеологии, прежде всего, в росте местных элит с их интересами, в активности национальных элит, которые навязывают населению определенную идентичность. Конечно, Ю.В. Бромлей так это не видел. Мы ни в коем случае не можем сказать, что эти концепции – одно и то же. Есть точки расхож-дения, правда есть и сближения. Если читать все тексты В.А Тиш-кова, то он его инструменталистская позиция непоследовательна. У него осталось много от Ю.В. Бромлея. Л.Т. Яблонский: И еще один вопрос, Сергей Валерьевич, по поводу механизмов формирования этничности, Вы не сказали еще про один механизм, которому Бромлей уделял большое внимание, антитеза «мы - они»С.В. Соколовский: Антитеза «мы - они» слишком универсальна для того, чтобы ее сужать до только этнического самосознания. Она при-сутствует при противостоянии любых групп, если их интересы сталки-ваются: мы - банкиры, а Вы нам денег не даете – это тоже антитеза «мы - они». Она работает везде: внутри семей, при конфликте поколений. Антитеза «мы - они» работает повсюду и там, где этничности не было в помине. Маленький ребенок, еще не говорящий, прячется в коленях у матери, потому что вошел чужак, это опасно. Это заложено, я думаю, довольно глубоко. Ксенофобия имеет некоторые естественные корни, потому и появление чужого существа в зоне жизненной безопасности вызывает такую реакцию. Прежде, чем человек привыкнет и усвоит разные нормы приличия, а не будет прятаться и убегать, или нападать, проходит время, для этого нужна тренировка. Для того, чтобы объеди-нять людей в «мы», нужна тренировка и воспитание, а реакция «они» наступает очень рано, реакция на чужака, она наступает раньше у ре-бенка, чем на «мы», кроме матери, конечно.
97
С. В. СоколовскийЛ.Т. Яблонский:При этом, при всей широте охвата антитезы «мы - они», в том числе, все-таки и этничность …С.В. Соколовский: Стало быть, она ее не объясняет.С.А. Григорьев:Нельзя общие понятия опровергать иным конкретным случаем. Это - сплошь во всех этнографических докладах, когда берется конкрет-ный яркий правильный пример, и это пример обобщается.С.В.Соколовский:Но точно так же делалось в примордиалистской концепции: кон-кретные яркие примеры обобщались. Допустим, в отношении Бехи-стунской скалы говорили, что это перечень народов, это этнонимы. А почему это этнонимы, с какой стати? Я расспрашивал наших ира-нистов, разбирающихся в древних языках. Спрашиваю, вы уверены, что это этнонимы, стали копаться: это может быть ополчение, ведь русское “полк” и немецкое “Volk” – однокоренные слова. Дарий по-бедил эти ополчения и повелел записать их имена.С.А. Григорьев:Естественно, Ближний Восток - там ситуация другая, там чаще при-вязка, локализация к местности, как правило, для Ближнего Востока это более характерно.С.В. Соколовский:Смотрите, у Вас уже целая территория выпадает, большая террито-рия выпадает из этнической картины мира, а для примордиалистов этнос существует везде и от века… Это давно подметили критики, поэтому их так и называют; от primus ordialis – первый по порядку.С.А. Григорьев:Вы со своим высказыванием сделали то же самое: Вы взяли конкрет-ный пример и вернули его как обобщение.С.В.Соколовский: А как Вы с этим будете работать? Берите конкрет-ный пример...С.А. Григорьев: Дело в том, такая ситуация… Свято место пусто не бывает. Пространство, которое не займем мы нормальными работа-ми, оно будет занято кем-то другим, причем в очень низкопробном виде. Началось это давно и дошло сегодня до критических пределов.
98
С. В. СоколовскийМожно еще привести пример, когда не существует вроде бы иденти-фикации. В Лотарингии, когда нападает немецкий феодал, граждане не рас-членяют, кто из них лотарингец, кто француз, они все граждане этого города, но для ранних германцев в пограничных районах можно най-ти массу примеров, когда все это смешивалось, но в глобальном …С.В. Соколовский: В том-то и дело, когда Вы начинаете рассматривать…С.А. Григорьев: Я продолжу: и где-то в реконструкциях соотноси-мости языкаВ.С. Мосин: Докладчик еще не ответил на вопросы, а мы уже переш-ли к дискуссии.С.В. Соколовский:Я хочу сказать, задайте себе вопрос, что стояло за этими названиями, именно к этому я Вас призываю. Не говорите автоматически, что эти наименования – этнонимы. Проанализируйте, какие формы самосо-знания могут другие стоять за этими названиями. Это все, что на данный момент я хочу, не больше.Хохмагулов, Магнитогорский госуниверситет:Я занимаюсь этнической идентичностью нагайбаков. Народ, как не-которые другие, транслирует трехуровневую идентичность, как это соотносится с подвижной идентичностью, поскольку нагайбаки мо-гут по-разному себя называть в зависимости от того, на каком языке к ним обратиться.С.В. Соколовский: Собственно говоря, довольно широкий класс людей, не только нагайбаки, которые имеют двойную-тройную этническую идентичность. Обычно ее называют ситуативной этничностью: она ак-туализируется по ситуации, смотря кто обращается; обратилось началь-ство, человеку нужно как-то отвечать… Это и есть низовая политика идентичности. Это все разные ипостаси идентичности человека. Она сложнее, чем это рисуется в одномерных концепциях, где говорят: Вам предписано. Наши немцы приезжают в Германию, там они называют себя русскими, и их воспринимают как русских, и они с этим давно смирились: по культуре, да, они русские. Собственно говоря, что та-кое русский и русская культура, это особый разговор. Откройте любой словарь на букву «а», попробуйте найти три русских слова… А в сло-
99
С. В. Соколовскийваре на букву «а» довольно много слов, такая толстая тетрадка, но все они заимствованные. Русский язык создается как синтетический язык, вбирающий в себя лексическое богатство многих языков, и тюркских, и финно-угорских, и иранских, но почему-то есть отторжение со сторо-ны этих групп, мол, это русский язык, который нам навязывают. Да Вы же его и делаете. Мы все вместе его делали, вот как надо говорить про русский язык. Собственно говоря, это объединяющая и синтетическая форма самосознания. - Можно вопрос по докладу? У Вас сильно радикально прозвучало: маршрут вещей, но не людей. Как вот вещи-то люди передавали, на-пример, в эпоху бронзы - алакульские сосуды оказываются далеко на другой территории, как это происходит?С.В. Соколовский: Смотрите, я китаец, живу в Китае, есть Великий шелковый путь, я продаю купцу, купец другой национальности везет и привозит куда-то. Я туда не еду с предметом, который я произвел. Если я туда при-ехал, там поселился, а Вы находите мои вещи и говорите: значит, их здесь произвели, быть может. Иногда так бывает. Поэтому я хочу сказать: маршрут вещей не всегда совпадает с передвижениями их авторов и владельцев.В.А. Шнирельман:Можно добавить: не всегда передавались людьми, которые это про-извели. Я Вам для примера приведу то, что я вкратце упоминал в своем докладе. Вот как происходит с керамикой: в Северной Африке огромный массив кочевого населения, где керамика не производит-ся, но есть небольшие специализированные ремесленные группы с другой культурой и другим языком, но сидят они в этом ареале в какой-то своей нише, они производят керамику и снабжают ею весь этот огромный ареал, и если археолог будет изучать керамику, нари-сует распространение ее в этом огромном ареале и, если не найдет тот самый локус, где она производилась, и не найдет печей, горнов, мест обжига и не задумается, откуда глина (сейчас это уже делается), он будет считать: весь керамический ареал покрывает археологиче-скую культуру, и выделит ее по этому ареалу, упустив эту специфи-ческую ситуацию.
100
С. В. СоколовскийЛ.Т. Яблонский:Дискуссии и обсуждения чуть позже. Задаем вопросы к Сергею Ва-лерьевичу, у Вас вопрос?- В чем, на Ваш взгляд, сущность этнической идентичности? Какие критерии позволяют определитьС.В. Соколовский:Я предлагал смотреть на это как связь языка, культуры, территории, истории, происхождения. Это компоненты этнического самосозна-ния, которые всегда в нем присутствовали, такая конфигурация на-ционализма.(?) - Можно тогда Ваш комментарий: современные социологические исследования, социология русских не дают такой картины в качестве основного маркера этнической принадлежности и формирования эт-нической идентичности. Русские, как раз и предлагают родство и происхождение от русских родителей в качестве границ практически не проницаемыхВ.А. Шнирельман: Нет, там большой разброс с русскими…- Есть, конечно, другие, но эти доминируют значительно, по крайней мере, по тем материалам, которые я знаю.В.А. Шнирельман: Не всегда.С.В. Соколовский: … в той мере это самосознание не является этни-чески ангажированным или националистически ангажированным. Национализм, Виктор Александрович об этом говорил, это не типич-ная черта доминирующих групп. Поэтому и русский язык и русская культура так и втягивают в себя всякие влияния, не заботясь о том, что с ним станет. Только отдельные небольшие группы активистов начинают говорить, что начинает происходить с русским языком, но это всегда происходило с русским языком.(?) - При этом же есть некоторая проблема по этому поводу: пона-ехали, размывание русской культуры, необходимость выработать какой-то маркер для определения границ и при этом русский не мо-гут использовать в качестве границ, все по-русски говорят, русской культурой сегодня все владеют.С.А. Григорьев: Для меня, например, эти четыре маркера - не един-ственные принципиальные. Происхождение для меня не принципи-
101
С. В. Соколовскийально. Если монгол, владеющий русским языком, культурой, живу-щий здесь и т.д., я внутри себя буду считать его русским человеком.- Это, вообще-то не типично.Г.Х. Самигуллов:Разные группы этносов могут иметь разные интересы. Разный стык одной семьи может иметь разные интересы.С.В. Соколовский:Этнос не может быть субъектом, семья не может быть субъектом. Нечего изображать этнос как выходящий на историческую арену субъект. Этнос у нас мыслится как целое, против чего конструкти-висты и возражают.- Семья может быть целостностью?С.В. Соколовский:Многие ситуации показывают, что она не является целостной. Для того, чтобы быть целостной, нужно иметь способность координи-рованного действия. Такого не бывает. Семья не может координи-рованно действовать, даже когда ее смертельно больной член под-ключен к дыхательному аппарате, обеспечивающему ему жизнь, и родственники должны определить, отключать ли его. Здесь видно, как трудно определить границы семьи. Ты племянник, ты имеешь право сказать, умрет он или нет, а ты - не можешь. Они все – одна семья. И тут начинается процесс переговоров, кто входит в семью. Нужно иметь четкие границы для того, чтобы иметь возможности координированного действия. Таких четких границ ни один народ не имеет. Знаете, когда группа идет к власти, допустим, она определяет-ся по этническому признаку, нужна широкая коалиция: и ты наш, и ты наш родственник. Как только люди приходят к власти, начинается дележ ресурсов, наши оказываются очень узкой группой, а осталь-ные становятся чужими.В.А. Шнирельман:Я к этому добавлю только одно, вот жуткий конфликт, который, каза-лось бы, развел армян и азербайджанцев по разные стороны. И, тем не менее, сохранялись армяне и азербайджанцы, которые даже во время конфликта вполне мирно контактировали друг с другом. Это то, о чем говорил Сергей, этнос как единое целое, как субъект дей-
102
С. В. Соколовскийствия не получается, там разные компоненты. Хотя они все считают себя единством, единого не получается, есть разные группы внутри этого коллектива, они все-таки действуют по-разному.С.В. Соколовский:Я одно скажу: эта логика привела в известные нам времена к угрозе выживания целых народов, потому что если народ – субъект дей-ствия, то он несет и групповую ответственность за свои действия. Вот Вам развитие идей групповых действий и групповой ответ-ственности.
103
ДИСКУССИЯ Л.Т. Яблонский:Я предлагаю в ходе грядущей дискуссии вернуться в то русло, ради которого мы здесь собрались, потому что я убежден: в этнологии проблем не меньше, чем в археологии, но мне не хотелось бы, чтобы наша дискуссия свелась к обсуждению проблем этнологии вообще. Хотелось бы, чтобы наша дискуссия была посвящена проблемам со-отношения археологии и этнологии. Чтобы плавно перейти к дискус-сии, я хотел бы сказать несколько слов по поводу прозвучавших здесь докладов. Но сначала пара замечаний. Первое замечание состоит в том, что я 20 лет проработал в Институте этнографии, которым в то время руководил Юлиан Владимирович Бромлей и я, конечно, пред-ставитель школы Бромлея, поэтому мне очень больно расставаться с теорией этносов Бромлея, и все протестует, и моя этнографическая сущность, и моя археологическая сущность с одной стороны. С дру-гой стороны, особенно последние годы я стараюсь чаще и чаще вы-ступать на тему опасности бездумного жонглирования этнонимами со стороны археологов, за что мне сильно попадает от коллег. На таких кондовых археологических конференциях говорят: поскольку Яблонский выступает против соотнесения этноса и археологических культур, то он хочет лишить археологию историзма. Говорят, что Яблонский хочет кастрировать отечественную археологию, запретив использовать этническую номенклатуру в археологических исследо-ваниях. Вот такая происходит во мне борьба противоречий. С одной стороны, я понимаю наших коллег-этнологов, что нам все-таки при-дется расстаться с этнической археологией, в близком будущем мы все-таки придем к тому, что археология не располагает (и доклады это показали) методиками, позволяющими археологам реконстру-ировать этносы и этнические взаимоотношения на Южном Урале. Я понимаю, иногда бывают такие обстоятельства, когда мы должны поступиться научными принципами. Хотелось бы, чтобы этих обсто-ятельств было поменьше в нашей жизни. Поддерживая коллег-этно-логов в плане проблемы соотнесения археологических источников, и данных этнографии, я остаюсь на своей позиции последователя
104
ДискуссияВ.П. Алексеева в понимании им концепции этногенеза, я остаюсь союзником Алексеева в том, что этногенез и этническая история не совпадают во времени, что этническая история действительно на-чинается с фиксации этнонима, нельзя подвергать сомнению, хотя прозвучало сегодня, что она начинается в общем-то с формирования государственности, государственных аппаратов, а главное, с форми-рования национальности. Я бы думал, что этническая история начи-нается отсюда. И как кто-то говорил из представителей школы Бром-лея, не помню кто именно, этнос - это недозревшая национальность, а национальность - это есть перезревший этнос. Вот, видимо, с пе-резревания этноса начинается этническая история, что не отрицает существование этногенетического процесса с глубокой древности, имея в виду историю формирования той или иной популяции на той или иной территории.Сергей Валерьевич, что касается механизмов формирования этноса, это только мое мнение, этих механизмов может и не быть вовсе. Про-сто в природе человека бывают такие явления, которые возникают сами по себе, без каких-либо особых влияний, каких-то специаль-ных институтов. Мне кажется, что этногенетический процесс может идти автоматически, подчиняться каким-то автоматическим явлени-ям, например, экологическим, если просто определенная группа лю-дей в данное время оказывается на данной территории, и тогда вли-яет тысяча разных факторов на формирование если не этнического сознания (Арутюнов, по-моему, говорил), а просто этноса.Просто этносы могли формироваться, подчиняясь неким этно-генетическим автоматическим процессам, в которые могли вме-шиваться экологические обстоятельства, политические, хозяй-ственные, демографические и т.д. Век существования всяких институтов, которые бы способствовали формированию этносов или способствовали его разрушению. И мне кажется, концепция Алексеева не только в принципе остается действенной концепци-ей этногенеза, она не несет с собой никакого национализма абсо-лютно. Видите ли, Виктор Александрович, как известно, топор можно по-разному использовать, можно рубить дрова, а можно и кому-нибудь башку проломить! Но топор-то не виноват!
105
ДискуссияМне не кажется, что теория этноса Бромлея - мистическая теория. Теория этноса Бромлея соответствовала идеологии, политике правя-щей партии, национализма я в ней не вижу. Политика есть, я про по-литику - ни слова, только про археологию, Концепция теории этноса была приспособлена к той политике, как я вижу, может я не прав. Концепция Тишкова, не хочу обидеть Виктора Александровича, при-способлена к нынешней политике, только и всего. Археология и в то время и в это остается археологией. Единственная проблема архео-логов, которую каждый археолог должен решить, не чья концепция лучше, Бромлея или Тишкова или как они соотносятся. Мы, в силу специфики образования, не можем на этот вопрос ответить. Только что Виктор Александрович говорил об ответственности ученого, о том, что археология - наука социальная, об ответственности каждого из нас за то, что он делает не только, когда речь заходит о классифи-кации кинжала, но особенно когда речь заходит об этнических взаи-моотношениях и о происхождении того или иного этноса и обо всех вопросах, которые возникают перед археологом, когда хотят пере-избраться в том или ином регионе на какой-то высокий пост. Вот здесь от археолога требуется и профессионализм, и гражданская от-ветственность, и мужество, чего я хочу всем нам пожелать. Я просто хотел задать тон дискуссии, как Вы понимаете.- М.К. Хабдулина, Евразийский университет, Астана: Подытожи-вая все то, что здесь говорили, давайте будем просить о социаль-ной ответственности на только археологов, но и социологов. Я думаю, те проблемы, которые прозвучали в докладах, они посвя-щены двум аспектам. Первый аспект - теоретический, касается такой проблемы, насколько наши археологические исследования, наша мертвая культура способны стать источником для теорети-ческих реконструкций; второй аспект - политический. На самом деле, мы сегодня все понимаем, мы ответственны за те события, которые происходят в археологии и этнологии. Вы знаете, не-сколько лет назад у нас в Казахстане происходила политическая дискуссия, связанная с обменом паспортов, была высказана идея
106
Дискуссияубрать 5-ую графу, национальность, были митинги, возмущения. В итоге пятая графа осталась, единственно, сказали: хотите пи-шите «казах», «русский»; хотите - не пишите. Конечно, дискуссия всегда поднималась интеллигенцией, я понимаю всю нашу ответ-ственность, но мы еще должны понимать, что наша наука поли-тическая, она политизированная. Все, что делалось в 20-м веке, было связано и зависело от тех исторических событий, которые происходили. И сегодня, слушая доклады, я начинаю думать, а сегодня мы что, освободились от политики, мы хотим пойти по пути европейской, американской науки? И еще одна мысль меня огорчила, это то, что у нас, оказывается, только московская шко-ла. У нас больше нет науки. В Советском Союзе было огромное количество научных центров, у нас нет никаких теорий ни среди кавказской школы, ни в прибалтийской школе, у нас в Казахстане нет никаких работ, в которых разбираются проблемы этногене-за, происхождения, зато мы говорим об истории языка, то есть, чистоты научных знаний у нас нет. Возвращаясь к археологии, я думаю, что эта дискуссия, не надо нас обвинять. Это слово «куль-турно-исторический горизонт» в выступлениях Леонида Теодо-ровича прозвучало о скифах, мы употребляем просто как хроно-логический горизонт одновременно существовавших признаков культуры, материальной культуры.А в целом я хочу сказать, что мы в тупике находимся, нужно вести какую-то дискуссию с привлечением каких-то этнологических школ на постсоветском пространстве, нужно возродить традиции дискус-сий на страницах журналах «Советская археология», «Советская эт-нография». А так, все, что говорили, мы хорошо понимаем.Л.Т. Яблонский:У меня есть маленькое замечание. Мы говорим о чем: из названий горизонтов убрать этнонимы типа скифский. Что касается всяких пе-чалий, то я полагаю, это заседание - маленький шаг к тому высокому обсуждению, о котором только что говорили.
107
ДискуссияВ.А. Шнирельман:Можно, одну реплику. Смена парадигм - это вещь всегда очень бо-лезненная, но, так или иначе, любая наука это проходит. Когда я для себя открыл этноархеологию, я был потрясен, потому что она рушит все археологические построения. Тут надо переболеть, после болез-ни выздоравливаешь и как-то по-новому начинаешь видеть жизнь. Смена парадигм - тяжелая вещь, но главное здесь - идти либо вперед, либо назад, вот ведь в чем вопрос. А идти вперед - значит вырабаты-вать какие-то более глубокие подходы. Вот, сегодня замечательная, в общем-то, дискуссия была, и многое удалось озвучить. А дальше - вещи для размышления. Я думаю, многие будут думать над тем, что здесь было сказано. А это как-то должно нас продвинуть вперед, потому что если человек серьезно задумывается, то речь пойдет о новом подходе, новых методиках, новой терминологии. Дело не в том, что термины плохи, дело в том, что, к сожалению, сегодня они чаще неправильно используются, и поэтому мы должны как-то на это реагировать, потому что повторять старые термины и объяснять их кому-то бессмысленно, т.к. люди привыкли одни к одному, дру-гие - к другому. Приходится, меняя парадигму, разрабатывать новую терминологию, а в данном случае, более осторожную. Хотя мы уже столько лет призываем друг друга к осторожности. Но одно дело, теоретические призывы, и другое дело - практическая реакция на это. Я рекомендую мою книгу «Порог толерантности», она вышла в прошлом году, там ответы на все эти вопросы об этнической напря-женности, о расизме, так называемом конфликте культур.С.В. Соколовский:На самом деле это два тома по 600 страниц.В.С. Мосин:Я все-таки хотел бы вернуть Вас к тем проблемам, которые были заявлены в названии круглого стола. Проблемы это серьезные, их было три. Первая - возможности взаимопроникновения терминов этнологии и археологии. Мне кажется, в наших докладах это как-то вскользь промелькнуло. Я хотел бы на этом акцентировать Ваше внимание, поскольку абсолютно уверен: современная археология имеет несколько направлений, не этапов в развитии, как раньше счи-
108
Дискуссияталось, а именно направлений. Первое направление - методическое. Есть целый слой археологов, которые выезжают в поле, отрабатыва-ют методику, пишут отчеты и на этом считают свою миссию выпол-ненной. Почему я называю это направлением, потому что работа в этом направлении имеет свои цели, решает свои задачи, имеет свой результат, т.е. весь цикл выполняется. Второе направление - класси-фикационное, когда археолог может не выезжать в поле, он может брать коллекцию, проводить классификацию предметов, выделять археологическую культуру или какую-то общность. Это направле-ние имеет свои цели, решает задачи, имеет свой результат, выделя-ет археологическую культуру. Никто не против работы в таком на-правлении, она тоже имеет свою ценность. Есть третье направление, я бы назвал его историко-археологическим, когда целью является моделирование исторической ситуации и выявление каких-то воз-можностей, выявление каких-то социальных структур, систем жиз-необеспечения и стратегии адаптации коллективов в определенном ландшафте. Есть своя цель, свои проблемы и здесь нужна на сегод-няшний день своя терминология, поскольку терминология первых двух направлений здесь не подходит. Вот это та проблема, которую мы только вскользь затронули в докладах, может быть, кто-то в ходе дискуссии на этом остановится. К этому же направлению относится вторая проблема, которую мы обозначили, принципы выделения и классификации социума в археологии и этнологии. Можем ли мы пользоваться едиными принципами или нет. Вот на этот вопрос я пока что ответа не услышал. Третья проблема, которая здесь об-суждалась - реальность этнических признаков в археологии - ответ отрицательный и категорический я услышал и, вероятно, придется с ним согласиться, во всяком случае, в той области археологии, в которой я работаю, потому что аргументов против у меня не нахо-дится. Если нет таких реальных признаков, придется отказаться и искать другие пути решения проблем моделирования исторических ситуаций. Четвертым направлением я считаю теоретическую архео-логию, последние годы она у нас как-то завяла. Мне кажется, из трех проблем, которые были заявлены на круглом столе, мы несколько ушли в сторону, больше этнологии, чем решения этих совместных
109
Дискуссияпроблем, на некоторые вопросы мы получили ответы, но в целом мне хотелось бы, чтобы Вы обратили внимание на эти проблемы, которые важны или отказ от решения этих проблем зафиксировать, и результаты круглого стола опубликовать для широкого круга чи-тателей. Поэтому все разговоры, которые здесь ведутся, выйдут на бумагу. Эта дискуссия будет широко опубликована, поэтому я бы по-просил иметь это в виду.Л.Т. Яблонский:По-моему, в последней фразе прозвучала угроза.Г.Х. Самигулов:Даже не касаясь самого наполнения понятия «этнос», понятие эт-ничности - нечто углубительное. И, наверное, просто-напросто археологически этничность мы не можем выявить, потому что не сможем выявить самосознание людей, живших на этой территории, методом археологии. Я могу привести пример из этнографии. Когда мы ставим вопрос о возможности археологического выявления эт-ничности, это проблематично.А.Д. Таиров:Мне кажется, мы здесь несколько путаем, пытаемся соединить не-соединимые вещи. Как было прекрасно показано, понятие этнос, этничность - явление довольно позднее, связанное с буржуазными революциями, с установлением буржуазного государства. В насто-ящее время мы от понятия этнос никуда не денемся, поскольку это воспитано у нас с молоком матери. Если мы возьмем археологиче-скую древность, где этого понятия не было, по крайней мере, до 15 века. Мы не можем использовать этого явления, поэтому о чем мы спорим. Давайте в археологии говорить о родо-племенных группах, степени их родства, хозяйственных типах и т.д. Какое у них было самосознание? Я - представитель такого-то рода, все! Я кыпчак. Все. Выше этого уровня они не поднимались.Л.Т. Яблонский:Дорогие мои, кто бы хотел взять слово?С.В. Соколовский:Короткая реплика на Ваше высказывание. Мы сосредоточили разго-вор вокруг теории этноса, концепции этничности, но не в терминах
110
Дискуссиятех дискуссий, которые предшествовали сегодняшним. В них было мало обсуждений материальности, обходились словом “культура”.Давайте тогда соберем этнографов-материальщиков с их концепци-ями и будем обсуждать общую проблематику того, что может дать и чего не может дать для реконструкции эти теоретические концеп-ции. Это был бы предметный разговор по поводу материального. Почему-то нас тянет в сторону идеологии. Тема идеологии – это сфера политического, это национализм, игры идентичности, формы которых бессознательно и довольно быстро меняются, и которые на материальных источниках проследить невозможно. Можно только вожделеть (как это делают националисты), доказательств присут-ствия конкретных этнических сообществ со времен сотворения мира на конкретных территориях. Но зачем такая “высокая политика” ар-хеологам?С.А. Григорьев:К сожалению, у нас тут материал, который только к материально-сти не сводится, существуют некие процессы, которые выходят за пределы материальной культуры, какие-то технологические тради-ции обусловлены какими-то другими вещами. Коллеги начали тут обсуждение, оно обусловлено, действительно, необходимостью. Я хотел бы поддержать Вадима Сергеевича, еще один пункт у нас не отработан. Поэтому это не выступление, а вопрос, скорее всего. А зачем? Если мы посмотрим, этнология у нас более политизирована, чем археология, они имеют разные векторы, существуют понятия культура, традиция. Они зачастую размыты, поскольку эти понятия инструментальные, в зависимости от задач они трансформируются. Если нам удастся продвинуться в теоретических изысканиях, мы вы-нуждены будем менять инструменты. Зачем нам сейчас договари-ваться о едином понятии, приклеивать ярлык?В.С. Мосин: Разговор не о ярлыках и не о едином понятии, разговор о том, что очень большая часть социальных антропологов занимает-ся обществами охотников, рыболовов, собирателей догосударствен-ного уровня развития. И мы, как археологи, тоже занимаемся очень большой частью догосударственного уровня развития, и поэтому обе эти области неизбежно должны соприкасаться, иметь общую
111
Дискуссиятерминологию, иначе мы будем говорить на разных языках и ника-кого нового знания не получим. Вот о чем идет речь. Речь идет не о политизировании, не о том, что вся этнология занимается только поздними народами, которые имеют этническую идентификацию или не имеют, а также огромную область народов с альтернативным путем развития. Как же здесь тогда быть?Л.Т. Яблонский: Есть ли еще выступления?В.А. Шнирельман: Дело в том, что у этнографов есть разные интерпре-тации. Если мы говорим, чем занимается археолог, то человеку извне кажется: эти-то люди изучают то, что видят, хорошо понимают, они со-общают истину о том, как оно было в реальности. Будучи в Британской Колумбии, я разговаривал с местными индейцами насчет потлача. И вот, что они говорят: да, конечно, американские антропологи сделали очень много, они интерпретировали потлач. Многие писали об этом, и Боас, и Драйвер, и другие, но они ничего не поняли. И только мы, носители этой культуры, знаем, как оно было. Т.е. даже великие эт-нографы, которые этим занимались, с точки зрения индейцев, ничего не поняли. И возникает вопрос: то ли они неадекватно поняли, то ли речь о том, что потлач разные кланы понимают по-разному. Важно, где именно работал данный конкретный исследователь, но он-то работал с данным кланом, а пишет он в целом о потлаче. А те, кто его читает, воспринимают его выводы как касающиеся всех кланов. На самом же деле, хотя потлач - это единая система, он понимается в разных локусах по-разному. Теперь вопрос о том, насколько тесно духовная культура связана с этнолингвистической общностью. Ведь имеются же бродячие мифы, наличие которых говорит о том, что эта связь не была жесткой. Т. е. есть масса сложностей. Но я хочу вернуться к вопросу, зачем нужна этнография. Модели могут строиться на разных материалах, но они по-зволяют понять, как работает в данной парадигме какая-то система. А вот этнографические параллели, которые часто используются, иногда получают слишком упрощенное понимание. Поэтому я предпочитаю говорить о моделях, модели строятся на конкретном историческом ма-териале путем сравнения большого количества самых разных обществ, а вот это позволяет уже археологу понять, как работает эта система, какие компоненты в нее входят, что они означают, и тогда уже можно
112
Дискуссиядумать о реконструкции конкретной ситуации, с которой мы столкну-лись. Хочу привести еще один пример, он показывает, насколько наши знания все-таки ограничены. Известно, что есть общества, где разво-дят домашних животных. Считается, если они нападают друг на дру-га и кто-то побеждает, то он, как правило, уводит домашних животных с собой в виде добычи. Так вот, я привожу Вам конкретный пример: папуасы центральной части Новой Гвинеи разводят свиней, нападают друг на друга. И вот ситуация: одна община напала на другую, почти всех там вырезала, включая и свиней, но не забрала животных с со-бой, не использовала их мясо, что совершенно противоречит нашим материалистическим взглядам. А дело в идеологических представлени-ях, в ритуальных практиках. Ведь эти свиньи ассоциируются с данной конкретной общиной и считаются носителями духа этой общины. Т. е животные считаются родственниками. Поэтому владельцы их сами не забивают. Чтобы забить свинью, надо пригласить племянника, ведь вла-делец не может забить, это как бы его ребенок. Там встречаются очень сложные представления, и это надо знать. Эти общества изучали раз-ные антропологи, но не все это обнаружили, не все это одинаково по-нимают. Так что повторяю, в науке много сложностей, поэтому и далеко не на все вопросы, которые стоят перед археологами, наверное, вообще можно ответить. Ведь встречаются такие ситуации, и как их археолог обнаружит? Если неизвестна конкретика, если имеются только остатки материальной культуры? И последнее: Я хочу привести более близкий к археологии пример: в 1982 году Ян Ходдер опубликовал, на мой взгляд, очень интересную книгу «Символы в действии». Это блестящий при-мер этноархеологического анализа, где в каждой из глав рассматрива-ется конкретная племенная группа и показывается, как материальная культура воспринимается, как она работает и что она - не объект дей-ствия, а, напротив, как субъект действует на людей. Рекомендую.Л.Т. Яблонский: По долгу службы хочу подвести итоги сегодняшнего дня. Хотел бы сказать о парадигме. Я заметил одну любопытную за-кономерность. Меняются директора, меняется парадигма. Но никогда наоборот. Второе замечание: Виктор Александрович, по поводу мо-делей этнографических для археологов. Ни один самый умный архе-олог не будет знать столько этнографических сведений, сколько знает
113
ДискуссияВ.А. Шнирельман. Поэтому для археолога построение этнографиче-ских моделей - дело абсолютно бесперспективное. В чем перспектива: я полагаю, что сегодняшнее заседание было крайне полезным и для этнологов и для археологов. Второе, случилось так, что школа этно-логии в каком-то виде сохранилась только в Москве. От чего хотели уйти, к тому пришли. В своем докладе Сергей Валерьевич говорил про тотальную этнографию: один институт, один журнал, один город. Вот оттуда мы шли-шли и пришли обратно. Сейчас мы имеем ровно аналогичную ситуацию. Поэтому я вижу перспективу в том, что такие этнолого-археологические совещания, которые, в свое время, в совет-ской науке были традиционными, пытаться каким-то образом продол-жать в разных формах, в том числе, в форме обсуждения теории и взаимодействия обеих наук. Я считаю, что это единственный способ каким-то образом и молодежь приобщить. Что касается практики эт-нологии, мне кажется, эти знания археологам не нужны и вот почему: я всю жизнь занимаюсь интеграцией наук, в моем случае это физиче-ская антропология и археология, но при этом я выступаю за чистоту науки. Наукой должны заниматься профессионалы и делать это про-фессионально. Археологи должны профессионально заниматься ар-хеологией, а этнологи - этнологией и не лезть в поле археологии. Я в своем докладе пытался это показать, что, как только археолог на-чинает говорить об общности, он должен понимать, что лезет в эт-нологический огород, усеянный крапивой, они там сами разобраться не могут. В свое время, при распаде Советского Союза образовалась такая формула: перед тем, как объединиться, нужно разъединиться, размежеваться. Мне кажется, в случае интеграции наук нам нужно пройти этот путь, нам надо сначала размежеваться, нам нужно понять реальные возможности каждой из дисциплин, нам нужно поменять устаревшие парадигмы и после этого, только осознав ценность соб-ственной науки, приступать очень аккуратно к интеграции какой-то другой смежной дисциплины, причем очень аккуратно. Если пресло-вутый С14 противоречит совокупности данных археологии, я как ар-хеолог, останусь на позиции археологии, потому что в С14 парадигмы тоже поменялись, и мы были свидетелями: некалиброванный углерод, переделанный в своей хронологии, калиброванный углерод, переде-
114
Дискуссияланный в своей хронологии, перекалиброванный углерод, а завтра ... Что будем делать?В.А. Шнирельман:А у китайцев своя собственная калибровочная шкала.Л.Т. Яблонский:Говорят, Яблонский против С14. Не против Яблонский. С14 лежит за пределами археологии, за границами археологии как науки. Кто мне может расписать все эти химические реакции по С14 и чем отличают-ся американский циклоид от австралийских баобабов? Есть такие? Нас учили другому, нас учили археологии. Я призываю, уважаемые археологи, давайте заниматься археологией, тем, чему нас учили. К сожалению, в Московском университете археологам не преподавали этнографию, никакую, ни бромлеевскую, ни тишковскую. Мы ее не знаем, но лезем в нее как слоны в посудную лавку, ведь осколки мо-гут серьезно поранить и, так сказать, из древности вернуться к нам в сегодняшний день, как это уже происходит на Кавказе. Боюсь, что начинается уже на Урале. Археологи уже вытаскивают башкир из карстовых пещер.Сидит вот такой мужичок в белой рубашке, при галстуке, очки зо-лотые, бородка клинышком, он использует некий башкирский эпос и находит аналогии на стенах пещеры и делает вывод о башкирском этносе с палеолита. Это было здесь, и Александр Дмитриевич знает, о ком идет речь. Я у него спрашиваю: когда в Уфе ребята с битами начнут поджигать машины и громить витрины, ты пойдешь к себе в кабинет? На улицы вывел их ты, и ты должен это понимать. Он на меня очень обиделся. И завершаю: две ножки осталось у нас от табуретки, остальные все отлетели, одна - профессионализм, вторая - гражданская ответственность, и на этих двух ножках нужно балан-сировать. Задача непростая. Теперь, пожалуйста, оргкомитет.В.С. Мосин: Уважаемые коллеги! Я думаю, несмотря на всю катего-ричность, высказанную Леонидом Теодоровичем, что все-таки наша работа прошла очень конструктивно, и мы получили большую поль-зу от общения чисто археологов и чисто этнологов.Мне кажется, мы скоро осмыслим все сказанное здесь, сейчас труд-но подводить какие-то итоги.
115
А. В. ГоловнёвИнститут истории и археологии УрО РАН
ЭТНИчНОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ1
Если под народом понимать самобытное и самовоспроизводя-щееся сообщество, то главным в его феноменологии оказывается по-знание не отличительных внешних признаков, а механизма самоор-ганизации. В этом механизме особенно значимо то, что обеспечивает коммуникацию, причем не только на уровне информации и сигналов, но и в системе ценностей, структурах иерархии и зависимости, рит-мах сплоченности и разобщенности. В этничности выражается сво-его рода код общения/сообщества, обеспечивающий безопасность и самореализацию участников этого сообщества. Общение — не толь-ко подлинная человеческая «роскошь» (А. де Сент-Экзюпери), но и смысловая матрица поведения. В общении реализуются социальные функции и персональные проекты.
Этничность, как и родство, одновременно социальна и персональ-на. Эти два измерения — персональность и социальность — в этнично-сти не противостоят друг другу, а создают слитное пространство, свя-зывая его сетью коммуникаций. Здесь нет конкуренции за право быть армянином или японцем, и нет ревности к соплеменнику за то, что он армянин или японец. Во взаимной поддержке и взаимопонимании со-племенников выражается естество этничности, примиряющей эгоизм и альтруизм. Иначе говоря, этничность — естественный алгоритм со-циализации-индивидуализации, уходящий корнями в прачеловеческую стайно-стадность (древние греки резонно называли «этносом» не толь-ко народ, но и стаю, рой и прочие самобытные сообщества). Очевидно, праэтничность несет в себе инстинкт стайно-стадности, наполненный самосохранением и агрессией, плотоядностью и травоядностью. Этот плотоядно-травоядный комплекс создавал не только двойственность поведения человека, но и естественную иерархию социальных альян-сов (симбиозов).
Облик сообществ, называемых племенами и народами, менялся эпохально, культурно, политически и ситуативно на протяжении ты-
116
А. В. Головнёвсячелетий, но алгоритм индивидуально-социальной коммуникации со-хранялся, и нет оснований искать в истории или праистории эру рож-дения этничности. Можно говорить о ее дрейфе или метаморфозах, о рождении народов или их смерти, о мелких группах или огромных общностях, но этничность как алгоритм и сеть коммуникации суще-ствовала с момента появления человека и сопровождала его в колониза-ции планеты и освоении ойкумены. Она так же естественна, как обще-ние между людьми, и так же устойчива и изменчива, как это общение. В первых же исторических текстах (например, в «Истории» Геродота или Библии) отчетливо фигурируют народы и племена, фиксируя естество этой социальной и ментальной реальности.
Применительно к археологической древности можно предпо-лагать не менее выразительные проявления этничности, чем в эпоху урбанизации и глобализации. Во все времена этничность, образуе-мая общением, формировала и обновлялась сообщества, придавая им облик племен и народов. Этничность изменчива и пребывает в постоянном дрейфе, поскольку основана на живой коммуникации. Нет ничего более формального, чем представление о «твердых эт-носах», коченеющих на страницах ученых книг. Не избежала этой формализации и археология, нередко пытающаяся найти в древно-сти сегодняшние народы с их названиями, языками, границами. Нет сомнений в том, что народы существовали во все времена, но по сти-лю коммуникации и самоорганизации они существенно отличались от известных ныне по летописям и переписям. Нет необходимости натягивать современные маски на ископаемые черепа. Гораздо важ-нее уловить характеристики, позволяющие различить стиль и про-странство коммуникации в древности.
Три драйвера
Мне представляется, что основаниями этничности испокон веку были родство, секс и власть (см.: Головнёв 2009, гл. 3). На них строилось общение и структурировались взаимоотношения, они были двигателя-ми экспансии, колонизации, сегментации, изоляции. При этом триаду драйверов следует понимать не как предписанные нормы, а как мотивы
117
А. В. Головнёв(нередко скрытые), определяющие измерения и векторы социального пространства. Это не фиксированные формы, а набор возможностей и проектов, живое пространство интересов и действий.
Если родство понимать не биологически, а гуманитарно, то речь пойдет не о генах и крови, а об идеологии и философии близо-сти. Родство как инструментарий и пространство социальных связей могло ситуативно служить для создания военных союзов, подчине-ния соседних групп, раскола и конкуренции. Вовсе не обязательно родственная среда предоставляла и обеспечивала равные возможно-сти для родственников согласно их формальной позиции. Для одних родство могло быть инструментом господства, для других – подчи-нения и зависимости. Иногда о родстве говорят как о рабстве, имея в виду подчиненность нормам и обязательствам, тогда как «опро-кидывание родства» в репертуаре амбициозных маргиналов (напри-мер, сирот, отцеубийц или бастардов вроде Модэ, Таньшихуая, Те-мучжина) видится залогом социальных революций. Однако и в этом противопоставлении нет постоянства: например, при захвате власти Чингис-хан отвергал родство (как кровное, так и «названное»), а за-тем использовал его, правда в обновленном облике, для удержания господства.
В обыденности родство было инструментарием обустройства социального пространства, включая бытовое внутрисемейное взаи-модействие, родовые ритуалы, народные войны. Примечательно, что родство служит средством достижения ситуативного единства, на-пример, в состоянии религиозной церемонии или войны, когда даже не-родственники называют себя братьями и сестрами (или «сынами и дочерьми отчизны»). Родство охватывает не только людей, но и все оби-таемое пространство, выражаясь в символах «родного края», «родины».
Родство и «родина» обладали способностью перемещаться (в этом отношении вспоминается, например, мадьярское «заво-евание родины» – honfoglalas IХ в. н.э.). Помимо естественного пути размножения и расселения родственной группы действова-ли механизмы так называемого фиктивного или символического родства (по территории, пище, дружбе, религии, войне, колдуну, вождю). Они существенно наращивали потенциал экспансии род-
118
А. В. Головнёвства. В варианте властвующего рода-элиты родство охватывало большое пространство и создавало народ. В этом случае народ был не разросшейся родней, а подданными рода-элиты, и вся общность, оказавшаяся в состоянии симбиоза, воспринимается как народ. Родство в версии этничности было и остается систе-мой взаимопомощи и безопасности.
Если родство закрепляло освоенное пространство, то секс не-редко служил мотивом дальних путешествий и завоеваний. В ранних обществах секс, согласно нормам экзогамии, развернут во внешнее пространство, за пределы родства. Популярные у разных народов войны за (из-за) женщин и многообразные сценарии «охоты на жен-щин» (см. у Геродота о похищении женщин как первопричине войн) были универсальным механизмом экспансии. Женщины, браки и свойство связывали разные территории и их обитателей, и брачные контакты были шагами по освоению новых земель. В Средневеко-вой Европе завоевательные претензии часто обосновывались брач-ными мотивами.
Сексуальность обладает безграничным диапазоном поиска, по-стоянно обусловливая контакты, конфликты, путешествия, обмены (включая обмен женщинами). Миграционная активность подогрева-лась сексуальностью, направляемой и преобразуемой социальными регуляторами, вроде экзогамии и матримониальности. Экзогамия предопределяла поиск свежего сексуального партнерства и даль-ние походы за женщинами. Этот универсальный запрет-стимул не только поддерживал широту сексуальных контактов, но и раздвигал их диапазон, поощряя экспансию групп. Если хозяйственные пере-движения строились на экономии и рациональности, то сексуальные поиски легко преодолевали грань здравого смысла и превращались в рискованные авантюры, воспетые легендами. Никакой другой про-мысел и голод, кроме сексуального, не вел героев так далеко, как «охота на женщин».
Секс, обстроенный громадой ритуалов, мифов и норм, представ-ляет собой не отдельную сферу отношений, а всеобщий и постоянный мотив поведения. Гиперсексуальность человека, не ограниченная ци-клами спаривания, отличает его от большинства животных и являет-
119
А. В. Головнёвся видовым свойством. Во многом именно повышенная сексуальность вела пралюдей к сложным социальным отношениям, обособившим их в природном царстве. И по сей день деятельностные схемы в различных культурах сущностно мотивированы сексуальностью.
Гиперсексуальность – не просто экзотическая черта челове-ка, но и атмосфера повседневности, плавильный котел потребно-стей и интересов, напряженное поле конкуренции, выбора реше-ний и действий. Обилие брачных, гендерных и ассоциированных с ними явлений культуры – во многом плод переработанной сексу-альности. От обилия прямых, инверсивных, амбивалетных и про-чих проекций сексуальности в человеческом поведении иногда возникает ощущение, что вся культура – дизайн секса. Впрочем, именно сверх-сексуальность вызвала массу ограничений и норм относительно секса, от экзогамных запретов до канонов эстетики и религиозной этики (инверсивная сексуальность религиозных обрядов не всегда очевидна; например, в христианстве священ-ник может выглядеть асексуальным вплоть до безбрачия, однако именно он совершает ритуал брака).
Сверх-сексуальность сделала людей сверх-мобильными в различных измерениях, от танца до миграций. Секс легко пере-шагивает этнические границы, включая нормы отношения к со-племенникам и иноплеменникам – от эпизодически острого сексуального любопытства к «иному» до устойчивого брачного предпочтения «своего». В пространстве, где долговременные сексуально-брачные связи переслаиваются генетическим и сим-волическим родством, образуется поле этничности. Через брак и свойство «род» превращается в «народ».
Секс во многих культурах определяет статус мужчины, осо-бенно вождя. В животном мире гаремный секс обычно составляет привилегию лидеров, тогда как моногамный является уделом слабых самцов. Люди унаследовали эту схему, хотя подвергли ее многочис-ленным ограничениям и регламентациям. Во всех культурах вождям принадлежали сексуальные привилегии, в том числе контроль над браками подданных — стойкой традицией этого рода было право первой ночи (jus primae noctis) в средневековой Европе. Сексуаль-
120
А. В. Головнёвный контроль или своего рода сексуальное право служит одним из ключевых определителей власти.
Власть представляла собой, с одной стороны, «право» на экс-пансию родства и секса, с другой – архитектуру и иерархию этих связей и отношений. Искусство подчинения стаи-стада (этноса) с древнейших времен предполагало иерархию «вождей и людей».
Если экологическая адаптация и ранние формы хозяйства пред-ставляли собой усовершенствованные природные схемы кормления, то социальная адаптация с участием агентов управления означала соподчинение деятельностных схем, разделение их на управляемые и управляющие. Это было развитием предшествующих природ-ных отношений травоядных и плотоядных. Как конкретные схемы промысла зависели от поведения зверей или циклов вегетации, так конкретные схемы власти зависели от поведения охотников или со-бирателей. Успешнее схемы власти развивались на теле «травояд-ных» (собирательских) сообществ, лишенных, в отличие от охотни-ков, выраженных качеств хищника. Не случайно первые громоздкие системы господства выросли в самых травоядных (собирательско-аграрных) областях южного пояса Азии. Становление производя-щего хозяйства как преобразование собирательства в земледелие, вероятно, случилось не по желанию самих собирателей, а по воле управляющей ими элиты. По существу земледелие — организован-ное собирательство, и земледельцами стали «собранные собирате-ли». В этом смысле «управленческая революция» предопределила и повлекла за собой эпохальные цивилизационные явления неолита.2
Формирование элиты – «собирателей собирателей» – могло происходить только в среде носителей схемы хищника с ее кон-тролем над пространством, привычкой к схваткам и добыче, на-выками преследования и облавы. Возможно, успешные схемы «социальных хищников» сложились уже в палеолитической кон-куренции. Первые признаки крупных организованных сообществ людей приходятся на начало голоцена, время истребления мамон-товой фауны и кризиса крупной загонной охоты. Возможно, уже тогда «загонщики» переключились со стад зверей на сообщества людей. К тому времени относятся и первые опыты приручения
121
А. В. Головнёвдиких животных (собак, коз, овец). Скорее всего, в круг прируча-емых попали и группы собирателей.
Ничто так прочно не сплачивает общность, как война, и ничто так глубоко не врезается в народную память. Будучи пиком моби-лизации, насилия, страдания и торжества, война может объединять и раскалывать сообщества, подрывать и укреплять позиции элит, преобразовывать народы и государства. С войнами связаны массо-вые миграции, потери и обретения родины, смены элит и династий. До сих пор политика не открыла ничего более действенного для «сплочения народа» и ничего более рискованного для его судьбы, чем война. В этом смысле выделяемая «завоевательной теорией» межэтническая война с установлением господства победителей над побежденными (с классическими примерами из истории спартиат, ариев, инков) – один из распространенных сценариев политогенеза и этногенеза. Впрочем, и в большинстве других случаев статус на-родов и их вождей определялся или испытывался в войне. В дрейфе этничности война была главным фактором разрывов, сплочений и иных переломных преобразований.
Поскольку война всегда связана с «искусством движения» (включая тактику рейдов и кампаний, приемы боя, военные танцы, спортивные и интеллектуальные игры), преимущество в конфлик-тах и инициатива их развязывания были заведомо на стороне мо-бильных сообществ. Власть как «искусство движения» связывала массы людей на больших пространствах, превращая их в царства и империи. При этом агенты управления – вожди и их воины – нередко мигрировали «над народами», становясь элитным или кастовым со-обществом с особым стилем мобильности.
Пространство этничности
Мобильность во многом определяется стилем адаптации и со-ответствующим стилем экосоциального поведения. В качестве ка-тегорий в этом поле я применяю понятия локальной и магистраль-ной культур. Локальность и магистральность – не классы культур, а обозначение полюсов спектра, в котором культуры реализуются.
122
А. В. ГоловнёвКаждая из них характеризуется не сугубой локальностью или маги-стральностью, а вариантами их сочетания. Репертуар любой куль-туры включает различные по конфигурации деятельностные схемы, от предельно локализованных до широко развернутых в социальном пространстве. Среди русских обнаруживаются как земледельцы, так и имперские чиновники, среди итальянцев – как виноградари, так и мореходы, среди евреев – как портные, так и негоцианты. От балан-са и дизайна деятельностных схем в культуре зависит ее простран-ственность и устойчивость. Более того, самобытность и самоорга-низованность культуры/народа во многом определяется балансом магистральности и локальности.
Культура, основанная преимущественно на экоадаптации и сосредоточенная на конкретном биотопе, может быть названа ло-кальной, будь ее хозяйственной базой охота на северного оленя, сбор морских моллюсков или богарное земледелие. Сколько-нибудь значительные перемещения такой культуры, выходящие за пределы биотопа, обычно предопределяются экологическими или социаль-ными кризисами.
Для локальных культур собирателей, промысловиков и зем-ледельцев разных областей мира характерна насыщенность эколо-гической сферы, детальность знаний и обстоятельность практик природопользования. Например, у обских хантов выявлено свыше 200 вариантов запорного лова рыбы [Sirelius 1906; Лукина 1986], не считая множества других способов сетевого, неводного, калыданно-го, острогового промысла. Каждый из этих вариантов рыболовства предполагает знание «поведения воды», особенностей хода и пова-док рыбы (ее отдельных видов), рельефа дна водоемов и т. д. Для сооружения запора необходимо так выбрать время и место, чтобы уже завершился подъем рыбы на нерест в верховья реки, но еще не начался ее скат в низовья; чтобы огороженная часть водоема служи-ла не только местом скопления, но и нагульно-кормовой средой для рыбы; чтобы течение было достаточно умеренным для сохранности запора и достаточно сильным для предохранения воды от застоя и зацветания; чтобы русло было в меру глубоким для строительства заграждения и не очень мелким для содержания рыбы; чтобы в ого-
123
А. В. Головнёвроженном месте имелись как отмели, так и омуты для выживания всех видов рыбы; чтобы установленные в запоре ловушки наполня-лись, но не переполнялись рыбой.
Локальная культура плотно встроена в биоценоз и использует как отдельные звенья экосистемы, так и связи между ними. Она на-строена не только на потребление, но и на воспроизводство биоресур-сов. На этом основана практика сберегающего природопользования – регламентация времени и пространства промысла, сакрализован-ная этика диалога с природным миром и обычаи раздачи излишков. С этим связана детальная разработанность и привязка к конкретной местности систем времясчисления и топографии. Календари локаль-ных групп обских угров разнообразны настолько, что начало года в них приходится на разные точки временного цикла (чаще всего на летнее или зимнее солнцестояние, весеннее или осеннее равно-денствие). Подчас создается впечатление, что каждое семейство та-ежных промысловиков настолько поглощено сбором своего урожая, что не заботится о сверке времени даже с ближайшими соседями. Например, в разных селениях на р. Тромъеган июль называется ин-туй тылыс (большой воды месяц), отль-пыть тылыс (линьки ле-бедя месяц), канык тылыс (ягодный месяц) и коим тылыс (нереста рыбы месяц). «Ментальная карта» пространства хантов построена на точечном знании местности: если тундровый кочевник-ненец в пути следит за собой как бы с неба, представляя себя перемещаю-щейся на «карте» точкой, то таежный хант помнит каждую «кочку» своих угодий и держит путь от одного знакомого дерева к другому. Эта схема работает и в других ситуациях, например при поломке лодочного мотора: ненец сначала мысленно раскручивает гайки, а затем пускает в ход руки; хант сразу начинает раскручивать гайки руками – его руки сами «помнят мотор».
Мифологически локальность выражается в богатстве домаш-него и природного пандемониума, наполненного местными духами (домовыми, лешими, водяными, дворовыми, овинными и др.), об-разами особенных деревьев и урочищ. Отношения местных культо-вых фигур (часто целых семейств духов) обстоятельно описываются категориями родства. Их природные образы обычно ассоциируют-
124
А. В. Головнёвся с туземными и туводными зверями, птицами и рыбами (у обских угров — стрекоза, лягушка, трясогузка, филин, лось, бобр, щука, налим и др.), орнаментально символизируемыми точечными отпе-чатками: «щучья челюсть», «заячьи уши», «выводок утят», «след со-боля». Локальность характеризуется обилием и актуальностью жен-ских мифологических образов от лесных ведьм и царевен-лягушек до многоликой богини-матери-земли.
У мари с их прочными «земляческими объединениями» особую роль в этничности играют традиционная религия с обилием природ-ных образов. Детальная и тотальная экологичность марийский куль-туры видна, например, в пчеловодстве, уходящем корнями в древнее бортничество. Помимо популярности и хозяйственной значимости этого занятия, а также любви к меду, марийцам свойственна особая этика и эстетика пчеловодства, предполагающая выход на пасеку в белой чистой одежде, отношение к пчелам как эталону трудолюбия, мастерства и взаимопомощи. Мари молились о благополучии и пре-умножении пчел, а перед роением совершали ритуальные жертво-приношения. В их языческом пантеоне присутствуют покровители пчел: Мÿкш Шочын (Создатель пчел), Мÿкш Пÿйырышо (Предо-пределитель пчел), Мÿкш Суксо (Хранитель пчел) [Андреев, 2000, С. 213]. Сходные эколого-этические нормы существуют в отноше-нии родников (запреты порубки леса в окрестностях, громкого и рез-кого разговора, загрязнения источника) и деревьев, особенно бере-зы. Священные рощи (кÿсото) и поныне являются высоко чтимым культовым достоянием марийцев.
Если экологическая адаптация сконцентрирована на хозяй-ственном цикле, то социальная охватывает широкое деятельностное поле, в том числе религиозные, торговые, военные, политические взаимодействия. С древности большие пространства осваивали и контролировали наиболее мобильные группы, обретавшие статус элиты; и позднее элита выделялась подвижностью на фоне зависи-мых сословий, нередко принудительно прикрепленных к земле. В истории Старого Света магистральные культуры воинственных ко-чевников моря и степи создали геополитическую конфигурацию, ле-жащую в основе современной культурной мозаики Евразии.
125
А. В. ГоловнёвВсе магистральные культуры мобильны, но не всякая коче-
вая культура магистральна. Например, бродячие охотники-со-биратели даяки Калимантана или хадза Танзании мобильны, но локальны по стратегии адаптации и социального взаимодействия. Обычно мобильность соотносится с повышенным социальным тонусом. Из этологии известно, что поведение живых существ, включая животных и людей, различается в статике и динамике с резким контрастом мира (покоя, отдыха) и войны (рейда, мигра-ции). В состоянии покоя вожди племен принимают мало реше-ний, а в состоянии мобилизации — много. Свободолюбивые иро-кезы, в быту опирающиеся на традиции и персональные мнения, в условиях войны забывают о личной свободе, подчиняются вож-дю и придерживаются жесткой дисциплины [Wallace 1968:174, 176–177]. Как видно, понятия «мобильность» и «мобилизация» связаны не только этимологически, но и функционально.
Поскольку мобильные группы чаще и дольше, чем оседлые, на-ходятся в тонусе мобилизации, у них развиваются специфические социальные технологии. Кочевники, при нехитром материальном быте, выработали сложную военную организацию и социально-по-литическую структуру: многоступенчатую иерархию (24 ранга у хунну), десятичную организацию разделенного на крылья войска-орды (тумен, тысяча, сотня, десяток), тактику отлаженных маневров (ложного отступления, облавы), мгновенной мобилизации и ком-муникации (вестовые, ямская гоньба). Эта система по своей сути и морфологии отличается от бюрократии оседлых обществ тем, что ее ядро (вождь и его ставка) связано цепью быстрых реакций со всей ордой, благодаря чему орда способна постоянно чувствовать и мгно-венно выполнять волю вождя. Как показал обзор мотивов и действий Темучжина, самые успешные его решения (например, о преобразо-вании армии) были приняты не в паузах мира, а в гонке войны. Эта мобильно-мобилизационная технология не только кратно усиливает агрессию и мощь кочевников, но и ошеломляет оседлых жителей с их поведенческими стандартами покоя. Земледельца и ремесленни-ка подавляет не столько реальная сила кочевника, сколько магия его власти, сочетающая агрессию и дипломатию, жестокость и милость,
126
А. В. Головнёвбуйство и порядок. Кочевник воплощает в себе власть и даже играет ею, вовлекая в эту игру оседлых жителей.
Если под номадизмом понимать не только механическое дви-жение и следование за мигрирующими животными, но и систему коммуникации и иерархии, в которой ключевую и связующую роль играют кочевники, то их избыточное внимание к оседлым сообще-ствам представится не агрессией и паразитарностью, а естествен-ным свойством «этноценоза». Кочевники совершенствовали культу-ру контроля над большими пространствами, систему коммуникации и подчинения в конкуренции не столько с оседлыми культурами (ко-торые заведомо уступали им в военизации и мобильности), сколько с другими кочевниками.
Локальная культура перерастает в магистральную, когда она распространяется на большое пространство, связывая собой не-сколько локальных культур. Главную роль в посредничестве играет военно-политическая, жреческая или торговая элита, объединяющая своей активностью локальные культуры и создающая тем самым но-вые пути контактов и новое качество взаимоотношений. Язык маги-стральной культуры становится, как правило, вторым языком охва-тываемых ею локальных групп; нередко то же самое происходит с культом и системой власти. Магистральная культура может сохра-нять связь с материнской локальной культурой или, отделившись от нее пространственно и функционально, образовать альянс с другими локальными группами.
Магистральная культура всегда подвижнее локальной, посколь-ку она вырастает на преимуществе в движении и целенаправленно развивает технологии мобильности в конкуренции с культурами-со-перницами. Собственно лидерство в движении и придает культуре качество магистральности. Как только она теряет это превосходство, власть над пространством и людьми захватывает новая магистраль-ная культура, зачастую окраинная, «дикая и варварская». В этом вы-ражается «закон Ибн-Хальдуна», согласно которому кочевая дина-стия (держава) существует не более 120 лет, в течение жизни трех поколений: первое, славное своей мощью и кочевой (бедуинской) суровостью и яростью, создает державу; второе, сменив гордость на
127
А. В. Головнёвподчиненность самодержцу, предается роскоши и лености; третье вовсе забывает бедуинскую суровость, предпочитая престиж и бла-га, и лишь внешне напоминает воинов-всадников, будучи на самом деле «трусливее женщин» [Ибн-Хальдун 2004].
Преимущественно локальной или магистральной культура ока-зывается в проекции статики и динамики, оседлости и мобильности, экологической и социальной адаптации. Локальная культура осваи-вает биоресурсы (экоадаптация), магистральная — социокультурные ресурсы локальных культур (экосоциоадаптация). Они различаются стратегией и масштабом контроля над пространством: локальная культура «возделывает» конкретную эконишу, магистральная — синтезирует локальные группы в сети коммуникации и сложные со-общества, часто приобретающие облик государств.
Воинственный кочевник и мирный земледелец могут лишь умозрительно отделяться друг от друга. В реальности — там, где их пространства пересекаются — они сосуществуют и образуют есте-ственный симбиоз, в котором кочевник выступает мобильной силой, а земледелец — кормящей культурой. У них разные, но взаимодо-полняющие модели безопасности и контроля над пространством — кормовая (локальная) и силовая (магистральная). Первая основана на экохозяйственной адаптации и труде, вторая — на экосоциальной адаптации и войне/политике. Первая развивает технологии оседло-сти (разработка локальных ресурсов) и плотного врастания в землю, вторая — технологии мобильности (коммуникации, управления) и охвата больших пространств. Они поддерживают друг друга, по-скольку кочевник опирается на локальные очаги, а земледелец нуж-дается во внешней защите.
По роду деятельности агент магистральности (политик, воин, торговец, жрец) — этнодипломат, интегрирующий различные со-общества, партнерские связи, ценности. Его собственные ценности состоят во власти над чужими ценностями и контроле над обшир-ным социальным пространством. По мотивации и деятельности зем-леделец привязан к «почве» и родственно-соседской среде, торговец и политик — к «пути» и разноликому кругу партнерства. Первый «натурален» в своих потребностях, второй — постоянно «конверти-
128
А. В. Головнёвруем». Различные деятельностные схемы создают, соответственно, статичную и динамичную этничность. Классический пример статич-ной идентичности представляет крестьянство с его плотной экокуль-турой, динамичной — нобилитет с многообразной социокультурой. В тех случаях, когда локальная и магистральная культуры иерархи-чески соподчинены (большинство так называемых рабовладельче-ских и феодальных обществ, полиэтничных империй), они выглядят двумя культурами в одном народе, различающимися даже по языку. «Верхняя» и «нижняя» культуры представлены, например, франка-ми и галлами во Франкском королевстве, англосаксами и бриттами в древней Англии, русью и славянами — в древней Руси.
В локусах генерируется стойкая «почвенная» этничность, на магистралях — мобильная «синтетическая» (в каком-то смысле именно эти разные качества этничности породили примордиалист-ский и конструктивистский варианты ее толкования). Локальная и магистральная этничность различаются не только территориальным размахом, но и мотивами-практиками генерирования. Первая осно-вана на родстве (в значении философии и технологии близости, а не факта крови), распространяемом на обитаемое пространство в по-нятиях «родная земля», «родина». Вторая строится на власти в ее функциях интеграции, посредничества, субординации и выражается понятиями «народ», «семья народов». При статусном превосходстве магистральной культуры локальная обладает преимуществом устой-чивости и живучести благодаря непосредственной связи с землей и ее ресурсами. Магистральная культура может оказаться эфемерной, «сойти с орбиты» в противоборстве с другой культурой, не выдер-жать напряжения движения и осесть в удобной локальной нише.
У локальной и магистральной культур разные системы безопас-ности. Кочевник привязан не к месту, а к движущейся орде (войску, табору, табуну, стаду), и безопасность для него состоит в контроле над пространством, где главную и постоянную угрозу представляют другие кочевники. Быстрый переход от защиты к агрессии, превра-щение опасливого стада в азартную стаю — талант стайно-стадного человека. В степи переход покорного улуса в режим воюющей орды и наоборот был обыденностью и зависел от воли вождя. Кочевникам
129
А. В. Головнёвсвойственна маневренность в обеспечении безопасности, включаю-щая тактики опережающего удара, предупреждения облавы, замани-вания отступлением. Быстрота маневра позволяла им резко сменять бегство на атаку и повергать врага в смертоносное оцепенение.
Охотник-кочевник-воин постоянно имеет дело с угрозами и ри-сками. Для него страх — не гнетущая неизвестность, а привычный инструмент. Управление страхом — ключевая технология кочевника. Преобразованный в агрессию и направленный на жертву, страх рас-чищает путь лучше копья и меча. Подгоняемый нарочитыми актами жестокости он мчится впереди кочевой орды и подавляет волю за-щитников крепостей. При виде парусов викингов и знамен монголов жители городов нередко сдавались без боя, пускались в паническое бегство и даже кончали жизнь массовым самоубийством (как случи-лось при взятии монголами Пекина и Ганджи).
Для оседлой «кормящей культуры» кочевая модель безопасно-сти (внешней политики) чужеродна и амбивалентна, поскольку со-держит в себе как защиту, так и угрозу. Эта безопасность начиналась с опасности — набега кочевой орды. В борьбе за селение кочевник сражался не с земледельцем, а с прежним правителем земледельца, тоже кочевником, и судьба оседлой общины решалась в схватке ко-чевников. Недавний враг-агрессор вскоре превращался в покровите-ля-защитника, так как локальная общность чаще признавала право победителя, чем хранила верность прежнему покровителю. Отныне очередной «свой кочевник» защищал село или город от «чужих ко-чевников», брал на себя роль миротворца и пастыря земледельцев. Земледелец мог не любить кочевую власть и даже проклинать ее (обычно постфактум), но он умел смиряться с этой властью и счи-тать ее залогом безопасности. Впрочем, эта безопасность сохраняла двойственность угрозы/защиты, свойственную всякой власти.
Психологически для земледельца привнесенная извне кочевая безопасность — не преодоление страха, а его подавление — ко-чевник монополизирует страхи земледельца, а земледелец с готов-ностью передает их на милость кочевнику-победителю. Модель безопасности земледельца развернута на две сферы — природы и общества. В первой он чувствует себя по-хозяйски, обладая емкой
130
А. В. Головнёвэкологической культурой и поддержкой сельской общины, в совер-шенстве владеет знаниями местности и календаря, навыками обра-ботки земли и материального жизнеобеспечения. Он способен ла-дить с природой на уровне психического диалога — посредством ритуалов и крестьянской магии. Земледелец в силах — «с божьей помощью» — пережить стихийные бедствия и невзгоды вроде не-урожая и голода.
В праистории, судя по всему, присутствие кочевника как воен-ной силы было естественным и не считалось завоеванием — пригла-шениями на помощь и (со)правлением морских и степных кочевни-ков, от варягов до половцев, пестрят русские летописи. Собственная властная элита произрастает в «кормящей культуре» в двух вариан-тах: от осевших кочевников и от поднявшихся во власть полукровок. В этих случаях симбиоз разных культур перерастает в их синтез, ге-нерируя новую культуру.
Археологические параллели
Мотивы, амбиции и страхи сами по себе не превращаются в археологические артефакты и не откладываются в культурном слое. Их нелегко обнаружить и в анналах истории, не говоря уже об ис-копаемых остатках. Тем не менее, охарактеризованные выше под-ходы из арсенала антропологии движения отчасти переводимы на язык археологии. Правда, при этом в диалоге археологии и этноло-гии правильно расставить акценты – не описывать живую культуру так, будто она мертвая, а наоборот, древние свидетельства использо-вать для реконструкции сцен жизни. Учет мотивов праэтничности и баланса локальности/магистральности позволяет увидеть новые ракурсы в интерпретациях древностей. Коснусь лишь нескольких эпизодов праистории.
О древности и значимости магистральности свидетельствует пред-полагаемый сценарий «верхнепалеолитической революции», согласно которому человек современного вида одержал верх над неандерталь-цем не в результате кровавой схватки, а посредством симбиоза. Недав-ние палеогенетические изыскания показали, что неандерталец был не
131
А. В. Головнёвкосвенным предком, а современником sapiens — ископаемым останкам раннего неандертальца около 400, архаичного sapiens — около 300 тыс. лет. Происходят они от общего предка-архантропа Homo heidelbergensis (иногда на эту роль предлагают Homo rhodesiensis или Homo helmei), а расхождение между ними случилось относительно недавно, в интерва-ле 440–270 тыс. л. н. Судя по анализу геномов современного человека и неандертальца, уже после расхождения между ними был генный дрейф в объеме до 4% генома. При этом неандертальцы контактировали толь-ко с евразийскими sapiens, но не с африканскими. По геному они одина-ково близки французам, китайцам и папуасам. Следовательно, генный дрейф между неандертальцами и евразийскими sapiens имел место до расхождения предков европейцев, азиат и папуасов. Это могло произой-ти на Ближнем Востоке в интервале 100–50 тыс. л. н. [Green et al., 2010].
Известно, что на Ближнем Востоке различия между sapiens и neanderthalensis минимальны (черепа из пещер Табун, Схул, Каф-зех). Если интербридинг sapiens с западноевропейскими неандер-тальцами сомнителен, то с ближневосточными вполне вероятен. На этом основании неандертальцев иногда считают «кольцевым видом», гибридизация которого с Homo sapiens была возможна на востоке и невозможна на западе [Voisin, 2006]. В хронологиче-ском измерении неандертальские черты палеоевропейцев после-довательно усиливались с момента их проявления 400 тыс. л. н. к моменту исчезновения последних неандертальцев в южной Ибе-рии около 24 тыс. л. н. Следовательно, «неандертализация» стала следствием обособления потомков архантропа в Европе — севе-ро-западной периферии среднепалеолитической ойкумены, тогда как на Ближнем Востоке видовое единство Homo сохранялось. Вероятно, европейцы-неандертальцы стали «тупиковой ветвью» потому, что оказались в отдалении от магистрального Левантий-ского перекрестка верхнепалеолитической ойкумены.
Северяне-neanderthalensis и южане-sapiens были вовлечены в миграционный круговорот на ближневосточном перекрестке комму-никаций и по-своему соперничали за контроль над ним. Ранние sapi-ens отмечены на Ближнем Востоке около 200 тыс. л. н. (Эль-Зуттие), а около 120 тыс. л. н. sapiens (Схул) и neanderthalensis (Табун) сошлись
132
А. В. Головнёву горы Кармел в Палестине. Около 50–40 тыс. л. н. борьба Севера с Югом на Левантийском мосту завершилась в пользу sapiens. Веро-ятно, длинноногие южане одолели коротконогих северян не столько физической силой, сколько технологиями движения, коммуникации и симбиоза. Последовавший затем «закат неандертальской Европы» был лишь следствием утраты контроля над ближневосточным пере-крестком — неандертальцы уступили не в Европе, где они обладали преимуществом северной адаптации, а в Леванте. Вид или культура расширяет пространство до тех пор, пока занимает магистральную позицию; когда стратегический путь пресекается, сообщество лиша-ется хребта и распадается на локальные фрагменты. Что касается южан-sapiens, то захват древней миграционной магистрали обеспе-чил им успех в колонизации остальной ойкумены и ее существенном расширении (подробнее см.: Головнёв 2013).
В палеолите магистрали пролегали вдоль горных цепей, кото-рые контролировали подвижные охотники; в неолите обозначились водные (речные и морские) магистрали, освоенные воинами-про-мысловиками; в бронзовом веке магистралями стали открытые про-странства, которыми овладели конные воины и мореходы. С этого времени ведущую роль в геополитике Северной Евразии играли ма-гистральные культуры кочевников суши и моря, охватывавшие сво-им движением большие пространства и связывая локальные культу-ры в сложные сообщества, в том числе кочевые империи. По силе воздействия в Евразии выделяются североевропейский и централь-ноазиатский очаги экспансии, вызывавшие явления, называемые мной «нордизмом» и «ордизмом».
Ростки кочевничества в евразийских (южнорусских) степях видны в чертах коневодства среднестоговской культуры и курга-нах майкопской культуры IV тыс. до н.э. [см.: Телегiн 1973; Черных 2009:209–220]. По месту рождения ордизм — южнорусское явление эпохи неолита. С тех пор немирная цепь конных индоевропейских орд от Европы до Китая стала генератором многообразной кочевой культуры, посредником между локальными оседлыми сообщества-ми, магистралью распространения технических новшеств (особенно оружия) и «кузницей вождей». В бронзовом веке (II тыс. до н. э.) по
133
А. В. Головнёвэтой магистрали прокатились боевые колесницы; на рубеже II и I тыс. до н. э. на смену колесницам пришло всадничество, и по его стреми-тельному распространению в степях Евразии, в Греции, Анатолии, на Кипре, Кавказе видно, насколько евразийский мир был связан конными людьми. В раннем железном веке евразийская степь была ареной миграций индоевропейских всадников, самые восточные из которых, юэчжи-тохары, кочевали на границе с Китаем. Возможно, юэчжи преподали хуннам первые уроки конных разбоев, вовлекая их в рейды на китайские земледельческие провинции. Юэчжийская кочевая воинственность в сочетании с циньско-ханьским культом единения породила феномен хунну, с которых началась эпоха коче-вых империй Центральной Азии. Хунно-гуннская экспансия на за-пад прошла по дорогам, проложенным древними индоевропейцами и, таким образом, не породила ордизм, а продолжила его традицию.
Нордическая мореходная культура коренится в европейском не-олите. С бронзового века миграции с европейского Севера достигали Средиземного и Черного морей. Облик североевропейской культуры боевых топоров рубежа III–II тыс. до н. э. не оставляет сомнений в воинственности ее носителей. Возможно, маршруты северных во-инов в бронзовом веке проходили от Балтики до Причерноморья — следы ютландской культуры одиночных погребений прослежи-ваются в донецкой катакомбной культуре. Готская экспансия начала новой эры продолжила магистральную традицию «северных варва-ров». Судя по всему, готы, как и другие воины-скандинавы, не поры-вали связей с северной родиной, а совершали длительные походы на юг, время от времени возвращаясь назад. Черноморская Готия была долговременной колонией балтийской Готии, плацдармом для веде-ния военного промысла на юге Европы.
С рубежа эр Понтийский перекресток напоминал маятник степ-ных и морских кочевий. Магистральные культуры Балто-Понтийского междуморья и Великой степи охватывали пространство Северной Ев-разии в ритме попеременного господства: скифо-сарматскую горизон-таль в III в. н.э. сменила северная вертикаль готов; в IV в. возобладала горизонталь гуннов; в V в. настал черед вертикали свеев; в VI–VII вв. в евразийских степях развернулась экспансия тюрок; в VIII–IX вв. похо-
134
А. В. Головнёвдами викингов была проложена очередная северная вертикаль, сменив-шаяся в XIII в. монгольской горизонталью.
Единство варяжской Руси обеспечивалось норманнской ма-гистралью, ордынской – монгольской. Так называемая феодальная раздробленность, приписываемая не то дурному нраву знати, не то неким всемирно-историческим законам, в действительности была следствием упадка магистральной культуры. «Варяжский путь» за-мер, и динамичная прежде Русь распалась на статичные локальные княжества.
Локальные культуры обособляются в период ослабления ма-гистралей, а с установлением новой магистрали утрачивают своео-бразие, но неокончательно: вскоре локальность «прорастает» и дает новую культуру на прежнем месте. Археологическая унификация большого пространства может свидетельствовать о триумфе очеред-ной кочевой магистрали. Однако смена археологической культуры вовсе не обозначает смены населения — это может означать явление новой магистральной культуры при сохранении прежнего локально-го сообщества.
135
А. В. ГоловнёвЛИТЕРАТУРА
1. Андреев И. А. Традиционное хозяйство марийцев // Народы По-волжья и Приуралья. М.: Наука, 2000. С. 205–215.
2. Головнёв А. В. Антропология движения (древности Северной Ев-разии). Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009.
3. Головнёв А. В. Sapiens-колонизация: природные основания и потен-циал движения // Фундаментальные проблемы археологии, антро-пологии и этнографии Евразии. К 70-летию академика А. П. Дере-вянко. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 2013. С. 511–522.
4. Ибн-Хальдун. Пролегомены к «Книге поучительных примеров и дивану сообщений о днях арабов, персов и берберов и их совре-менников, обладавших властью великих размеров» // Мировая экономическая мысль: Сквозь призму веков. Т. I. М., 2004.
5. Лукина Н. В. Культурные традиции в хозяйственной деятельности хантов // Культурные традиции народов Сибири. Л.: Наука, 1986. С. 121–138.
6. Телегiн Д. Я. Средньостогiвська культура епохи мiдi. Киïв: На-укова думка, 1973.
7. Черных Е. Н. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009.
8. Green R. E. et al. A Draft Sequence of the Neandertal Genome // Sci-ence, 2010. Vol. 328. No. 5979. Pp. 710–722.
9. Sirelius U. T. U
ПРИМЕчАНИЯ
1 Статья подготовлена по программе фундаментальных исследова-ний Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре».
А.В. Головнев не смог принять участие в работе Круглого стола, поэтому статья расположена после Дискуссии.
2 Обычно предполагается обратная зависимость. Например, со-гласно известной гипотезе К. Виттфогеля, нужда в масштабной ир-ригации вызвала к жизни государственность (Wittfogel 1957).
Научное издание
Коллектив авторов
ЭТНИчНОСТЬ В АРХЕОЛОГИИ ИЛИ АРХЕОЛОГИЯ ЭТНИчНОСТИ?
Материалы Круглого стола
Редактор Н.О. ИвановаОбложка С.М. Арканов, Г.В. Терсков
Расшифровка стенограммы и набор Л.В. ПожиленковаКомпьютерная верстка Г.В. Терсков
Формат 60X84 1/16. Усл. печ. л. 8,5. Тираж 200Отпечатано с оригинал-макета.