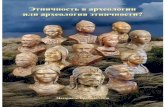МЕСТНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ СООБЩЕСТВО В КАРЕЛИИ XIX века В...
Transcript of МЕСТНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ СООБЩЕСТВО В КАРЕЛИИ XIX века В...
@2009 r. И. А. Ч Е Р Н Я К 0 8 А •
МЕСТНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ СООБЩЕСТВО
В КАРЕЛИИ XIX века В БОРЬБЕ ЗА ВЫЖИВАНИЕ:
стратегия или интуициЯ?
Предлагаемая статья является фрагментом общего исследования автора, включающего соЦIIально-экономические 11 11сторико-демографические сюжеты в поле юучения традиц11онноR крестьянской семьи доиндустриальной эпохи 1.
Автору близка высказанная в литературе мысль о том, что персживаемый мировой наукой «бум» историко-демографических исследований связан не только с актуальностью проблем на· родонаселения в современном мире, но с активным поиском той области жизнедеятельности лю· дей. в которой нашли бы отражение и экономические реалии, и политико-правовые нормы, и культурные ориентиры той IIЛИ иной эпохи2 . При акцентированном вн1rмакии сегодняшнего IIC· тори•1ескоrо знания к человеческой личности возможность синтезировать то, что происходило в сфере экономики, и то. 'ITO генерировалось в области права, а также то, как ОТКЛ11кались на те 11ли 11ные вызовы времен11 народные культурно-этические представления 11 поведенческие нормы, открывается , пожалуй, более всего в рамках вечного сюжета - истории семьи - в отражен· ном 11 опосредованном человеческим сообществом. пережитом им ракурсе прошлой жизни.
Выясняя структуры семьи и домохозяJ:iства, выявляя модели брачного nоведения , анализируя сведения источников о средней продолжительности жизненного пути , способности к деторожде· нию 11 при•шнах смертности - все то, что характеризует локальные сообщества карельских кре· стьян на протяже!Uiи XVU-XIX вв. в каждой из этничесКIJ близКIIХ, но разделенных истор11ей, ре· гионалыю различимых по обе стороны современной межгосударственной грающы Карелий: Беломорской, Северной Олонецкой, Олонецкой , Северной Финляндской, Приграничной (северавосточное Приладожье). Ладожской (северо-западное Приладожье), собственно Карельской, или Выборгской (Карельский перешеек), а также Тверской, - исследователь семьи всегда сконцентрирован на обнаружении «Стратегий выживания» (Рис. 1).
На разных истори••еских этапах в условиях nриграничья , не раз и не два nроверявш11х местные крестьянские домохозяйства на жизнесnособность, должны быщ1 находиться и срабатывать адекватные модели поведения. Насколько они вообще уловимы и что еще, кроме а priori прllзнаваемоrо в историографю1 решающим сnособа nроизводства, воздействовало на семью в 1\сторической ретросnектltве? В nоисках ответа на nостоянно встающ11й перед 11сследователем вопрос о том, как в конкретных 11сторических условиях, будь то рубеж XV/1-XVПI, рубеж XVJII- X[X IIЛII рубеж XlX-XX вв., домохозяйство крестьянина-карела обеспечивало свою жизнесrюсоб· ность. ••евозможно обойти вн11манием основное условие его воспроизводства в длительной пер· спективе- встуnление в брак. Что являлось необходимым и что достато•1ным в момент создания новой бра•1ной nары? Изменялись ли со временем, зависели ли от территории nроживан11Я, кореллировали ли с разли•1ными формами хозяйствования ориентиры брачного nоведения в ло· кальных людских сообществах?
Как не однажды отмечено в историографи11. безусловная за11нтересованность каждой кре· стьянской семьи в получении дополнительной nары рабочих рук формировала решающим образом влиявший на традиции заключения браков принцип поведения в российской прооинции доиндустриальной эnохи. Полагают, что именно трудоемкость крестьянского хозяйства более всего сnособствовала осознанию ситуации , что пора женить очередного сына . и что та же причина формировала основные требования к невесте, которую выбирали ему в жены. Решающее обстоятельство видят в том, •1то сразу после создания новой семейной nары крестьянский двор мог npe· тендовать на дополнительную долю земли в общем пашенном фонде nридеревенСКIIХ уrод11й3. Поэтому-то, как принято nодчеркивать на Западе, для традиционной российской модели брач· иого nоведения не являлось особенно удивительным, если nятнадцатилетн11й nодросток женился на восемнадцатилетней девице4•
• Черпякова Ирина Александровна, кандидат исторtt••еских наук . доцент. руководитель Исследова· тельскоn лаборатории локальной и мttкроистории Карслшt Петрозаводского государственного универси· тета. доцент Университета Йоэнсуу (Финляндия).
216
Современная восточная граница Финляндии
~
Рис. 1. Карта «Территории православной и лютеранской культуры . населенJtе которых с•штало себя
карелами в 1900 г.» из КJt. Family Life on the Northwestem Margins of lmperial Russia 1 Ed. Ьу Tapio Hamunen, Jukka Partanen and Yury Shikalov. Joensuu, 2004. Р. 20. 1. Выборгская Карелия (Карельский перешеек) 2. Ладожская Карелия (Северо-заnадное Приладожье) 3. Приграни•1ная Карелия (Северо-восточное Приладожье) 4. Северная Финляндская Карелия 5. Олонецкая Карелия 6. Северная Олонецкая Карелия 7. Беломорская Карелия
В современной отечественной историографии захточение nервого брака в чрезвычайно
раннем возрасте также nринято считать абсолютно nредnочитаемым в среде российского кре
стьянства nрошлых эnох. Убедительно nодытожив всю отечественную историографию,
Б.Н. Миронов не сомневается, что в ХVШ- начале ХХ столетия «В России доминировали ранние
браки», что в ХУП в. наиболее расnространенным возрастом встуnления в брак для невест был
возраст в 13-14 лет и что женихи были не намного старше - 15-16 лет5. В то время как по Со-
217
борному Уложению ( 1649 г.) «которая девка (дворянского происхождения. - И. Ч.) будет в возрасте , в пятнадцать лет», она должна была быть выдана замуж опекуном6, минимальный допустимый возраст вступления в брак даже для времен много более поздних в России оставался определенным церковью в 12 лет для девушек и в 15- для юношей7 • Утверждая, со ссылкой на специальную инструкцию от 1774 г. , что традиция женить сыновей и выдавать замуж дочерей еще подростками была жива в России долгое время, Б.Н. Миронов, тем не менее, на основе всех накопленных в отечественной историографии наблюдений no данному поводу, приходит к заключеtшю, что средний возраст вступления в брак, хотя и медленно, но повышался, и что за период 1780-1850 гг. он с очевидностью вырос с 15-16 до 18-20 лет для невест 11 с 16-18 лет до 2~ 21 года для жениховs.
Уместно отметить, что неизбежная умозрительность построений, основанных на предписаниях законодательства, равно как очевидная недостаточность сведений, почерпнутых в источн11· ках прецедентного происхождения, заставляет базировать изучение интересующей нас проблемы преимущественно на информации источников массового характера. При этом важно отдавать отчет в том, ••то российская модель брачного поведения может быть выстроена с опорой на верифицируемые сведеиия документов такого рода только с 60-х гг. XVIII столетия , когда в них стали фиксировать имена не только мужской, но и женской части населения .
Согласно традициям брачного поведения , присущим населению западноевропейских стран, возраст вступления в брак на протяжении nоследних четырех столетий был там заметно более высоким, чем в России и восточной Евроnе в целом. По свидетельству Х. Палли, собравшего в реnрезентативной таблице данные множества исследоваппй, опубликованных за три послевоенных десятилетия во всем мире, абсолютно nредпочитаемым возрастом для заключения брака в течение XVIJJ и XIX в в. в тех из исследованных при ходов, которые локализуются в Западной Европе, был возраст не моложе 27 лет среди мужчин и 25 лет среди женщин9.
По мнению П. Ласлетта, высказанному тогда же, в конце 1970-х гг. , Западная Европа является единственным регионом в мире, где за nоследние два с половиной столетия случаев, когда бы женщина моложе 20 лет была уже замужем, не было зафиксировано вообще 10. Согласно заключению М. Андерсона, сделаниому в обобщающем труде, посвященном истории западноевроnейской семьи в целом до начала ХХ в., типичным возрастом жениха в заnадноевропейской провннцки уже с доиидустриальной поры следует считать 27-28 лет, невеста же, как правiiЛо, оказывалась младше, но не намного: обычно девушки выходliЛИ замуж не ранее, чем им исnолнялось 25-26лет11.
Выше сказанное вполне согласуется с наблюдеииями Ю.Л. Бессмертного о чрезвычайно рано nроявившемся вмешательстве власти в сферу брачного поведения локальных сообществ. Изучив муниципальные архивы нескольких французских городов, он пришел к заключению, что уже в раннее tювое время возраст вступления в брак во Франции мог быть строго регламентирован городскими администрациями. Вот лишь одна из множества упомянутых им ситуаций: в 1573 г. чиновники магистрата вполне заурядного городка Амьена сочли необходимым издать специальное предписание, согласно которому ни один юноша не должен был жениться ранее достижения возраста 24-25 лет и ни одна девкца не должна была выходить замуж прежде, чем ей исполнится 17- 18 лет. Особенное внимание при этом уделялось тому, чтобы этому правилу строжайше следовало бедное население12 .
Следующей отличительной чертой брачного поведения является разница в возрасте между суnругами. По западной, именуемой «европейской», модели она всегда характеризуется тем, что мужч11на старше 11 тем, что в целом возраст жениха отлкчается от возраста невесты, как nрави
ло, весьма незначительно 1 3. Совершенно иная картина вырисовывается при изучении зарубежными исследователями
росскйских источников. П. Зап, основываясь на материалах расположенного в Рязанской губ. помещичьего имения Мишино, пришел к выводу, 'ITO в значительной части семейных союзов крепостных крестьян (от 33 до 46%) жена была заметно старше своего мужа 14• М. Миттераурер и А. Каган , основываясь на данных третьей ревизии по Ярославскому уезду, несмотря на лишь один обнаруженный случай, когда юноша 15 лет был уже женат, утверждают, что по экономическкм пр11чинам в российской провинции было общепринятым, чтобы «мальчики жеинлись очень рано на взрослых женЩJiнах». Исследователи повторяют вслед за бароном А. фон Гакстхаузеном, что в Росс11и можно было встретить «24-х летнюю женщину, которая нянчилась со своим шестилетним мужем» 1 5.
Третья отличительная черта, позволяющая выделять поведенческие ориентиры, действовавшие в массовом порядке в заnадноевроnейских странах, это значительное количество лиц мужского пола, не вступавших в брак вовсе. Как показал Ю.Л. Бессмертный, до 10% населения фраи-
218
цузской глубинки в пеrиод позднего средневековья оказывалось вне брачных отношений на nро
тяжении всей Ж11ЗШt 1 . Позднее, в XIX о. доля таковых в некоторых локальных сообществах выглядит еще более значительной, возрастая в отдельных регионах вдвое1 7.
Абсолютно иные. массовым образом действовавшие ориентиры ожtщаемого поведения об
наруживаются в России. Состоять в браке было своего рода обязанностью, во всяком случае, в
среде сельского населения. Неженатый мужчина. если он мог быть женат по состоянию здоро
вья , безусловно, должен был ощущать неодобрение односельчан , без особого стеснения обозна
чавших это свое отношение в весьма обидных для самолюбия, nрозоищах и обзывках18. Итак, разница в характеристиках семейного поведения, выявленная исследователями по до
кументальным материалам доиндустриалыюй эпохи в той части Евроnы, которую называют За
падной , 11 в той, что именуется Восточной. выглядит весьма существенной , распадаясь на три
очевидных параметра: 1) средний возраст 11ступлевия в первый брак (после 25 лет там - до 20 лет здесь); 2) разница в возрасте супругов (он старше ее, при этом не намного там - она нередко стар
ше его, разница может быть весьма существевной, здесь); 3) доля мужского населения вне брач
ных уз (до 20% мужЧJш в отдельных локальных сообществах, никогда не встуnавших в брак, там
близкое к поголовно обязательному вступление в брак здесь) .
Известная линия на карте, nроведен1tая Д. Хэйналом для условного разграничения зон оре
имущественного расоространею!Я «европейской» 11 «неевропейской» моделей брачного поведе
Ю!Я, соединяющая виртуально Санкт-Петербуfgг (тогда речь шла о Леюtнграде) в северо-запад
ной части Росс1н1 и Триест в северной Италии 9, актуализирует изучение ситуац1ш для территории выше обозначенных семи областеft (см. рис. 1), население которых связывает себя с
карельским этносом, так как они объективно nоnадают в «зону nерехода». Важно оnределить к
какой именно модели брачного поведения приближались традиции заключения браков, быто
вавшие о XVJII- XIX вв. в карельской деревне , и были ли они хоть сколько-то общими для «всех
карелий» в целом. Хотя больше не говорят об искомой «линии Хэйнала», как некой разграничи
вающей •1ерте, внимание , тем не менее, по-nрежнему пр11Ковано к зонам , в которых предполага
ется смещение или смешивание традиц1tонных- заnадной и восточной - моделей демографиче
ского nооедеюtя. Безусловно, к таковым относится Карелия.
Правда, В.Л . Носевич, поfпtмая nод «ШIIрокой переходной зоной» nредположJiтельно Поль
шу, Словакию, Румынию и уверенно Балт11ю, Беларусь, nравобережную Украину, а также Фttн
ляндttю, не включает в свой перечень Карелию - эту важнейшую в контексте обсуждаемых сю
жетов, вnлоть до ХХ в. этнически однородную территорию, разделенную историей между двумя
государствами20. Тем самым он уnускает 11 з виду немаловажное обстоятельство: работы К. Варnула и Э. Варис, внесших немалый вклад в историографию обсуждаемой nроблемы, сфокусиро
ваны на сравнительном изучен1111 именно карельской традиционной семьи . Не что иное как де
мографи••еское поведение обитателей районов Кюммене и Руокалахти , входящих в населенную
карелами юго-восточ1-1ую часть Финляндии - Северную Карелию, nозволило им выявить иско
мые ••е рты nереходной зоны между восточным и западным путями развития крестьянских домо
хозяйств21 .
Безусловным и значительным nродвижением в данном направлении является коллектавная
монограф•tя , увидевшая свет как результат не так давно завершенного совместного проекта, вы
полненного с участием автора данной статьи по иниц11апtве 11 с лидерством Т. Хямюнена , про
фессора университета Йоэнсуу (Финляндия)22 . Фшшя.ндскими (Aslak Aikio, Jukka Pananen, Matti Polla, Yury Sblkalov, Elina Waris, Кirsi Warpula), российскю.ш (С.Г. Кащенко, М.С. Куроn.яТНJJК,
И.А. Чернякова) 11 британскими (Тrасу Dennison, Beatrice Moring) учеными, активно и плодотворно юучающим.t демографические модели традиционных обществ, создана в соавторстве ШJtрО
кая nалитра соnоставительных характер11стик семейной структуры и брачного поведения в гра
ницах Беломорской , Олонецкой, Пригран11чной и Северной Карелии, волею политических судеб
и обстоятельств существующих в составе двух rосударств, занимая широкую nолосу территории
от Карельского перешейка до Белого моря. В исследовании широко использован компаратив
ный подход, все выявленные в архивных документах даиные анализируются с учетом nоследних
достижений историографии воnроса , к тому же с nривлечением для анал11за материалов по со
седней Эстонии, тоже на.ходящейся в зоне 11скомого <<перехода». Следование едiШой методике,
выработанной пользующейся заслуженным авторитетом в современной 11СТОр11оrрафии Кем
бриджской груnпой (Cambridge Group)23. позволяет бухвально «раздвигать» рамки 11зученной территории с появлением каждого нового микроисторического исследован1tя.
Объектом нашего рассмотрения являются четыре карельсюJХ прихода: в Олонецхой Каре
лии - Никольский Ялгубский , в Северной Олонецкой- Рождественский Ребольский , в Беломор
ской - Ильинский Паиозерекий и в Тверской - Воскресенский Пятницкий . Издревле их обитате-
2 19
Пятницкое, 1782 120
• В браке
:1 81.7 о Вне брак~
100 40.2
80 t--r-89.9 91.5
~ 60 f-
40 f--77.8 - -l r-
59.8
20 f- ll г 34 118.~ ~~ о 10.1
Мужчн••~·~~нщи'Ньrуж'tюt~~~·•щмнf1ужчнн~~~·•щн•••· IS- 19 20- 24 25-29
В браке 22 3S 62 85 71 78 РJнс брак 77 52 32 IY 8 2
Ялгуба, 1782 45 5О • В браке 92.5 40 t-- о Вне брака- г-
35 73.5 60
30 .:;; ~ r- ! 25 ~
20 t-- t--
15 1-93.5 - t--
10 t--17.4 5О
t-- 40
5 t-- t-- t--26.5-
о г -1 7.5
Му)l(чнн~·~~нщмньt1)"*'1НII~~~шt.I,ННЬtiуж•Lнн~~!"'Ннttt. 15-19 20- 24 25-29
В браке 2 1 21 25 21 37 II'HC орак LY 4 у 14 J
Реболы. 1782
Панозеро, 1782 30.-----~~~----.
• В браке 66.7 О Вне брака
25~----------------~~
201--------
Рис. 2. Модели брачного поведения крестьян-карелов в 1782 г. (по четырем приходам)
Составлено 110: Государствеииыll арцо в Арханrелъскоn области (далее ГА АО). ф. 51, оп. 11. т. 2, д. 2710;
Государственкьrll архив ТверскоА обласn1 (далее: ГА ТО), ф. 312, оп. б, д. 117: Национальны!\ архив
республюш Карелия (далее: НА РК). ф. 4, оп. 18, д. 2/5. 2/1 О, 9!58.
лями были карелы-людuки , карелы-ливвики, собственно карелы и так называемые тверские
карелы. Всего в округах стоявших в Ялrубе, Реболах, Павозере и Пятницком церквей находи
лось не менее сотни поселений, в которых в последней трети ХVШ столетия uроживало около
6 тыс. человек. К серед11не XIX в. их населенность возросла 11 состав11ла около 9 тыс. человек обоего пола24.
В соответствии с выводами М. Миттераурера и А. Кагана, поведен•rеские ориентации в сфе
ре заключекия браков, вьrявленкые по материалам Ярославской губ., близки к показаt1ным
П. Запом на материалах Рязанской губ. Обе модели иллюстрируют традиции и тенденции , дей
ствовавшие в среде крестьян , живших под властью помещиков. Проанализированные в анало
rrt•lной методике- по возрастным группам 15-19,20-24 и 25-29 лет- сведения о состоянии в бра
ке и вне брака крестьян-карелов обоего пола в именюt Пятн:ицком , находившемся в северо-запад
ной части Тверской губ.25, демонстрируют близкую в главкых чертах модель поведения26• Что касается других карельских пркходов: Ялгубы (Петрозаводский уезд Олонецкой губ.), Ребол (По
венецкий уезд Олонецкой губ.) и Павозера (Кемский уезд Архангельской губ.), по сведеt1иям той
же rv -й ревизии невозможно щ~ заметить: различия в моделях поведения существенны (Рис. 2).
В то время как в Реболах , и в Паиозере никогда не знавшие крепостной зависимости от част
ного лица, бывшие черносошные крестьяне, поступали в последней четверти ХУШ в. сходным
образом, организовывая брак~t своих детей, как Тверской или Ярославской губ., где раннее за-
220
ключение браков исследователи традиционно связывают с регулирующей волей помещика-землевладельца: от 12% юношей в Реболах до 17% в Паиозере уже женаты до достижения 20 лет, а
доля успевших выйти замуж девушек, их ровесниц, еще выше: около 39% в Реболах и 27% в Панозере; ситуация в южнокарельском Ялгубском приходе существенно отличается: лишъ 6.5% юношей здесь женаты в столь юном возрасте. Немного менее значительна и доля уелевших выйти замуж девиц - даже не каждая четвертая , около 23%. Думается, что объяснение следует искать в nриближенности местности Ял.губы к Петрозаводску, который как раз в последние десяти
летия XVID в. nереживал второе рождение в связи с возобновлением металлургического nроизводства, заглохшего было по окончаюm эnохи Петра Великого. Возведение Александровского завода (с мая 1773 г. по июнь 1774 г.) и особенио начало его nроизводительной деятельности, не могло не nривпекать молодых людей из окрестностей города, поnолнявших ряды учеников и
nодручных задолго до nрибытия шотландца Ч. Гаскойнас его сnодвижниками иностранными инженерами и активного nривлечения им русских квалифицированных, по nреимуществу, лиnец
кого nроисхождения, мастеров.
Тем не менее, женщины, nриближаясь к возрасту 30 лет, nочти nоголовно уже замужем. Не
далекое расстояние, разделяющее эти две точки на карте Карелии- Ялгубу и Петрозаводск- nовидимому, вполне доnускало ситуацию временного nребывания в родных деревнях, достаточного для обзаведения семьей. Хотя нельзя не отметить, что все-таки большая доля в критическом
для заключения брака и деторождения возрасте женщин -7.5% (ер. 2.5% в nомещичьем имении Пятницком) - тех, кому от 25 до 30 лет, все еще в ожидании сватов.
Очевидно иную модель брачного nоведения донесли до нас ревизские сказки, составленные в ходе проведения IV ревизии в двух северно-карельских nряходах: с центром в Паиозере (центральная часть Беломорской Карелии) и с центром в Реболах (заnад Северной Олонецкой Каре
лии), всегда тяготевших к Финляндии, тесно с ней связанных на уровне постоянных визитов туда в nоисках работы. В частности, известен феномен разносной торговли , коробейни•rества, чрезвычайно распространенвый среди карелов. С другой стороны nроисходили бесконечнь1е лереселения одиноких лиц, а то и целых семейств, как на ту сторону, так и на эту сторону вnолне эфе
мерной границы.
Долянеженатых мужчин среди тех, кому от 21 до 24 лет, и в Реболах, и в Паиозере составляла явно nреобладающие вели•шны: ~70%. В расположенной заnадней Ребольской округедаже среди тех , кому уже 25- 29 лет, неженатых значительно больше половины (59%). Особенно ра
зительно иной предстает ситуация с женской половиной молодого населения в этих двух северных nриходах по сравнению с южным, Ялгубским. В средней возрастной груnпе от 55% в Реболах до 74% в Павозере не замужем, более того, и в старшей возрастной групnе, в близком к критическому возрасте с точки зрения важнейшей для семьи репродуктивной задачи, каждая третья женщина все еще не замужем (33-35%).
Несколько десятилетий спустя, в середине XfX в. , разница в моделях брачного поведекия , отмеченная ранее на уровне тевдекции , nриобрела вполне оnределеffный характер и стала очевидной (Рис. 3). На примере одного из nриходов, Панозера , nокажем, что nодвижки не просто значительны, модель nоведения на уровне прииятия решения о женитьбе/выходе замуж nриобрела качествекно новый характер, nричем это касается не только более активной , мужской, но и, в не
меffЬшей степеffИ, женской части населения.
Более чем очевидно rrрослеЖFrВается nостеnенное изЖFrВание манеры как жениться, так и не
много nозднее, выходить замуж до достижения 20-летвего возраста. Поначалу бывшая значи
тельной доля юношей, усnевших обзавестись семьей в возрасте от 15 до 19 лет (от 12 до 17% из них , по даниь1м ревизских сказок, собранных в 17~1780-е гг., были уже женатыми), сходит на нет в nоследующие десятилетия, причем, это становится очевидным уже к концу ХVШ в. Ни в материалах V (1795 г.), ни в материалах проанализированных нами следующих, VIIJ иХ ревизий ( 1834 г. и 1858 г.) не уnомянуто ffИ одного брака, в котором муж был бы столь молод. Тот же nроцесс, хотя и с некоторым запаздыванием , наблюдаем среди жекщин. Если в 1760-1780-е гг. едва ли не каждая пятая (около 17%) из уnомянутых в ревизской сказке юных обитательниц Паиозера в возрасте от 15 до 19 лет уже замужем (по данным за 1782 г. доля таковых выглядит даже большей, т.е. чаще, qем каждая qетвертая- более 27%), то спустя всего 13 лет, к 1795 г. доля замужних в данной возрастной групnе nадает до едини'!ных случаев, а в середине XIX в. их не находится вообще.
Наиболее выразительно выявленную тенденцию подтверждают цифры, характеризующие ситуацию в старшей из анализируемых нами возрасткых групn: от 25 до 29 лет. Не менее чем втрое, с 75 до 25% уменьшилась за столетие доля мужчин, обитателей Панозера, усnевших обзавестись собственной семьей к тому времени как им исnолнилось 30 лет. В то же время уди"витель-
221
Пятницкое , 1850 120 ~----------~~~--------,
11.7
100
80
60
40
20
8 В браке оВне брака
Ялгуба, 1850 70 .-----------------------~
8 8 браке 12.3
оВне брака
46
Панозеро, 1858 1 8 ~--------------------------,
125 • В браке 16 1---------------~~~ о Вне брака-
14~--------~~~~------~~ ,..!!_ • 6~5
121------1
1 о 1-------1 1-- 1-
8 1----~ 1-- 1- l--125.0r--
o ·~ 92.3 87.5 ~ 6 ~-,....:....,..~ '""1-- 1- 1-- --t.~•..st-1
4 1- 1-- 1- 1- 1-
~ 100 ~- 1-- 1-- H7s.oHзs.si
Мужчкн~•IЖснuwны Муж•rни-:Jже-нщнны Мужчнн~riЖенщннь.t 15- 19 20-24 25-29
В бDакс О О 1 2 2 & Вне боэка 6 IЗ 12 14 6 5
Рис. 3. Модели брачного поведения кресть11н-карелов в 1850 г. (по четырем приходам) Составлено fiQ: Г А АО, ф. 51 , оп. 11, т. 23, д. 41.2; Г А ТО, ф. 312, оп. 6, д. 683; НА РК, ф. 4, оп. 18, д. 61/566. 70/696.
но nостоянна и на nротяжении всего находящегося в центре нашего внимания столетнего nери
ода времени очен.ь далека до nолного охвата nредставительвиц этой возрастной групnы и доля
замужних женщин, составляя лишь от 60 до 66.7%. Остается оризнать, что даже в этом, крити
ческом с то••ки зрения физиологии в виду nредстоящего деторождения, возрасте от трети до 40% (едва не nоловина!) женщин все еще оставались потенциальными невестами. Означает ли это, что им уже никогда не суждено было выйти замуж? Со всей определенностью можно утверждать, что нет. Как nоказывает анализ информации индивидуального характера , случаи заклю
чения браков и в более зрелом возрасте в nоселениях , составлявших Паиозерекий приход, отнюдь не были едиинчными в те времена27 •
Для того, чтобы показать, какие механизмы могли включаться в локальных сообществах nри необходимости регулирования nроцессов воспроизводства, сосредоточим внимание на южно-карельском nриходе, центром которого в XIX в. являлась церковь Николы Чудотворца в д. Окуловекой (nозднее с. Ялrуба включило в себя не только эту деревню, но и несколько окрестных, веками считавшихся отдельными nоселениями).
Основным источником исторической информации, анализируемой нами , явились метрические книrи, составленные nричетниками Никольского Ялrубского прихода на nротяжении не
скольких десятилетий и сохранившие информацию о жизни и деятельности приходекого сообщества в важнейших сферах его существования: заключение браков, рождение детей и уход из
222
жизни с указанием при•шны смерти в каждом случае (болезнь, несчастный случай, старость). Последовательно рассмотренные изменения в статусе посепеюШ, составпявших приход, выя1шля процесс nоявления новых nочянхов, в то время как старые деревни слrrвапись друг с другом по
мере увеличения их населенности.
Поиск объяснения проележеиных чрезвычайных колебаки:й в общей численности населения nрихода с ХVП в. до начала ХХ в. привел к исследованию nричин смертности, которое показало широкий спектр болезней обитателей данной территор(m. Обнаружена высокая смертность по причине чахотки несмотря на то, что приходекая жизнь протекала в самых благоприятных nриродньrх условиях28•
Это заставило особенно пристально исследовать брачное поведение местных крестьян. Как выяснил ось, круг их брачных связей не отщrчался широтой, более того, nодавляющее большинство браков заключалось с партнера~m. жившими едва ли не в соседних дворах. Очевидная недостаточность традиционных для исторического исследования методов, в том 'llicлe в сфере верификации и соnоставимости анализвруемых фактов и факторов, стимулировала обращение к методикам анализа картографического материала.
Применяв в ходе выполнения проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ), в сотрудничестве с Е. В . Лялля (ПетрГУ) новейшие технологи•rеские разработки в конкретном микроисторическом исследоваНlU!. ограниченном Ялrубским приходом Шуйской волости Петрозаводского уезда, удалось создать локальную геокодированную модель социальной жизни обитателей данвой местности за сто лет, предшествовавших большевистской революции 1917 г. Серия тематических карт и графиков показывает ее функционирование в виде ареалов брачных контактов и возрастных характеристик брачности на общем фоне исторически сложившихся nоловозрастных характеристик населения29.
Проанализируем выявленные нами по метрическим юmrам Ял губекого прихода за столетие (1799-1900 гг.) 706 брачных союзов с точки зрения географически сложквшихся ареалов, в которых состоялись браки обитателей входивш11Х в приход деревень. Следуя сложнвшейся в историографии прахтике видеть в брачном nоведении четыре тиnа: браки, заключенные внутри той же деревн11 (назовем их условно узкой эндогамией), в территориальных границах прихода (расширенная эндогамия), в пределах уезда (узкая экзогамия) к за пределами уезда (расширенная экзогаМJtя), получаем, казалось бы, уверенное суждение о примерно равном в проnорциональном отношении распределении ориентаций при выборе брачных партнеров обитателями Ял губекого прихода в XIX в. по трем первым nозициям. Как nоказывают ваши материалы, 31% браков был заключен внутри деревень, в которых nроживали как женихи, так и невесты; доля в 33% nришлась на браки, в которых женихи и невесты были из разных деревень в пределах nрихода; и, наконец, еще 30% брачных пар составилось в nределах уезда. Хотя лишь 6% брачных союзов оказапись заключенными с nартнерамл из более отдаленных мест - «извне уезда», т.е. в наиболее широких, предпочтительных из-за крайней нежепателъности долговременной узости круга брачных связей, границах региона. В целом картина выrлядит если не абсолютно благополучной, то и не пугающей (табл. 1).
Однако, анализ той же информации с привязкой к карте немедленно обнаруживает, что большая часть браков, заключенных с партнерами из других деревень, но в nределах пр~1Хода, не может быть отнесена к расширенпо-эндогамному поведению. 7 из 11 деревень, вход11вших в nриходекое сообщество (Анхимовская, Емепьяновская, Карповская, Куллиевская, Минки Бабюtна и Окуловская), явпяли собой фактически одно поселение. Это особенно wвственно прослеживается по исторической карте Генерального межевания 1792 г. Подчеркнем, что данвое уточисипе абсолютно важно, так как мы анализируем исторически бли.зкую во времени Генеральному ыежеванию реальность, причем наступившую nозднее . Закономерно, что ныне эти деревни nредстают единым nоселением, объединенным общим названием Ялrуба .
Примерам недостаточности заключений, сделанных на обычном в исторических исследованиях умозрительноы уровне, может служить следующее рассуждение. Чрезвычайная узость брачньrх связей совершенно очевидна по сведениям , касающимся д. Карповскоа. Последний брак, зафихснроваввь!Й здесь за исследуемый период в 100 лет, был заключен в 1859 г. Примерно междуХ ревизией ( 1858 г.) и временем составпения Списка населенных мест (1873) д. Карnовекая не только de facto, но и de jure адьmнистративно была объединена с д. Емепьяновской, nриняв назвакие последней. Таким образом, к трем бракам, заключенным по сввдетельству метрических книг в Карповской , надо добавить. еще три, когда невесты были найдены в Емельяновекай. В таком случае количество узко эндогамных браков возрастает за полвека, по которым у нас есть данные, до 38% (6 из 16). Если же совсем строго следовать действительному положению вещей, то и в тех случаях, когда невесты были родом из деревень Мин к и БабЮIНа и Окуловской,
223
Ареал
Деревня
Приход
Уезд
Регнон
Деревня
Пр11ХОД
Уезд
Регион
Итого
География брачных союзов, заiUiюченных обитателями Ялгубскоrо nрихода
(Петрозаводский уезд Олонецкой губ.) в XIX в.
Анхи- Емелья· Карnов- Кулли- Окулов- M IIHKII Новый
Суй-Ялгора Почи-
мовскаа новскаа екая* евска.я екая Бабкина нок**
сарь***
Процентные СООТНОШеНitЯ
20 21 21 10 34 11 14 21 49 58 44 53 70 33 31 29 28 12 11 30 26 20 27 54 50 46 32 11 5 о о 6 4 7 5 7
Абсолютные цr1фры
16 27 4 1 73 3 2 9 87 48 54 10 7 70 8 4 12 21 9 38 5 2 57 14 7 20 56 9 6 о о 13 1 2 12
82 125 19 10 213 26 14 43 176
Таблtща 1
Всего
31 33 30 6
220 233 208 44
705
Составлено по: Метрические книr11 Ялгубского np1txoдa (Петрозаводски/1 уезд Олонецкой губ.) зз 1799- 1900 гг.// Национальный архив Ресnублики Карелия (НА РК). ф. 25, оп . 22. д. 13. 14, 18. 23. 24. 25, 26, 28, 135, 141,146,150,158,228,238,243,248,258.260,264. 297,304,312,316,324.335,342,350.356,364,371, 378,387,394.401,409,4 15, 425,433.442,451, 460,468. 482.484.
* Включая три брака, зафиксированные в 1801- 1805 гг. по д. Емельяновская. с которой позднее слилась д. Карnовская .
"* То же, ••то Березовые Мосты и Мандера.
*** Вместе с д. Суйсарсюtй Остров.
браки нельзя не nрrfчислить к этому же разряду. Все 4 деревни находил 11 сь абсолютно рядом, будучи южной частью современной Ялrубы. Количество узко эндогамных браков автоматичесюt возрастает до 10 (из 16), составляя уже 63%. В четырех браках, т.е. л••шь в каждом четвертом, невесты происходили из более или менее отдаленных мест, но, оnять же, находивш•tхся в граНJJцах уезда: в двух случаях обитатели деревни Карповекой нашли себе жен в окрестностях Петрозаводска, в двух- в окрестностях Кондопоги. И только две из привезенных в деревню за полвека 16-ти невест были родом из действительно дальних, расnоложенных за Онежским озером деревень Марнаволока и Еремеевской. Тем не менее, они тоже локализуются в рамках региона , в примыкавшей к Петрозаводскому уезду с запада •1асти соседнего Пудожского уезда .
Однако обращение к программным средствам анализа информации позволяет существенным образом скорректировать выводы даже в этом, ка.запось бы, очев11дном случае. Взяв за основу иной кр11терий пространственно-ареапьноi\ характеристики бра••ных связей, т.е. расстояНlfЯ в километрах, можно получJIТь доnолнительные основания для выводов. Так, nочти 54% браков, зафиксированвых приходскими метрическими книгами по д. Карnовской, оказапись заключенными в самой узкой 5-ти Кltлометровоi\ зоне. Две невесты происходили из деревень 20-ти километровой зоны (Су лажгора и Лехнаволок), две - из 50-ти километровой зоны (Ту лгуба и Нов. Улитина) и ещедве из 100 и 200 километровых зон. Понятно, что критерий расстояний, будучи абсолютно верифицируемым, снимает акцент с социально окрашенных оценок. Одновременно такая методика гарантирует действительную сопоставимость сведений по каждой IJЗ деревень и , следовательно, формирует более адекватное понимание ситуации в цепом.
Зон.ироваt1ие ареалов с применением программных методов анализа картографической информацю1 в сопоставлении с данными, rючерпнутыми в исторических документальных источниках, показапо, что в издревле существовавших деревнях Ялrубского прихода на nротяжении XIX в. предnОЧ.IПЗЛ II заключать браки едва ли не с nроживавшими в соседних дворах nартнерами. Даже если назывались соседние деревни в качестве мест обитания женихов 11 невест- Куллиевскаа, Аюшмовская , Карповская, Емельяновская или М1rнки Бабкина, все равно, следовать иной модели брачного nоведения не представлялось возможным. Как ясно из выше изложенного, деревни эти слишком близко примыкали друг к другу и практически спивап11сь на местности в одно неnрерывно продолжа.вшееся вдоль Ял губы (узкого залива Онежского озера) поселение. Поэтому не выглядит неожиданным, что именно в 5-ти километровой зоне обитателями Ял губекого при-
224
Браки, заJUtючеииые с женихами извне Ялrубс.кого прихода
Период Авхи- Емелья- Карnов- Кулли-
мовская новекая екая евекая
1799-1850 1 о о о
1851- 1860 о о 1 о
1861- 1870 3 3 -· о
1871- 1880 1 о - -· 1881- 1890 2 9 - -1891- 1900 5 5 - -Всего 12 17 1 о
Составлено по: См. источникл к табл. 1. • Вошла в состав д. Емельяновская.
•• Вошла в состав д. Анхимовская.
Окулов-Ял гора
Мншш Новый
екая Бабк••на Почлнок
о о 2 о
4 о 2 о
2 о 1 о
2 о -·· о
12 о - 2 10 1 - 1 30 1 5 3
Таблица 2
Cyileapь Всего
о 3 2 9 1 10
1 4 5 30 5 27
14 83
хода было заключено nодавляющее количество браков: от 64 до 67% в Алхимовекой и Куллиевской, от 50 до 54% в Емельяновской 11 Карnовской, от 40 до 47% в Окуловекой 11 д. М инки Бабкина. В зоне более 50 км было заключено незначительное в целом количество браков: от 2 до 7% в Емельяновской, Анхимовской, Суйсари и Окуловской, каждый 9-й в Куллиевской, каждый 6-й в Карnовекой и каждый 5-й в д. М11нки Бабкина. Остальные браки сосгоялись с nартнерами из ближаl\шей округи- в зоне от 5 до 50 км: nочти каждый 2-й брак в деревнях Емельяновской и Окуловской, каждый 3-й в Анхимовской и Кароовской, блюко к тому. чтобы быть каждыА 5-й в Куплиевекой и Минки Бабюmа, больше 60% в Суйсари и все абсолютно браки в Новом Починке и Ялгоре. При этом кощtчество браков, состоявшнхся в относительно близком соседстве, в зоне более 5, но менее 20 км- явно преобладает: в 5-7 раз по деревням Новый По•tltнок и Ялгора , в 2-3 раза по Анхимовской, Емельяновской , Окуловекой 11 Суйсари .
Итак, всего в церкви Святого Николая в Ялrубе с 1799 г. по 1900 г. за исключением двух периодов (1807-1846 гг. и 1870-1874 гг.), за которые у нас nока нет сведеюm, было заключено 706 браков, в которых хотя бы один nартнер был обнтателем/обитателыпщей прихода, и еще 25 браков, в которых и жених , и невеста были людьми nриезж1tми, только лишь венчавшимися в данной церкви.
Из 706 браков, являющихся объектом изучения. только в 83 ( 11 .7%) женихи происходили не из приходскнх деревень, а ЯВЛЯJШсь людьми nосторонними. Совершенно очев1щно, •гrо их общее количество возросло в несколько раз именно в течение двух послеДЮfХ десятилетий XIX в. (табл. 2).
Ecmt в самом на•1але столетня таких браков во всем nриходе сложилось только 2 (плюс 1 в 1849 г.), в 1 850-е гг. - 9, в 1860-е гr. - 10, в 1 870-е гг. - еще 4 (т.е., всего 23 таких брака за 30 лет второй половины XlX в.), то с 1881 г. по 1900 г. (за 20 nоследних лет XIX в.) их было заключено 57. Пока трудно сказать, каким образом организовывались такие браки. Однахо география происхождения будущих мужей для девиц из ялrубских деревень и особенно анализ их nрофессиональных занятий, nозволяет предnоложить пни:циапtву со стороны членов приходекого сообщества. Так, среди женихов находим не только жителей весьма отдаленных приходов северной части Олонецкой, а также Архангельской губ. (19), но даже соседней Финляндии (4); не только мещан, мастеровых 11 канцелярских служителей Александровского завода в Петрозаводске (7), но также, и это абсолютно важно в контексте наших размышлений, отставных военных, служивших no самым разным ведомствам тогдашней российской ар~rои lt флота. Среди ялrубскнх женихов - бывшие матросы Черноморского, Ревельекого 11 других флотских экиnажей (11), бывшие бомбардиры~~ артиллеристы (4), рядовые пехотинцы и ефрейторы лейб-гварди11 Финляндского и Московского nолков, Свирскоrо, Нарвского, Омского резервных батальонов ( 18). Среди них оказалось немало уволенных в заnас служащих веяхого рода местных команд и отрядов стражников, в том 'IJtcлe norpaничJ:IJ>IX, даже один жандарм. Они nрибывали в Ял губекий приход из городов, вередко весьма отдалекных: наряду сОлонцом, Пудожем и Петрозаводском , как места их оставленной службы, упоминаются балтийские крепости Кронштадт, Ревель и Шлиссельбург (19).
8 Роесн/\ская истор1111. М 3 225
В nервом десятилетии браков с приглашеиными женихами было очень мало (из 61 всего 2, что составило 3.3%). Во втором из выделеняых nериодов (1847-1860 гг.) за 14 лет из сыгранных в целом 178 свадеб на браки с женихами извне прихода пришлось всего 10 (5.6%). В третьем периоде- за 20 лет с 1861 г. по 1880 г.- из 193 состоявшихся брачных союзов лишь в 14 (7.3%) фигурировали nартнеры извне собственной округи. Зато в четвертом периоде, в последние 20 лет XIX в. из 274 браков 57 (21 %) составили именно браки с nриглашеиными извне прихода женихами. Каждый 5-й бра•1ный союз состоялся с мужчиной, найденным специально с этой целью где
нибудь подальше от родных мест.
Так выглядит ситуация в средних цифрах. По отдельным деревням анализ дает еще более
вnечатляющие наблюдения. Первыми, можио думать, забили тревогу обитатели старинной
д. Анхимовской, где уже в третьем nериоде (1861-1880 гг.) 18% браков были заключены с женихами извне прихода. Жительницы Емельяновской в 1881- 1900 гг. вышли замуж за мужчин, специально nриглашеиных для этого, в каждом 4-м бракосочетании (26%), а жительницы Окуловской, центральной деревни nрихода , даже еще чаще- nочти в каждом 3-м: 22 свадьбы из 77 быm1 сыграны с отставными военными из дальних мест, что составило 29%.
Представляемая методика, кроме очевидной результативности на уровне достижения нового
знания, обесnечивает новое , в пекотором смысле неожиданное, раскрытие nотенциального значения количественной исторической информации, которая, будуч·и не nросто сосчитанной, но
nривязанной к картам соответствующей местности, позволяет визуализировать социальные и демографические процессы и явления, обесnечивая должиую адекватность интерnретаций.
В заключение заметим, что обнаруженные по документальным источникам массового характера локально бытовавшие модели брачного nоведения в каждой из наших четырех Карелий с очевидностью демонстрируют различия, которые хотя и nоддаются объяснению скорее всего nри выявлении внешних воздействий, следует связывать с традициями, хранимыми в том или
ином крестьянском сообществе, а более всего - с его внутренней готовностью к саморегуляции в ответ на вызовы, nостуnающие извне.
Примечаимя
1 См.: Чернякава И.А. Концепция изучения традиционной крестьянской сем.ьи в Карелии доиндустри· альной эпох.и по массовым источникам нового времени// Мат-лы XV Всеросс. научи. конф. «Писцовые книги и другие массовые источники XVI- XX веков». М. , 2008. С. 355-366; Chemiakova / . Marriage Ьehaviour in pre· industrial Karelian rural parishes // Where the Twain mee1 agaiп: New results of the Dutch - Russian projecl on regional development 1780-1917. Wageningen, 2004. Р. 91- 129; Tchemiakova /. Marriage aod Family in White Sea Kare1ia du· ring the Pre-lлdustrial Time: Tradi1ions and Innovations // Family Life оп the Northweslem Margins of lmperial Russia. Joensuu, University Press. 2004. Р. 285-331.
2 Цатурова С. К. Рец. на кн.: Габдрахманов П.Ш. Средневековые крестьяне и их семьи: демографическая характеристика французской деревни в VШ-XI 88. (по данным грамот). М . , 1996 11 Средние века. 1997. Вып. 60. С. 474-476.
3 Smirh R. Peasant Farming in Muscovy. N.Y. 1977. Р. 82; Миронов Б .Н. Социальная история России периода и~mери11 (ХVШ - начало ХХ в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и пра
вового государства. В 2 т. Т. 1. СПб .. 1999. С. 161-162. 4 Czap Р. 'А large fami ly: the peasant's greatest weaJth': serf households in Mishino, Russia, 1814-1858// Family
Forms in Нistoric Europe. Cambridge, 1983. Р. 106. 3 Миронов Б. Н. Указ. соч. С. 163. 6 Соборное Уложение 1649 года// Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 3: Акты Земских
соборов. М. , 1985. С. 165. Ст. 10-11. 7 Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 167. 8 Там же. См. также: Гурвич И.А . Экономическое ооложею1е русской деревин. М. , 1896. С. 60; Arkinson D.
Society and the sexes in t.he Russian Pasl// Women in Russia. Hassocks, 1978. Р. 30. 9 Полли Х. Некоторые характеристики развития семьи в странах Заладной Евроnы XVII- XJX веков (по
матеg11алам зарубежных исследований)// Брачность, рождаемость, семья за три века. М. , 1979. С. 170-173. 1 Lasleu Р. Characteristics of the Westem Family considered over time // Family life and illicit Love in earlier ge
neralions. Cambridge, 1977. Р. 29. 11 Andersoп М. Approaches to t.he history of the Westem Family 1500-1914. Bristol, 1980. Р. 18. 12 Бессмертный ЮЛ. Жизнь и смерть в средние века: Очерю1 демографической истории Франции. М.,
1991. с. 210. 13 Hajпal J. European marriage pattems in persrective 11 Population in history: Essays in historical demography. L.,
1963. Р. 101-143. 14 Czap Р. Marriage and the peasant joint family in the era of serfdom 11 Тhе fami1y in lmperial Russia: New lines
ofhistorical resea.rch. Urba.na; Chicago; L., 1978. Р. 114.
226
15 Miueraurer М., Kagan А . Russian and Central European family structures: а comparative view 11 Joumal ofFami-ly Юstory. 1982. Vol. 7. Р. 103-13 1.
lб Бессмертный ЮЛ. Указ. соч. С. 211. 17 Anderson М. Ор. cit. Р. 18. IS Миронов Б.Н. Указ. соч. С. 161. 19 Хаджнол Дж. Eвponeilcккil ткn брач.ности в перспективе // Брачность, рождаемость, семья за три века.
Сб. статеil. М., 1979. С. 14-70. 20 Насевич В. Еще раз о Востоке и Западе: Структуры семьи и домохозяйстаа в истории Европы// Крут
идей: Историческая кнформатиха в информационном обществе 1 Труцы VП конфереНЦirи Ассоцкацrrи «Исторuя и компьютер». М, 2001. С. 15-38.
21 Warpula К. Eastem Finnish fami1ies on the Ьorderland of historical family forms // The History of the Family. 2002. Vol. 7. Р. 315-336; Waris Е. The Extended Family in the Finnish Karelia. The Family System in Ruokalahti 1750-185011 Scandinavian Joumal of History. 1995. Vol. 20. Р. 109-128.
22 Family Life оп the Nonhwestem Margins, of lmperial Russia. Joensuu, 2004. 23 См.: l.Asle/1 Р. Family and Household as Work Group and Кin Group: Areas ofTraditional Europe Compared //
Family Forms in Юstorical Europe. Cambridge, 1983. Р. 513-564; l.Asleu Р. lntroduction: The History of the Family // Household and Family in Past Time. Cambridge. 1972. Р. 28-31.
24 Подробнее см. : Tchemiakova !. Avioitumiskayttaytyminen Aunuksen, Vienan ja Тverin Karjalassa 1700-ja 1800-luvuilla (Брачное nоведение в Олонецкой, Беломорской и Тверской Kapeлmr в XVШ-XIX вв.) // Vaesto ja perhe Karjal.assa. Joensuu, 2003. S. 126-132; 133-143 (на рус. яз.).
25 Село Пятницкое с округой в XVIl-XIX вв. было населено карелами, вынужденно nокинувwnмr1 в силу известиь.rх nолитических обстоятельств регион северо-заоадноrо Приладожъя, захваченного Швецией, и осевшrrми в соответствrш с расселенческой nолитикой, проводившейся на государственном уровне в отношеmш «корельских выходцев» nравнтельствами nервых Романовых, в окрестностях Бежецкого Верха. Владением помещиков Чертковых приход стал в ходе земельных раздач Екатернны П. То, что вопреки традицнн, соблюцавшейся с ХVП в., карельские деревни здесь, в центральной России, оказалrrсь nередакнъrМJr вместе с их об11тателям11 из государственного фонда частному владельцу, видимо, объясняется чрезвычайной близостью камергера Е. А. Черткова к кьmератрице. Как nолагает В. С. Лопатин, подготовивший и издавший пе
реnнску Екатерины О и графа Г. А. Потемкина, Чертков бьm одии.м из немног11х лиц, участвовав.шим в церемонии их тайного бракосочетання. См.: Екатернна П и Г.А. ПотеьtЮIН. Лнчная переписка 1769-1791. М., 1997.
26 Подробнее сы.: Tcl1emiakava !. Avioitumiskayttaytymineo Aunuksen, Vienan ja Tverin Karjalassa ... Р. 136-138.
27 Подробнее см.: Чернякава И.А. Паиозеро и ero обитатели: nять веков карельской истор1ш // Панозеро: с~дце Беломорской Карелки. Петрозаводск, 2003. С. 54-57
2 Подробнее см.: Чернякава И. А. Южио-карельский nриход в nозапрошлом веке: к nроблеые самоорrанnзацнн локального крестьянского сообщества// Журнал отчетов н nубликаций ИЛЛМИК. 2007. М 2(4), ISSN 1819- 9399. http:/[illmik.petrsu.ru/2007news4/Chemyakova.html.
29 Проект вьшолиялся в 2005-2007 rr. (М 05-07-97504), его результаты представлеиьr в соответствии с требованиями в экспертный совет фонда для возможного опубликования.