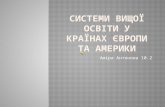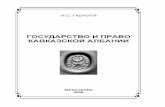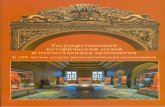Археология в БашГУ: итоги и перспективы. Материалы научной конференции.
Americana. Выпуск 2. Материалы международной научной...
Transcript of Americana. Выпуск 2. Материалы международной научной...
МИНИСТЕРСВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Волгоград 1998
MINISTRY OF GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION
VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY
CENTER FOR AMERICAN STUDIES
A M E R I C A N A
Vol. II
THE MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCHOLAR
CONFERENCE
“RUSSIA AND THE COUNTRIES OF AMERICAN CONTINENT:
THE EXPERIENCE OF HISTORICAL RELATIONSHIP”
1997, September, 24-26
Volgograd 1998
2
МИНИСТЕРСВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛАБОРАТОРИЯ АМЕРИКАНИСТИКИ
A M E R I C A N A
Выпуск 2
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
“РОССИЯ И СТРАНЫ АМЕРИКИ: ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”
г. Волгоград, 24—26 сентября 1997года
Волгоград 1998
3
ББК 63. 3 (7) 6-7 А47
Редакционный совет: академик Н.Н. Болховитинов; д-р ист. наук, ведущий науч. сотр. ИВИ РАН Е.А. Ларин; д-р ист. наук, рук. группы по изучению межнациональных и межрасовых отношений ИВИ РАН Р.Ф. Иванов; д-р ист. наук, зав. кафедрой новой и новейшей истории СПбГУ Б.Н. Комиссаров; д-р ист. наук, ведущий сотр. ИАЭ РАН А.Д. Дридзо
Редакционная коллегия: д-р экон. наук О.В. Иншаков; д-р техн. наук Б.Н. Сипливый; д-р экон. наук М.М. Загорулько;
д-р ист. наук А.И. Кубышкин (отв. редактор); канд. филол. наук С.П. Кушнерук (отв. секретарь),
канд. ист. наук И.И. Курилла, канд. ист. наук В.Н. Косторниченко,
Т.К. Коноплич (технический редактор)
Americana. Вып. 2: Материалы Международной научной А47 конференции “Россия и страны Америки: опыт исторического
взаимодействия”, г. Волгоград, 24—26 сентября 1997 года. — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1998. — 428 с.
ISBN 5-85534-159-3Во второй выпуск сборника вошли доклады участников Между
народной научной конференции “Россия и страны Америки: опыт исторического взаимодействия”, состоявшейся в Волгоградском государственном университете 24—26 сентября 1997 года.
Для студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных факультетов вузов и всех читателей, интересующихся историей и перспективами развития политических, экономических и культурных отношений между Россией и странами Американского континента.
Авторы опубликованных материалов несут полную ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических данных, имен собственных и прочих сведений.
© Центр американских исследований ВолГУ «Американа», 1998
© Издательство Волгоградскогогосударственного университета, 1998
ISBN 5-85534-159-3
4
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателя сборник включил материалы научной конференции “Россия и страны Америки: опыт исторического взаимодействия”, состоявшейся в сентябре 1997 года в Волгоградском государственном университете.
Конференция, собравшая американистов из научных центров России и США (среди участников — ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Хабаровска, Элисты, Волгограда и ряда американских университетов), стала возможной благодаря поддержке со стороны администрации Волгоградской области, а также посольства Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации. Организаторы конференции выражают свою искреннюю признательность и благодарность людям, поддержавшим проведение научного форума и публикацию материалов участников конференции: губернатору Волгоградской области Николаю Кирилловичу Максюте, первому секретарю посольства США в России господину Роберту Хилтону, главе Комитета по делам молодежи при администрации Волгоградской области Андрею Володарьевичу Варакину, а также ректору Волгоградского государственного университета, профессору Олегу Васильевичу Иншакову.
PREFACE
This book includes the materials of the International Scholar Conference “Russia and the Countries o f American Continent: the Experience of Historical Relationship ” which was held in Volgograd State University in September of 1997.
This Conference brought together the americanologists from some Research Centers of the Russian Federation and the USA (the scientists from Moscow, Sankt-Petersburg, Saransk, Habarovsk, Elista, Volgograd, Kent State University OH, Mansfield University PA were the participants of the Conference) . It was asuccess thanks to the encouragement and financial support of the Volgograd Region Administration, the Administration of Volgograd State University
5
and the U. S. Embassy in the Russian Federation. The organizers of this scientific forum express their special thanks to the Governor of Volgograd Region Nikolai K. Maxuta, the First Secretary of the U.S. Embassy in the Russian Federation Mr. Robert Hilton, the Head of the Committee for Youth Affairs under the Administration of the Volgograd Region Andrei V. Varakin, and the Rector of Volgograd State University Oleg V. Inshakov.
6
РО ССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
РЕТРО СПЕКТИВЕ
Академик Н.Н. Болховитинов
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ,
1732-1867 ГГ. (НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ)
Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать открытие международной научной конференции в Волгограде «Россия и страны Америки: опыт исторического взаимодействия» и создание в Волгоградском государственном университете научного центра «Американа». Практически всю свою жизнь я посвятил изучению именно этой тематики и рад предложению рассказать вам об общих итогах моих исследований.
Моя самостоятельная работа как историка началась в далекие 1950-е годы, когда «холодная война» между СССР и США достигла апогея. В то время полки книжных магазинов пестрели названиями: «Разбойничий путь американских агрессоров», «Американский империализм — злейший враг советского народа», «Кровавый американский империализм» и т. п. Любопытно, что название книги А.Е. Куниной «Кровавый американский империализм» показалось рецензенту недостаточно впечатляющим и он озаглавил свою заметку в журнале "Звезда" (1952. № 8. С. 187) ещё более выразительно — «Биография зверя».
Я прекрасно отдавал себе отчет, что с наукой все эти книги не имеют ничего общего, и мне не хотелось, чтобы в будущем мне было бы стыдно за участие в откровенной антиамериканской пропаганде. Кроме того, надежды на то, что я когда-нибудь поеду в США, не было, и приходилось рассчитывать только на архивные документы, которые имеются в нашей стране. Даже тогда, когда я работал над кандидатской диссертацией
7
«Происхождение и характер доктрины Монро, 1823 г.», главным источником стали документы Архива внешней политики России, на основе которых удалось детально проследить связь генезиса доктрины с русско-американскими отношениями на северо-западе Америки. Когда же в начале 1957 г. я стал сотрудником этого архива и начал работу над подготовкой фундаментальной документальной публикации «Внешняя политика России XIX — начала XX в.», в центре моих интересов оказались отношения США с Латинской Америкой, политика России на Тихоокеанском Севере и Дальнем Востоке.
В апреле 1959 г. в журнале «Новая и новейшая история» появилась моя небольшая публикация «К истории установления дипломатических отношений между Россией и США, 1808— 1809», из которой в дальнейшем «выросла» докторская диссертация1.
Вспоминаю, как во время подготовки диссертации профессор Борис Федорович Поршнев с удивлением спросил меня, что я могу обнаружить об отношениях России с США в XVIII в., если сами отношения были установлены только в 1809 г.? В результате мне пришлось объяснить особенности своего подхода к изучению исторических связей и взаимодействий между нашими странами, который со времени выхода в 1966 г. монографии о становлении русско-американских отношений получил широкое признание.
Напомню, что в прошлом историки международных отношений редко обращались к изучению роли простых людей в истории становления и развития связей между отдельными странами. В центре их внимания были слова и дела известных политических деятелей, прославленных генералов и дипломатов, президентов и царей. Из истории международных отношений выпадал главный элемент — народ, причем народ в лице своих самых лучших, наиболее образованных и активных представителей — ученых, литераторов, журналистов. Как мне удалось доказать, сама история отношений между Америкой и Россией в середине XVIII в. открывалась прямыми и косвенными контактами Б. Франклина, Э. Стайлса и других американских ученых с их петербургскими коллегами — М.В. Ломоносовым, Ф. Эпину- сом, И.А. Брауном и другими2.
Кстати, едва ли не самой важной моей находкой оказа
8
лось неизвестное ранее первое и единственное письмо Франклина Эпинусу от 6 июня 1765 г., хранившееся в Пенсильванском историческом обществе. В результате впервые был документально доказан тот факт, что Франклин переписывался с русскими мыслителями и что «блестящий петербургский ученый» оказал влияние не только на великого американца, но и на знаменитого английского физика Генри Кэвендиша. Не меньшее значение в сфере политики имело также неизвестное ранее приветственное послание Эпинуса Франклину, в котором петербургский академик оценивал Американскую революцию «как событие, благотворное воздействие которого на весь род человеческий будет сказываться и в грядущих веках»3.
В целом уже первым моим монографиям, особенно после их издания в переработанном и дополненном виде в США, была суждена счастливая судьба4. Им были посвящены десятки хвалебных рецензий, а главное — на их основе группа советских и американских историков и архивистов подготовила фундаментальное документальное издание, подтвердившее все основные выводы и находки автора5.
Не меньшее значение имела моя вторая крупная монография о развитии русско-американских отношений в 1815—1832 гг., основанная, как и предшествующая работа, на тщательном изучении русских, американских и западноевропейских источников и, в первую очередь, оригинальных архивных документов. Впервые в мировой литературе был детально прослежен генезис доктрины Монро в связи с отношениями США и России, установлены причины русско-американского сближения и заключения торгового договора 1832 г. Важным достижением был и пересмотр оценки «Духа журналов», который ранее считали консервативным6, а в действительности этот журнал выступил в качетсве передового российского либерального органа и был закрыт царской цензурой за публикацию статей о политическом устройстве США7.
Сейчас трудно поверить, но, когда в конце 1960-х годов исследование о «Духе журналов» было завершено, опубликовать его даже на страницах «Американского ежегодника» оказалось весьма не простым делом. Достаточно сказать, что статья «Американская тема на страницах “Духа журналов” (1815— 1820)» прошла несколько обсуждений, более десяти раз посы
9
лалась на рецензию различным специалистам, и только счастливое стечение обстоятельств помогло преодолеть бдительность ответственного редактора.
Уже позднее подтвердилось мое предположение, что издатель «Духа журналов» Г.М. Яценков действительно опирался на поддержку Александра I и даже был напрямую связан с императором, так как служил начальником его канцелярии. Через пять лет после закрытия «Духа журналов» царскими властями Г.М. Яценков стал издавать новый "Журнал мануфактуры и торговли», редактором которого он оставался вплоть до конца 1834 г. Показательно, что и на страницах нового журнала Г.М. Яценков по мере своей возможности пропагандировал успехи развития Соединенных Штатов8.
Нельзя не обратить внимание на еще одно обстоятельство. Исследования, которые издаются на русском языке, с большим трудом получают международное признание и публикуются в США и Западной Европе в лучшем случае с большим опозданием — через пять, десять и более лет. Показательно, что книгу «Становление русско-американских отношений, 1775—1815» начали переводить еще в 1967 г., а закончили только в 1975, поскольку для этого потребовалось восстановление всех иностранных цитат, включая архивные.
Вторая м онограф ия по данной тематике «Русско- американские отношения, 1815—1832» сразу же получила прекрасные отзывы как в России, так и за рубежом. Рецензент в журнале "Новый мир" (1976, N 3, с. 279—282) писал: «Только специалист, пож алуй, в состояни и оценить объем и интенсивность труда в бумажных “копях” архивов, где “алмазы” находок так же редки, как и в природе». К сожалению, именно эта монография до сих пор целиком еще не опубликована в США, хотя именно ей был посвящен специальный номер выходившего в Нью-Йорке журнала «Soviet Studies in History» (1980—81. Vol. XIX. N 3. Winter), а раздел «Декабристы и Америка» еще в 1970х годах перепечатывался в США не менее четырех раз.
Впрочем, я не оставляю надежды, что когда-нибудь и вся книга будет опубликована на английском языке. Ведь появилась же, наконец, в переводе на английский язык ранее упоминавшаяся статья «Американская тема на страницах “Духа журналов”» с лестными комментариями д-ра Дж.Д. Хартгроува9. Наи
10
более сложно обстоит дело с переводами работ, которые публикуются маленьким тиражом в ведомственных и провинциальных издательствах. Наш знаменитый писатель оптимистически утверждал, что «рукописи не горят». Не знаю, как рукописи, а малотиражные издания действительно не горят. Аналитический обзор «Россия и США: архивные документы и исторические исследования» (М.: ИНИОН, 1984) был издан тиражом всего... 110 экз. (!) К тому же оказалось, что в нем имеются совершенно непростительные ошибки. Дело в том, что один сотрудник ИНИОН, ответственный за выпуск издания, стремясь обеспечить прохождение через издательский отдел института подготовленных к публикации материалов, произвольно поставил страницы в тех журнальных публикациях, где они у автора отсутствовали, а затем забыл их снять (!). Велико же было мое негодование, когда я обнаружил все это уже после публикации данного аналитического обзора. К счастью, при переводе на английский язык мне удалось устранить все опечатки, и работа вышла в исправленном и дополненном варианте10.
Нельзя не отметить, что вплоть до второй половины 1980х годов политизированность нашей американистики затрудняла строго научное и объективное изучение русско-американских отношений даже на ранних этапах их развития. Поэтому издание моих работ в СССР и в особенности их перевод на Западе были в то время счастливым и редким исключением. Первоначально издание моей книги по истории продажи Аляски даже на русском языке казалось почти неосуществимым из-за многолетних сложных переговоров между СССР и США о разграничении сфер влияния на Тихоокеанском севере. Одна из моих первых статей на эту тему в 1984 г. была решительно отвергнута журналом «Новая и новейшая история», хотя я в то время входил в редколлегию этого издания (как выяснилось, редакция получила отрицательное заключение Историко-дипломатического управления МИД СССР). Напомню, что в то время в нашей печати можно было встретить заявления, авторы которых утверждали, что Соединенные Штаты арендовали Аляску на 99 лет, о подкупе царских чиновников в Петербурге и т. п. Даже сейчас безответственные политические деятели иной раз говорят, что пришло время брать Аляску назад (?!).
Наступившая гласность сначала облегчила, а с 1988 г. сня
11
ла главные препятствия для публикации статей, а затем и монографии о продаже Аляски. На основе архивных материалов в журнале «Международная жизнь» (1988. №7. С.120-131), а затем более подробно в монографии были тщательно изучены все перипетии длительных обсуждений вопроса о продаже Аляски, завершившихся 16 (28) декабря 1866 г. «особым заседанием» в МИД России на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с участием Александра II, великого князя Константина Николаевича, А.М. Горчакова, М.Х. Рейтерна, Н.К. Краббе иЭ.А. Стекля11. Удалось окончательно решить вопрос и о «взятках в Петербурге». «Взятки» действительно давались, но не в Петербурге, а в Вашингтоне, и не для того, чтобы подкупить царских чиновников, а чтобы обеспечить выделение Палатой представителей конгресса США 7,2 млн. долларов в качестве платы за Аляску. Впервые был выявлен ряд совершенно неизвестных ранее документов, включая указ Александра II: «Израсходованные на известное мне употребление чрезвычайным посланником и полномочным министром в Вашингтоне тайным советником Стеклем 165 т[ысяч] долларов повелеваю зачислить действительным расходом»12. Формула «на известное мне <т. е. императору> употребление» относилась к расходам секретного и деликатного характера, и, таким образом, имеется прямое доказательство, что эти деньги именно Э.А. Стекль израсходовал в Вашингтоне. К сожалению, секретного донесения Стекля о размерах конкретных выплат обнаружить не удалось (возможно, оно было уничтожено), так же как и секретного доклада министра финансов Рейтерна царю от 13 (25) декабря 1868 г. Тем не менее сам факт подкупа чиновников в Вашингтоне, а не в Петербурге (!) был установлен окончательно.
В связи с 500-летием экспедиции Колумба была подготовлена монография13, в которой развивалась концепция о том, что открытие и освоение Америки не было одноактным событием, а представляло собой длительный процесс, в котором участвовали разные страны — Испания, Португалия, Англия, Голландия, Франция. Участвовала в нем и Россия, которой принадлежит заслуга открытия этого континента с востока, со стороны Азии. Речь идет об экспедициях М. Гвоздева и И. Федорова (1732 г.), В. Беринга и А. Чирикова (1741).
Но открытие Америки Россией включает не только осно
12
вание Русской Америки, ставшее фактом в результате образования Российско-американской компании (РАК) в 1799 г. Не меньшее значение имел факт налаживания более или менее регулярных общественно-политических, торговых, научных и культурных связей России с Америкой. Именно поэтому можно утверждать, что к открытию Америки причастны также и литераторы, и ученые, и журналисты, и купцы, и дипломаты, и государственные деятели, не говоря уже о мореплавателях и путешественниках. Кстати, весьма обстоятельно в этой монографии14 исследуется американское путешествие Ф.В. Каржави- на. Были установлены не только многие неизвестные ранее факты и обстоятельства его жизни в Америке, но и опровергнуты легенды, будто бы Ф.В. Каржавин был «другом» А.Н. Радищева, «американским корреспондентом» Н.И. Новикова и чуть ли не автором «теории классов»15.
Фигурировавшая ранее в литературе в качестве доказательства статья «Краткое известие о провинции Виргинской», в которой упоминалось о «трех классах», в действительности представляла собой перевод трех глав из книги Дж.Ф. Смита и никакого отношения к Ф.В. Каржавину не имела16.
На основе широкого круга архивных и ранее опубликованных источников (были использованы материалы около 25 русских и американских архивов, а также документация и литература на основных европейских языках) в книге рассматривается и становление первых торговых контактов между Россией и США и, в частности, прямые и косвенные связи в годы революционной борьбы американцев за независимость (1763—1783)17.
Общие результаты исследований по истории русско-американских отношений получили отражение в ряде коллективных трудов и документальных публикаций18.
Наконец, в 1992 г. в Мадриде была опубликована книга, в которой содержится очерк об истории общественно-политических связей между Америкой и Россией19, а совсем недавно, уже в этом году, проф. Ричард А. Пирс издал английский перевод монографии о продаже Аляски20.
Завершая по необходимости краткий обзор своих исследований по истории русско-американских отношений, полный список которых приводится в специальном приложении, необходимо отметить, что в последние два десятилетия в изуче
13
ние этой тематики включилась большая группа историков, филологов, географов, архивистов США, России, Канады и других стран (Р.А. Аллен, Дж.Р. Гибсон, Г.П. Куропятник,
А.Н. Николюкин, В.Н. Пономарев, Н.Е. Сол, Дж.Д. Хартгро- ув и многие другие). Особо следует отметить публикацию в 1991 и 1996 гг. двух выдающихся книг Нормана Е. Сола21. Если «путеводителем» для первой из них, по словам автора, «служили работы знаменитого русского ученого Николая Болховитинова»22, то новая монография профессора Сола продвинула исследование отношений между Россией и США в 1867—1914 гг. далеко вперед. В результате я начал утрачивать первенство в исследовании русско- американских отношений. К тому же я не сумел вовремя закончить книгу «Россия и Гражданская война в США, 1861—1865 гг.» и мне пришлось ограничиться публикацией серии научных статей в журналах, поскольку с 1995 г. я целиком переключился на подготовку трехтомной «Истории Русской Америки». Первый том «Основание Русской Америки, 1732—1799» выходит в издательстве «Международные отношения»; написание второго тома «Деятельность Российско-американской компании, 1799—1825» завершено, а третий — «Русская Америка в 1826—1867» — предполагается сдать в издательство во второй половине 1998 г.
Завершая свою статью, мне хотелось бы заметить, что создание центра «Американа» в Волгоградском государственном университете позволяет надеяться на то, что изучение русско- американских исследований получит новый импульс. В этой связи можно упомянуть интересное сообщение И.И. Куриллы23 о работе проф. Д.И. Каченовского о Даниеле Вебстере, опубликованной в журнале «Русский вестник» в 1856 г. (Т. 3. Кн. 1. С. 385— 416; Т. 4. Кн. 2. С. 239—278). Можно надеяться, что он успешно завершит и задуманное им исследование об истории русско- американских отношений в середине XIX в., а связи России со странами Америки привлекут в дальнейшем внимание и других сотрудников центра «Американа».
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775—1815. Т. 1—2. М.: Ин-т истории АН СССР,
14
1966. 904 с.2. Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских
отношений, 1775—1815. М., 1966. С. 220—231; Его же. Россия открывает Америку, 1732—1799. М., 1991. С. 23—32.
3. Болховитинов Н.Н. Россия и война США за независимость, 1775—1783. М., 1976. С. 111, 116; Его же. Россия открывает Америку. С. 112—113.
4. Bolkhovitinov N.N. The Beginnings o f Russian-American Relations, 1775—1815. Cambridge (Mass.), London, 1975; Bolkhovitinov N.N. Russia and the American Revolution. Tallahassee (Florida), 1976.
5. The United States and Russia: The Beginning of Relations, 1775—1815/ Ed. Bashkina N.N., Bolkhovitinov N.N., Brown J.H. et al. Washington.: Government Printing Office, 1980. 1184, LX X IIр.; Россия и США: Становление отношений, 1775—1815 / Сост. Башкина Н .Н , Болховитинов Н .Н , Браун Дж.Х. и др. М. : Наука, 1980. 752 с. Подробнее см.: Приложение. Часть II. Рецензии.
6. Именно так его оценивал авторитетный справочник по истории русской периодической печати XVIII—XIX вв. [Русская периодическая печать (1702—1894) / Под ред. А.Г. Дементьева, А.В. Западова, М.С. Черепахова. М , 1959. С. 140-143, 149—151]. Более того, Л.Ю. Слезкин даже характеризовал это издание как «наиболее реакционный политический журнал», который «фанатически рьяно» следовал «доктрине монархического легитимизма». (Слезкин Л.Ю. Россия и Война за независимость в Испанской Америке. М., 1964. С. 189, 197.)
7. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения, 1815— 1832. М., 1975. С. 451—491.
8. Подробнее см.: Иванченко Я.А. Промышленное развитие США в 20—30-е годы X IX в. в оценке русской печати / / Американский ежегодник, 1982. М., 1982. С. 229—253.
9. Bolkhovitinov N.N. The American Theme on the Pages of Duch Zhurnalov (Spirit o f Journals) / / Russian-American Dialogue on Cultural Relations, 1776—1914/ Ed. by N.E. Saul and R.D. McKinzie; Comment by J. Dave Hartgrove. Columbia and London, 1997. P. 45—88. В этой же книге опубликована моя обширная вступительная статья «Russian-American Cultural Relations: An Overview» (Ibid, P. 1—25), а также заключение, написанное совместно с проф. Норманом Е. Солом. (Bolkhovitinov N.N. and Saul N.E. Postscript: Past, Present, and Future / / Ibid. P. 243—248).
10. Bolkhovitinov N.N. Russia and the United States: An Analytical
15
Survey of Archival Documents and Historical Studies / Translated and Edited by J. Dave Hartgrove. Armonk, N. Y., London, 1986; Published simultaneously as a special issue of Soviet Studies in History / Donald J. Raleigh, Editor / / Fall 1986. Vol. 25. N 2.
11. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1832-1867. М., 1990. С. 167—202.
12. АВПРИ. Ф. РАК. Д. 412. Л. 430 об.13. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку, 1732—
1799. М., 1991.14. Там же. С. 130—141; Болховитинов Н.Н. Был ли
Ф.В. Каржавин американским «корреспондентом» Н.И. Новикова ? / / Вопросы истории. 1986. N 4. С.170—172; За точное и документ ированное освещение ж изни и деятельности Ф.В. Каржавина / / Вопросы истории. 1987. N 12. С. 166—168.
15. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку, 1732— 1799. С. 139—140, 258—259.
16. Там же.17. История СШАI. Т. 1 (1607—1877). М.: Наука, 1983;
История внешней политики и дипломатии США, 1775—1877. М. : Международные отношения, 1994; Russia’s American Colony. Durham.: Duke Univ. Press, 1987; Imperial Russian Foreign Policy. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1993-ete.
18. Bolkhovitinov N.N. Rusia y Amеrica (са. 1523—1867). Madrid,1972.
19. Bolkhovitinov N.N. Russian-American Relations and the Sale of Alaska, 1834—1867. Kingston, Ontario, Fairbanks (Alaska), 1997.
20. Saul N.E. Distant Friends: The United States and Russia, 1763—1867. Lawrence, 1991; Idem. Concord and Conflict: The United States and Russia, 1867—1914. Lawrence, 1996.
21. Saul N.E. Concord and Conflict. P. XI.22. Курилла И.И. Американская тема в научной и общественной
деятельности Д.И. Каченовского / / Американский ежегодник, 1994. М., 1995. С. 152—161. Впервые на значение работы Д.И. Каченовского ""Жизнь и сочинения Даниеля Вебстера" обратил внимание д-р Роберт Аллен. (См.: Allen, Robert V. Russia Looks at America.: The View to 1917. Library o f Congress. Washington, 1988. P. 36, 288—289).
16
Приложение
I. СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТН.Н. БОЛХОВИТИНОВА О СТАНОВЛЕНИИ
И РАЗВИТИИ РУССКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШ ЕНИЙ (XVIII В.—1867 г.)
1. Книги
1. Становление русско-американских отношений, 1775—1815. М.: Наука, 1966. 640 с.
2. Русско-американские отношения, 1815—1832. М.: Наука, 1975. 626 с.
3. The Beginnings of Russian-American Relations, 1775—1815 / Translated by Elena Levin; Introduction by L.H. Butterfield. Cambridge (Mass.), London.: Harvard University Press, 1975. XVIII, 484 р.
4. Russia and the American Revolution / Translated and Edited by C. Jay SmithTallahassee (Florida).: The Diplomatic Press, 1976. XVI+277 р.
5. Россия и война США за независимость, 1775—1783. М.: Мысль, 1976. 272 с.
6. Россия и США: Архивные документы и исторические исследования: Аналитический обзор. М.: ИНИОН, 1984. 104 с.
7. Russia and the United States: Analytical Survey of Archival Documents and Historical Stidies / Translated and Edited by J. Dave Hartgrove. Armonk, N. Y., London.: M.E. Sharpe Inc., 1986. VIII, 79 р.
8. Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834—1867. М.: Наука, 1990. 368 с.
9. Россия открывает Америку, 1732—1799. М.: Международные отношения, 1991. 304 с.
10. Rusia y America (ca. 1523—1867). Madrid.: Editorial MAPFRE, 1992. 289 р.
11. Russian-American Relations and the Sale of Alaska, 1834— 1867 / Translated and Edited by Richard A. Pierce. Kingston, Ontario, Fairbanks (Alaska).: The Limestone Press, 1997. XXIV+403 р.
2. Статьи
1. К истории установления дипломатических отношений между Россией и США, 1808—1809 / / Новая и новейшая
17
история. 1959. N 2. С. 151—162.2. Россия и война США за независимость, 1775—1783 гг.
/ / Очерки новой и новейшей истории США. Т. 1. М.: Издательство АН СССР, 1960. Гл. 2. § 6. С. 90—96.
3. Русская дипломатия и англо-американская война 1812—1814 / Болховитинов Н.Н., Дивильковский С.И. / / Новая и новейшая история. 1961. N 4. С. 31—45. (Англ. пер. см.: Soviet Studies in History. Fall 1962. Vol. I. N 2. P. 19—30).
4. Отношение России к началу войны Латинской Америки за независимость / / Исторический архив. 1962. N 3. С. 122—131. (Исп. пер. см.: Presencia de Miranda, Bolivar, y Paez en los archivos de la URSS. Moscou, 1976. P. 121—146; Bolkhovitinov N. La Actitud del Imeperio Ruso al comienzo de la guerra de independencia en Hispano America / / Bolivar y Europa en las cronicas, el pensamiento politico y la historiografia. Vol. 1. Caracas, 1986. P. 931—943).
5. Отклики в США на Отечественную войну 1812 г. / / Новая и новейшая история. 1962. N 6. С. 93—97.
6. К вопросу о позиции США в войне Латинской Америки за независимость / / Война за независимость в Латинской Америке. М.: Наука, 1964.
7. Русская дипломатия и война США за независимость, 1775—1783 / / Новая и новейшая история. 1964. N 1. С. 73—88. (Англ. пер. см.:
1) The Soviet review. A Journal of Translations. Winter 1964— 1965. Vol. V. N 4. P. 15—50;
2) Soviet Studies in History. Fall 1964. Vol. III. N 2. P. 31—46).8. Становление научных и культурных связей между Россией
и Америкой / / История СССР. 1965. N 5. С. 102—113. (Англ. пер. см.: Soviet Studies in History. Fall 1966. Vol.V. N 2. P. 48—59).
9. Новые работы о русско-американской торговле в XVIII — начале XIX в. / / Новая и новейшая история. 1967. N 4. С. 122—126.
10. Джон Куинси Адамс и Россия / / История СССР. 1968. N 4. С. 206—207.
11. Обзор ам ериканских архивных документов об отношениях между Россией и США / / Бюллетень научной информации Ин-та всеобщей истории АН СССР. 1970. N 1. Ротапринт. С. 6—27.
12. В архивах и библиотеках США: встречи, находки, впечатления / / Американский ежегодник, 1971. М.: Наука, 1971.
18
С. 329—341.13. Русская Америка и провозглашение доктрины Монро
/ / Вопросы истории. 1971. N 9. С. 69—84.14 . Russiaand the Declaration of Non-Colonization Principle:
New Archival Evidence / / Oregon Historical Quarterly. 1971. June. Vol. LXXIII. N 2. P. 101—126.
15. Авантюра доктора Шеффера на Гавайях в 1815—1819 годах / / Новая и новейшая история. 1972. N 1. С. 124—137. (Англ. пер. см.: The Adventures of Doctor Schaffer in Havaii, 1815—1819 / Translated by I.V. Vorobyoff / / The Hawaiian Journal of History. 1973. Vol. VII. P. 53—78).
16. Американская тема на страницах «Духа журналов» 1815— 1820 гг. / / Американский ежегодник, 1972. М.: Наука, 1972. С. 266—302.
17. Б. Франклин и М.В. Ломоносов: (Из истории первых научных связей между Россией и Америкой) / / Новая и новейшая история. 1973. N 3. С. 77—81.
18. Новые материалы по истории русско-американских отношений в XIX веке: [Доклад на I симпозиуме советских историков-ам ериканистов и заклю чительное слово] / / М атериалы первого симпозиума советских историков- американистов (30 ноября — 3 декабря 1971 г.). Ч. 1—2 / Под ред. Г.Н. Севостьянова (отв. ред.), Н.Н. Болховитинова и др. М.,1973. Ч. 1. С. 269—272; Ч. 2. С. 101—137. (Англ. пер. см.: Soviet Studies in History. Fall 1975. Summer. Vol. 14. N. 1—2. P. 155—177).
19. Заключение русско-американского торгового договора 1832 года / / История СССР. 1974. N 1. С. 153—167.
20. Декабристы и Америка / / Вопросы истории.1974. N 4. C.91—104. (Реф. статьи см.: Наука и жизнь. 1975. N 3. Статья неоднократно переводилась на английский язык и печаталась в различных изданиях:
1) Political Affairs. Nov. 1975. P. 31—50 (with Preface);2) Soviet Review. N. Y., 1975. Vol. 16. N 3;3) Soviet Studies in History. 1975. Spring. Vol. 13. N 4. P. 44—72,
etc.)21. Из истории русско-американских научных связей в
XVIII—XIX веках / / США — экономика, политика, идеология.1974. N 5. С. 17—25.
22. Русские диплом аты (С ви н ьи н , П олетика,
19
Валленштейн) как исследователи Америки в первой половине XIX в. / / Проблемы исследования Америки в XIX—XX вв. Ленинград, 1974. С. 42—44.
23. Русско-американские торговые связи в период войны США за независимость / / Вопросы истории. 1975. N 1. С. 49—57. (Англ. пер. см.: Soviet Studies in History. Winter 1975—1976. Vol. XIV. N 3. P. 29—45.
24. Новые документы о мирном посредничестве России в войне США за независимость (1780—1781) / / Американский ежегодник, 1975. М.: Наука, 1975. С. 231—245.
25. Выдвижение и провал проектов П. Добелла (1812—1821) / / Американский ежегодник, 1976. М.: Наука, 1976. С. 264—282.
26. Россия и война США за независимость / / США — экономика, политика, идеология. 1976. N 1. С. 88—99.
27. American Revolution and the Russian Empire / / The Impact of the American Revolution Abroad. Washington, 1976. P. 80—98. (Переиздано в Индии: New Delhi.: Oxford and GBH Pub. C°, 1977.
28. Russia as Mediator in the U.S. War of Independence / / Soviet Life. 1976. March. P. 52—55.
29. Русская Америка и американцы в России / / Советский Союз. 1976. N 3. С. 52. (Опубл. также в Чехословакии и ГДР.)
30. 1783 год: Петербург—Филадельфия / / Наука и жизнь.1976. N 7. С. 65—67.
31 .Unpublished Reports by Russian Diplomats on the American War of Independence / / Soviet Life. 1976. July. N 7. P. 55.
32. Россия и страны вооруженного нейтралитета / / Война за независимость и образование США. М.: Наука, 1976. C. 344—362.
33. Русские дипломаты о войне США за независимость / / США — экономика, политика, идеология. 1976. N 7. C. 20—22.
34. Letter to the Editor / / East European Quarterly. 1977. Vol.9. N 4. P. 511—512.
35. Россия и война США за независимость: [Доклад на XIV конгрессе исторических наук в Сан-Франциско] / Ком. славянских исследований. (Сокр. англ., фр., исп. пер. см.: Soviet Studies in US History. Moscow, 1977. P. 63—74.
36. Общественность США и оборона Севастополя в 1854— 1855 годах (в соавт. с Полевым Б. П.) / / Новая и новейшая история. 1978. N 4. C. 35—52.
37. Russian America and International Relations from the 18th
20
to the First Half of the 19 th Centuries (Русская Америка в международных отношениях, XVIII — первая половина XIXв.): [Доклад на Ситкинской конференции, август 1979] / / Kennan Institute: Occazional Paper. N 71. Washington, 1979. 49 р.
38. Конференция по истории Русской Америки / / Новая и новейшая история. 1980. N 2. C. 211—212.
39. Американские врачи в Крымской войне (в соавт. с П ономаревым В.Н.) / / СШ А — эконом ика, политика, идеология. 1980. N 6. C. 63—69.
40. Становление и развитие отношений между Россией и США: [Доклад на заседании бюро Отделения истории АН СССР]: Отчет о докл. / / Вопросы истории. 1981. N 2.
41. У истоков первых контактов / / США — экономика, политика, идеология. 1980. N 11. С. 51—61.
42. Изучение русско-американских отношений: некоторые итоги и перспективы / / Новая и новейшая история. 1981. N 6. С. 54—67.
43. Встреча специалистов по истории Русской Америки / / Американский ежегодник, 1980. М.: Наука, 1981. С. 334—337.
44. Early Contacts / / Social Sciences. 1982. N 2. P. 142—153.45. Становление русско-американских литературных
контактов (XVIII — первая половина XIX в.) / / Вопросы литературы. 1982. N 11. С. 250—256.
46. Зарубежные исследования о С. Дежневе и В. Беринге / / Известия АН СССР. Серия географическая. 1983. N 4. С. 96—105.
47. Русско-американские культурные связи / / История США. Т. 1. М.: Наука, 1983. С. 607—633.
48. Россия и США: архивные документы и исторические исследования. М.: ИНИОН, 1984. 105 с.
49 . Archival Materials and Manuscripts in the USSR on the United States History up to 1917 / / Guide to the Study of United States History Outside the U. S. Vol. 1—5 / Ed. by L. Hanke. White Plain. N. Y., 1985. Vol. 3. P. 562—592.
3. Аннотации
1. Зарубежные исследователи о Русской Америке / / США— экономика, политика, идеология. 1985. N 4. С. 87—95.
2. Был ли Ф.В. Каржавин американским «корреспондентом»
21
Н.И. Новикова? / / Вопросы истории. 1986. N 4. C. 170—172.3. Russian America and International Relations / / Russia’s
American Colony. Durham.: Duke Univ. Press, 1987. P. 251—270, 405—408.
4. Общественность США и ратификация договора 1867 г. / / Американский ежегодник, 1987. М., 1987. С. 157—174.
5. Зарубежные исследования по истории Русской Америки (конец XVIII — середина XIX вв.) / Отв. ред. сб. и автор предисл. М.: ИНИОН, 1987. С. 5—13.
6. Документы Российско-американской компании в Национальном архиве в Вашингтоне: Обзор / / Там же. С. 43—49.
7. Зарубежные исследования о заключительном периоде деятельности РАК и продажа Аляски: Обзор / / Там же. С. 78—100.
8. Новые материалы о русских в Америке во второй половине XVIII в. / / Взаимодействие культур СССР и США XVIII—XX вв. М., 1987. С. 14—20.
9. За точное и документированное освещение деятельности Ф.В. Каржавина / / Вопросы истории. 1987. N 12. С. 166—168.
10. Соединенные Штаты Америки и Отечественная война 1812 г. / / Бессмертная эпопея / Под ред. А.Л. Нарочницкого и Г. Шееля. М., 1988. С. 187—198.
11. Из истории отношений между Россией и США / / Вестник МИД СССР. 1988. N 9. С. 57—62.
12. Как продали Аляску / / Международная жизнь. 1988. N 7. C. 120—131. (Англ. и фр. пер.: International Affairs. 1988. N 8. P. 116—126.)
13. Аляскинский скандал / / Вопросы истории. 1989. N 4. С. 37—54.
14. Продажа Аляски (1867) и вопрос об укреплении России на Дальнем Востоке / / Проблемы выявления и сохран ен и я п ам ятн и ков освоен и я С ахалина. Ю жно- Сахалинск, 1989. С. 15—16.
15. Продажа Аляски: документы, письма, воспоминания / / США — экономика, политика, идеология. 1990. N 3. С. 47—55.
16. The Crimean War and the Emergence of Proposals for the Sale of Alaska, 1853—1861 / / Pacific Historical Review. 1990. Feb. Vol. LIX. N 1. P. 15—49.
17. Russian Discoveries on the North-West America (1732—1741) (Открытие Россией северо-запада Америки (1732—1741)): [Доклад
22
на XVII Междунар. конгрессе истор. наук]. М.: ИНИОН, 1990. 34 с.18. American History in Soviet Archives / / The Society of
American Archivists Newsletter. 1990. Sept. P. 13.19. Секретная часть доклада капитана лейтенанта П.Н.
Головина / / Американский ежегодник, 1989. М., 1990. С. 244—248.20. Международные встречи исследователей по истории
Русской Америки (1987—1988) / / Там же. С. 251—255.21. The Sale of Alaska in the Context of Russian-American
Relations in the XIXth Century: [Report at the Conference Russian America: Forgotten Frontier. 16—17 November 1990] / / Pacifica. Vol. 2. N 2.
22. Russian Discovery and Colonization of North-West America (1732—1867) / / 17th International Congress of Histor. Scien. Grands Themes V.I. Madrid, 1990. P. 22—24.
23. Предисловие / / Петров В. Русские в истории Америки. М., 1991. С. 3—5.
24. В Сибирь и Русскую Америку: Три столетия русской экспансии на Восток / / Вопросы истории. 1991. N 1. С. 254—255.
25. Письмо вел. кн. Константина А.М. Княжевичу от 18 фев. 1861 г. / / Американский ежегодник, 1991 / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. М., 1992. С. 146—151.
26. У истоков русско-американских научных связей / / Наука в России. 1992. N 3. С. 40—43. (Англ. пер. см.: Science in Russia. 1992. July-August. N 4. P. 40—43).
27. The Sale of Alaska in the Context of Russian-American Relations in the Nineteenth Century / / Imperial Russian Foreign Policy / Ed. by Hugh Ragsdale. Cambridge (Mass.).: Cambridge Univ. Press, 1993. P. 193—215.
28. Против истины не грешил / / Русская Америка. 1993. N1. С. 8 —9.
29. Музыка истории / / Лепта. 1993. N 6. С. 154—159. (Англ. пер. см.: The Will of the Russian Ambassador / / Lepta. 1994. N 2. P.148—154).
30. Русско-американские отношения и продажа Аляски (конец XVIII в. — 1867) / / Внешняя политика и дипломатия США. Т. 1: (1775—1877). М.: Международные отношения, 1994. С. 339—362.
31. У истоков православия в Северной Америке (вторая половина XVIII в.) / / Американский ежегодник, 1993. М.:
23
Наука, 1994. С. 127—133.32. Предисловие / / Пономарев В.Н. Крымская война и русско-
американские отношения. М.: Ин-т Российской истории, 1994.33. Завещание Н.П. Резанова / / Вопросы истории. 1994. N 2.
С. 165—169.34. Исследования русских на Тихом океане в XVIII — первой
половине XIX века / Гл. ред. А.Л. Нарочницкий, Н.Н. Болховитинов / / Российско-американская компания и изучение Тихоокеанского Севера, 1799—1815: Сб. докл. / Отв. ред., соавт. вступ. ст. Н.Н. Болховитинов. М.: Наука, 1994.
35. Семья Г.И. Шелихова и борьба за создание монопольной компании на северо-западе Америки, 1787—1799 гг. / / Российские исторические чтения, посвященные 200-летию со дня смерти Г.И. Шелихова: Тезисы, 20—23 июля 1995 г. Шелихов. С. 11—13.
36. Россия и начало Гражданской войны в США: По архивным материалам / / Новая и новейшая история. 1995. N 3. С. 30—42.
37. Отклики в США на отмену крепостного права в России / / Вопросы истории. 1995. N 8. С. 126—132.
38. Историки в поисках истины: визит русского флота в США в 1863—1864 гг. / / Американский ежегодник, 1994. М.: Наука, 1995. С. 194—207.
39. Основание Русской Америки: 1732—1799 / / Русская Америка. Вып. VII. М., 1996. С. 14—17.
40. У истоков православия в Северной Америке / / Историческое краеведение и архивы. Вып. 3. Вологда, 1996. С. 17—23.
41. Миссия Клея в Россию, 1861—1862 / / Американский ежегодник, 1995. М.: Наука, 1996. С. 130—146.
42. Не командор, а действительный камергер / / США — экономика, политика, идеология. 1996. N 9. С. 123—127.
43. Русские эскадры в США в 1863—1864 гг. / / Новая и новейшая история. 1996. N 5. С. 195—216.
44. Н есчастная судьба кам ергера и «командора». Удручающий подарок / / Очевидец. 1996. 18 июля. N 76. С. 5.
45. О времени и о себе: заметки историка / / Историки России о времени и о себе. Вып. 1. М., 1997. С. 67—80.
46. Russian-American Relations: An Overview / / Russian- American Dialogue on Cultural Relations 1776—1914 / Ed. by N.E. Saul and R.D. McKinzie. Columbia and London, 1997. P. 1—25.
24
47. The American Theme on the Pages of Dukh Zhurnalov (Spirit of Journals) / / Ibid. P. 45—76.
48 . Postscript: Past, Present, and Future / / Ibid . P . 243—248.49. Н.П. Резанов и первое русское кругосветное плавание,
1803—1806 / / Новая и новейшая история. 1997. N 3. С. 167—186.50. Можно ли так публиковать архивные документы? / /
Вопросы истории. 1997. N 8. С. 171—173.
II. РЕЦЕНЗИИ НА МОНОГРАФИИН.Н. БОЛХОВИТИНОВА
О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОТНОШ ЕНИЙ РОССИИ И США
(XVIII в. - 1867 г.)
Перевод иностранных рецензий на рус. яз. см.: Зарубежные рецензии на советско-американское издание документов об отношениях России и США в 1785—1815 гг. М.: ИНИОН, 1988. 40 с.
1. Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775—1815. М.: Наука, 1966. 640 с.
Фурсенко А.А. / / Вопросы истории. 1968. N 6. С. 182—184; Гонионский С.А. / / Новая и новейшая история. 1967. N 1. С.
149—150;Левитас И.Я. / / История СССР. 1968. N 3. С. 186—187; Толстяков А. / / Новый мир. 1967. N 10. С. 284—285; McGrew R.F. / / The American Historical Review. Vol. 73. 1968.
February. № 3. P. 771—772;Waugh D.C. / / Kritika. Vol. III. N 2. 1967. Winter;Allen R.V. / / William and Mary Quarterly. Vol. XXV. N 1. 1968.
P. 111—115;W.K. / / Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas. Bd. 15. Heft 3.
September 1967. S. 462;Dmytryshyn B. / / Journal of American History. Vol. XLIII. 1976.
September. N 2. P. 403—405;Pichkhadze M. / / A History of Russian-American Relations.
Soviet Life. 1973. Dec. P. 37;Mainwaring H. / / Boston Herald Traveler. Apr. 22, 1968. P. 20; Butterfield L.H. / / The Beginnings of Russian-American
25
Relations / Introduction Bolkhovitinov. Cambridge (Mass.), 1975. P. XI—XVIII .
2. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения, 1775—1832. М.: Наука, 1975. 628 с.
Комиссаров Б.Н. / / Новая и новейшая история. 1975. N 6. С. 209—211;
Кантор Р.Е. / / США — экономика, политика, идеология.1976. N 3. С. 107—108;
Цверава Г.К. / / Природа. 1976. N 3. С. 147—149;Фурсенко А.А. / / Вопросы истории. 1976. N 6. С. 149—152; Марушкин Б.И. / / Новый мир. 1976. N 3. С. 279—282; Олешук Ю.Ф. / / Мировая экономика и международные
отношения. 1976. N 5. С. 142—143;Pichkhadze M. / / Soviet Life. 1975. Dec. P. 35—37;Saul N.E. / / Russian Review. 1976. Oct. Vol. 95. N 4. P. 473—474; Dmytryshyn B. / / Journal of American History. Vol. LXIII. 1976.
Sept. N 2. P. 403—405;[Рецензия] / / Общественные науки в СССР: История. 1976.
N 2. С. 177—181;Kirchner W. / / Jahrbuch fur Geschichte Osteuropas. Wiesbaden,
1977. Bd. 25. H. 4. S. 586—589;Fursenko A.A. / / Soviet Studies in History. Fall 1977. Vol. XII.
N 2.
3. Болховитинов Н .Н . Р оссия и война СШ А за независимость, 1775—1783. М.: Мысль, 1976. 272 с.
Согрин В.В. / / Новая и новейшая история. 1976. N 6. С. 180—181;
Двойченко-Маркова Е.М. / / США — экономика, политика, идеология. 1977. N 2. С. 90—92;
Старцев А.И. / / История СССР. 1977. N 6. C. 189—191; [Заметка] / / Вопросы истории. 1976. N 6. С. 175;Иванов В. / / Советская педагогика. 1976. N 10. С. 147—150; Kotas J. / / Slovansky prehled. Praha, 1977. S. 461;
4. Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски, 1834—1867. М.: Наука, 1990. 368 с.
Кантор Р.Е. / / США — экономика, политика, идеология. 1991. N 2. С. 117;
26
Комиссаров Б.Н. / / Новая и новейшая история. 1991. N 3. С. 231—233;
Гринев А.В. / / История СССР. 1991. N 3. С. 205—208; Gibson James R. / / The American Historical Review. Vol. 96. N
5. P. 1639—1640;Saul Norman E. / / Journal of American History. Vol. 79. N 3.
Dec. 1992. P. 1161—1162;Песков В. Как продавали Аляску / / Комсомольская правда.
1991. 2 марта. С. 4;Crow nhart Vaughan Elizabeth A. P. / / Jahrbucher fur
Geschichte Osteuropas. Neue Folge. 1992. Bd. 40. Heft 4. S. 566—568;Месяцев Н.Н. / / Общественные науки в СССР. 1991. N 4. С.
58—60;Pierce Richard A. / / Pacific Historical Review. 1995. Feb. Vol.
XIV. N 1. P. 126—127.
5. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку, 1732— 1799. М.: Международные отношения, 1991. 304 с.: ил.
Полевой Б.П. / / Отечественная история. 1993. N 2. С. 199—202;
Цверава Г.К. / / Новая и новейшая история. 1993. N 5. С. 233—234;
Дзукаева З.Н. / / США — экономика, политика, идеология. 1993. N 4;
[Интервью] / / Русская Америка. 1993. N 1. С. 8—9;Saul Norman E. / / The Journal of American History. June 1993.
Vol. 80. N 1. P. 246—247;O’Grady-Reader Alix / / Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas.
1993. Bd. 4. Heft 3. S. 438—440.
6. Bolkhovitinov Nikolai N. The Beginnings of Russian-American Relations, 1775—1815 / Translated by Elena Levin; Introduction by L.H. Butterfield. Cambridge (M ass.), London.: Harvard University Press, 1975. XVIII, 484 р.
Liebarth E.W. / / Minneapolis Tribune. 1976. Sept. 5. P. 11d;The Virginia Quarterly Review. 1976. Autumn Vol. 52. P. 114 Long David F. / / The New England Quarterly. 1976. Dec. Vol. 49.
N 4. P. 656—658;Book Review Digest. 1977. May. Vol. 73. N 3. P. 35;
27
Choice. Dec. 1976. Vol. 13. P. 1341;Drew R.F. / / History: Review of New books. 1976. Nov.-Dec.
Vol. 5. P. 50;Book Review Digest. 1977. Apr. Vol. 73. N 2. P. 10—11; McErlean M.P. / / Canadian Slavonic Papers. 1977. March. P.
92—93;Harvard Univ.Press. New Fall Books. 1975. P. 13;Alexander J.T. / / The American Historical Review. 1977. Feb.
Vol. 82. N 1. P. 148—149;Brown Roger H. / / The First Detente: Russia and America,
1775—1815 / / Reviews in American History. 1977. March. P. 66—71;Madariaga Isabel de / / In the Days before Superpowers / / The
Times Literary Supplement. September 30, 1977. P. 1113;Saul Norman E. [Review Article] / / Russia and America, 1775—
1815 / / Russian Review. 1977. July. Vol. 36. N 3. P. 334—340;Crownhart-Vaughan E.A.P. / / Oregon Historical Quarterly. 1977.
Dec. Vol. LXXVIII. N 4. P. 359—360;Pierce Richard A. / / Pacific Historical Review. 1978. February.
Vol. XLVII. N 1. P. 131—132;Gilbert Daniel R / / Russian History / Histoire Russe. 1977. Vol.
4. Pt. P. 74—76;Griffiths D. / / Soviet Views of Early Russain-American Relations.
Proceedings of the American Philosophical Society. 1972. April. Vol. 116. N 2. P. 148—156.
7. Bolkhovitinov Nikolai N. Russia and the American Revolution. Tallahassee (Florida): The Diplomatic Press, 1976. XVI, 277 р.
Wills Martie / / Tallahassee Democrat. July 7, 1976;McErlan J.M.P. / / Canadian Slavonic Papers. 1977. March. P.
92—93;Madariaga Isabel de / / In the Days before Superpowers / / The
Times Literary Supplement. September 30, 1977. P. 1113;Saul Norman E. [Review Article] / / Russia and America, 1775—
1815 / / Russian Review. 1977. July. Vol. 36. N 3. P. 334—340;Leukovsky S.A. / / History: Review of New Books. 1977. October.
Vol. 6. N 1. P. 3;Okenfuss Max J. / / Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas.
Wiesbaden. 1977. Bd. 23. Heft 4. S. 584—585;Wellenreuter Hermann / / Historische Zeitschrift. Okt. 1978. Bd.
28
227. Heft 2. Munchen, 1978. S. 449—451;Ragsdale H., McDonald F. American Historical Review. Vol.84.
N 1. 1979. February. P.115-116;Choice. 1976. Dec. Vol. 13. P. 1341;Madariaga Isabel de. English Historical Review. 1978. January.
Vol. 93. N 366. P. 205;Rollet H . / / Revue d’histoire diplomatique . 90-me annee.1976.
Juillet-Decembre. P. 363—364;Pacific Historical Review. 1979. May. Vol. 48. N 2. P. 289; Christie Ian R. / / Slavonic and East European Review. 1977.
Oct. Vol. IV. N 4. P. 542;Anderson M.S. / / History: The Journal of the Historical
Association. 1977. Feb. Vol. 62. N 204. P. 138—139;Magridge Ian / / Canadian-American Slavic Studies. 1977. Winter.
Vol. 11. N 4. P. 605—606;Fohlen C. / / Revue historique. 1977. Vl. 1977. P. 137.
8. Bolkhovitinov N.N. Russia and the United States: Analytical Survey of Archival Documents and Historical Stidies. Armonk, N. Y. , London.: M.E. Sharpe. Inc., 1986.
Grimsted P.K. / / American Archivist. 1986. Spring. P. 198—200. (Рус. пер. см.: Гримстед. П. [Рецензия]. М.: ИНИОН, 1987. 6 с.).
Hartgrove J.D. [Foreword] / / Soviet Studies in History. Fall 1986. Vol. 25. N 2. P. III—IV.
9. Bolkhovitinov Nikolai N. Rusia y America (ca.1523—1867). Madrid.: Editorial MAPFRE, 1992. 289 р.
Semenov S.I. / / Rusia de hoy. 1993. Nov.-Dic. N 4. P. 18;Ibid. 1994. N 1. P. 20;Mathes W.Michel / / Journal of American History. 1994. Dec.
Vol. 81. N 3. P. 1282—1283.
10. The United States and Russia: The Beginning of Relations 1765—1815. Washington D.C.: The U.S. Government Print. Office, 1980. 1184 р. (Россия и США: становление отношений, 1765— 1815. М.: Наука, 1980. 752 с.)
Кузьмин В. Русско-американские отношения в зеркале истории / / Международная жизнь. 1980. N 9. С. 139—141;
Кудрявцев И.И. [// Советские архивы. 1981. N 1. С. 86;
29
Сивачев Н.В. / / История СССР. 1981. N 2. С. 198—206; Тихвинский С.Л. / / Становление русско-американских
отношений / / Новая и новейшая история. 1981. N 1. С. 164—176;Цверева Г.К. / / Исторические пути советско-американских
научных связей / / Природа. 1981. N 2. С. 124—125;Шпотов Б.М. / / В мире книг. 1981. N 6. С. 23—26;Попов И. Пионеры / / Иностранная литература. 1981. N 7. С.
247—251;Muller H.H. / / Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte. 1983. T. 4.
Berlin, 1983. S. 211—213;Boyle P.J. / / Journal of American Studies. 1982. Apr. P. 132—133; Joshi M.K. / / Indian Journal of American Studies. Hyderabad.
1984. Vol. 14. N 1. P. 146—147;Kushner H.I. / / Journal of American History. 1981. June. Vol. 68.
N 1. P. 124—125;Pierce RA. / / American Historical Review. Vol. 86. N 4. P. 887—888; Griffiths D. / / William and Mary Quarterly. Vol. XXXVIII. 1981.
Oct. N 4. P. 724—730;Zavadova A. / / Ceshol. cas. hist. Praha, 1983. S. 274—276;Byrd Pratt / / Foreign Service Journal. 1982. February. P. 13; Soviet Life. 1981. January. P. 24.
A.B. Зорин
АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ МОРСКИЕ ТОРГОВЦЫ И ГИБЕЛЬ МИХАЙЛОВСКОЙ
КРЕПОСТИ НА СИТКЕ В ИЮНЕ 1802 ГОДА
Говоря об уничтожении индейцами-тлинкитами русского поселения на о. Ситке в июне 1802 года, ряд авторов упоминает о той роковой роли, которую сыграли в этих событиях некие английские или американские матросы. Степень их участия в нападении варьируется от простой поддержки замысла тлин- китов и подстрекательства к нему до прямого участия в атаке и даже руководства ею. Иногда (особенно в художественных произведениях) они предстают настоящими диверсантами, которых засылают на Ситку иностранные торговцы-конкуренты Рос-
30
сийско-американской компании (РАК). Оставив в стороне вопросы, связанные с причинами и обстоятельствами нападения, рассмотрим единственную проблему: какова же была истинная роль и степень участия «иностранцев» в трагических событиях июня 1802 года?
Вначале краткая сводка сообщений и источников по данной теме. И.А. Кусков (1802 год) упоминает, что в июне 1802 года на Ситке находились некие «англичане», оставшиеся там «с одного американского судна, бывшего под крепостью по весне до семи человек»1. Его показания, наряду с показаниями А. Плотникова и Е. Лебедевой2, позволяют уточнить местонахождение пяти из этих «англичан». Трое в составе артели А. Батурина отправились к «дальнему Сиучьему камню», где заготавливал мясо Василий Кочесов; один ушел с партией И. Ур- банова, а еще один в момент нападения оказался в осажденной казарме. Гибель от рук тлинкитов всех пятерых представляется несомненной. О каком-либо участии «англичан» в штурме не упоминают ни Кусков, ни Лебедева. Однако помимо этого И.А. Кусков сообщает о подстрекательских речах американского торговца, зимовавшего в 1801—1802 годах на «хуцновском жиле», где совет индейских племен обсуждал план войны против русских3.
Капитан Генри Барбер (Henry B a ^ r ) (1804) заявлял, что 31 июня < ! > 1802 года он взял на борт трех американцев, которые назвались дезертирами с бостонского судна «Дженни». 6 июля он принял на свое судно еще трех американцев, причем тогда же он взял заложниками тлинкитских вождей, организовавших нападение на Михайловскую крепость4. Эти моряки сообщили Барберу, что индейцы заставили их участвовать «в том кровавом происшествии».
Американец Уильям Стерджис (William Sturgis) сообщаето семи дезертирах с «Дженни», служивших в РАК, которым индейцы предложили участвовать в нападении на русскую крепость. Когда же они отказались, тлинкиты взяли их под стражу и не выпускали до тех пор, пока крепость не была уничтожена5.
Директора РАК сообщали А.А. Баранову в своем письме от 29 апреля 1805 года: «...узнали по некоторым известиям, что прямая причина разорения крепости и гибели людей была недоброжелательное подстрекание к диким того английского суд
31
на, которое было в то время там, на котором пленные доставлены к Вам»6. Здесь имелся в виду, конечно же, Генри Барбер.
Те же директора РАК в 1808 году уверяли русского генерального консула в Филадельфии А.Я. Дашкова в том, что «бостонского морехода Кроера бежавший там с корабля по разным неудовольствиям экипаж при нападении в 1801 году < ! > на Ситку помогал диким в варварстве»7, а в особой записке «О подрыве, делаемой компании бостонцами» от 21 апреля (13 мая) 1808 года они же утверждали: «Тамошний главный правитель Баранов, по некоторым от самих диких объяснениям о сем случае, уверяет, что причиной сего несчастья и пособием в оном были бостонских судов шкипера Крокер и Конингам с их экипажами», которые снабдили индейцев оружием и захватили собранную в крепости пушнину8.
Ю.Ф. Лисянский, побывавший на Ситке в 1804—1805 годах, получил «обстоятельное известие» о гибели крепости со слов некоего промышленного, «который тогда был взят в плен, а после нашел случай спастись». По этим сведениям, среди примерно 600 индейских воинов «находились три матроса из Американских Соединенных Штатов. Оставив свои судна, они сперва поступили на службу в Компанию, а потом перешли к нашим неприятелям. Эти вероломные бросали зажженные смоляные пыжи на кровлю верхнего строения, зная, что там хранился порох и сера»9. Порох в крепости действительно хранился на втором этаже казармы, который был подожжен индейцами почти в самом начале их нападения.
К.Т. Хлебников повторяет сообщение И.А. Кускова, утверждая, что «озлобление сих диких народов есть произведение просвещенной зависти»10, но при этом не говорит о прямом участии «иностранцев» в военных действиях. Помимо того, он сообщает, что «до прихода Баранова в Ситху» с одного американского корабля было высажено на берег «по неудовольствиям от капитана 11 человек». Из них трое поступили на службу в РАК, а «прочие остались у колош»11.
Приказчик РАК на судне «Надежда» Ф.И. Шемелин в своих записках о кругосветном плавании упоминает: «...<в 1799 году> два судна вместе были в Якутатском заливе и в Ситхе; капитаны оных Крокер и Брикс; с одного из них бежало матросов по 11 человек и с оного ж в 1802 году шесть он доставил
32
наших людей, которых освободили от неволи американцев; за то, что взял выкупу товарами на 10.000 рублей и потом с господином Барановым торговался». Там же говорится, что в 1801 году «судно “Глобус” и его капитан, Кюннен-Жеин, зимовали под “хуцновским жилом”»12.
Индейские предания не упоминают каких-либо белых союзников в войне тлинкитов против русских.
Американские источники частично подтверждают и существенно дополняют русские данные13. Крокер, капитан судна «Хэнкок» компании «Дорр и сыновья» (Бостон), прибыл на Ситку в мае 1799 года. В результате вспыхнувшего на борту судна мятежа 13 матросов по их собственному требованию были высажены на берег, но спустя несколько дней четверо из них раскаялись и им было позволено вернуться на корабль. Когда судно стало уходить из Ситкинской бухты, еще двое мятежников, похитив у индейцев каноэ, попытались вернуться на его борт. Им отказали, но они упорно следовали за судном и в конце концов капитан принял их обратно. После завершения торгового сезона «Хэнкок» отбыл в Кантон, а затем, 9 июля1800 года, вернулся в Бостон. Вторично Крокер посещает Северо-Западное побережье в 1803 году как капитан судна «Дженни» той же компании «Дорр и сыновья».
Уильям Каннигем был помощником капитана на судне «Глобус», принадлежавшем «Перкинсу, Лэмбу и компании», которая имела груз товаров на сумму в 29.253 доллара. В октябре1801 года индейцы-хайда убивают у Скидегата капитана Бернарда Мэджи, и Каннигем занимает на «Глобусе» его место. Он зимует в Хуцнуву — и в эту же зиму там собирается великий совет тлинкитских вождей, на котором было решено начать войну с русскими. В июне 1802 года «Глобус» находится в Ситкинском заливе вместе с кораблями Барбера и Эббетса и именно на его борту заседает «военный совет из числа старших офицеров этих судов. По окончании сезона торговли “Глобус” прибывает 3 ноября 1801 года в Кантон, а оттуда возвращается в Бостон».
Судно «Тревога» («Alert») под командованием Джона Эббетса, бывшего ранее на нем помощником капитана, совершало в то время свое третье плавание (впервые — в 1798 и 1800 годах). Оно принадлежало семейству Лэмбов и вышло из Бос
33
тона 8 июля 1801 года с грузом товаров на сумму в 28.001 доллар 62 цента. По окончании сезона торговли судно прибыло через Гавайи в Кантон. 8 декабря 1802 года оно, после продажи пушнины, вновь вернулось на Северо-Западное побережье.
Имя Генри Барбера традиционно пользуется самой дурной славой. Но даже Н.П. Резанов, называвший его не иначе как «разбойником и обвинявший в пиратских намерениях по отношению к русскому населению на Кадьяке»14, в связи с событиями лета 1802 года ставит ему в вину лишь то, что он «влез нагло» в Павловскую Гавань и потребовал выкуп за доставленных им с Ситки пленников. Ричард Пирс полагает, что «утверждения о враждебности Барбера по отношению к РАК кажутся неосновательными или преувеличенными»15. А.В. Гринев также придерживается мнения, что «нет никаких доказательств и фактов, указывающих на причастность Барбера к разорению русской крепости»16. Однако путаница, сбивчивое изложение фактов и ряд намеренных умолчаний в собственных показаниях британского капитана наводят на подозрение, что совесть его отнюдь не была кристально чистой.
Рассмотрим теперь степень достоверности приведенных выше сведений. Показания Кускова, Плотникова и Лебедевой, несомненно, заслуживают доверия относительно указанного в них местонахождения пяти «англичан» в момент нападения. Однако вряд ли даже очевидцы гибели могли бы различить двухтрех белых в толпе индейских воинов. Стерджис получил свои сведения из вторых, а то и третьих рук, и до него версия о дезертирах дошла в облагороженном и приукрашенном виде: они уже не участвуют в нападении (пусть даже невольно, как то было заявлено Барберу), но всего лишь содержатся под стражей, чтобы не могли предупредить русских. Директора РАК, судя по всему, не всегда ясно представляли себе детали происходивших в Америке событий (это и 1801 год — как дата гибели Михайловской крепости, и в другом месте Якутская бухта— вместо Якутатской). Однако они весьма умело использовали эти события в своих интересах, ловко приспосабливаясь к изгибам тогдашней внешней политики России. Ю.Ф. Лисянский в своей книге лишь добросовестно передал то, что сам слышал от служащих РАК на Ситке. То же относится и к Ф.И. Шемели- ну. К.Т. Хлебников пользовался теми же источниками, однако,
34
будучи более знаком с предметом, делал несколько иные выводы. По сути дела, в распоряжении историков имеются только одни освещающие этот вопрос сведения, полученные из первых рук, но этот свидетель является слишком заинтересованным лицом, чтобы полагаться на его объективность. Это капитан Генри Барбер.
Первое, что бросается в глаза при сравнении журнала Барбера с показаниями другого очевидца и непосредственного участника событий Абросима Плотникова, так это разнобой в датах. Оставив в стороне фантастическое «31 июня», можно установить, что разнобой этот прекращается с приходом на Ситку кораблей Эббетса и Каннингема. Барбер перестает лгать, поскольку теперь появляется опасность быть уличенным своими коллегами, которые позднее вынуждают его признаться и в том, о чем он пытался умолчать при публикации своего журнала (например, о повешении тлинкитского вождя). Однако ложь в бортовом журнале еще не доказывает причастности Барбера к уничтожению Михайловской крепости. Будучи личностью действительно довольно темной и одиозной, Барбер владел в тот период судном, имевшим два названия и два порта приписки: в британские порты Сидней (Австралия) и Лондон он прибывал на «Единороге» («Uniciorn», порт приписки Лондон), а на Гавайях и в Китае он действовал на приписанном к Макао «Бодром» («Cheerful»). На Ситке же он появился на судне с названием, которое использовалось им для визитов в «цивилизованные» порты колоний и в метрополию, — «Единорог». Если Барбер занимался здесь своими махинациями, то, скорее всего, избрал бы вывеску «Бодрый». Вероятнее предположить, что на Северо-Западном побережье Барбер занимался вполне обычным и распространенным там бизнесом — торговлей оружием. Для этого ему не приходилось скрываться под видом купца из Макао. Однако в данном случае бизнес этот имел неожиданные для Барбера последствия: истребляя Михайловскую крепость, тлинкиты, похоже, воспользовались и полученным от него товаром. Из-за этого британец, действовавший здесь вполне официально, оказался в весьма двусмысленном положении. Ему грозила репутация подстрекателя и убийцы. Впоследствии ему пришлось оправдываться и за меньший грех — казнь индейского заложника (о чем он тоже в начале старался умолчать). Го
35
раздо дороже пришлось бы ему заплатить даже за столь косвенное пособничество в убийстве «белых людей» (пусть даже русских), как продажа оружия туземцам накануне резни. В пользу этого предположения говорит и то, что на борту «Единорога» действительно имелось «лишнее» оружие: доставив пленников на Кадьяк и получив выкуп, Барбер тут же продал русским «несколько орудий, до пятидесяти отличных ружей и большое количество снарядов»17. Вероятно, это было то, что осталось у англичан после торговли с индейцами (недаром он, возмущаясь прижимистостью Баранова, заявлял, что потерпел убыток от прекращения своих торговых операций). Именно по этой причине Барбер и «путал следы», тасуя события и даты, чтобы добиться наиболее выгодного для себя расклада.
Чтобы окончательно разобраться в труднообъяснимой «враждебности» Барбера к РАК, рассмотрим обвинения его в зловещих замыслах против компании, каковые он якобы вынашивал против нее в 1802 и 1806 годах. Утверждения об их существовании основываются на сообщении Н.П. Резанова. В ноябре 1805 года он писал директорам РАК, что по возвращении с Кадьяка на Гавайские острова Барбер узнал «об объявленной тогда Англии войне и рвал с досады волосы, что, видя слабость компании, не произвел он того грабежа, к которому, признавался он, что неоднократно и без того покушался ...счастию, однако ж, компании, поссорился он с Людерсом, товарищем судна его, и известие о мире между тем подоспело»18. В феврале 1806 года Н.П. Резанов вновь сообщает о том, как после гибели Якутатской крепости «разбойник Барбер опять был на Кадьяке, но, нашед там суда “Елисавету” и “Александра”, вышел, объявя, что хотелось ему видеться с Барановым и что идет он в Ново-Архангельск, однако ж сюда не пожаловал»19. Однако следует заметить, что еще в Павловской Гавани, когда Барбер доставил туда спасенных им пленников, им было заявлено Баранову, «что, хотя он и принадлежит к нации, воюющей с Россиею, но сострадая к человечеству, выкупил бедных людей»20. То есть он считал, что Англия все еще воюет с Россией, а значит, не мог узнать об этом на Гавайях. Там ему могли скорее сообщить о примирении великих держав. Кроме того, известные сведения о реальных действиях Барбера в тот период не подтверждают его воинственных намерений. В декабре 1802
36
года его видели на острове Оаху, где он вел переговоры с верховным гавайским королем Камеамеа I; 29 мая 1803 года он уже публикует в Сиднее (Австралия) отрывок из своего бортового журнала, после чего отбывает в Лондон, чтобы к октябрю 1804 года вновь вернуться в Сидней. Если он и вынашивал злодейские планы осенью 1805 года (единственным свидетельством в пользу того служит его несостоявшаяся встреча с Барановым), то они необъяснимо «испарились» к 1807 году, когда он продал РАК свой бриг «Мирт» со всем грузом и вооружением. Осведомленность Н.П. Резанова относительно этих планов выглядит довольно странно — вряд ли Барбер столь широко афишировал свои столь неприглядные замыслы. Кроме того, среди старших офицеров «Единорога» не значится никакого Людерса, который, согласно Резанову, был даже компаньоном Барбера («товарищем судна его»)21. Объяснить же смысл и назначение страшных рассказов о «черном пирате Барбере» можно, если учесть некоторые черты характера самого Н.П. Резанова, а также цели, какими он руководствовался при написании своих отчетов главному правлению РАК. В этих обширных посланиях он, помимо всего прочего, излагал и «причины, по которым должно весь край сей и как можно скорее гарнизоном обеспечить»22. То есть он, как и прочие видные деятели компании, стремился добиться усиления государственного присутствия в ее владениях, а в первую очередь — присылки туда войск. Оправдать такой шаг могла только серьезная военная угроза русским владениям. Опасность же со стороны «диких» не производила должного впечатления на петербургских чиновников. Совсем иное дело — противник европейский, представляющий собой первую морскую державу мира. Стоит при этом вспомнить и характеристику Резанова, данную ему желчным, но наблюдательным капитаном В.М. Головниным: «Сей господин Резанов... был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имевший голову, более способную созидать воздушные замки, чем обдумывать и исполнять основательные предначертания»23. О том, что ради достижения желаемых целей Н.П. Резанов был способен весьма вольно обращаться с известными ему фактами, свидетельствует он сам, похваляясь в своем письме к Н.П. Румянцеву тем, как ловко он обошел губернатора испанской Калифорнии.
37
Губернатор жаловался ему на своеволие американских торговцев, один из которых, О‘Кейн, вел на его территории промысел каланов. Зная, что О‘Кейн действовал по прямому контракту с РАК, Резанов тем не менее воспользовался случаем, чтобы лишний раз упомянуть недобрым словом все того же Барбера, в частности, а не морских торговцев вообще. По его версии, изложенной доверчивому испанцу, О‘Кейн силой захватил партию кадьякцев в сорок человек, увез их неизвестно куда, а на следующий год «такого разбора молодец капитан Барбер привез... из них двадцать человек на Кадьяк, говоря, что выкупил он их из плена на Шарлоттских островах и не отдавал иначе как за 10.000 рублей. [...] Но куда других девал Океин... и теперь неизвестны. Возвращенные показали, что были они в разных местах на разных судах, но у кого именно и где приставали, того по невежеству их не могли ...добиться у них»24. Таким образом, хитроумный дипломат смешал воедино события 1802 года и плавание О‘Кейна, отрекся от факта сотрудничества с американцем и сочинил целую пиратскую историю и все ради одной цели — продемонстрировать зловредность своих конкурентов. Кроме того, у правления РАК были и иные причины преувеличивать исходящую от Барбера угрозу, о чем будет сказано далее.
Что касается иностранных моряков, находившихся тогда на Ситке, то они, несомненно, принадлежали к команде «Хэнкока». После ухода Крокера на берегу осталось семь его матросов. Пятеро поступили на службу в РАК и погибли во время общей резни. Двое же, вероятно, предпочли остаться среди индейцев. Именно они взошли на борт судна Барбера; его путанный рассказ о шести американцах явно не заслуживает доверия. Похоже, они действительно участвовали в разгроме Михайловской крепости, однако нет оснований приписывать им некую ведущую роль. Для поджога деревянной казармы не требовались особые европейские военные знания, к тому же, согласно индейским преданиям, поджог этот осуществили две старухи-тлинкитки25. Вряд ли два белых дезертира могли существенно увеличить боевую мощь почти полуторатысячного отряда хорошо вооруженных воинов, врасплох обрушившихся на горстку защитников казармы. Попав же на борт «Единорога», они объяснили Барберу, что плавали на судне Крокера.
38
Зная, что в этом сезоне Крокер командует «Дженни», Барбер и записал в дневнике, что матросы дезертировали с этого судна; вряд ли его в тот момент занимал вопрос о названии судна Крокера в сезоне 1799 года. Стерджис, сообщая о беглецах с «Дженни», лишь передавал циркулировавшие среди морских торговцев слухи. Он знал, что на Ситке оставалось семь дезертиров. Но не знал о гибели пяти из них. Кроме того, и Барбер в опубликованных заметках сообщил всем о шести пришедших к нему американцах.
Реальным же подстрекателем индейцев следует считать не англичанина Барбера, а американца Каннингема. Он, в отличие от Барбера, Эббетса и матросов с «Хэнкока», оказался на Ситке явно не случайно. Перезимовав в Ангуне, он, несомненно, был посвящен в замыслы тлинкитов, а то и участвовал в их разработке. В Ситкинской бухте, неожиданно для себя, он встречает еще двух торговцев, но быстро занимает среди них господствующее положение — именно «Глобус» становится своеобразным «штабом» трех капитанов. Прибыв сюда уже после захвата Барбером вождей-заложников, Каннингем не может изменить хода событий, но ловко подстраивается под них (кстати, не случайно вожди столь доверчиво поднялись на борт «Единорога» — вероятно, после знакомства с Каннингемом они считали морских торговцев своими союзниками, что распространялось даже на Барбера, с которым у них уже имелся печальный опыт общения)26. Получил, несомненно, Каннингем и свою долю из захваченных тлинкитами запасов компанейской пушнины. Нереально, чтобы всю добычу мог захватить только Барбер — один из троих, да и сами директора компании, со слов Баранова, сообщают о присвоении мехов всеми тремя капитанами27. Барбер и Эббетс продали свою долю самой же РАК— оба они в 1802 году посещали Кадьяк, и оружия, и пушнины было «от них куплено на сумму более 70.000 рублей»28. Каннингем на Кадьяк не пошел. Он вообще не имел дел с русскими, и это вряд ли случайно — слухи об его истинной роли, хотя смутные и неясные, все же доходили до руководителей РАК, как говорят о том свидетельства Кускова, Шемелина и Баранова. Однако в тот момент директорам РАК было выгоднее заострить внимание на иной фигуре — на Генри Барбере. И дело тут не только в досаде на его выходку в Павловской Гава
39
ни и потерянные 10.000 рублей.То, что виновниками Ситкинской катастрофы будут объ
явлены иностранцы, было предопределено изначально. Но причины того, что главным виновником был тогда признан англичанин Барбер, кроются, вероятно, в той неопределенности, в какой пребывала в те годы российская внешняя политика. Разорванные при Павле I отношения с Англией были восстановлены, но до союза с ней дело еще не дошло. В Петербурге шла борьба между сторонниками и противниками такого сближения. Директора РАК, для которых англичане были опасными конкурентами, имели поддержку в лице столь влиятельного сановника, как министр коммерции (а затем министр иностранных дел) Н.П. Румянцев, который являлся сторонником союза с наполеоновской Францией. «Дело Барбера», поданное как открыто враждебный союз Великобритании, было поисти- не даром небес для столичных франкофилов. Новый ход ему был дан весной 1805 года (похоже, что и узнали о нем в Петербурге немногим ранее, учитывая тогдашние средства связи). В это время, после разрыва дипломатических отношений с Францией (сентябрь 1804 года), решался вопрос о вступлении России в Третью коалицию. Вот тогда, похоже, и сложилась версия о решающей роли англичан в «Ситкинской резне». Директора РАК (М.М. Булдаков, Е.И. Деларов, И.Г. Шелихов) сообщили об этом А.А. Баранову в особом письме от 29 апреля 1805 года. В нем они заявляли, что Баранов не сумел выявить «прямых причин» гибели Михайловской крепости, в то время как сами директора (в Петербурге!) «по некоторым известиям» узнали: «...прямая причина разорения крепости и гибели людей была недоброжелательное подстрекание к диким того английского судна, ...на котором пленные доставлены к Вам с выкупом от Вас за 10.000 рублей, что тем вероятнее, что английская нация в то время состояла в некотором разрыве с Рос- сиею»29. От Баранова недвусмысленно требовалось подтверждение этой версии: «Поколико дело сие суть довольной важности, то точное и полное о помянутом сожаления достойном происшествии сведение [...] благоволите доставить в сие правление в особливом Вашем донесении»30. Директоров не смущали неувязки с фактами: состояние войны между Россией и Англией прекратилось весной 1801 года после смерти Павла I
40
(хотя, конечно, на Аляске этого могли и не знать, как действительно не знал этого Барбер в июне 1802 года).
К 1808 году политическая ситуация меняется. Согласно условиям Тильзитского мира Россия присоединяется к континентальной блокаде Англии. Однако невольный союз с Францией непрочен, условия блокады соблюдаются лишь формально, растет уверенность в неизбежности новой войны с Наполеоном, в которой Англия, несомненно, должна остаться союзником. Да и правлению РАК гораздо более опасным конкурентом кажутся теперь не британцы, а американские торговцы— куда более многочисленные, активные и не стесненные в своих предприятиях условиями военного времени (как известно, большая часть британских моряков с торговых судов подлежала во время войны вербовке в королевский флот). Именно американцы господствуют теперь в морской пушной торговле на Северо-Западном побережье. Если в период 1785—1795 годов на 35 действовавших здесь британских судов приходилось15 американских, то в следующее десятилетие ситуация резко изменяется и число американских кораблей возрастает до 68 против всего 9 английских. А после 1801 года, как отмечает Ф. Хоуэй, «Юнион Джек» полностью исчезает из торговли. В период 1805—1814 годов на Северо-Западном побережье действовали всего 3 английских корабля, один из которых фактически находился в собственности американского предпринимателя Джейкоба Астора31. В результате правление РАК проводит ряд демаршей, в ходе которых неожиданно всплывают имена подлинных «героев» «Ситкинской резни». 21 апреля (3 мая) 1808 года составляется специальная записка «О подрыве, делаемом компании бостонцами». В ней на сообщения А.А. Баранова, получавшего сведения от индейцев, виновниками резни называются американцы Крокер (ведь с его судна дезертировали матросы, которым так удобно приписать руководство «дикарями») и Каннингем — подстрекатель и соучастник32. 17 (29) мая 1808 года министр иностранных дел Н.П. Румянцев передает генеральному консулу США в Петербурге Л. Гаррису официальную ноту, в которой уведомляет, «что суда США, вместо того чтобы торговать с русскими владениями в Америке, приходят туда для тайной торговли с туземцами, снабжая их в обмен на шкурки выдры огнестрельным оружием и порохом, [...] которые в их
41
руках стали наносить большой вред подданным Его Императорского Величества. При помощи этого оружия был разрушен один русский форт и убито много людей, [...] чтобы избежать пагубных последствий подпольной торговли с туземцами, Его Императорское Величество хотел бы, чтобы меновая торговля осуществлялась через агентов компании»33. И наконец, 20 августа (1 сентября) 1808 года главное правление РАК направляет письмо генеральному консулу России в Филадельфии А.Я. Дашкову, где, помимо возмущения «бостонскими торгашами», сообщается, что «бостонского морехода Кроера (Крокера) бежавший там с корабля его по разным неудовольствиям экипаж при нападении в 1801 году на Ситху помогал диким в варварстве»34. «Черный корсар Барбер» был прочно забыт35, и забвение это продолжалось до тех пор, пока за события 1802 года не взялись историки, не причастные к тогдашней политической конъюнктуре (в первую очередь, П.А. Тихменев), извлекшие из-под пуда давние домыслы, которые за истекшее время приобрели солидную наружность исторических свидетельств.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. К истории Российско-американской компании. Красноярск, 1957. С. 114, 121.
2. Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действий ее до настоящего времени. Ч. 2. Приложение 2. СПб., 1863. С. 175, 179.
3. К истории Российско-американской компании. Красноярск, 1957. С. 119.
4. Barber H. Aftermath of the Sitka Massacre o f 1802. Journal Excerpts. Extracts from «The Sydney Gazette» (Australia). 05.29.1803,11.18.1804, 12.09. 1804 / / The Alaska Journal. 1979. Vol. 9. N 1. Winter. P. 58, 59.
5. Sturgis W. The Journal o f William Sturgis. Victoria, 1978. P.124.
6. К истории Российско-американской компании. Красноярск, 1957. С. 134.
7. Внешняя политика России X IX — начала XX века: Документы Российского министерства иностранных дел. Сер. I.
42
Т. IV. М., 1965. С. 615.8. Там же. С. 242.9. Лисянский Ю.Ф. Путешествие вокруг света на корабле
«Нева». М., 1947. С. 209.10. Хлебников К. Т. Первоначальное поселение русских в
Америке / / Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана. Вып. IV. СПб., 1864. С. 54.
11. Там же. С. 44.12. Шемелин Ф.И. Журнал первого путешествия россиян
вокруг земного шара. СПб., 1818. Ч. 2. С. 333, 334.13. Howay F.W. A List o f Trading Vessels in the Maritime Fur
Trade, 1785—1825/ / The Materials for the Study of Alaskian History. Kingston, 1973. N2. P. 38, 39, 44, 45, 48, 49; Pierce R. Russian America: A Biographical Dictionary. Kingston; Fairbanks, 1990. P. 28.
14. Тихменев П.А. Указ. соч. С. 208, 223.15. Pierce R. Russian America: A Biographical Dictionary.
Kingston; Fairbanks, 1990. P. 28.16. Гринев А.В. Индейцы-тлинкиты в период Русской Америки.
Новосибирск, 1991. С. 225.17. Тихменев П.А. Историческое обозрение образования
Российско-американской компании и действий ее до настоящего времени. Ч. 1. СПб., 1861. С. 89.
18. Тихменев П.А. Указ. соч. Ч. 2. Приложение 2. С. 208.19. Там же. С. 223.20. Хлебников К Т . Жизнеописание А.А. Баранова. СПб., 1835.
С. 69.21. Barber H. Aftermath of the Sitka Massacre o f 1802... P. 61.22. Тихменев П .А Указ. соч. Ч. 2. Приложение 2. С. 208.23. Материалы для истории русских заселений по берегам
Восточного океана. Вып. 1. СПб., 1864. С. 86.24. АВПР. Ф. СПб. ГА. 1—7. Оп. 6. Д. 1. 1802 г. П. 35. Л.
131об.—132.25. Dauenhauer N , Dauenhauer R. The Battles o f Sitka, 1802
and 1804, from Tlingit, Russian and other Point o f View / / Russia in North America: Proceedings o f the 2-nd International in ference on Russian America. Sitka (Alaska), August, 19—22, 1987. The Limerston Press. Kingston; Fairbanks, 1990. P. 12.
26. Хлебников К.Т. Первоначальное поселение... С. 42.27. Внешняя политика России... Сер. 1. Т. IV. М., 1965. С. 242.
43
28. Хлебников К.Т. Русская Америка в записках Кирилла Хлебникова: Ново-Архангельск. М., 1985. С. 44.
29. К истории... С. 134.30. Там же.31. Howay F.W. A List o f Trading Vessels... P. 26, 59.32. Внешняя политика России... Сер. 1. Т. IV. М., 1965. С.
242.33. Там же. С. 267—268.34. Там же. С. 615.35. Забыт, хотя слухи о происках английских пиратов
продолжали периодически будоражить правление РАК. Так, в 1811 году в Петербург из колоний поступило сообщение о том, что, по сведениям русского генерального консула А.Я. Дашкова и неких «Северо-Американских Штатов корабельщиков», «один английский капер непременно собирается в те колонии для разорения оных» (АВПР. Ф. СПб. ГА. I I—3. Оп. 34. Д. 7. Л. 5.). Корсар, разумеется, так и не нагрянул.
Кеннет Э. Шумейкер
МИССИЯ НЕЙЛА БРАУНА В РОССИИ (1850-1853)
4 марта 1936 г. посол США в СССР Уильям Буллит направил государственному секретарю Корделлу Халлу необычную депешу. Она содержала определенную информацию, которую Буллит назвал «некоторыми личными наблюдениями» за жизнью в Советском Союзе в период руководства И.В. Сталина. В документе политический климат был назван «резким», правительственные чиновники — «недоверчивыми и скрытными», точная информация — труднодоступной, цензура — «суровой», система тотального шпионажа — «широко распространенной и угнетающей», русская дипломатия — «искусной в умении создавать неприятности дипломату, тем не менее не оскорбляя его», а вся система — «неприветливой и тиранической»1. Согласно Буллиту, депеша представляла «точную картину жизни в России в 1936 году»2.
44
Необычным в депеше Буллита было не ее содержание, а тот факт, что в качестве своих наблюдений Буллит использовал личные наблюдения Нейла Смита Брауна, посланника Соединенных Штатов в России с 1850 по 1853 гг. В 1930-х годах Энгус Уорд, генеральный американский консул в СССР, обнаружил в Ленинграде депеши Брауна, находившиеся в груде мусора в здании, где в свое время в XIX веке размещалась миссия США. Джордж Кеннан, в тот момент работавший дипломатическим секретарем в посольстве США, прочел материалы и предложил их вниманию Буллита, написав черновой вариант документа, который посол позднее неправил госсекретарю Хэллу в качестве точного описания жизни в сталинской России3. Основная часть этого документа Кеннана-Буллита состоит из материалов, извлеченных из докладов, написанных Брауном в 1850-е годы.
То, что Нейл Смит Браун является автором докладов, которые могут рассматриваться как классический образец написания дипломатических посланий в истории русско-американских отношений, кажется таким же необычным, как и информация о позднее появившейся депеше Кеннана-Буллита.
Рожденный в 1810 году в округе Джайлс (штат Теннесси), Браун происходил из строгой пресвитерианской семьи мелких фермеров. В юности он работал на ферме и нерегулярно посещал школу. По собственным воспоминаниям Брауна, он начал жизнь «таким же бедняком, как и все в Теннесси», но нужда и амбициозность характера толкали его «подняться из темноты» и достичь известности4. Самостоятельно завершив свое образование, он в 1834 г. получил возможность заниматься юридической практикой, воевал с индейцами племени семинола в рядах теннессийских добровольцев в 1836 г. Дослужившись до звания сержант-майора (старшины), избирался в легислатуру штата с 1837 по 1847 гг., а в 1847 г. стал губернатором штата Теннесси. Браун, будучи непреклонным в своих убеждениях вигом-южа- нином, умелым оратором, помог победе генерала Зэкэри Тэйлора в Теннесси в 1848 г. Когда он проиграл перевыборы на пост губернатора в 1849 г., президент Тэйлор назначил его посланником Соединенных Штатов в России5.
В середине XIX века Соединенные Штаты остались единственной крупной страной в Западном полушарии, где пока не
45
существовало практики назначения на дипломатическую должность профессиональных дипломатов, и Браун был продуктом непрофессиональной системы назначений, где все исходило из принципов партийной принадлежности (Spoils System). В качестве единственного положительного свойства как дипломата, позволившего Брауну возглавить российскую миссию, были его заслуги перед партией вигов. У Брауна не было дипломатического опыта, достаточного воспитания и образования: он не знал ни русского, ни французского — языка русского двора. Более того, ограниченный в средствах, Браун собирался жить в светском обществе Санкт-Петербурга настолько скромно, насколько это только было возможно осуществить. Он даже не попытался взять с собой жену и кого-нибудь из своих восьмерых детей. Сам Браун писал, что, в безуспешной попытке убедить государственный департамент повысить его жалование, в экстравагантном Санкт-Петербурге он живет скромной жизнью, от которой он не может отказаться, поскольку не хочет оказаться банкротом. Содержание семьи, живи она вместе с ней, заняло бы «все жалование, и вероятно», превысило бы его6. Несмотря на эти затруднения, Браун достойно представлял свое правительство в России, снабжал его свежими, живыми и зачастую глубокими докладами.
По иронии судьбы миссия Брауна в России чуть не закончилась, едва начавшись. В первую суровую русскую зиму, сильно отличавшуюся от теннессийских, Браун заболел. Секретарь посольства Эдвард Райт писал своей матери: «Губернатор сильно болеет и, сказать по правде, очень страдает от климата»7. 18 января 1851 г. Браун попросил разрешения вернуться домой в Соединенные Штаты, поскольку его здоровье очень пострадало «от суровости этого негостеприимного климата» в регионе, «неприспособленном для проживания человека»; «закон самосохранения подтолкнул его просить разрешения прекратить свою миссию»8. После совещания с президентом Миллардом Филлмором 15 марта государственный секретарь Дэниел Уэбстер удовлетворил просьбу Брауна. Уэбстер, однако, добавил, что президент полагает, что «лица, назначенные на важные заграничные посты, должны оставаться на этих местах продолжительное время», поскольку дипломаты естественным образом становятся более квалифицированными от исполнения
46
своих обязанностей на протяжении длительного времени9. Тем временем Браун, здоровье которого «значительно улучшилось», пожелав выполнять «свой долг», отозвал прошение об отставке10. Филлмор и Уэбстер выразили свое удовлетворение решением Брауна и наградили его кратким отпуском в Лондон для встречи с семьей11.
Необходимо заметить, что Уэбстер и три других госсекретаря, при которых Браун выполнял свои обязанности, в свое время меньше заинтересовались его депешами, чем почти через столетие это сделали Кеннан и Буллит. Послания, которые Браун получал от Джона Клейтона, Дэниела Уэбстера, Эдварда Эверетта и Уильяма Л. Марси, были короткими и редкими. Однажды Браун пожаловался, что он больше чем за год ничего не получал из государственного департамента и что у него нет даже подтверждения о том, что десять его депеш дошли до места назначения. «Для государственного служащего очень важно, — многозначительно писал он, — далеко от родины, посреди разочарований, подстерегающих в России, получать время от времени одобрение департамента, под покровительством которого он работает, и знать, что его курс верен»12. В ответ Уильям Хантер, старший клерк государственного департамента, неубедительно объяснял, что, хотя депеши Брауна и были получены и прочтены «с вниманием и интересом», большая загруженность другими делами помешала «раньше подтвердить их получение»13.
Не просто безразличие объясняет невнимание государственного департамента к миссии Брауна. По словам Джона Льюиса Гэддиса, Россия была большой европейской державой, с которой Соединенные Штаты поддерживали «наиболее дружественные отношения» в девятнадцатом веке14. С момента установления дипломатических отношений в 1808 году, страны развивали взаимную дружбу. Хотя республиканская Америка и самодержавная Россия представляли идейно противоположные политические полюсы, ни одно из правительств не позволяло идеологическим разногласиям кардинальным образом определять их отношение друг к другу. К середине века между США и Россией установилась дружба, основанная на взаимовыгодной торговле, относительном отсутствии существенных разногласий и, кроме того, на осознании существова
47
ния общих стратегических противников15. Обе страны связывали свою политику с согласием, помогавшим им сдерживать Великобританию и Францию от того, чтобы угрожать собственным национальным интересам. Вероятно, лучше всего это сформулировал император Николай I, сообщивший одному из предшественников Брауна, что «не только наши интересы похожи, но и наши враги одинаковы»16. В то время как согласие между Россией и Америкой, по мнению Нормана Сола, в большей степени создавалось русскими государственными умами, чем «навыками американских дипломатов»17, такие политики, как Дэниел Уэбстер, поддерживали эти связи и призывали своих подчиненных укреплять сердечные добрососедские отношения между двумя странами18. Американское правило «не крепить то, что не ломается» («If it ain’t broke, don’t fix it») определяло очевидное безразличие начальников Брауна, поскольку Браун поехал в страну, где у него было мало дел и никаких серьезных проблем, требующих разрешения.
23 июля 1850 г. он прибыл к месту своего назначения в Россию периода правления Николая I, ставшего императором в 1825 г. и правившего страной до 1855 г. М.Т. Флоринский характеризует режим Николая I как «апогей абсолютизма», время, когда авторитаризм девятнадцатого века «достиг своего полного развития»19. Самодержавная идеология, по знаменитому выражению министра образования С.С. Уварова, включала «православие, самодержавие, народность», а государство было организовано как дисциплинированное армейское подразделение20. Жесткий консерватор, не доверявший массам, Николай I утвердил в стране «произвольный, душный и деспотичный полицейский режим, стремившийся регламентировать жизнь людей до мельчайших деталей»21. Третье отделение, большая и реакционная государственная полиция были теми главными средствами, с помощью которых Николай I укреплял свою личную власть. Цензура в годы руководства этим ведомством Уварова приобрела черты известной суровости. Множество цензоров определяли, что может, а что не может быть напечатано в России и даже контролировали содержание лекций профессоров Санкт-Петербургского университета. Царь был личным цензором великого поэта Александра Пушкина. Николай I осуществлял полный контроль над русской внешней политикой, и граф Карл Нессель
48
роде, будучи с 1814 по 1856 гг. министром иностранных дел, преданно выполнял желания императора. Эти желания включали догматичное противодействие всему тому, что было связано с демократией, либерализмом и самоопределением, за которое так боролись участники европейских револю ций 1848 г.
Браун смотрел на николаевскую Россию глазами консервативного южного вига, преданного принципам республиканского правления и невмешательства в дела зарубежных государств. Он верил в идеи демократии и самоопределения, поддерживал сферу народного образования во времена своего губернаторства в Теннесси. Однако как противник президента Э. Джексона Браун также ценил фактор стабильности существования общества, основанного на законе и порядке. Как и у Дэниела Уэбстера, девизом Брауна были «союз и свобода». 18 сентября 1850 г., озабоченный внутриполитической схваткой по вопросу о рабстве, Браун попросил, в случае если усиление кризиса «потребует применения военной силы государства», немедленно отозвать его, чтобы он смог внести свой вклад в дело поддержания единства Союза»22. Когда же вопрос касался сферы внешней политики, Браун всегда оказывался сторонником невмешательства, поскольку искренне надеялся: «Ничто не искусит нас вмешаться любым образом в дела Европы». «Европа, — настойчиво писал Браун, — не наше поле битвы и не наша судьба»23. Он радовался, что Атлантический океан отделяет Соединенные Штаты от гноящихся европейских беспорядков, поскольку вовлечение в политику баланса сил на этом континенте фатально повредит «американскому миру и процветанию»24.
Что касается официальных дел, то история миссии Брауна в России не была насыщена особыми событиями. Так, например, несколько раз он докладывал в государственный департамент, что ему «вообще нечего сообщать»25. Повестка дня Брауна исчерпывалась приглашением русских присоединиться к договору Клейтона—Булвера 1850 г., защитой и помощью американской торговле с Россией, оценкой влияния событий в Соединенных Штатах на русскую политику, сообщениями о беспокойных отношениях России с Турцией, информацией об экспедиции адмирала Е. Путятина в Японию, решением случайных проблем, как, например, с двумя американскими тор
49
говыми моряками, покинувшими свое судно в Сибири, и, наконец, поддержанием сердечных отношений с русским правительством. Во всех отношениях русские выказали готовность к сотрудничеству. Они выразили свое согласие с англо-американским договором по Центральной Америке26, не дали хода ожидаемому увеличению пошлин на американский хлопок27, отменили платежи, наложенные на американских торговцев в Риге28, позволили двум морякам вернуться в Соединенные Штаты29. Кроме того, как сообщил Браун в Вашингтон, Нессельроде лично его уверил, что Путятин не имеет цели помешать экспедиции командора Мэтью Перри в Японию30. Браун постоянно отмечал, что в каждом случае, когда ему «случалось просить русское правительство» за американцев или их интересы, его просьбы «свободно и быстро удовлетворялись»31.
Парадоксально, но самая потенциально опасная проблема русско-американских отношений не стала предметом официальной переписки между двумя правительствами. В 1849 г. Австрия с помощью русской армии подавила революцию в Венгрии под руководством Лайоша Кошута. Реакцией на публичные выступления в поддержку венгров, а также посылку секретного агента с целью выяснения, способны ли венгры удержать свою независимость, было обвинение американцев во вмешательстве в австрийские внутренние дела, выдвинутое 30 сентября 1850 г. поверенным в делах Австрии в Вашингтоне Иоганном Георгом Хюльземанном. В ответ на это 21 декабря1850 г. государственный секретарь США Дэниел Уэбстер написал свое знаменитое «письмо Хюльземанну», в котором он защищал свободу слова, право правительства Соединенных Штатов поддерживать принцип самоопределения и заносчиво противопоставлял американское величие незначительности Австрийской империи32. Что касается России, то Уэбстер специально оговорил, что он не хочет обидеть дружественную страну, и подтвердил приверженность Америки традиционной политике невмешательства в дела европейских государств33.
В 1851 г. Уэбстер убедил турецкое правительство разрешить Кошуту и другим венгерским беженцам принять предложение приехать в Соединенные Штаты. Прибытие Кошута в Нью-Йорк вызвало появление своеобразной «эпидемии мадьяромании». Вместо того чтобы искать тихого убежища, пламенный венгерс
50
кий революционер вскоре отправился в поездку по стране, обвиняя Австрию и Россию и призывая оказать экономическую и военную помощь, чтобы вновь разжечь венгерскую войну за независимость. В это время так называемые демократы «молодой Америки» — Льюис Кэсс и Стефен А. Даглас — извлекали политическую выгоду из поднятых Кошутом страстей, критикуя администрацию Филлмора за недостаточно горячую поддержку дела свободы в Европе. Уэбстер же решил перехватить инициативу и на банкете, организованном конгрессом в честь приезда Л. Кошута 7 января 1852, произнес достаточно неосторожную в политическом плане речь, завершив свое горячее выступление в пользу самоопределяющихся стран тостом «за венгерскую независимость»34. Уэбстеровская манипуляция внешнеполитическими вопросами с внутриполитическими целями не только привела к разрыву австро-американских отношений, но также обидела и российское правительство. Важно, однако, помнить, что Уэбстер всегда настаивал на том, что администрация Филлмора не собирается отходить от соблюдения тактики невмешательства. Он также смягчил свои немногие высказывания о России признаниями в дружбе и напоминанием, что ни одна страна никогда не требовала от другой согласиться с ее «взглядами на предметы внутренней или внешней политики»35.
Тем не менее использование Уэбстером внешней политики для внутренних политических нужд осложнило миссию Нейла Брауна. После получения копии «письма Хюльземанну» он немедленно сообщил Уэбстеру, что оно никогда не будет опубликовано в России36. Он также доложил, что освобождение в Турции Кошута «обидело как Австрию, так и Россию». Хотя Браун не думал, что Россия формально будет протестовать против той роли, которую Соединенные Штаты заняли в деле освобождения лидера венгерских революционеров, он не колеблясь высказал свое мнение, что правительство Соединенных Штатов не имеет ничего общего с радикалами вроде Кошута. Яростная риторика Кошута сделала его «кумиром якобинских групп» и возбудила «красных республиканцев, коммунистов и социалистов». Он посоветовал администрации Филлмора использовать свое влияние, чтобы приглушить дифирамбы в адрес венгерского революционера в Соединенных Штатах, так как «настоящих консерваторов», ценящих свободу и обществен
51
ный порядок, может только отпугнуть радикализм Кошута37.Теплый прием, оказанный венгру в Соединенных Шта
тах, и неконтролируемые публичные инвективы политического изгнанника в адрес Австрии и России основательно беспокоили Брауна. «Царь Николай I, — докладывал он, — был очень раздражен речами Кошута». Позднее Браун стал констатировать «определенное похолодание» в отношении русского правительства к США. Пока Кошут громко призывал к интервенции против Австрии и России, Браун в любой момент ожидал получения формального протеста российской стороны. Стараясь хоть как-то загладить состояние возникшего конфликта, он, касаясь вопросов внешнеполитического курса США, выражал «искреннюю надежду, что ничто не побудит нас вмешаться любым образом в дела Европы», поскольку такое поведение может толкнуть Соединенные Штаты на «путь проблем». Миссия Америки состоит в том, чтобы влиять на мир своим благотворным примером, который будет «заразительным до тех пор, пока он останется только примером». Однако, если Соединенные Штаты, «как Магомет», поднимут «меч пропаганды», эта «привлекательность разрушится»38.
Несмотря на то что Уэбстер разделял консервативные взгляды Брауна и не имел намерений действительно нарушать политику невмешательства, он, пользуясь метафорой Брауна, все-таки поднял «меч пропаганды» на том банкете в честь Кошута. Однако опасения Брауна по поводу русской реакции на политически необдуманную речь Уэбстера вскоре рассеялись. В феврале 1852 г. он доложил, что, хотя до сих пор ощущается «зима во дворце» («some winter about the Palace»), он больше не опасается разрыва русско-американских отношений. Исходя из своих наблюдений, сделанных в ходе двух приемов у Николая I, он заключил, что вопрос о Кошуте будет рассматриваться «молча»39. К маю 1852 г. Браун смог окончательно доложить, что «не осталось ничего ощутимого, что давало бы повод для беспокойства»40.
Хотя Браун сначала думал, что Россия «слит к ом отдалена от США, чтобы представлять военную угрозу», а ограниченный доступ страны к морю означал, что она не станет серьезным соперником в торговле41, российский абсолютизм, в совокупности с набиравшим тогда силу движением «молодой Аме
52
рики» и «кошутоманией» в Соединенных Штатах, заставил его пересмотреть перспективы. Россия и Америка, писал Браун в геополитическом анализе, датированном 27 мая 1852 г., представляют собой два конфликтующих «элемента силы». Хотя он не видел непосредственной угрозы конфликта между двумя странами, его серьезно волновала долговременная перспектива развития русско-американских отношений. Николай I сформировал коалицию с Австрией и Пруссией, основанную на «принципах абсолютизма». Эта «непобедимая» комбинация успешно установила «железное правление» над континентальной Европой и подавляла там все тенденции к созданию конституционных демократических правительств. В то время, когда Россия поддерживала деспотизм, а Соединенные Штаты рассматривались как «великая фабрика либеральных и революционных принципов», когда европейские иммигранты, враждебные к собственным правительствам, стекались в Америку, продолжая строить планы революционным путем реформировать жизнь на своей родине, когда обе страны быстро увеличивали свою силу и влияние, когда паровой двигатель уменьшил барьеры времени и расстояния, те, кто считал, будто Соединенные Штаты смогут долго избегать «проблем с Европой», «больше верят в будущее», сильно ошибались в своих прогнозах. В соответствии с тем, что Соединенные Штаты не могут рассчитывать на помощь своего коммерческого соперника Британии, Браун советовал своему руководству готовиться к будущему, создавая военно-морской флот, «соответствующий возможностям других нанести нам ущерб». «Соединенные Штаты», заключал Браун, стали «главным, если не единственным антагонистом» русского абсолютизма42.
В своем письме от 27 января 1853 г. с прошением об отставке Браун сделал несколько заключительных комментариев по поводу русско-американских отношений. «По сравнению с Россией, — писал он, — Соединенные Штаты находятся в самой благоприятной ситуации: они отделены от Европы “обширным океаном”» и их, в отличие от России, «не сдерживает никакой баланс сил». Он бы хотел, чтобы эта ситуация сохранялась как можно дольше, поскольку был уверен, что американское вмешательство в политику европейских держав «было бы началом серии катастроф, результата которых не способна предвидеть
53
человеческая мудрость». В 1853 г. русские все еще смотрели на американцев больше с «восхищением, чем с ревностью», но оставалось неясным, что принесут «время и увеличивающиеся возможности продолжения отношений». Касаясь текущего момента, Браун полагал, что, несмотря на полностью противоположную философию двух правительств, вежливые манеры и дипломатическое искусство могут достичь многого «в сохранении доброй воли» важной и сильной страны43.
Не получив осложнений из-за уэбстеровских манипуляций внешней политикой и не обремененный официальными делами, Браун мог посвятить себя бесконечным балам, частным приемам и вечеринкам в высшем свете Санкт-Петербурга. Такой путь избрал секретарь его представительства Эдвард Райт (E. Wright). Недавний выпускник колледжа Нью-Джерси, Райт был обязан назначением на эту должность своему отцу Уильяму Райту, богатому и влиятельному лидеру партии вигов в Нью-Джерси. В письмах Эдварда Райта из Санкт-Петербурга матери и сестре содержатся многочисленные описания больших балов и приемов, где он проводил свое время почти до самого утра. По сравнению с «этим кладбищем», как молодой секретарь называл Ньюарк, Санкт-Петербург был «раем на земле». Вскоре Райт страстно увлекся и поддался великолепию расточительного санкт-петербургского общества44. В противоположность увлечениям секретаря посольства, Браун, по словам Райта, высокомерно презирал званые обеды, балы и оперу, считая их «ничем более, как модным капризом»45. Продолжая свои наблюдения о жизни посольства, Райт характеризовал Брауна как деревенщину, человека «без всякого вкуса к элегантным развлечениям городской жизни»46. Наш «мрачный вождь», сообщал Райт, выглядит ужасно и дико при блестящем дворе Николая I47. Не замечая этого, Браун не скрывал своего неодобрительного отношения ко всякого рода внешним различиям и светской показухе («dod-dured»)48. В этой связи Райт жаловался, что, поскольку Браун сам не может избежать присутствия на многих церемониальных приемах, устраиваемых российским правительством по официальным поводам, он твердо отклоняет все приглашения на частные общественные собрания, ограничивая, таким образом, возможности Райта насладиться «светской» русской жизнью49.
54
Более того, оставив жену в Соединенных Штатах и ограниченный в средствах, Браун был настолько бережлив, что никогда не устраивал обеды в своем представительстве. Для того чтобы иметь возможность пользоваться лошадью и каретой, Райт даже был вынужден сам оплачивать половину своих расходов. Согласно Райту, большинство иностранных дипломатов привезли своих жен, жили «светской жизнью» и много развлекались и, следовательно, «гораздо больше привлекали внимание местных жителей». «В общем, — сокрушался молодой секретарь посольства, — не было другого такого представительства, так слабо финансировавшегося"50. Несмотря на это, Райт, обслуживаемый черным слугой, находил-таки свободное время для посещения больших балов или частных приемов, хотя и уверял свою мать, что «денег у него достаточно» и он их не тратит на русский порок игры51. Хотя Райт и считал Брауна «постоянной неприятностью и разочарованием», он был благодарен тому хотя бы за то, что «здесь нет миссис Браун», иронично указывая:«Если этот “дикий цветок” Запада появится здесь, я исчезну»52.
Не имея ни возможностей, ни особого желания вести расточительный образ жизни, который так был свойственен большинству представителей русской аристократии, перегруженный официальными обязанностями, Браун был неутомим в работе и одинок в своей жизни в России. Однажды, как написал Райт, Браун сказал ему, что, на его взгляд, ему нечего делать в Санкт-Петербурге53. Чтобы занять огромное количество свободного времени, Браун решил предпринять систематическое изучение деятельности правительства Николая I. С 7 августа 1850 г. по 25 июня 1853 г. Браун отправил тридцать пять депеш в государственный департамент. И хотя многие из его посланий содержали лишь разрозненные наблюдения над природой русского общества, в некоторых предмету уделялось серьезное внимание. Наиболее важными из них были послания № 12 от 6 ноября 1851 г., № 15 от 28 января 1852 г., № 20 от 27 мая1852 г. и № 26 от 27 января 1853 г. Главными темами, проанализированными Брауном, были отсталость русского общества, авторитаризм природы российского правительства и искусность русской дипломатии.
6 ноября 1851 г. Браун комментировал трудности, кото
55
рые испытывали иностранцы, в том числе и американцы, при получении визы для путешествия по России. Браун связывал это со страхом российских властей перед «иностранным влиянием на умы народа». Принимая во внимание зависимость России от западных знаний и технологии, он считал российскую ксенофобию близорукой. «Россия, — писал он, — не может гордиться ни одним изобретением в механике, которое бы не было бы скопировано в Европе, ни единой книгой, которая стала бы признанным учебником». «Все, что у них есть, заимствовано, — иронично отмечал Браун, — за исключением их ужасного климата». Их лучшие суда построены в Британии или Соединенных Штатах, их железные дороги зависят от заимствованного капитала и иностранной технологии. «Ни одна нация, — заключает он, — не имеет большей нужды в иностранцах, и ни одна не относится к ним так ревниво или неблагодарно». Браун, однако, отметил, что его наблюдения гораздо меньше относятся к американцам, чем к другим народам. Несмотря на свои «республиканские» принципы, американцев в России ценят за их искусность в механике и за то, что они, как известно, «не занимаются пропагандой»54. С 1840-х гг. такие американцы, как Джордж Вашингтон Уистлер и Джозеф Гаррисон, руководили строительством железной дороги Санкт-Пе- тербург—Москва, законченным в 1851 г. Браун был информирован об устойчивости позиций своих сограждан в деле получения контрактов от русского правительства55.
В своей депеше от 28 января 1852 г. Браун сосредоточился на критике авторитарной природы русского правительства. Не имея конкретных доказательств, Браун считал, что он, как и другие иностранные дипломаты, «постоянно подвержен систематической слежке», не доверяет даже своим домашним слугам56. Ранее, осенью 1851 г., он запросил у государственного департамента шифр, считая, что ничто не может быть безопасно отправлено по русской почте57. Позже, в одной из последних депеш, Браун сообщил вновь назначенному государственному секретарю Уильяму Л. Марси, что он не может рисковать, посылая «по почте что-нибудь», что он не хотел бы, чтобы было прочитано русскими властями58. Более того, методы контрразведки российской тайной полиции были «далеки от того, чтобы быть приятными», и, по мнению Брауна, отлича
56
лись «чрезвычайной надоедливостью и заметностью»59.Браун был также раздражен «секретностью» и «тайной»,
характеризующей «все вся вокруг»60. Он жаловался на то, что в России практически невозможно получить достоверную информацию о ней же самой. Невозможно найти двух человек, согласных между собой в оценке «силы армии и флота», годового дохода государства или «величины государственного долга», потому что правительство желает сохранять эту важнейшую статистику в тайне61. С точки зрения дипломата, одной из «наиболее неприятных черт» России была ее «секретность, которой все было окружено». Разочарованный Браун заключил, что проблема всего этого, вероятно, коренится в русской ментальности, особенно это касается чиновников, «изначально воспитанных на недоверии чужакам»62. Браун также сделал интересное наблюдение за особенностями мессианства в славянофильской философии, связав его возникновение скорее с «загадкой», чем с секретом России. Продолжая свои наблюдения, он отмечал, что «странный, проповедующийся даже в церквях» предрассудок распространен среди русских. Его суть состоит якобы в том, как пишет Браун, что судьба России — завоевать мир. Браун считал, что фаталистическая уверенность русских в истинности своей «божественной миссии» вносит определенный вклад в «удивительное терпение и выносливость» русского солдата «в условиях величайших лишений»63.
Русская цензура раздражала Брауна даже больше, чем постоянная слежка и засекреченность. Так, 8 февраля 1851 г. он кратко проинформировал Уэбстера, что царские цензоры никогда не позволят опубликовать в России его «письмо Хюльзе- манну»64. В депеше госсекретарю Эверетту от 27 января 1853 г. Браун охарактеризовал «ненавистную» цензуру как глубокую и капризную. Она вносит свой вклад в невозможность получения из открытых источников надежной информации о чем-либо, имеющем отношение к государственному доходу, расходам, военной мощи или «любому предмету, имеющему политическое значение». Для Брауна цензура и русская мания секретности представляла «наиболее неприятную часть русской тирании»65.
С самого начала своего пребывания в России Браун был энергичным исследователем тиранической природы российского правительства. Осенью 1850 г. в своем письме Эдварду Райту
57
он заметил, что Санкт-Петербург — это «живой труп» («a dead alive place»). Сама атмосфера столицы империи подавляла его. Даже птицы, шутливо замечал он, не пели, «боясь, вероятно, что их может арестовать полиция»66. Хотя Райт и критиковал Брауна за то, что тот был «совершенным рабом своих теннес- сийских предрассудков», тем не менее он тоже обратил внимание на чрезмерное обилие солдат и полицейских в Санкт-Петербурге. «По переполненным улицам люди двигались молча. Здесь, — писал Райт, — нет ни шума, ни гула деловой жизни, ни смеха, ни сердечного приветствия. Каждого как будто ведет невидимая сила, и все движется бесшумно с точностью парового двигателя»67.
Движущей силой государственного механизма России, в понимании Райта и Брауна, был Николай I. Райт, оценивая Николая I как «идеал императора», надеялся, что русский царь ради своего народа проживет еще много лет. Простые люди, согласно Райту, обожали своего прямого и милостивого царя. По мнению секретаря посольства, Николай I обладал редкостным характером, поскольку, как считал американец, он, облеченный абсолютной властью, никогда ею не злоупотреблял. Продолжая свою мысль, молодой секретарь посольства обвинял в жестокостях, о которых он знал понаслышке, не царя, а его подчиненных68.
Мнение Брауна о русском царе было менее поверхностным и более сложным, чем мнение его секретаря. Так, во время вручения верительных грамот Николаю I 13 августа 1850 г. на Брауна произвел впечатление «энергичный и хорошо воспитанный император», кажется, руководивший Россией «с бесшумностью и точностью хронометра»69. Более того, во время пребывания Брауна в России Николай I казался сердечным и дружелюбным к Соединенным Штатам. Браун, однако, оценивал царя как современный вариант Филиппа Македонского — военного тирана и «грозного противника народа», ведомого «враждебностью к свободным установлениям, не признающей компромиссов и никогда не ослабевающей»70. Тем не менее, по мнению Брауна, он был более последователен в своей политике и не притворялся. «Правительство России, — писал Браун,— не обещает свободу и не дает ее»71.
С другой стороны, Брауна восхищали некоторые сторо
58
ны характера Николая I: его мастерство во владении ситуацией, в видении проблем в такой огромной стране. Царь, по словам Брауна, сам гордился своей верностью слову. Если он обещал что-то, это всегда будет выполнено «во что бы то ни стало»72. Николай I всегда относился к Брауну с уважением и удовлетворял все представления, направленные им. Так, на приеме в Зимнем дворце царь, заметив бледность Брауна, осведомился о его здоровье, заметив после этого, что, вероятно, большой бал может быть скучен для американского посланника, поскольку очень немногие при дворе говорят по- английски73. Во время своей последней аудиенции у НиколаяI 23 июня 1852 г. Браун нашел царя «чрезвычайно приветливым и очень общительным». Как замечает посланник, император был особенно «настойчив в своих признаниях в дружбе к Соединенным Штатам», что заставило поверить Брауна в искренность чувств русского царя74. Браун также оценил ответственность, с которой Николай I управлял огромной империей, «буквально загроможденной бюро и конторами, перешедшими пределы, не поддающимися подсчетам быстрой и точной инспекции». Он сомневался, есть ли на земле правитель, «задача которого сложнее, чем у главы Российской им- перии»75.
Браун был высокого мнения о русской дипломатии, которую он характеризовал как «удивительно проницательную и неистощимую на уловки»76. Несмотря на свою непреклонную враждебность к демократическим институтам и правительствам, русские чиновники отличались особой учтивостью. Более того, как усвоил Браун во время обострения отношений по поводу проблемы Лайоша Кошута, русское правительство в превосходной степени владело «искусством беспокоить иностранного представителя, не давая ему даже утешиться обидой»77. Несмотря на ограниченность числа проблем, которые необходимо было решать с властями, «быть посланником в России», как писал Браун в своей последней депеше, «тяжелая работа»78.
Узнав о победе на выборах 1852 г. демократа Франклина Пирса, Браун бодро воспринял тот факт, что он вскоре будет сменен на своем посту, поэтому сам немедленно предложил свою отставку. При этом он воспользовался возможностью предложить рекомендации, какого рода «квалификация и опыт»
59
были бы наиболее полезны американскому посланнику в России. Он сделал это не в «официальном духе», а искренне признал, что нарисовал портрет, которому сам «не соответствовал». На личном опыте Браун убедился в том, что для посланника в России, как и в любой другой стране, просто необходимы достойное образование, знание иностранных языков (в особенности французского), дипломатического этикета. В противном случае дипломат будет «ограничен и затруднен» в своем общении с чиновниками79. Поскольку французский, по словам Райта, был для Брауна «египетскими иероглифами», секретарь был вынужден находиться постоянно возле посланника в ситуации, когда к нему обращались собеседники. Это, в свою очередь, приводило ко множеству неловких и щекотливых ситуаций80.
В дополнение к знанию французского, Браун считал, что американский посланник в России должен быть человеком с солидной репутацией, добившимся славы на поле брани, поскольку Россия, в понимании американского дипломата, была страной с «огромной военной силой и военным духом», и американский посланник с выдающимся военным опытом мог бы приобрести уважение у военных, окружавших императора. Так как американский посланник должен быть также вежливым человеком, искушенным в дипломатии, Браун подчеркивал, что знание французского и военная слава были наиболее важными условиями для установления нормальных отношений с «гордым и надменным двором»81.
При анализе деятельности Брауна невольно возникает вопрос, какой внутренней интуицией, политическим чутьем обладал этот человек, не понимавший ни слова по-французски, обладавший весьма скромной военной репутацией, раз ему принадлежит авторство депеш, столь высоко оцененных учеными, признавшими их образцом составления дипломатических докладов82. Более того, по оценке Дж.О. Бейлина, осторожное поведение Брауна и его консервативные взгляды помогли смягчить безответственный джингоизм Д. Уэбстера и демократов «молодой Америки» в «деликатный» период развития русско-американских отношений83. Нейл Браун оставил потомкам дипломатическую корреспонденцию, до сих пор заслуживающую прочтения, свидетельствующую о том, что он достойно служил интересам своей страны на посту американского посланника в России.
60
Несмотря на множество недостатков, Нейл Браун был человеком долга, о чем свидетельствует его решение остаться на своем посту, который он считал неприятным и вредным для своего здоровья. Имея немного официальных дел, вдалеке от родных и близких, общение с которыми, вероятно, скрашивало бы томительное пребывание в чужой стране, не желая тратить время на пустые светские увеселения, Браун сосредоточил всю свою энергию на стремлении понять на примере анализа эпохи правления Николая I сущность и историческую миссию России. Более того, сравнивая Россию и Америку, американский дипломат, не колеблясь, критиковал свое собственное правительство за поведение, которое он считал противоречащим национальным интересам, приводя в качестве примера неоправданное заявление против России и Австро-Венгрии, прозвучавшее в застольной речи Уэбстера на приеме в честь Л. Кошута.
Историческое значение посланий Брауна — в удивительных параллелях между Россией эпохи Николая I и Россией эпохи Сталина. По словам посла Буллита, урок, который можно извлечь из депеш Брауна, заключается в «plus change, plus c ’est la meme chose»84. Если 1850-е гг. были апогеем абсолютизма, то середину 1930-х годов, по словам Джорджа Кеннана, можно было назвать «сталинизмом в апогее его ужаса»85. В отличие от Брауна, Кеннан говорил и по-французски, и по-русски, привез семью в Москву и даже нашел «крайний холод» русской зимы «здоровым и бодрящим»86. Однако, так же как и Браун, он понимал, что окружен «вниманием» советских спецслужб, и был вынужден иметь дело со скрытными чиновниками-ксенофобами, чрезвычайно опасавшимися «возможного эффекта иностранного влияния на умы народа»87. Как и Браун, Кеннан также критиковал неистребимое желание различных американских политических лидеров делать заявления безответственного характера в надежде на то, что это ли т ь для внутреннего пользования, без учета того, как это может отразиться на характере внешнеполитических отношений США с другими странами88. Джордж Кеннан и Нейл Браун близки также в том, что разделили опыт написания дипломатических отчетов «без аудитории, во всяком случае, без ответной реакции»89.
Завершая исследование одной из страниц в истории дипломатических отношений США и России, нельзя не удивиться тому
61
факту, что хотя примерно восемьдесят лет отделяют друг от друга миссии Нейла Брауна и Джорджа Кеннана, некоторые черты, подмеченные дипломатами в свое время как в России, так и в Соединенных Штатах, существуют до сих пор, продолжая оказывать заметное влияние на ход и характер развития дипломатических отношений между обоими государствами.
Перевод с английского И.И. Куриллы
П РИ М ЕЧАН И Я
1. № 1436. Буллит — Хэллу. Москва. 4 марта 1936 г. / / Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers: The Soviet Union, 1933—1939. Washington (D.C.). 1952. P. 289.
2. Ibid. P. 289—291.3. Джордж Кеннан — автору. 7 августа 1978 г.4. Worth L. C. Neill Smith Brown / / Dictionary of American
Biography / Ed. Allen Johnson. N. Y. , 1929. P. 147—148.5. Baylen J. O. A Tennessee Politician in Imperial Russia, 1850—
1853 / / Tennessee Historical Quarterly. 1955. Vol. 14. P. 228—231.6. № 13. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 8 декабря
1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
7. Wright E.H. Letters from St.Petersburg, 1850—1851 / / Proceedings of the New Jersey Historical Society. 1964. Vol. 82. P. 165.
8. № 6. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 18 января1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
9. № 6. Уэбстер — Брауну. Вашингтон. 18 марта 1851 г. / / Diplomatic Instructions o f the Department of State, Russia. National Archives. Washington (D.C.).
10 № 9. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 8марта 1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
11. № 8. Уэбстер — Брауну. Вашингтон. 30 апреля 1851 г. / / Diplomatic Instructions o f the Department of State, Russia. National Archives. Washington (D.C.).
12. № 20. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 27 мая 1852 г.
62
/ / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
13. № 11. Хантер — Брауну. Вашингтон. 7 июля 1852 г. / / Diplomatic Instructions o f the Department of State, Russia. National Archives. Washington (D.C.).
14. Gaddis. Russia, the Soviet Union, and the United States: An Interpretive History. N. Y. , 1978. P. 1.
15. Saul N.E. Distant Friends: the United States and Russia, 1763— 1867. Lawrence, 1991. P. 164—168.
16. Цит. по: Graebner N.A. Northern Diplomacy and European Neutrality / / Why the North Won the Civil War / Ed. by David Donald. N. Y. , 1962. P. 58.
17. Saul N.E. Distant Friends. P. 168.18. См: The Papers of Daniel Webster: Diplomatic Papers /
Shewmaker K.E., ed. 2 vols. Hanover: NH, 1983—1987. Vol. 1. P. 233, 237—239; Vol. 2. P. 171—173.
19. Florinsky M. T. Russia: A History and an Interpretation. 2 vols. N. Y. , 1960. Vol. 2. P. 753.
20. Ibid. P. 754.21. Ibid. P. 755.22. № 3. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 18 сентября
1850 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
23. № 15. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 28 января1852 г. / / The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 177.
24. № 26. Браун — Эдварду Эверетту. Санкт-Петербург. 27 января 1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
25. № 12. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 6 ноября1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D. C.); см. также: № 25. Браун— Эверетту. Санкт-Петербург. 31 декабря 1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
26. См.: № 5. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 3 декабря1850 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
27. Ibid.28. № 21. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 16 июня
63
1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
29. № 19. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 12мая 1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
30. № 27. Браун — Эверетту. Санкт-Петербург. 2 7 января1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
31. № 19. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 12мая 1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.); см. также: № 26. Браун — Эверетту. Санкт- Петербург. 27 января 1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
32. «Письмо Хюльземанну» см.: The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 49—61.
33. Ibid. P. 60.34. См.: Ibid. P. 37—41, 97—105; см. также: Shewmaker K.E.
Daniel Webster and the Politics o f Foreign Policy, 1850—1852 / / The Journal o f American History. 1976. Vol. 63. P. 303—315.
35. The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 60.
36. № 7. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 8 февраля1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
37. № 12. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 6 ноября1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
38. № 15. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 28 января1852 г. / / The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 174—177.
39. № 16. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 29 февраля1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
40. № 20. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 27 мая 1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
41. № 2. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 16 августа1850 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
64
42. № 20. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 27 мая 1852 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
43. № 26. Браун — Эверетту. Санкт-Петербург. 2 7 января1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
44. Wright E.H. Letters from St. Petersburg. P. 77, 269.45. Ibid. P. 78.46. Ibid. P. 77—78.47. Ibid. P. 249, 259.48. Цит. по: Ibid. P. 155.49. Ibid. P. 91.50. Ibid. P. 100.51. Ibid. P. 169.52. Ibid. P. 268—269.53. Ibid. P. 77—78.54. № 12. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 6 ноября
1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
55. Об устойчивых позициях американцев в России см.: Saul N.E. Distant Friends. P. 137—143, 184.
56. № 15. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 28 января1852 г. / / The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 175.
57. № 11. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 30 сентября1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
58. № 33. Браун— Марси. Санкт-Петербург. 20 июня 1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
59. № 15. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 28 января1852 г. / / The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 175.
60. Ibidem.61. Ibidem.62. № 26. Браун — Эверетту. Санкт-Петербург. 2 7 января
1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
63. № 15. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 28 января
65
1852 г. / / The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 176.
64. № 7. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 8 февраля1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
65. № 26. Браун — Эверетту. Санкт-Петербург. 2 7 января1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
66. Wright E.H. Letters from St.Petersburg. P. 78.67. Ibidem.68. Ibid. P. 87, 156.69. № 2. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 16 августа
1850 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
70. № 15. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 28 января1852 г. / / The Papers o f Daniel Webster: Diplomatic Papers. Vol. 2. P. 176.
71. № 12. Браун — Уэбстеру. Санкт-Петербург. 6 ноября1851 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
72. Ibid.73. Wright E.H. Letters from St. Petersburg. P. 267.74. № 34. Браун— Марси. Санкт-Петербург. 25 июня 1853 г.
/ / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
75. № 28. Браун — государственному секретарю. Санкт- Петербург. 24 февраля 1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
76. Ibid.77. № 20. Браун— Уэбстеру. Санкт-Петербург. 27 мая 1852 г.
/ / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
78. № 34 Браун— Марси. Санкт-Петербург. 25 июня 1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
79. № 26. Браун — Эверетту. Санкт-Петербург. 2 7 января1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
80. Wright E.H. Letters from St. Petersburg. P. 158.
66
81. № 26. Браун — Эверетту. Санкт-Петербург. 2 7 января1853 г. / / Despatches from United States Ministers to Russia. National Archives. Washington (D.C.).
82. Высокую оценку депеш Брауна см.: Baylen J. O. A Tennessee Politician in Imperial Russia. P. 232; Saul N.E. Distant Friends. P. 170.
83. Ibid. P. 230—231.84. «Чем больше это меняется, тем больше это одно и то
же» (в пер. с фр. — И.К.) (№ 1436. Буллит — Хэллу. Москва. 4 марта 1936 г. / / Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers: The Soviet Union. P. 289).
85. Kennan G.F. Memoirs, 1925—1950. Boston and Toronto, 1967. P. 70.
86. Ibid. P. 59.87. Ibid. P. 69—74.88. Ibid. P. 53—54, 57.89. Ibid. P. 93.
А.Л. Анисимов
БОРЬБА РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ ПРОТИВ ПОПЫТОК АНГЛИИ И ФРАНЦИИ
ВТЯНУТЬ США В АНТИЦИНСКИЙ СОЮЗ В ПЕРИОД ВТОРОЙ “ОПИУМНОЙ” ВОЙНЫ
(1856-1859)
Период “опиумных” войн довольно подробно изучен зарубежными и отечественными историками, но есть ряд аспектов, которые ранее не рассматривались исследователями. К ним относится и роль российской дипломатии в предотвращении создания единого фронта западных держав против Цинской империи. Кроме того, ряд исследователей, в первую очередь, из КНР, полагают, что в период Англо-франко-китайской войны Россия объединилась с Англией, Францией и США, чтобы вторгнуться в Китай1.
В связи с этим существует необходимость показать, как на самом деле относился Петербург к этой войне, к идее единого
67
фронта западных держав, направленного против Срединной империи, какую роль сыграла российская дипломатия в срыве попыток Лондона и Парижа создать такой фронт и в сохранении нейтралитета США.
В результате первой “опиумной” войны Великобритания сумела добиться открытия для своей торговли лишь пяти китайских портов, но вскоре это перестало удовлетворять английскую торгово-промышленную буржуазию, которая начинает оказывать все возрастающее давление на правительство с тем, чтобы оно мирным или вооруженным путем добилось от Цинской империи новых уступок. Уже в 1850 г. министр иностранных дел Англии Г. Палмерстон приходит к выводу о неизбежности новой войны с Китаем2.
Перспектива установления контроля Великобритании над Китаем вызывала обоснованную тревогу у государственных деятелей и дипломатов России. Например, генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев в конфиденциальной записке, представленной царю Николаю I в конце 1853 г., писал, что под влиянием и руководством англичан и французов Китай может стать опасным для России, что приведет к потери Сибири3 .
Назревание политического кризиса в Европе и война с Россией отвлекли на время внимание Великобритании от Китая, но уже в конце 1856 г. в Петербурге получили сообщение из Парижа, что английское правительство готовится отправить в китайские воды сильную эскадру и в Китае Англия будет действовать вместе с Францией4, которая опасалась усиления позиции Цинской империи.
Начало военных действий и перспектива захвата Пекина англо-французскими войсками вызвали беспокойство русского правительства. Директор Азиатского департамента МИД Е.П. Ковалевский в своих “Соображениях по китайскому вопросу”, одобренных государственным канцлером А.М. Горчаковым, писал Александру II, что присутствие европейских войск в Пекине и “влияние, которое они могут иметь на китайское правительство, конечно, будут неблагоприятны для... <российских> дел на Амуре”, а интересы Российской империи “слишком отличны от интересов других европейских держав”, и в политическом отношении для России, не имевшей никакого
68
повода к вражде с Китаем, “соединиться с врагами Китая ... было бы ... не совместно ... Остается мирными переговорами разрешить возникшие вопросы с Китаем”. Взятие европейцами Пекина не позволило бы России остаться равнодушной к событиям в соседней стране5.
Руководство Российской империи понимало, что совместные действия с европейскими державами не способствовали бы достижению ее главной цели на Дальнем Востоке, в то время - воссоединению Приамурья. Интересы русской политики в целом и безопасности страны также требовали противодействия
В результате поражения в Крымской войне позиции России на международной арене были ослаблены. В то же время позиции Англии значительно укрепились. Победа Великобритании в войне с Цинской империей еще более упрочила бы ее положение, и одновременно это создало бы непосредственную угрозу безопасности восточных районов России. Это ясно понимали в Петербурге. В связи с этим Россия стремилась не допустить создания в ходе второй “опиумной” войны внешнеполитического союза Великобритании с США, поскольку это могло привести к изоляции России и усилению позиций Англии на Дальнем Востоке.
Стремясь добиться значительных уступок от Маньчжурской династии малой кровью и ослабить сопротивление других держав своим планам, Лондон предпринял попытки привлечь ведущие западные державы, в т. ч. и США, к совместному выступлению в Китае. Франция также приняла деятельное участие в деле привлечения США к англо-французскому союзу, чтобы не допустить преобладающего влияния Великобритании в Китае.
В силу наличия довольно значительных англо-американских противоречий, английскому правительству было выгодно, чтобы Франция взяла на себя инициативу привлечения США к антицинскому союзу.
В середине января 1857 г. французский посланник в Вашингтоне де Сартиж встретился с государственным секретарем США Уильямом Марси. От имени своего и английского правительства де Сартиж хотел узнать, “расположено ли правительство США присоединиться к ним”, чтобы потребовать от Китая уступок, в т. ч. права иностранных посланников про
69
живать в Пекине6. У. Марси ответил, что федеральное правительство разделяет цели Англии и Франции и готово поддержать действия союзников, но только если эти действия будут носить “чисто дипломатический характер”. Он подчеркнул, что США не дойдут до угроз и не прибегнут к силе в Китае, даже если их требования будут отклонены Пекинским двором. О такой позиции Вашингтона Марси сообщил российскому посланнику в США барону Э.А. Стеклю7.
Через несколько дней де Сартиж вновь попытался убедить федеральное правительство в необходимости единства действий трех держав (Англии, Франции и США), чтобы добиться удовлетворения их требований, но вновь безрезультатно. У. Марси заявил, что США желали бы получить новые уступки от Пекина “путем переговоров, не прибегая к силе оружия”8. Тогда французский посланник предпринял маневр: он предложил перенести решение “китайского вопроса” в Париж, где можно было бы провести переговоры американского посланника во Франции Мэсона с французским правительством. Но маневр не удался. У. Марси заявил, что он предпочитает сам вести это дело9.
Российский посланник Э.А. Стекль считал, что Россия должна использовать противоречия, существовавшие между США, Англией и Францией, чтобы не допустить их союза и совместных действий в Китае. По его мнению, и администрация Пирса, и, идущая ей на смену, администрация Бьюкенена будут следовать прежней политике в Китае — политике формального нейтралитета. Единственную опасность Стекль видел в действиях американского особоуполномоченного в Цинской империи Питера Паркера, который своим вмешательством в ход событий мог бы вовлечь США в военные действия на Дальнем Востоке на стороне Англии и Франции10.
Эти опасения были более чем обоснованными. П. Паркер настаивал на немедленных совместных и одновременных действиях с союзниками в Китае, выступал за проведение переговоров между правительствами западных держав в деле обсуждения положения дел на Востоке, ратовал за немедленное увеличение военно-морских сил США в китайских территориальных водах11. Военные действия американской эскадры против Барьерных фортов близ Гуанчжоу в конце осени 1856 г., под
70
держанные П. Паркером, поставили США на грань войны с Китаем. Военно-морской министр Тауси полностью одобрил операцию эскадры коммодора Армстронга. Свое мнение он довел до сведения президента в докладе от 3 декабря 1857 г.12.
Действия американской эскадры в районе Гуанчжоу оказали определенное влияние и на дальнейшую политику США по отношению ко второй “опиумной” войне. Президент Бьюкенен отмечал, что одной из причин, почему правительство США решило не участвовать в этой войне, явилось то, что китайцы уже понесли “суровое наказание” от американской эскадры за “оскорбление американского флага” в районе Гуанчжоу13.
Нападение американской эскадры на Барьерные форты было с одобрением встречено правительствами Англии и Франции, вызвав у них надежду в том, что Соединенные Штаты будут действовать заодно с ними в Китае. Когда известия о событиях в районе Гуанчжоу достигли Вашингтона, де Сартиж направился к У. Марси и заявил: “Теперь, когда заговорили пушки, вы вынуждены делать общее дело с нами”. Но правительство США считало, что интересы Соединенных Штатов будут лучше соблюдены проведением другой политики, не связанной с военными действиями. Госсекретарь ответил французскому посланнику, что это “не тот случай”, когда США должны начать военные действия против Китая на стороне союзников14.
Русское правительство, заинтересованное в нейтралитете США в Китае, приветствовало официальную позицию Вашингтона в “китайском вопросе”: отказ присоединиться к Англии и Франции в ведении боевых действий против Цинской империи. В Петербурге стремились укрепить позицию США в этом вопросе. С этой целью Александр II предложил американской администрации заключить соглашение о совместных действиях двух держав на Дальнем Востоке15. Фактически речь шла о создании антианглийского союза на Дальнем Востоке. Но Вашингтон уклонился от создания такого союза, предпочтя политику нейтралитета.
В связи с тем что федеральное правительство добивалось поддержки России в деле установления постоянных дипломатических миссий западных держав в Пекине16, А.М. Горчаков в
71
марте 1857 г. в секретной депеше сообщил Стеклю, что Петербург не будет препятствовать учреждению постоянных дипломатических миссий в Пекине. Одновременно Э. Стекль должен был заверить правительство США, что американским предпринимателям будет разрешено торговать в устье Амура, в чём были заинтересованы американские торговцы, промышленники и судовладельцы, но учредить здесь американское консульство в то время представлялось преждевременным. В Петербурге считали, что уступка американским торговцам права торговли на Амуре будет “способствовать ослаблению <...> разногласий и поддерживать чувства дружбы и доверия между двумя странами”17. О том, что русские порты в районе Амура будут открыты для американцев, Э.А. Стекль сообщил У. Марси еще в январе 1857 г.18.
Деятельность русского посланника в Вашингтоне, направленная на предотвращение образования союза трех держав в Китае и сохранение нейтралитета США во второй “опиумной” войне с целью обеспечения интересов России на Дальнем Востоке, вызывала раздражение английских дипломатов.
В беседе со Стеклем английский посланник лорд Нэпир в марте 1857 г. заявил, что тот должен знать о намерениях Великобритании присоединить США к совместным действиям в Китае, и выразил сожаление по поводу стремления Э. Стекля помешать этому. Чтобы рассеять опасения российского правительства по поводу действий Англии в Китае, Нэпир заявил, что мероприятия Великобритании не принесут ущерба интересам России и что “речь идет совсем не о покорении берегов Китая и еще менее о районах, прилегающих к Амуру”. Английский представитель ознакомил Стекля с меморандумом, в котором содержались требования к Пекину. Этот документ был передан для ознакомления и правительству США. Нэпир заверил российского дипломата, что все упомянутые в меморандуме уступки будут распространены на все западные страны. “Что касается американцев”, - добавил лорд, - “мы не просим, чтобы они воевали, мы хотим только их моральной поддержки”. В заключение Нэпир поинтересовался, может ли он рассчитывать на нейтралитет Стекля19.
Э.А. Стекль откровенно заявил, что он ищет пути, чтобы помешать сотрудничеству Англии и США в Китае. Относитель
72
но своего нейтралитета русский посланник отметил: “Вначале нужно установить взаимопонимание между нашими правительствами”. Заявление Нэпира, что Англия добивается только “моральной поддержки” США, не ввело в заблуждение Стекля. Он вполне обоснованно сообщил в Петербург, что представители Англии и Франции в Вашингтоне добиваются именно участия Соединенных Штатов в войне против Поднебесной империи20.
В силу того что французскому посланнику не удалось склонить администрацию Пирса к активному сотрудничеству в войне против Цинской империи, лорд Нэпир попытался сам привлечь новую администрацию (Бьюкенена) к совместным действиям.
14 марта 1857 г. Нэпир встретился с новым госсекретарем Л. Кассом и вручил ему ноту английского правительства, составленную, согласно инструкций министра иностранных дел лорда Кларендона, лорду Нэпиру от 9 января 1957 г., и попытался уговорить федеральный комитет принять участие во второй “опиумной” войне21. Но Льюис Касс заявил английскому дипломату, что правительство США не имело повода для нападения на Китай, как и возможности сделать это без санкции конгресса. Тогда Нэпир предложил послать американского особоуполномоченного в Китай для участия в совместных переговорах и подписания мирного соглашения с Цинской империей. Таким образом Лондон хотел связать Вашингтон со своей политикой в Китае, возложив и на США ответственность за последствия англо-французской агрессии в Китае. Но маневр не удался. Л. Касс легко разгадал цель этого предложения английского представителя и заявил Нэпиру, что, так как США не участвовали в войне, они не могут участвовать в переговорах, а подписание совместного мирного договора с Срединной империей означало бы следующее: “Связало бы нас с Францией и Англией и не только в настоящее время, но и на будущее, а наша традиционная политика запрещает нам союзы подобного рода”22.
По мнению администрации Бьюкенена, интересам США соответствовала более осторожная политика. Они хотели играть роль посредника при урегулировании конфликта в Китае. Одновременно федеральное правительство приняло решение увеличить численность американской эскадры в китайских терри
73
ториальных водах для демонстрации своей военной мощи и лучшего обеспечения защиты своих интересов в этом регионе.
Проводя политику формального нейтралитета в Поднебесной империи, правительство США опасалось остаться в изоляции. Поэтому оно искало расположения России и рассчитывало на поддержку и сотрудничество со стороны русского правительства. Не случайно Л. Касс 3 апреля 1857 г. заверил Э. Стекля: “Какой бы оборот не приняли бы события в Китае, мы не вступим ни в какие связи, которые могли бы нанести ущерб вашим интересам. Мы ценим преимущество поддерживать наилучшие отношения с Россией, и мы ничего не пожалеем, чтобы поддерживать их на основе доверия и дружбы”23.
Стремясь не допустить сближения Российской империи с союзниками, правительство США стремилось использовать в своих интересах противоречия, существовавшие между европейскими державами на Востоке, и в первую очередь англорусские.
В январе 1857 г. Марси в беседах со Стеклем заявил, что планы Англии и Франции угрожают тихоокеанским владениям России, и Великобритания “расположена создавать препятствия” России в связи с ее утверждением на Амуре, в то время как США благожелательно относятся к утверждению Российской империи на Амуре24.
Несмотря на неудачу своего демарша от 14 апреля 1857 г., английское правительство не оставляло надежды втянуть США в войну в Китае. Э. Стекль сообщил в Петербург в апреле 1857 г., что “лорд Палмерстон придает большое значение сотрудничеству с США в своих планах против Китая”. В связи с этим лорд Нэпир получил указание “не считаться ни с какими хлопотами, чтобы достичь этого сотрудничества”25. Следуя этим указаниям, английский посланник использовал все средства, чтобы заставить Вашингтон присоединиться к союзникам. Он беседовал с Л. Кассом и с “некоторыми влиятельными друзьями из администрации”, постарался привлечь на свою сторону торговцев с Востоком из Нью-Йорка и Бостона. Через своих агентов Нэпир убеждал их в преимуществах, которые они могли бы иметь в Китае в результате сотрудничества США, Англии и Франции, внушал им мысль, что вступление Соединенных Штатов в войну против Цинской империи сделает эту войну короткой26.
74
Отчасти Нэпир добился своего. Он вызвал беспокойство в американских торговых кругах. Многие американские бизнесмены приехали в Вашингтон и имели встречу с Бьюкененом. Президент заверил своих соотечественников, что он имеет в виду их интересы, но защищать эти интересы он будет другим, наилучшим, по его мнению, средством — сдержанностью27. Заверения Бьюкенена успокоили бизнесменов, которые решили поддержать политику его администрации по отношению ко второй “опиумной” войне.
Лорд Нэпир сумел завоевать расположение ряда влиятельных газет. Его усилия в этом направлении привели к тому, что “Нью-Йорк Геральд” опубликовала статью, в которой рекомендовала правительству войти в союз с Англией в Китае, но это не нашло поддержки в стране28.
Нэпир попытался также оказать давление на кабинет Бьюкенена, используя интересы США в Центральной Америке. Он пообещал Л. Кассу, что Англия пойдет на уступки Соединенным Штатам в Центральной Америке, признает их претензии к Новой Гренаде, если Вашингтон присоединится к политике Великобритании в Китае29. Но и это не заставило федеральное правительство изменить свою политику по отношению ко второй “опиумной” войне. Тем более что сообщения, поступавшие из Центральной Америки, не подтверждали обещаний английского посланника. Таким образом, все старания Нэпира оказались напрасными.
10 апреля 1857 г. американское правительство официально ответило на ноту Лондона, представленную лордом Нэпи- ром 14 марта. Л. Касс заявил, что правительство США не может без санкции конгресса объявить войну Цинской империи или начать там боевые действия, тем более что США не имели в регионе политических интересов. Целью правительства Соединенных Штатов, разъяснял госсекретарь, являлось предоставление защиты своим гражданам и увеличение возможностей для торговых операций при помощи соглашений с Цинским правительством и точным их соблюдением. Подлинная мудрость английского правительства, поучал Л. Касс, состоит “в соблюдении умеренности и осторожности в <...> наших попытках открыть Китай для мировой торговли и сношений”.
Правительство США, поддерживая общие требования за
75
падных держав к Пекину, выступало против проведения совместных переговоров о пересмотре договоров с Китаем. Переговоры могли быть только двусторонние. Никто не должен был добиваться для себя исключительных торговых преимуществ30.
Но и после этой серии неудач лорд Нэпир не сложил оружие. Он прилагал все силы, чтобы установить “сердечное согласие между Англией и США”31.
Уильям Б. Рид, новый посланник США в Китае, получил инструкции, которые предписывали ему поддерживать мирное сотрудничество по вопросам общего интереса с представителями Англии и Франции и дружеские отношения с русским посланником. В своей деятельности У. Рид должен был помнить, что США не находятся в состоянии войны с Китаем32.
В связи с посылкой нового представителя США в Китай А.М. Горчаков в инструкции от 20 апреля 1857 г. предписал Э. Стеклю установить максимально близкий контакт с Л. Кассом и У.Б. Ридом и заверить их в том, что российское правительство окажет им поддержку в Китае33.
Получив инструкции, Э.А. Стекль встретился с У. Ридом, когда тот приехал в Вашингтон за инструкциями, и сообщил ему о цели миссии Е.В. Путятина в Китай, которая носила мирный характер. На следующий день российский посланник имел беседу с и.о. госсекретаря Эпплтоном. Тот высказался за сотрудничество между американским и русским представителями в Цинской империи, что привело бы к наиболее удовлетворительным результатам для обеих сторон. В ответ Э. Стекль заверил американское правительство в том, что со своей стороны российский кабинет будет готов “всегда поддерживать интересы США”34.
Затем российский дипломат встретился с Джеймсом Бьюкененом, который выразил удовлетворение заверениями А.М. Горчакова относительно “китайских дел” и теми инструкциями, которые получил граф Путятин. Президент подчеркнул взаимовыгодный характер поддержки друг друга уполномоченными двух стран35.
В результате бесед с руководителями Соединенных Штатов и У. Ридом Э. Стекль пришел к выводу, что США стремились опередить Англию и Францию в заключении договора с Китаем, с тем чтобы не допустить навязывания Пекину усло
76
вий, невыгодных США. Чтобы осуществить этот план, Вашингтон нуждался в поддержке Петербурга. Правительство США сознавало, что оно скорее получит поддержку со стороны России, чем со стороны союзников. К тому же правящие круги США опасались, что Англия может захватить в Китае ряд территорий - острова Чжоушань или Тайвань36. Это также удерживало Вашингтон от сотрудничества с Лондоном и Парижем.
Чтобы посеять недоверие между США и Россией, английская дипломатия пошла даже на шантаж. Лорд Нэпир во время беседы с Эпплтоном прочитал выдержку из письма Кларендо- на, в которой говорилось, что между Англией и Россией нет разногласий в “китайском вопросе”. От себя английский посланник добавил, что Россия готовилась действовать в Китае в своих собственных целях, не совсем ясных. Но шантаж не удался37.
В связи с посылкой У.Б. Рида в Китай лорд Нэпир и граф де Сартиж попытались склонить федеральное правительство послать Рида в Европу, где он мог бы добиться выгодных соглашений с правительствами Англии и Франции и получить все секретные сведения о взглядах союзников по “китайскому вопросу”. Но и эта попытка добиться открытого сотрудничества США с Великобританией и Францией и перенести решение “китайского вопроса” из рук правительства в руки американского посланника не удалась. Президент Бьюкенен отказался направить У. Рида в Европу. Ему было указано “не иметь ничего общего с английской политикой” в Китае38.
20 июля 1857 г. Э.А. Стекль еще раз встретился с У.Б. Ридом, на этот раз в Филадельфии, и остался очень довольным результатом этой встречи, которая подтвердила неизменность позиции американского правительства в “китайском вопросе”39.
Александр II полностью одобрил действия Э.Ф. Стекля, направленные на сохранение нейтралитета США во второй “опиумной” войне и укрепление сотрудничества между США и Россией в “китайских делах” . А.М. Горчаков еще раз подчеркнул в очередной депеше Стеклю, что Россия не желает действовать отдельно от США. Ему было вменено в обязанность довести до сведения госсекретаря, что Российская империя, так же как и Соединенные Штаты, выступает за мирный характер отношений с Пекином. В Петербурге считали, что мир
77
ное сотрудничество между Россией и США в Китае могло привести к примирению между всеми странами, но в то же время полагали действовать независимо от западных держав40.
Летом и осенью 1857 г. российский посланник продолжал предпринимать усилия, направленные на укрепление дружеских отношений между США и Россией и их представителями в Китае. Кроме того, он попытался узнать о возможных действиях Вашингтона в случае неудачной попытки У. Рида добиться пересмотра договора Ванся без использования военной силы. С этой целью он встретился в Нью-Йорке с одним из влиятельных и авторитетных американских политиков и военных М.К. Перри, который выступал за силовое решение проблемы и мог бы своим влиянием заставить федеральное правительство, по мнению Стекля, изменить свою политику в Китае41.
Такой поворот политики США не соответствовал бы интересам России. Это вызвало беспокойство российского посланника. Поэтому по возвращению в Вашингтон Стекль поинтересовался у Эпплтона, каково мнение правительства относительно взглядов Перри. Госсекретарь заверил российского дипломата, что “идеи коммодора по меньшей мере опасны, их проведение в жизнь могло бы привести к конфликту, который США хотели бы прежде всего избежать”42.
Обострение англо-франко-китайского конфликта в 1859 г. вызвало опасение Вашингтона, что Англия может установить доминирующее влияние в Китае. В связи с этим вашингтонская администрация решила послать своего посланника в залив Чжи- ли для наблюдения за действиями союзной эскадры. Дж. Уорд должен был соблюдать “нейтральное положение и вмешиваться только в крайнем случае”, о чем было сообщено правительствам России, Англии и Франции43.
Стремясь не допустить доминирующего влияния Великобритании на севере Китая, российское правительство стремилось заручиться поддержкой правительства США. Петербург считал, что американский представитель в Цинской империи мог бы оказать дипломатическую поддержку Н.П. Игнатьеву, если она потребуется, чтобы окончательно соглашение с Пекином “не содержало положений в ущерб США и России”44. Но Уорд предпочел не вмешиваться, чем поставил Игнатьева в трудное положение45.
78
В Вашингтоне целиком одобрили действия Уорда. Бьюкенен в декабре 1860 г. в ежегодном послании конгрессу выразил удовлетворение поведением Дж. Уорда в Китае, тем, что он занял нейтральную позицию в войне Великобритании и Франции против Китая, но готов был предложить свои услуги в качестве посредника для заключения мира между воюющими сторонами46.
Таким образом, позиция России способствовала провалу попыток Англии и Франции втянуть США в войну с Китаем. Чтобы нейтрализовать Россию, ослабить ее противодействие планам союзников в отношении США и Китая, Лондон еще весной 1857 г. предпринял зондаж позиции российского правительства по вопросу о возможности заключения англо-русского соглашения по “китайскому вопросу”. По поручению своего правительства английский посланник в Петербурге лорд Вудхауз в конфиденциальной беседе с А.М. Горчаковым попытался узнать, встретит ли Англия готовность Петербурга вступить с ней в соглашение по “китайскому вопросу” . Государственный канцлер ответил, что Россия готова войти в предварительное соглашение, но только в целях заключения мира. Российское правительство считало: “Ничто не побуждает нас ныне воевать с Китаем и содействовать Англии, пользы которой не согласны с нашими”47.
Англии и Франции не удалось склонить США к совместным действиям в Китае. Определенную роль в этом сыграла русская дипломатия, которая поддерживала позицию администраций Пирса и Бьюкенена по “китайскому вопросу” . Нейтралитет США во второй “опиумной войне” был важным успехом русской дипломатии. Не случайно Стекль писал в Петербург: “Мы можем поздравить себя с этим мудрым решением американского правительства” — сохранить нейтралитет в войне. Интересы России как пограничной державы с Китаем, так же как и связанные с большой политикой, подчеркивал Э. Стекль, “требуют препятствовать любому сговору между США и Великобританией, какую бы цель они при этом не преследовали”. Позиция правительства США, отказавшегося от военного сотрудничества с Англией в “китайских делах”, “с большим удовлетворением” была одобрена Александром II48.
Своим нейтралитетом Соединенные Штаты были обяза
79
ны и политике России, действиям русской дипломатии, которая, выступив в его поддержку, стремилась установить отношения дружбы и сотрудничества с американскими властями на разных уровнях. Российская дипломатия сумела нейтрализовать внешнеполитическое давление на Вашингтон Англии и Франции, стремившихся на протяжении всей войны втянуть в нее США, прибегая для этого к самым различным дипломатическим уловкам, вплоть до воздействия на общественное мнение, торгово-промышленные круги, прессу, не брезгуя при этом тактикой открытого шантажа. Как показала история, русская дипломатия, попытавшись не допустить изоляции России по китайскому вопросу, воспрепятствовала-таки образованию тройственного союза западных держав.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Повалъников С. И. Война Англии и Франции против Китая (вторая «опиумная» война 1856—1860 гг.) и позиция России / / Документы опровергают: Против фалъсификации истории русско- китайских отношений / Отв. ред. С.Л. Тихвинский. М., 1982. С. 240-241.
2. Costin W.C. Great Britain and China, 1839—1860. Oxford, 1937. P. 149—150.
3. Барсуков И.П. Граф Николай Николаевич Муравъев- Амурский. М., 1891. Кн. 2. С. 105.
4. Архив внешней политики Российской империи. Ф. СПб. Главный архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 1 об. (далее: АВПРИ).
5. АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 1 об.
6. Там же. Л. 10 об.7. Там же. Ф. МИД. Канцелярия, 1857 г. Оп. 469. Д. 183. Л.
29—31.8. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9,1856— 1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 12 об.—13.9. Там же. Л. 15.10. Там же. Л. 17—17 об.11. The Executive Documents... of the Senate, 1858—59. Washington,
80
1859. Vol. 9. P. 1082, 1087—1088. Более подробно о дипломатической деятелъности П. Паркера в Китае см.: Анисимов АЛ. “Самый болъшой патриот империи ”: (Американский миссионер П. Паркер в Китае в XXв.) / / Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: история и современности Подготовителъные материалы ко Второй Международной научно-практической конференции, 23— 26 сентября 1997 г. / Гл. ред. Б.Д. Пак. Иркутск, 1996. С. 25—48; О событиях в районе Баръерных фортов в 1856 г. и позиции России см.: Анисимов А.Л. Американо-китайский конфликт 1856 г. в Гуанчжоу и позиция России / / Взаимоотношения народов России, Сибири и стран Востока: история и современности Доклады Международной научно-практической конференции, 12—15 октября 1995 года. Москва; Иркутск, 1995. С. 115—119.
12. АВПРИ. Ф. МИД. Канцелярия, 1857г. Оп. 469. Д. 183. Л.362.
13. A Compilation of the Messages and Paper of Presidents, 1789— 1897 / Comp. by J.D. Richardson. Washington, 1897. P. 507.
14. АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 20; Ф. Канцелярия, 1857 г. Оп. 469. Д. 183. Л. 49.
15. АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 25—26.
16. Там же. Л. 16 об.17. Там же. Ф. МИД. Канцелярия, 1857г. Оп. 469. Д. 183. Л.
10-11.18. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 16.19. Там же. Л. 31—32 об.20. Там же. Ф. МИД. Канцелярия, 1857г. Оп. 469. Д. 183. Л.
108—113.21. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 156.22. Там же. Л. 33—33 об.; Ф. МИД. Канцелярия, 1857г. Оп.
469. Д. 183. Л. 119—121.23. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 33 об.; Ф. МИД. Канцелярия, 1857 г. Оп. 469. Д. 183. Л. 123.
24. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 11, 16.
25. Там же. Л. 40.
81
26. Там же. Л. 40; Ф. МИД. Канцелярия, 1857 г. Оп. 469. Д. 28. Л. 128—129.
27. Там же. Л. 40—40 об.; Л. 128—130.28. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 46—46 об.29. Там же. Л. 47—47 об.30. Там же. Л. 156—157.31. Там же. Ф. МИД. Канцелярия, 1857г. Оп. 469. Д. 183. Л.
370, 376, 381.32. The Executive Document... of the Senate, 1859—60 Washington,
1860. Vol. 10. P. 7; United States Policy Toward China: Diplomatic and Public Documents, 1839—1939/ Sel. by P.H. Clyde. N. Y , 1964. P. 40; АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 154.
33. АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д. 11. Л. 63 об.
34. Там же. Л. 62 об.—63.35. Там же. Л. 65.36. Там же. Л. 69 об., 73—73 об., 90.37. Там же. Ф. МИД. Канцелярия, 1857г. Оп. 469. Д. 183. Л.
193—195.38. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 70—70об, 90.39. Там же. Л. 78 об; Ф. МИД. Канцелярия, 1857 г. Оп. 469.
Д. 183. Л. 195—196.40. Там же. Ф . СПб. Гл .архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 8 0 -8 0 об.41. Там же. Л. 109 об.—112 об.42. Там же. Л .112.43. Там же. Л. 216, 218; Ф. МИД. Канцелярия, 1860 г. Оп.
470. Д. 195. Л. 49—50,56—57.44. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 212.45. Игнатъев Н.П. Отчетная записка, поданная в Азиатский
департамент в январе 1861 года генерал-адъютантом Н.П. Игнатъевым о дипломатических сношениях его во время пребывания в Китае в 1860 году. СПб., 1895. С. 5—6, 9, 35, 62—63.
46. АВПРИ. Ф. МИД. Канцелярия, 1860 г. Оп. 470. Д. 195; A Compilation of the Messages and Papers o f Presidents, 1789—1897/
82
Comp. by J.D. Richardson. Washington, 1897. Vol. 5. P. 643.47. АВПРИ. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1857г. Оп. 8. Д. 16. Ч. 1.
Л. 33, 163 об.—164.48. Там же. Ф. СПб. Гл. архив, 1—9, 1856—1860 гг. Оп. 8. Д.
11. Л. 49—51.
Дэвид Л. Уилсон
ДЖЕЙКОБ ГОУЛД ШУРМАН И АМЕРИКАНСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
БОЛЬШЕВИЗМА В КИТАЕ (1 9 2 1 - 1925)
20 января 1925 года Джейкоб Гоулд Шурман (Jacob Gould Schurman), американский посланник в Китае, поднялся на кафедру лишь для того, чтобы выступить перед представителями Англо-американской ассоциации, собравшимися по этому случаю в тот вечер в Пекине. Он надеялся, что его доклад «Экстерриториальность и ее постепенная отмена» успокоит усиливавшиеся в Китае требования немедленного отказа от навязанной Западом в XIX веке системы неравноправных договоров. Прилагая в письме к президенту К. Кулиджу копию своей речи, Шурман отмечал, что целью его выступления было стремление «предложить китайцам и иностранцам платформу, на которую они могли опереться, альтернативную большевистской программе отказа от договоров Китая с иностранными державами»1. В соответствии с этим в предлагаемой статье исследуются причины, побудившие американского посланника столь открыто заявлять об усилении влияния большевизма в Китае.
Но сначала следует обратиться к биографии нашего героя. Известно, что Шурман родился 22 мая 1854 года во Фритауне на острове Принца Эдуарда в Канаде. Все свое детство он провел в бедности на маленькой ферме. Известно, что его прадед Уильям, будучи тогда весьма преуспевающим человеком, во времена борьбы североамериканских колоний за независимость был вынужден спешно покинуть США и перебраться в Канаду на постоянное место жительства, потеряв при этом значительную часть своего имущества, которое впоследствии было кон
83
фисковано восставшими. В возрасте 13 лет Шурман покинул отчий дом и три года проработал приказчиком, чтобы скопить деньги на обучение в школе. Позднее блестящие успехи помогли ему получить стипендию для обучения в колледже, а в 1875 г. он выиграл конкурс и получил стипендию на продолжение образования в Англии. Проучившись в Глазго, он получил степень доктора. Затем Шурман был награжден грантом, обеспечивавшим ему двухгодичную стажировку в Германии2.
Получив диплом философа, Шурман с 1880 по 1886 год жил и работал в Канаде, где в 1881 году и опубликовал свою первую книгу «Кантианская этика и этика эволюции» («Kantian Ethics and the Ethics of Evolution»). В 1886 году он покинул родину, чтобы занять место профессора философии (Sage Professor of Philosophy) в Корнелльском университете в США. Через четыре года Шурман был назначен деканом только что созданной Школы философии (Sage School of Philosophy), а в 1892 году он стал президентом Корнелльского университета. Этот пост он занимал вплоть до своей отставки в 1920 году3. Получив в 1892 г. гражданство США, Шурман вскоре купил поместье своего прадеда, где прожил вплоть до своей смерти в 1942 г.
Занимаясь преподавательской деятельностью, Шурман, испытывая глубокий интерес к политике, занимал активную позицию в общественной жизни Америки. Будучи консервативным приверженцем идей республиканской партии, он тем не менее выступил против аннексии Филиппин в 1898 г. Это послужило поводом к тому, что президент У. Маккинли в своей попытке быть беспристрастным в решении данной проблемы, назначил Шурмана председателем первой американской комиссии, начавшей свою деятельность на архипелаге в 1898 году. За время своей работы в составе данной комиссии Шурман еще раз убедился в том, что владение заморской империей с подданными народами несовместимо с идеями демократии. Правда при этом, вплоть до убийства Маккинли в 1901 г., Шурман выполнял возложенную на него обязанность поддерживать решимость своего президента удержать Филиппины в зоне влияния США. В 1902 г. в своей книге «Филиппинские события: ретроспектива и обзор» («Philippine Affaires: A Retrospect and Outlook. An Address») он привел ряд весомых аргумен
84
тов в пользу того, что архипелаг должен получить независимость так скоро, как это будет возможно. За время своей работы на Филиппинах Шурману впервые в жизни удалось посетить Китай, население которого только что пережило подавление боксерского восстания.
Начало дипломатической карьеры Шурмана было ознаменовано в тот период, когда в знак благодарности президента У.Г. Тафта за поддержку его избирательной кампании 1912 года президент Корнелльского университета получил свое первое дипломатическое назначение в Грецию и Черногорию в ранге посла США (1912—1913). За мимолетный срок своего пребывания на Балканах посланник немного успел сделать, но по возвращении в Соединенные Штаты в 1914 году он опубликовал книгу «Балканские войны» («The Balkan Wars, 1912—1913»). Активно участвуя в общественной жизни Америки, Шурман поддержал в 1916 году оказавшуюся неудачной президентскую кампанию Чарльза Эванса Хьюджа, а в 1920 году принял активное участие в президентской кампании У.Г. Гардинга. Принадлежа к так называемому «интернационалистскому» крылу республиканской партии, Шурман, поддерживая с некоторыми оговорками подписание В. Вильсоном условий Версальского мирного договора, тем не менее считал, что у Соединенных Штатов нет обязательств на реализацию условий соглашения без предварительной ратификации документа в сенате США.
Значительное изменение в судьбе Шурмана произошло в тот период, когда в начале 1921 года государственный секретарь Чарлз Эванс Хьюдж порекомендовал президенту Гардингу назначить Джейкоба Шурмана посланником США в Китае. С некоторой задержкой это назначение было одобрено сенатом4, и вскоре 24 августа 1921 года новый американский посланник прибыл с семьей в Шанхай. Остановившись там на пути в столицу страны, Шурман в своем первом публичном выступлении перед членами американской торговой палаты заверил их в том, что администрация президента Гардинга намерена продолжать отстаивать интересы США в Китае5. После, прибыв 3 сентября 1924 года в Пекин, Шурман немедленно приступил к своей работе.
Необходимо заметить, что к тому времени Китай уже на протяжении двух десятилетий находился в состоянии усиливаю
85
щейся социальной напряженности. Так, 4 мая 1919 года китайские студенты вышли на улицы Пекина. Поводом к началу беспорядков послужило известие о том, что страны-участницы переговоров в Версале проигнорировали все требования Китая возвратить в собственность национального правительства германские концессии, захваченные японцами в 1914 году. Студенты резко протестовали против удобной для стран Запада практики заключения неравноправных договоров и требовали восстановления суверенитета своего государства. Студенческие беспорядки вызвали отклик во всей стране и это способствовало росту проявлений китайского национализма. Шурман видел, что многие из этих студентов смотрят на Советскую Россию как на пример удачной борьбы за независимость страны против засилья Запада. Это, по мнению американского посланника, в сильной степени подпитывало китайский национализм. Анализируя тенденции социально-политического развития китайского общества, Шурман, когда проходила Вашингтонская конференция, сообщал в госдепартамент: «Весьма заметно развитие китайского национального чувства и патриотизма за те двадцать два года, что я не был здесь. Тогда иностранные державы предлагали разделить Китай, и китайцы казались безразличными. Сегодня китайский народ чувствительно и ревниво относится к независимости и территориальной целостности своей страны». Далее Шурман полагал, что китайцы недовольны японцами, британцами и Советским Союзом из-за их активности в Маньчжурии, Северном Китае, Тибете и Монголии. «Наша базовая политика открытых дверей в Китае должна быть поддержана и приложена к новым условиям, — продолжал он. — Эта политика, в сочетании с нашей бескорыстной защитой независимости и территориальной целостности Китая, завоевала доброе отношение китайцев к Америке». «Китайцы, — заключил Шурман, — рассматривают нас как особых друзей. Общность республиканских институтов делают их ближе к нам»6.
В тот период дипломат, как и другие американцы, твердо верил в существование особых отношений, исторически сложившихся между Китаем и Соединенными Штатами, которые, как тогда казалось, укреплялись желанием китайцев переделать свою страну по американскому образцу. Этот факт свидетельствует лишь об ошибочности представлений Шурмана,
86
который так и не сумел до конца честно признать, что политика «открытых дверей» была результатом заключения неравноправной системы договоров, что в сознании китайских националистов делало американскую модель развития просто неприемлемой7.
В апреле 1922 года Шурман получил первые сведения о том, что идеи социализма и большевизма стали быстро распространяться среди китайского народа. «В отношении растущей популярности русских в Китае, — докладывал Шурман в госдепартамент, — посольство не располагает никакой информацией, подтверждающей это заявление, но придерживается мнения о том, что политические доктрины современной России приобретают большую популярность, особенно среди представителей образованных классов. Однако посольство считает маловероятным, чтобы русские заняли место, до сих пор принадлежавшее американцам, в том, что может быть названо личным уважением китайского народа»8.
Как хороший дипломат Шурман уже проверил слухи о надвигающихся серьезных беспорядках, направленных против присутствия иностранцев в Китае. Всем консулам в Китае он разослал свою просьбу выяснить, проявляются ли где в стране настроения ксенофобии. В ответ на это лишь в Калгане, Харбине и Кантоне три консула обнаружили доказательства проявления враждебных к иностранцам настроений. «Нет никаких указаний на антииностранную агитацию в Пекине, за исключением антихристианской агитации, которую можно рассматривать не столько как направленную против иностранцев, сколько как попытку утверждения китайской цивилизации против западной». Это, по мнению Шурмана, было следствием влияния идей некоторых радикальных ученых, сознание которых было наполовину пропитано ферментом критицизма методологии научной школы Запада»9.
22 апреля 1922 года консул Джей С. Хастон (Huston), временно возглавлявший Кантонское консульство, доложил Шурману, что знает о «тесных связях, существующих между Гуан- дунской генеральной ассоциацией труда, Обществом взаимопомощи (марксистско-социалистическим) и лидером Гоминьдана Сунь Ятсеном»10. За год до этого он заверял Д. Вуда как американского флотского командира патруля в Ханькоу в том,
87
«что Сунь Ятсен [...] раздувает беспорядки и публично благоволит большевизму. После этого Вуд в своем обращении к командующему азиатским флотом США заметил: «Мистер Хастон предсказал, что если коммунизм восстанет, то это уже будет большим мятежом, чем тайпинский»11. Обеспокоившись складывающейся ситуацией, 1 марта 1922 года посольство запросило у консульства в Кантоне «текст манифеста, якобы выпущенного кантонским отделом коммунистической ассоциации для бастующих моряков». «На второй день после моего прибытия в Кантон я поднял одну из их прокламаций на одной из улиц, — сообщил Хастон. — После анализа документа я понял, насколько важно обнаружить автора данного послания»12. В этой связи стоит заметить, что и в самом деле манифест серьезно изменил жизнь Хастона, поскольку он, оставаясь на посту консула в Китае, в течение десяти лет изучал особенности влияния большевизма в Китае. За это время американский консул собрал множество документов, газетных вырезок, личных интервью, памфлетов и книг. По сути, Хастон был единственным американским дипломатом, который в 1920-е годы с научной точки зрения подошел к анализу данной проблемы13. Летом 1922 года он закончил объемный труд, в котором исследовалась история рабочих союзов в Южном Китае. На страницах своей книги Хастон высказал мнение о том, что китайские коммунисты, как и их русские собратья, серьезно вовлечены в рабочее движение. Далее автор предположил, что «если эти доктрины и в дальнейшем будут пропагандировать в Китае, это не предвещает ничего хорошего для будущего торговли и промышленности, в которой американцы, как и другие иностранцы, жизненно заинтересованы»14. Оценивая работу Хастона, Шурман написал: «Данный очерк является первым исследованием периода формирования рабочего движения в Китае, чреватого усилением влияния социалистических, а возможно, даже большевистских идей». Далее американский посланник заметил, что никто не может предсказать, насколько рост рабочего движения в целом повлияет на развитие социально-политической ситуации в Китае. При этом дипломат сослался на то, что условия для распространения коммунистических идей особенно благоприятны в китайских городах, «где велико количество пролетариев, восприимчивых к призывам, которые
88
социалисты всех стран обычно обращают к представителям данного класса». В целом факт сотрудничества двух дипломатов говорит о том, что, даже при отсутствии со стороны Шурмана особых убеждений и веры в заключения Хастона, глава американской дипломатической миссии сумел высоко оценить содержание доклада своего подчиненного, поощрив его в продолжении начатых исследований15. Об этом свидетельствует факт назначения Хастона на пост главы консульства США в Тяньцзине.
Возможно, учитывая присутствие Джея Хастона, Шурман, выбирая тему для своего запланированного на 12 апреля 1923 года первого выступления в Ротари-клубе Тяньцзиня, остановился на анализе вопроса «Социализм против капитализма». «Социалистическое общество, — подчеркнул он, обращаясь к аудитории, — обязательно будет обнищавшим социумом, и если идеи равенства возобладают в сфере распределения, это приведет к равенству нищеты, а не торжеству процветания». Далее, применительно к опыту Советской России в этой сфере, он заметил: «От русского зрелища мы отворачиваемся в отчаянии»16. В этой связи можно предположить, что идеи Хастона в определенной мере повлияли на содержание и характер выступлений американского посла в Китае.
Анализируя характер деятельности Шурмана на посту посланника США в Китае, следует заметить, что в начале сентября 1923 года в качестве советского официального представителя в Пекин прибыл Л.М. Карахан, сменив на этом посту А.А Иоффе. Как известно, Карахан стремился достичь установления официальных отношений между советским и китайским правительствами. Исходя из этого советский представитель во всех своих публичных выступлениях акцентировал внимание публики на том факте, что западные империалисты продолжают эксплуатировать Китай, и советовал китайскому народу как можно скорее избавиться от навязанных Западом ограничений китайского суверенитета. Карахан противопоставлял добровольный отказ Советского Союза от прав экстерриториальности решениям Вашингтонской конференции, которая, по его мнению, больше занималась «лицемерием»17.
Наблюдая за действиями нового советского дипломатического представителя, Шурман первоначально не думал, что
89
Советский Союз может представлять серьезную угрозу интересам Запада в Китае. Правда, уже тогда деятельность Карахана стала раздражать американского посланника, и он в конце концов предпринял ряд ответных мер, направив в печать письмо с изложением официального мнения американской стороны по данному вопросу. Шурману было лестно узнать, что его статью опубликовали не только в китайской прессе, но и в англоязычных газетах18. Трудно понять, по каким причинам ему понравилось то, что его работу опубликовали и в англоязычной прессе. В своей статье Шурман признал, что Советский Союз может создать в Китае неприятные проблемы для Запада, играя на чувствах китайских националистов. Правда, при этом автор не верил, что коммунизм хоть когда-нибудь завоюет власть в Китае.
В середине лета 1923 года государственный департамент потребовал от Шурмана дать всесторонний анализ деятельности СССР в Китае. При этом указывалось, что особое внимание следует обратить на то, распространяют ли русские агенты пропаганду в целях свержения существующего порядка19. В содержании ответного послания в Вашингтон дипломат заметил, что не располагает какими-либо сведениями, свидетельствующими о том, что между СССР и Китаем были достигнуты хоть какие-то серьезные договоренности. При этом Шурман проинформировал руководство, что «здесь распространено мнение о том, что представители Советского правительства используют свое влияние в рабочих организациях и студенческих органах в интересах установления в Китае собственных политических доктрин, с последующим свержением существующего порядка». Но Шурман заметил, что ему трудно, даже практически невозможно, подтвердить это мнение: «Агитация такого рода если и существует, то организована так тайно, что в поле моего внимания не попали никакие реальные доказательства». Из содержания посланий дипломата видно, что советские представители в Пекине произвели большое впечатление своими высокими профессиональными качествами. Это объяснялось тем, что Советы посылали в Китай только «людей, искренне убежденных в необходимости распространения идей коммунизма в других странах». Как отмечает Шурман, разговоры с ними неминуемо сводились к теме мировой революции, «которая,
90
кажется, рассматривается ими как религиозная вера, в не меньшей мере, чем политическая цель»20. Такие люди, по мнению Шурмана, были чрезвычайно опасны.
Вскоре в посланиях американского дипломата в Вашингтон стали появляться интонации чувства усиливающегося пессимизма. Это особенно было заметно, когда Шурман пытался анализировать перспективы развития политических событий в Китае. Наиболее ярко это проявилось в письме дипломата от 24 апреля 1924 года, в котором он, обращаясь к президенту К. Кулиджу, указывал, что, несмотря на то что китайцы создали высокую цивилизацию, особенно в области искусств, в сфере государственного управления они потерпели неудачу. Наиболее конкретно это доказывает тот факт, что на протяжении многих лет в Китае так и не смогли создать сложное индустриальное общество. Далее Шурман заметил, что китайское общество больше ориентировано на интересы семьи, чем нации. Это, по его мнению, затрудняет, если не делает невозможным, организацию современного управления. Тем не менее, как указал дипломат, «китайцы будут вынуждены решить эту задачу, если только у иностранцев хватит силы их заставить»21. Прогнозируя перспективы дальнейшего развития страны в XX веке, Шурман полагал, что Китай пройдет через длительный период хаоса, «прежде чем сформируется конечный продукт политической эволюции». В течение этого времени США, по мнению дипломата, должны стремиться сохранить свое место «лояльного и верного партнера Китая». Углубляя анализ политической ситуации в стране, Шурман заметил, что конечный результат реорганизации китайского общества может радикально отличаться от западных моделей, большевизм, по его мнению, все-таки не сможет установить контроль над всей страной. Далее он заметил, что советские агенты могут предположительно успешно работать на уровне деревни, но в целом коммунизм «и диктатура пролетариата находятся в прямом противоречии с демократией самоуправляемых (или вовсе неуправляемых) патриархальных семейных общин, покрывающих, подобно роям пчел, все страну»22.
Анализируя ход дальнейших событий, следует заметить, что на протяжении лета 1924 года американского посланника, не верящего до конца в потенциальный успех большевизма в
91
Китае, все больше стали беспокоить факты проникновения советских агентов в Китай. В этой связи Шурман особенно боялся активно развивающихся отношений между Гоминьданом и людьми Кремля в Южном Китае. Анализируя ход развития политической жизни в стране того времени, дипломат описывал Кантон как «оживленное место сбора думающих по-большевистски китайцев и “турбулентных” элементов под нестабильным управлением Сунь Ятсена». При этом Шурман полагал, что проведение в качестве ответных мер стран Запада жесткой линии по отношению к складывающейся в Южном Китае ситуации может только ухудшить дело. В этой связи он советовал Вашингтону быть весьма осторожным. Шурман предупреждал, что иностранные консулы в Кантоне, будучи крайне осмотрительными, должны «избегать любых конфликтов с местными властями, если только они не видят совершенно ясно пути вперед»23.
В августе 1924 года Шурман опубликовал ряд своих работ, где он прямо высказал все свои опасения по поводу активизации в Китае деятельности советских агентов. Принять столь серьезный шаг его побудило углубление политических контактов между Китаем и СССР. Шурман знал, что еще в мае 1924 года между представителями руководства обеих стран было достигнуто соглашение о взаимном признании и обмене представителями, а 31 июля 1924 года китайское правительство признало Карахана советским послом в Китае. В связи с этим американский дипломат считал, что это может придать «дополнительный импульс процессу активизации деятельности коммунистической партии в Китае». Отслеживая развитие политической ситуации в стране, Шурман получал переводы сообщений из газеты «Известия» о ходе Пятого конгресса III Интернационала. В этой связи следует заметить, что тот откровенный политический цинизм, что прозвучал в заявлениях участников Третьего Интернационала, где открыто заявлялось о намерениях коммунистов в отношении Китая, шокировал Шурмана. «Полагаю, — заметил он, — что вмешательство агентов III Интернационала в политическую жизнь Китая будет теперь все более заметно». После этого Шурман пришел к выводу, что Советы заняли позицию, создающую реальную угрозу для интересов Запада в Центральной Азии. Правда, при этом он про
92
должал наивно полагать, что коммунизм никогда не будет всерьез воспринят населением Китая. Развивая свою мысль, Шурман указывал, что он информирован о том, что Коминтерн признает «наиболее доступным методом коммунистической атаки на так называемые капиталистические страны — создание беспорядков на их иностранных рынках». «Я предвижу, — заметил в этой связи дипломат, — активную кампанию в Китае, спровоцированную коммунистическими агентами против Европы и Америки»24.
После того как Карахан стал дуайеном советского дипломатического корпуса в Пекине, в то время как другие иностранные правительства имели в Китае лишь своих посланников (ставя их во главе представительств, а не посольств), перед Шурманом возникла группа серьезных проблем. Если Соединенные Штаты не признали Советский Союз, то как американскому дипломату взаимодействовать с советскими официальными лицами? Разъяснения по этому вопросу Шурман получил от госсекретаря Фрэнка Келлога, указавшего, что «департамент считает, что взаимодействие посланников с Кара- ханом и китайским правительством должно быть неформальным настолько, насколько это возможно, и должно избегать любых намеков, что его статус как члена и дуайена дипломатического корпуса проистекает из действий посланников, а не из факта его признания китайским правительством в качестве советского посла»25. В этой связи американский дипломат надеялся, что Карахан также согласится с таким компромиссом26.
Вторая проблема возникла по вопросу о контроле над международным кварталом, созданным в свое время по инициативе держав, подписавших так называемые «боксерские протоколы» от 1901 и 1904 гг. Известно, что все дипломатические представительства (а теперь и одно посольство) находились в определенном районе Пекина, защищенном от различного рода социальных волнений, возникавших время от времени в городе. Старший из посланников одновременно занимал должность администратора этой территории. В круг его обязанностей входило содержание архивов, осуществление контактов с китайским правительством по вопросам функционирования квартала, организация встреч с различного рода людьми с целью содействия управлению данной территорией. Поскольку в свое
93
время Советский Союз денонсировал указанные соглашения, иностранные посланники, в противовес стремлению Карахана сохранить свой статус представителя державы, подписавшей когда-то этот протокол, высказали свое нежелание, чтобы советский посол принимал участие в жизни дипломатического квартала.
Стремясь разрешить возникшую проблему 3 марта 1925 года Шурман как старший из посланников был вынужден созвать глав представительств, для того чтобы «все в основе согласились с планом ограничить дипломатический корпус, как это в свое время было сделано во всех других столицах лишь церемониальными функциями, доверив при этом заботу об особых и общих интересах держав договора подходящей группе или группам дипломатических представителей». Этим все посланники поставили советского посла перед фактом, свидетельствующимо том, что он не будет участвовать в управлении дипломатическим кварталом. «Недавно Карахан направил державам протокола ноту протеста против создания заграждений американской охраной в месте, названном им “русской оградой” (“Russian Glacis”)», — доложил в Вашингтон Шурман. Далее американский посланник уведомил свое руководство, что Карахан в ответ на свое заявление «был информирован державами с необходимыми ссылками на протоколы 1901 и 1904 гг. о том, что не существует никакой «русской ограды», поскольку это всего лишь есть международная собственность; что американская охрана, занимая часть прилегающей к русской миссии территории, не более чем выполняет возложенные на нее старшим комендантом обязанности, кроме того, все конные перемещения были лишь частью запланированных военных учений»27.
В январе 1925 года Шурман был обеспокоен нагнетанием вражды против иностранцев в Китае, о начале возникновения которой вовремя сообщили генеральный консул в Кантоне Дуглас Дженкинс и консул в Шанхае С.Д. Мейнхардт28. В своем письме к посланнику Мейнхардт, анализируя глубинные тенденции, протекающие в недрах китайского общества, указывал на то, что, когда речь идет о сложных проблемах, определенные факторы надо держать постоянно в уме. По его мнению, новый национализм членов студенческого движения,
94
ободренных идеями большевизма в лице коммунистов, играл ключевую роль в распространении социалистической агитации. Мейнхардт полагал, что нагнетанию ненависти к иностранцам, появлению антиимпериалистских настроений способствовала деятельность «группы коммунистов в Гоминьдане, некоторые члены которой прошли обучение у русских». По мнению консула в Шанхае, возникновение новой волны ксенофобии в Китае не повторение так называемого боксерского восстания рубежа веков, а «в большей степени является следствием пробуждения страха перед будущей агрессией и растущим контролем извне, правильно или ошибочно порождающее недовольство иностранцами в стране». Анализ сложившейся социальнополитической обстановки в Китае оказал значительную пользу в работе американской дипломатической миссии в стране. Это предоставило Шурману возможность поблагодарить Менйхар- дта за проделанную им работу29.
Некоторое время спустя Шурман вновь поинтересовался у консулов, замечены ли где в Китае проявления ксенофобии30. В ответ на запрос главы дипломатической миссии большинство американских консулов в Китае сообщило, что проявления вражды к иностранцам и христианам в их районах незначительны, если они вообще существуют. Изучив всю информацию своих коллег, Шурман пришел к выводу, «что большевистская пропаганда и деньги в большой степени ответственны за недавние движения против иностранцев и христиан; в этом можно не сомневаться». Американский посланник располагал сведениями о том, что советские агенты ограничили свою деятельность большими центрами, такими, как, например, Шанхай или Кантон. В соответствии с этим он полагал, что рост рабочего движения в Шанхае был прямым следствием активной деятельности советских агентов31.
К январю 1925 года Шурман сформулировал концепцию, обосновывающую главные причины роста ксенофобии в Китае. В соответствии с ней он доказывал, что четыре основных фактора обуславливают существующий характер социально-политического развития страны: 1) китайский этноцентризм в сочетании с боязнью возникновения «опасности иностранного влияния в сфере образования (особенно в школах при миссиях)»; 2) рост национализма и желание китайцев создать еди
95
ную систему национального образования; 3) большевистская пропаганда, наиболее распространенная в профессорско-преподавательской среде; 4) «большевистский и шовинистский настрой против представителей так называемых «англосаксонских наций», поддерживающих большинство иностранных миссий и школ в Китае. В соответствии со своими наблюдениями Шурман утверждал, что Сунь Ятсена или Фэн Юйсяна нельзя считать коммунистами, поскольку те, по его мнению, были «носителями идей радикального национализма, используя большевиков лишь в своих политических маневрах». В качестве доказательства собственной точки зрения дипломат заметил, что эти китайские лидеры, видя, как народ напуган распространением социалистических идей, и понимая, что страны Запада не захотят смириться с желанием Китая отказаться от выполнения «неравноправных» договоров, могут пойти на многое, чтобы развести себя с большевизмом32.
Придерживаясь мнения о том, что в целом китайский народ настроен против коммунистов, Шурман полагал, что русские агенты не достигнут успеха в деле агитации масс. Развивая логику собственных утверждений, посланник констатировал, что в силу сложившихся исторических и культурных особенностей китайцы не предрасположены к восприятию коммунизма. Но если разделять точку зрения дипломата, можно задаться вопросом о том, каким образом советские агенты, в понимании Шурмана, представляли опасность западным интересам в Китае? Отвечая на этот вопрос, посланник указывал, что, поскольку большевистская теория не может в силу определенных обстоятельств превалировать в домашних институтах, «практика Советской России, осуществленная через активизацию ее внешней политики, действует чрезвычайно притягательно на невежественных или безответственных китайцев, являясь для них тем самым образцом для подражания». В понимании Шурмана, часть таких граждан рассуждала так: раз Россия, аннулировав договоры царского правительства с иностранными нациями и отказавшись от уплаты своего внешнего долга, «стала сильнее, добившись в целом признания других держав, то почему в таком случае Китай не может пойти по пути СССР?»33. Таким образом, как заключал дипломат, истинную опасность представляет стремление СССР помочь Китаю заявить о своем
96
отказе выполнять прежние международные договоренности с Западом. Шурман понимал, что это в дальнейшем позволяет Советам в опосредованной форме активно критиковать Запад.
В конце января 1925 года до посланника дошли слухи о существующем якобы со стороны США желании признать СССР. В связи с этим он в своем письме к президенту Кулиджу указал на то, что проблемы Дальнего Востока не могут быть урегулированы до тех пор, пока Советский Союз не признан более широко. Далее дипломат обратил внимание на то, что «признание России всеми правительствами мира не восстановит нормальной ситуации на Востоке, если Советское правительство не признает и не выполнит свои международные обязательства как лояльный и готовый к сотрудничеству член содружества наций». Посланник не хотел, чтобы президент подумал, будто бы он выступает против признания СССР, хотя, по мнению Шурмана, это не добавит абсолютно ничего, пока Советское правительство не станет руководствоваться доброй волей и желанием способствовать солидарности человечества на какой-нибудь другой основе, нежели чем стремление распространять идеи мировой революции. Завершая свое послание, Шурман заявил, что СССР, кроме работы чисто дипломатического характера, использует своих консулов в деле коммунистической пропаганды. Наиболее ярким примером этого, по мнению американского посланника, было поведение советских дипломатов в Китае34.
Обозначенный круг политических проблем заставил Шурмана осознать необходимость того, что нельзя более хранить молчание и скрывать свое беспокойство по поводу усиления влияния СССР в Центрально-Азиатском регионе, угрожающего интересам Запада в Китае. Американский дипломат решил, что он просто обязан ответить на все возрастающую эффективность советской пропагандистской машины. Поэтому 17 декабря 1925 года Шурман, выступая перед массовой аудиторией в Шанхае, стремился убедить слушателей в том, что лучший путь для перспективного развития Китая — «путь постепенной политической эволюции, этап вашингтонских резолюций и договоров, дорога постепенного продвижения к полному и полноценному китайскому суверенитету»35.
Если бы мы могли перенестись в то время в аудиторию,
97
где 20 января 1925 года в Пекине в здании Англо-американской ассоциации выступал американский дипломат, мы смогли бы стать свидетелями того, как Шурман, рассуждая об «экстерриториальности и ее постепенной отмене», заметил, что, по его мнению, Запад должен посмотреть правде в глаза и осознать факт пробуждения в Китае чувства национального самосознания. Далее посланник указал на то, что, осознавая это, «...не должны удивляться тому, что китайцы начинают требовать того же, что требуют все другие нации в мире — права управлять своими собственными делами». После Шурман попытался предостеречь китайцев против их увлечения идеями коммунизма, поскольку это впоследствии восстановит против Китая весь Запад. Завершая свое выступление, посланник еще раз заметил, что, по его мнению, лишь эволюция будет правильным решением всех проблем в их стране, а пересмотр неравноправных договоров может последовать вскоре после формирования достойного правительства36.
В ответ на это советский посланник, ссылаясь на вчерашнее заявление Шурмана, при выступлении в стенах Пекинского национального университета по случаю первой годовщины смерти Ленина, заметил, что многие «сейчас заявляют, что все проблемы империализма возникли из-за того, что господин Карахан подстрекает и инструктирует китайцев в проведении ими «революционной программы восстановления суверенных прав Китая». Продолжая свое выступление, советский посланник подчеркнул, что он знает о возникших по данному поводу опасениях американской стороны, которая, пытаясь завуалировать истинные причины, делает упор на то, что США тоже выступают против неравных договоров, вызывающих всеобщие протесты в Китае. По мнению Карахана, американские обещания отменить неравные договоры после установления сильного китайского правительства — «не более чем вежливый способ отказаться от их отмены». Далее оратор попытался исследовать, что на самом деле означает фраза Шурмана о том, что «Америка выступает за эволюцию». Полагая, что отменить неравные договоры эволюционными методами — значит отдать себя на милость тех, кто навязал эти договоры Китаю, а это, в свою очередь, порождает ожидание, просьбы, мольбы одной стороны и желание препятствовать отмене договора пред
98
ставителей другой, Карахан заявил своим китайским слушателям, что пришло время действовать37.
Продолжая начатую полемику, 13 февраля 1925 года Шурман, выступая с докладом об особенностях американской системы государственного управления, обратился к членам Американской деловой ассоциации в Пекине. Содержание своего выступления он описал в кратком письме к президенту Кулид- жу: «Поскольку сейчас китайцы отваживаются реорганизовать свое правительство, и по этому поводу собирается конференция, а после будет собран Национальный конвент, я решил, что описание выдающихся черт нашей системы управления может быть для них полезно. В силу этого я постоянно держал в уме китайские политические проблемы и нужды, пока готовил это обращение. С другой стороны, поскольку большевики проводят по всему Китаю дорогостоящую, но весьма успешную пропагандистскую кампанию, главной целью написания данной работы было создание обращения, по контрасту осуждающего их систему, которую я, однако, ни разу не назвал конкретно, хотя и ссылался, в общих словах, на коммунизм, классовое управление и деспотизм как противоположные американской демократической системе черты»38.
Анализируя особенности социально-политического развития страны, американский посланник был вынужден констатировать, что деловое сообщество в Шанхае своей деятельностью невольно способствует успеху советской пропаганды в Китае. Уязвленный критикой своих речей 17 декабря 1924 года в Шанхае и 20 января 1925 года в Пекине, Шурман разделял, с одной стороны, мнение американских бизнесменов, считавших, что Соединенные Штаты не должны уступать ни дюйма китайским требованиям пересмотреть договоренности; он понимал причины выдвигавшихся требований использовать военное вмешательство с целью навести порядок в Китае, поскольку было видно, что существующий хаос не благоприятствует развитию деловых отношений Америки с Китаем. «Кажется, — отмечал дипломат, — в умах этих людей вопрос политики или суверенных прав Китая не существует; удовлетворить их способны только такие меры, на которые не согласится ни одна суверенная нация»39. Поэтому-то, с другой стороны, ответственность за большую часть успеха советской пропа
99
ганды в Китае Шурман возлагал на догматичную реакцию иностранного делового сообщества. «По причине своей нечувствительности к расовым ожиданиям и отказом Китаю в основных правах на суверенитет и независимость они восстанавливают против нас каждого китайца, знающего что-либо об этих проблемах»40.
Глубоко разобравшись в сущности центрально-азиатских проблем, американский посланник в своем письме к президенту Кулиджу высказал опасения, что, «если все это будет продолжаться дальше, большевизм победит в Китае и договор с иностранными державами будет разорван»41. К началу 1925 года Шурман был уверен в том, что в целях предотвращения надвигающейся трагедии в стране Запад должен немедленно предпринять какие-то кардинальные меры. Полагая, что лучший способ противостояния советской пропаганде и усмирения радикального китайского национализма заключается в скорейшей реализации решений Вашингтонской конференции42, он понимал, что все китайцы, имеющие возможность высказаться, будут требовать пересмотра или отмены договоров и русские это искусно используют в своих интересах. Проведение в жизнь Вашингтонского соглашения представляло видимую альтернативу вдохновляемым Советами требованиям отказа от «неравных договоров». Но Запад должен учитывать, что любая его прямая акция приведет к массовым протестам, которые по всему Китаю возглавят студенческие активисты. В силу этого Запад, по мнению посланника, либо должен изменить свою традиционную политику в Китае, либо прийти к катастрофе.
В марте 1925 года госсекретарь Ф. Келлог, считая неразумным осуществление данного плана, все-таки поинтересовался мнением Шурмана по вопросу о британском предложении проведения совместной военной интервенции в Китай. В ответ на это посланник заметил, что любая акция Запада не будет иметь должного влияния на лидеров китайских политических объединений, за исключением Чжан Цзолиня в Маньчжурии, поскольку соперники Чжана в борьбе за власть «будут апеллировать к национальным интересам и расовым чувствам против иностранных империалистов, которые управляют их страной военными методами». Завершая свое послание, Шурман подчеркнул, что он полностью согласен с точкой зрения Келлога
100
и уверен, что «предлагаемая программа захлестнула бы Китай волной ксенофобии»43.
17 апреля 1925 года миссия Шурмана в Китае завершилась, поскольку он был вынужден покинуть Пекин с целью принятия своего нового назначения послом США в Германию. Завершая анализ деятельности Шурмана на посту главы дипломатического представительства США в Китае, можно заметить определенную эволюцию в его взглядах. Так, если в 1922 году в начале своей дипломатической карьеры он еще отказывался видеть надвигающуюся угрозу большевизма в Китае, не веря в то, что китайский народ воспримет коммунизм, то в начале весны 1925 года, уезжая из Китая, дипломат только имел неясные представления насчет будущего этой страны. Когда-то американский посланник считал, что иностранные власти сами должны иметь ясную идею о перспективном развитии, прежде чем отвечать силой на китайский национализм. Через шесть недель после того, как Шурман покинул Китай, британский полицейский — не имея, видимо, ясных представлений об этом— приказал своим подчиненным открыть огонь по участникам забастовки, происходившей на территории Международной концессии в Шанхае. Вскоре девять молодых китайцев лежали мертвыми на земле и события 30 мая 1925 года навсегда изменили историю Китая, а Карахан, оценивая исход завершившихся дипломатических споров с Шурманом, наверняка, улыбался в тот день.
Перевод с английского И.И. Куриллы
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Шурман — Кулиджу. 28 января 1925 г. / / Calvin Coolidge Papers: Library o f Congress. Washington (D.C.) (далее — LC. Речь см.: Там же).
2. Не издано ни одной специальной книги о Шурмане. Карьера Шурмана прослежена в кн.: Angelis R. de. Jacob Gould Schurman and American Policy toward China, 1921—1925: Ph. D. Dissertation / St. John’s University. 1975; Davis K.E.. The Diplomatic Career of Jacob Gould Schurman: Ph. D. Dissertation / University o f Virginia.
101
1975; Maynard M.. Jacob Gould Schurman: Scholar, Political Activist, and Ambassador of Good Will, 1892—1942: Ph. D. Dissertation / University o f Santa Barbara. 1976. В статье Кеннета Хендриксона (Hendrickson K.H., Jr. Reluctant Expansionist— Jacob Gould Schurman and the Philippine Question / / Pacific Historical Review. 1967. N 36. P. 405—421) исследуется первый опыт Шурмана в дипломатии. Превосходный некролог появился в «Нью-Йорк Таймс» 13 августа 1942 г. [См. также: Wilson D.L. Jacob Gould Schurman / / American National Biography / Ed. by John A. Garraty; Oxford University Press. (in print)].
3. Шурман — активный ученый, опубликовал большое количество научных книг и статей. Он также основал в 1892 г. «Philosophical Review», первый национальный философский журнал в Соединенных Штатах, и был его редактором до 1905 г. Лучшая библиография трудов Шурмана содержится: Angelis R. de. Jacob Gould Schurman and American Policy toward China... 1975.
4. Детали назначения Шурмана описаны в работе: Angelis R. de. Jacob Gould Schurman and American Policy toward China... P. 66—69; Davis K.P. The Diplomatic Career o f Jacob Gould Schurman... P. 109—113.
5. Angelis R. de. Jacob Gould Schurman and American Policy toward China... P. 113—115.
6. Шурман— государственному секретарю. 3 декабря 1921 г. / / Records o f the Foreign Service Posts o f the United States: Record Group 84: China Legation File. 1921. Vol. 20. National Archives, Washington (D.C.) (далее — RG 84).
7. См. : Wilson D.L. The United States and Chinese Nationalism during the 1920s / / Chinese Historians. 1992. Vol. 5. P. 49—58.
8. Шурман— государственному секретарю. 24 апреля 1922 г. / / Records o f the Department o f State relating to the Internal Affairs o f China. Record Group 59. 893.00/4403. National Archives, Washington (D.C.) (далее — RG 59).
9. Шурман— государственному секретарю. 25 апреля 1922 г. / / RG 59. 893.00/4366.
10. Шурман — государственному секретарю. 12 апреля 1922 г. / / RG 59. 893.00/4116.
11. Командир патруля Янцзы Д.В. Вуд — командующему Азиатским флотом США. 19 февраля 1921 г. / / RG 59. 893.00/3861.
12. А.Б. Раддок, Пекин — Лео А Берггольцу, Кантон. 1 марта 1922 г. / / RG 84. Canton. C. 8. 13. Part 9. 1922; Хастон — Раддоку.
102
16 марта 1922 г. / / Ibid. Копия манифеста доступна в бумагах Джея Калвина Хастона в работе: Jay Calvin Huston Papers: Hoover Institution on War and Peace. Stanford University. Palo Alto (CA) (далее— Huston Papers). О стачке гонконгских моряков см.: Chesneaux J. The Chinese Labor Movement, 1919—1927. Translated from the French by H.M. Wright. Stanford (СА): Stanford University Press, 1968. P. 180-187.
13. См.: David L. Wilson. Jay C. Huston and the American Perception of Chinese Nationalism: [Доклад, представленный на ежегодной встрече Общества историков американской внешней политики (SHAFR) в июне 1994 г.]; Wilson D.L. The Attitudes of American Consular and Foreign Service Officers toward Bolshevism in China, 1920—1927: Ph. D. Dissertation / University of Tennessee. 1974.
14. Хастон— государственному секретарю. «Недавний подъем рабочих союзов и рост китайского социализма в Кантоне под эгидой Гоминьдана». 28 июня 1922 г. / / Huston Papers. 30 июня Хастон писал Шурману, пересылая ему копию доклада: «Этот доклад представляет работу, выполненную в неурочное время, по ночам, субботними вечерами и по воскресеньям».(Хастон — Шурману. 30 июня 1922 г. / / RG 84: Legation File. 1922. Vol. 24).
15. Шурман — Хастону. 15 июля 1922 г. / / RG 84: Legation File. 1922. Vol. 24. Шурман продолжал уделять пристальное внимание работе Хастона, высоко оценив серию его докладов, касавшихся влияния большевизма в Китае.
16. Речь Шурмана 12 апреля 1923 г. (Цит. по: Angelis R. de. Jacob Gould Schurman and American Policy toward China... P. 265— 266). Интересно, помогал ли Хастон посланнику в подготовке его речи? В это самое время Хастон заканчивал большой доклад, посвященный рабочему движению в Cеверном Китае, начатый им1 марта, в котором вновь заключил, что советские агенты глубоко вовлечены в рабочее движение и что они также тесно связаны с Гоминьданом. Опасность, с точки зрения Хастона, исходила не от самого китайского национализма, а от его использования внешними силами. Эти силы могли в конце концов изгнать Америку из Китая. (См.: Хастон — государственному секретарю. 23 июля 1923 г. «Ситуация в рабочем движении Китая: подсчет забастовок в Северном Китае в конце 1922 и начале 1923 гг., с частичным анализом некоторых глубоких причин» / / RG 59. 893.504/15).
Сунь Ятсен вынужден был бежать из Кантона в июле 1922 г. Он уже был в контакте с несколькими русскими агентами и
103
Чэнь Дусю (одним из основателей Китайской коммунистической партии в 1921 г.) ко времени своего прибытия в Шанхай. Адольф Иоффе, русский представитель в Китае в 1922—1923 гг., инициировал дальнейшие переговоры с Сунь Ятсеном осенью, и в январе 1923 г. они объявили декларацию Сунь Ятсена—Иоффе. Хастон понял, что означает это соглашение и как оно повлияет на рост Китайской националистической партии (Гоминьдана) при поддержке Советского Союза и Китайской коммунистической партии, намного раньше американских дипломатов и большинства других иностранцев в Китае. Возможно, Хастон убедил Шурмана произнести речь в Тяньцзине в ответ на декларацию Сунь Ятсена— Иоффе. Лучшая работа на английском языке о советской деятельности в Китае: Wilbur C.M., Lien-Ying J. How. Missionaries of Revolution: Soviet Advisers and Nationalist China, 1920—1927. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1989. (См. также: Brandt С. Stalin’s Failure in China, 1924—1927. N. Y. : W.W. Norton & Co., 1958; North R. Moscow and the Chinese Communists. 2nd ed. Stanford (CA): Stanford University Press, 1963; Whiting A.S. Soviet Policies in China, 1917—1924. N. Y. : Columbia University Press, 1954).
17. Шурман — государственному секретарю. 21 сентября 1923 г. / / RG 84: Legation File. 1923. Vol. 22.
18. Ibid.19. Государственный департамент — дипломатическим
служащим Соединенных Штатов. 13 июля 1923 г. RG 84: Legation File. 1923. Vol. 22.
20. Шурман — государственному секретарю. 21 сентября 1923 г. / / RG 84. Legation File. 1923. Vol. 22.
21. Интересно, что американский посланник Хастон и агенты Коминтерна имели одинаковые взгляды на эту проблему. Все соглашались, что китайцы нуждаются в руководстве извне, чтобы изменить свою страну.
22. Шурман — Кулиджу. 8 апреля 1924 г. / / Coolidge Papers.23. Шурман — государственному секретарю. 25 июля 1924 г.
/ / RG 59. 893.00/5528.24. Шурман — государственному секретарю. 22 августа 1924
г. / / RG 84. Legation File. 1924. Vol. 21. Этот доклад был, вероятно, подготовлен первым секретарем посольства Эдвардом Беллом, поскольку экземпляр госдепа подписан им, в то время как на копии представительства стоит подпись Ш урмана. (Белл — государственному секретарю. 22 августа 1924 г. / / RG 59. 893.00B/
104
97). К тому времени, когда посольство делало подобные обзоры, агенты Коминтерна работали в Китае уже более двух лет.
25. Фрэнк Б. Келлог — Шурману. 14марта 1925 г. / / RG 59. General Records of the Department o f State. 707.1161/22. National Archives. Washington (D.C.) (далее — RG 59). Келлог стал государственным секретарем в начале марта. (См. также: Хьюдж— Шурману. 28 февраля 1925 г. / / RG 59. 707.1161/20). В ответ на доклад Шурмана от 8 ноября 1924 г. Хьюдж информировал того: «Департамент считает, что статус советского представителя в качестве дуайена дипломатического корпуса не может быть проигнорирован и что, следовательно, он будет участвовать во встречах дипломатического корпуса; однако, надо ожидать, что задачи, решаемые этим органом, будут отныне ограничены делами чисто формального и церемониального характера».
26. Шурман — государственному секретарю. 11 марта 1925 г. / / RG 59. 707.1161/22.
27. Ibid.28. Дуглас Дженкинс — Шурману. 6 и 7января 1925 г. / / RG
84: Legation Files. 1925. Vol. 21.; С.Д. Мейнхардт — Шурману, 23 января 1925 г. / / RG 84. Legation Files. 1925. Vol. 21.
29. Шурман — Мейнхардту. 6 февраля 1925 г. / / RG 84. Legation File. 1925. Vol. 21.
30. Шурман — американским консулам. 17 января 1925 г. / / RG 59. 893.00/6118.
31. Шурман— государственному секретарю. 20 февраля 1925 г. / / RG 59. 893.00/6118.
32. Шурман — государственному секретарю. 12 января 1925 г. / / RG 59. 893.00/5945.
33. Шурман — государственному секретарю. 9 января 1925 г. / / RG 59. 893.00/6047.
34. Шурман — Кулиджу. 29 января 1925 г. / / Coolidge Papers.35. Шурман — государственному секретарю. 5 января 1925 г.
/ / RG 59. 893.00/6007.36. Речь перед Англо-американской ассоциацией. 20 января
1925 г.: Приложение к письму Кулиджу от 28 января 1925 г. / / Coolidge Papers.
37. Речь, произнесенная Л.М. Караханом 21 января 1925 г., не идентифицированная газетная вырезка / / Huston Papers. Американский военный атташе подготовил доклад по форме G-2
105
(разведка), в котором описал обе речи, заметив, что критика речи Карахана «была очень ядовитой в иностранной прессе». Речь Шурмана была высоко оценена англоязычной печатью, в то время как радикальные китайские газеты остро критиковали американского посланника, одобряя Карахана (Доклад G-2 N 5330. [Штамп 11 марта 1925 г.]/ / RG 84: Legation File. 1925. Vol. 23.).
38. Шурман— Кулиджу. 14 февраля 1925 г. / / RG 84. Legation File. 1925. Vol. 37. Неясно, получил ли Кулидж это письмо, так как оно отсутствует в бумагах Кулиджа.
39. Шурман — государственному секретарю. 6 февраля 1925 г. / / RG 59. 893.00/6099.
40. Шурман — Кулиджу. 28 января 1925 г. / / Coolidge Papers. Хорошее описание реакции иностранного сообщества на китайскую революцию 1920-х дано в книге: Clifford N.R.. «Spoilt Children of Empire»: Westerners in Shanghai and the Chinese Revolution of the 1920s. Hanover (New Hampshire): University Press of New England, 1991.
41. Ibid.42. О последствиях неудачного введения «Вашингтонской
системы» см.: Iriye A.. After Imperialism: The Search for a New Order in the Far East, 1921—1931. Cambridge. (Mass.): Harvard University Press, 1965.
43. Келлог — Шурману. 25 марта 1925 г. / / RG 59. 893.00/ 6109; Шурман — Келлогу. 27марта 1925г. / / RG 59. 893.00/6110.
А.Д. Дридзо
ЗАГАДКА «ПАРАГВАЙСКОГО МОСКВИЧА» (Р.А. РИТТЕР В АСУНСЬОНЕ, 1902-1946)
Две группы участников русской экспедиции в Южную Америку, посетившие Парагвай в 1914—1915 годах1, с удивлением обнаружили в этой далекой стране земляка. Г.Г. Манизер написал об этом так: «К нашему удивлению, мы встретили в Асунсьоне русских — один из них, д-р Риттер, даже оказался влиятельным лицом и был полезен впоследствии двоим из нас, прожившим почти год в Парагвае после возвращения из Матто Гроссо»2.
Н.П. Танасийчук привел о Риттере более подробные све
106
дения. Он пишет: «Не знаю, как сложились бы наши южноамериканские странствования в дальнейшем, если бы мы не встретили в Асунсьоне нашего соотечественника — д-ра Риттера. От тех мизерных средств, которыми мы располагали, осталось до смешного мало. Но д-р Риттер принял живейшее участие в наших планах, через него мы познакомились с цветом парагвайской интеллигенции — учеными, министрами. Один из последних — министр иностранных дел д-р Гондра, европейски образованный человек, помимо того что снабдил нас весьма ценной литературой, дал нам возможность бесплатно странствовать по парагвайским путям сообщения. По совету д-ра Риттера из Асунсьона мы отправились по реке Альто Парана»3.
И.Д. Стрельников и Н.П. Танасийчук в одном из писем к Л.Я. Штернбергу называют его «влиятельным общественным деятелем и писателем», добавляя, что именно Риттер направил их к жившему тогда в Парагвае известному ученому Мои- сесу Сантьяго Бертони (1857—1929), радушно принявшему и предоставившему им все возможности для продолжения научных исследований. Молодые петербуржцы провели в доме Бертони восемь месяцев. Гостеприимство пожилого ученого объяснялось еще и тем, что в годы учебы в своей родной Швейцарии он подружился со многими русскими эмигрантами — М.А. Бакуниным, В.И. Засулич, П.А. Кропоткиным. Бертони даже отправился в Парагвай, по-видимому, по совету последнего, а свою старшую дочь назвал в честь Веры Ивановны Засулич4.
Приведенные данные, хотя и далекие от полноты, привлекают внимание к личности Риттера, человека явно незаурядного. Однако в материалах экспедиции сведений о нем больше не встречается. В то же время, занимая видное положение в Парагвае, он должен был обязательно привлечь внимание местных авторов. Эта мысль находит свое подтверждение, если обратиться, например, к двухтомнику «История парагвайской культуры» Карлоса Р. Сентуриона.
Сентурион сообщает о Риттере довольно много подробностей. Родольфо (т.е., очевидно, в России — Рудольф) Риттер, по его данным, родился в 1864 году в Москве и умер в Асунсьоне в 1946 году. Окончил физико-математический факультет Московского университета, но докторскую диссертацию защитил на другом факультете — юридическом, специа
107
лизируясь в области социальных наук и финансов. Прибыв в Парагвай в 1902 году и не зная ни слова по-испански, уже через четыре года овладел языком настолько, что смог начать интенсивную преподавательскую деятельность в средних и высших учебных заведениях столицы. Им прочитано десять курсов политической экономии в «Парагвайской гимназии», шесть — в «Нормальной школе», три по философии, социологии и праву в университете и др. Темы, по которым Риттер читал лекции, охватывают также литературу и музыку; он, в частности, знакомил парагвайцев с творчеством А.М. Горького.
Риттеру принадлежит ряд книг, главным образом по экономическим вопросам5. С 1908 по 1923 годы он издавал журнал «Эль Экономиста Парагуайо», где выступал не только как редактор, но, по-видимому, как единственный автор. Этот орган быстро завоевал популярность в парагвайском обществе. В «Истории парагвайской культуры» приведен пространный отзыв об этом издании, завершающийся следующим образом: «И не стоит бить тревогу по поводу того, что редактирует “Эль Экономиста Парагуайо” иностранец. Просто чужеземная сила укрепляет нашу культуру».
Все это время Риттер активно сотрудничал практически во всех сколько-нибудь заметных органах печати Парагвая, а также печатался в английских, французских и немецких газетах. Он, наконец, принял близкое участие в создании первого научно-исследовательского учреждения страны — «Научного общества Парагвая» (1921 г.) — и вошел в состав его правления. Таким образом, парагвайский писатель Рафаэль Баррет (1877—1910) был, несомненно, прав, когда назвал Риттера самым образованным иностранцем в истории своей страны.
В 1923—1925 гг. Р. Риттер находился в Европе, а затем вернулся в Парагвай, где продолжал свою плодотворную деятельность. Последняя его книга, учебник политэкономии, вышла всего за год до смерти ученого, в 1945 году6.
Авторитет Риттера в Парагвае был, несомненно, велик. Еще одно тому подтверждение — дружба его со многими выдающимися деятелями страны, среди которых достойное место принадлежит такому человеку, как Мануэль Гондра (1871— 1927), упомянутому в статье Н.П. Танасийчука. Это известный политический деятель Парагвая, писатель и публицист. Много
108
раз он занимал министерские посты, а в 1910—1911 и 1920— 1921 годах был президентом Парагвая. В 1923 году по его предложению V Межамериканский конгресс принял договор о предотвращении конфликтов между американскими государствами, получивший название «Договора Гондры»7.
В чем же тогда состоит загадка Риттера, о которой говорится в заглавии? Она — в том, что нам известна только часть его биографии. А вот что было до приезда нашего героя в Парагвай, совершенно неведомо. Между тем в 1902 году ему было уже тридцать восемь. Это целая жизнь, в которой могло случиться все, что угодно. Есть одна опорная точка — упоминание о том, что Риттер обучался в Московском университете. Но первая же попытка проверить эти данные лишает их всякой достоверности. Ибо в печатном списке студентов Московского университета Риттер... не значится.
Что это может означать? Либо он вовсе там не учился, либо все-таки получил образование в Москве, но под другой фамилией. Причина перемены могла быть связана со стремлением скрыться, не привлекать к себе внимания — возможно, в связи с революционной деятельностью. Но как бы там ни было, Р. Риттера (в одном письме указана первая буква отчества — «А») нет ни в упомянутом списке, ни в справочнике «Вся Москва» (где нет никакого «А. Риттера», который мог бы быть его отцом), ни в другом справочнике «Деятели революционного движения в России». Нет нигде.
Но если Риттер не настоящая фамилия и была она взята, чтобы укрыться от политических преследований, то почему же наш герой не отказался от нее после 1917 года? Это, думается, было невозможно по многим причинам: он был давно известен именно как Риттер, а тут следовало что-то объяснять, оправдываться. Более того, все это могло привести к юридическим осложнениям, так как было бы равносильно признанию, что он дал о себе неверные сведения при въезде в страну.
Риттер и его судьба таят в себе еще одну загадку. С середины 20-х годов XX века в Парагвай хлынул поток русской эмиграции. Многие деятели из ее среды вошли в историю страны в связи с их заслугами в сфере образования, науки, и особенно в военной сфере8. Назовем хотя бы достаточно известное теперь имя генерала Ивана Тимофеевича (Хуана) Беляева9. Но ни сам
109
Беляев, ни другие эмигранты10 в своих воспоминаниях ни слова не упоминают о Риттере. Это тем более странно, что, скажем, у Беляева с Риттером были общие знакомые, и в их числе уже известный нам М. Гондра11.
Я нахожу здесь только одно объяснение. Если Риттер действительно был революционером, то между ним и людьми из эмиграционной волны 1920—1930-х годов должно было возникнуть интенсивное отталкивание. Независимо от того, как он относился к Октябрьской революции, для них он был «красный», большевик, и следовательно, враг. А это отношение не могло, в свою очередь, не вызывать соответствующей реакции.
И последнее — о дружбе Риттера с Бертони. Нельзя ли допустить, что началась она не в Парагвае, а еще на родине Бертони — в Швейцарии? Мы знаем, что этот ученый уехал оттуда в середине 1880-х годов, когда Риттеру, по данным Сен- туриона, был уже 20—21-й год. Хронологически соотнести это с обучением в Московском университете нельзя. А если Риттер окончил университет не там, а в Швейцарии? Такое предположение хронологически вполне допустимо. Тогда он, возможно, выбрал Парагвай по совету Бертони и мог по приезде туда воспользоваться его помощью и поддержкой. Мы пока не знаем, что делал Р. Риттер первые годы после приезда в Парагвай. Если учесть эти соображения, а также иметь в виду, что связи с европейской прессой ему было легче установить в Европе, нежели, будучи совершенно неизвестным человеком, предлагать свои услуги издалека, то можно сделать вывод: Риттер эмигрировал в Новый Свет не из России, а из Швейцарии или другой западноевропейской страны, куда выехал совсем еще молодым. Пока это все, что можно сообщить по поводу загадочного «парагвайского москвича».
П РИ М ЕЧАН И Я
1. В состав экспедиции входили пять человек: Г.Г. Манизер (1889—1917), Ф.А. Фиельструп (1889—1934), Н.П. Танасийчук (1890—1960), И.Д. Стрельников (1887—1981), С.В. Геймах (1887— ?). Наиболее полную сводку работ об экспедиции, а также список
работ Манизера, опубликованных до 1948 года, см.: Дридзо А.Д.
110
Дневник Манизера (1915) как источник по этнографии индейцев Бразилии/ / Американские индейцы: новые факты интерпретации. М., 1996. С. 266—283. Более поздние публикации см.: Кунсткамера: Этнографические тетради. Вып. 2—3. СПб., 1993; Открытие Америки продолжается. Вып. 2. СПб., 1992; Кунсткамера: Этнографические тетради. Вып. 4. СПб., 1994; Там же. Вып. 8—9. СПб.,1995; Там же. Вып. 10. СПб, 1996.
Работы Ф.А. Фиельструпа: Латинская Америка. 1992. N 7— 8 (болееранние публикации см.: Там же); Там же. 1993. N 3; Там же. 1995. N 11; Там же. 1996. N 2, 10; Там же. 1997. N 6.
Курьер Петровской Кунсткамеры / Подготовка публикации, вступительные статьи и примечания А.Д. Дридзо, А.М. Решетова. 1996. Вып. 4—5; Ф.А. Фиельструп— исследователь Южной Америки / / Первые Скандинавские чтения. СПб., 1997. С. 189—194.
2. Манизер Г.Г. Из путешествия по Южной Америке в 1914— 1915 годах / / Природа. 1917. N 5—6. Стб. 629; Манизер Г.Г. Из путешествия по Южной Америке в 1914—1915 годах / С введением и комментариями А.Д. Дридзо / / Открытие Америки продолжается. Вып. 2. СПб., 1994. С. 236.
3. Танасийчук Н.П. В Южной Америке / / Природа и люди. 1917. N 45—46. 14/IX. С. 345.
4. См.: Латинская Америка. 1977. N 1. С. 180—181; Там же. С. 346; Его же. Русские студенты в Южной Америке / / Наука и жизнь. 1966. N 1. С. 120.
5. La Cuestion Monetaria en Paraguay, 1907(написано на основе цикла лекций, прочитанных в Парагвайском институте в октябре 1906 г.); Informe sobre la contribucion territorial (1912).
6. Centurion.C.R. Historia de la Cultura paraguaya. 2-nda ed. Asuncion, 1961. T. I. P. XX, 504—507; T. II. P. 616—617.
7. Подробнее см.: Garcia B.R. Cumbre en soledad. Vida de Manuel Gondra. Buenos Aires, 1951; Zubizaretta C. Cien vidas paraguayas. Asuncion, 1985. P. 233—236; Benitez L.J. Breve historia de grandes hombres. Asuncion, 1986. P. 228; Romero R.A. Manuel Gondra: un ejemplar intellectual. Asuncion, 1989.
8. См., например: Владимирская Т.Л. Русские в Латинской Америке: Приглашение к разговору / / Латинская Америка: демагогия и власть. М., 1991. С. 75—80; Яковлев П.П. Парагвайский калейдоскоп / / Латинская Америка. 1991. N 9. С. 63—65; Мартынов Б.Ф. Генерал. Ученый. Поэт / / Там же. 1993. N 4. С.
111
71—76; Русское зарубежье в Латинской Америке. М., 1993; Сидоненко А.И Русские открывают Латинскую Америку. М., 1993; Его же. На автобусе по Южной Америке / / Латинская Америка. 1995. N 12. С. 94—95; Мартынов Б.Ф. «Переубеждать человека, прожившего такую жизнь,— глупо» / / Там же. 1995. N 5. С. 75— 80; Его же. Парагвайские встречи / / Там же. 1995. N 9. С. 53— 59; Его же. Парагвайский Миклухо-Маклай. М., 1993.
9. См. прим. 8; Беляев И.Т. Записки русского изгнанника / / Простор. Алматы, 1996. N 4—8. Архив Беляева уже несколько десятилетий находится в Москве. (См.: Вишневецкая В.А. Материалы архива И.Т. Беляева как источник по этнографии и истории Парагвая / / Проблемы исследования Америки в XIX—XX веках: Тезисы докладов. Л., 1974; Ее же. Материалы архива И.Т. Беляева как источник по этнографии Парагвая / / Советская этнография. 1979. N 3. С. 137—140.
10. См., например: Каратеев И.Д. По следам конкистадоров. М., 1991.
11. Беляев И.Т. Записки русского изгнанника / / Простор. Алматы, 1996. N 8. С. 55, 66.
А.В. Алепко
К ВОПРОСУ ОБ АМЕРИКАНСКИХ ПРОЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В.
Присоединение к России Приамурья согласно Айгунско- го, Тяньцзиньского и Пекинского договорам с Китаем положило начало хозяйственному освоению огромной, практически незаселенной территории, изобиловавшей природными ресурсами. Факт наличия горных богатств и близость к Тихому океану прежде всего определил повышенный экономический интерес иностранных предпринимателей к региону, среди ко
112
торых в первую очередь были американцы.Первым исследователем возможности использования при
соединения новых территорий к России для широкого экономического проникновения в регион Соединенных Штатов Америки в 1850—1860-х гг. был профессиональный политик и бизнесмен Перри М. Коллинз (1814—1900 гг.). 24 марта 1856 г. в конгрессе по предложению делегации от штата Калифорнии он был назначен коммерческим агентом США на Амуре. Необходимо отметить, что этому назначению предшествовали совещания самого Коллинза с президентом США Ф. Пирсом, госсекретарем У. Марси и русским посланником в Вашингтоне Стеклем в начале 1856 г. Именно от русского посланника Коллинз узнал, что Приамурье — край огромных природных ресурсов и значительной потенциальной торговли, которая может стать очень выгодной для Соединенных Штатов1.
В обязанности коммерческого агента входило изучение рынка дальневосточной окраины России, осуществление посреднических функций между американскими предпринимателями на Амуре и российской администрацией, а также разработка для правительства США на основании данных экономической разведки рекомендаций и прогнозов американской политики на Дальнем Востоке. Целью деятельности Коллинза было создание под контролем США системы международной торговли на тихоокеанском побережье России, в Сибири и континентальном Китае. В центре этой системы, по мнению Коллинза, находился бы Амур. А Соединенные Штаты использовали бы Россию как младшего партнера, следуя по ее пятам и приобретая монопольное положение на дальневосточном, сибирском и среднеазиатском рынках2. Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что миссия Коллинза была основным в этот период времени планом американского экономического проникновения на Дальний Восток, поскольку она раскрывала долгосрочные цели и методы проникновения американского капитала в регион.
В октябре 1856 г. Коллинз прибыл в Санкт-Петербург, где от Александра II получил разрешение на поездку к Тихому океану в сопровождении Д. Пейтона, юриста из Вирджинии, бывшего секретного дипломатического агента. По прибытии в Иркутск Коллинз обратился к Восточно-Сибирскому генерал-
113
губернатору Н.Н. Муравьеву с предложением о строительстве железной дороги от Иркутска до Читы, чтобы впоследствии продолжить ее вдоль Амура до Тихоокеанского побережья. Кроме того, он предлагал устроить пароходное сообщение по реке Амур3.
Для осуществления этого он решил основать Амурскую железнодорожную акционерную компанию, акционерами которой могли бы стать не только американцы, но и жители Сибири, заплатив при этом минимальный взнос в 10% от стоимости сторублевой акции. Согласно составленному им проекту условий деятельности данного предприятия в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, российское правительство должно было предоставить в распоряжение компании отводы земли по 6 верст с обеих сторон строящейся железной дороги, на которых она имела бы право не только добывать все материалы, необходимые для постройки дороги, но и разрабатывать другие полезные ископаемые4.
Кроме того, российское правительство должно было обеспечивать компанию железом, необходимым для постройки дороги, из забайкальских заводов по низкой цене, а в качестве компенсации за эту услугу оно становилось одним из акционеров будущей железнодорожной компании. В случае невозможности организации поставок железа забайкальскими заводами, компания имела право построить свои металлургические заводы на рудоносных участках Забайкальской области, которые после окончания строительства дороги правительство России могло бы выкупить у компании, причем в покупную стоимость должны были войти расчеты за рудники, которыми пользовалась компания для добычи железной руды. Правительство России также в любое время могло бы выкупить железную дорогу, обеспечив лишь 7% ее стоимости наличностью, а затем выплачивая последующие платежи с рассрочкой на 20 лет. Доставка рабочих для строительства дороги должна была осуществляться из Европейской России и Сибири, а в случае ее невозможности компания имела бы право ввозить их по контракту из Китая5.
Н. Муравьев-Амурский принял предложение Коллинза и отправил его нарочным в Петербург. По мнению генерал-губернатора, при относительном бездействии российского правительства, которое выделяло мизерные средства на выполне
114
ние программы освоения Приамурья, иностранная помощь в любой форме, особенно на производительные цели, объективно способствовала выполнению этой задачи. Окрыленный успехом, Коллинз писал госсекретарю У. Марси: «Воды озера Байкал могут быть соединены с Амуром. <...> Нет сомнения, и таким образом самое сердце Сибири откроется для нашей торговли»6 .
В апреле 1857 предложение Коллинза было рассмотрено в Сибирском комитете. Управляющий делами комитета В.П. Бут- ков заметил по этому вопросу: «Нельзя... пускать на Амур и в Сибирь республиканцев: они разовьют там свой дух, и Сибирь отвалится от нас». Вскоре и правительство России единодушно признало реализацию этого проекта делом весьма преждевременным7.
В мае 1890 г. американский генерал и банкир Баттерфилд организовал акционерную компанию в Нью-Йорке для сооружения эксплуатации железнодорожной магистрали от Челябинска или Тюмени до Владивостока. Предварительно изучив позиции российского правительства по этому вопросу, он представил министру финансов И. Вышнеградскому записку, в которой просил о предоставлении концессии на строительство этой магистрали. Среди условий, предложенных американским предпринимателем, были: получение им в течение 80 лет гарантированного российским правительством четырехпроцентного дохода с 75% облигаций компании, составляющих нарицательный капитал; беспошлинный ввоз необходимого оборудования; проведение с помощью российской армии строительных работ; возмещение компании произведенных ею расходов даже в том случае, если она не сможет довести свое дело до конца. Предложения Баттерфилда были отклонены в связи с явно убыточными для казны условиями8.
В начале ХХ в. представители американского финансового капитала снова предприняли серьезные попытки получить крупные железнодорожные концессии у российского правительства в Сибири и на Дальнем Востоке. В связи с этим между американскими монополистическими группами Моргана и Гар- римана-Ш иффа началась конкурентная борьба.
Еще в 1903 г. группа Гарримана выдвинула предложение по постройке железной дороги Аляска—Сибирь и образовала
115
для этой цели синдикат, в который вошли некоторые представители финансового капитала США. В числе его основателей были американские миллионеры Гарриман и Хилл. Кроме того, для оказания поддержки вновь созданной структуре правительством США был учрежден Комитет содействия, в состав которого вошли министр финансов США и директор «National City Bank»9. Автором проекта строительства этой грандиозной железной дороги был французский инженер Лойк де Лобель, который еще в 1900 г. предложил американским бизнесменам провести железнодорожную магистраль Нью-Йорк—Париж через Аляску и Чукотский полуостров с туннелем под Беринговым проливом общей протяженностью в 10 тыс. километров10.
Став уполномоченным образованного американского синдиката, Лойк де Лобель передал в 190З г. правительству России ходатайство о предоставлении концессии на 90 лет для постройки железной дороги протяженностью 5 тыс. км от станции Канск Сибирской железной дороги через Якутск и Верхне- Колымск до мыса Дежнева, а затем тоннелем под Беринговым проливом на Аляску. Основным условием, которое выдвигали американские концессионеры, было требование отвода 24-верстной полосы на всем протяжении железнодорожного пути с целью предоставления его в их распоряжение для разработки в пределах этой полосы полезных ископаемых, эксплуатации лесов, ведения промыслов и др.11. Однако в 1903 г. американским предпринимателям в их прошении было отказано. В противовес этому правление синдиката повторило свою просьбу в 1904 и 1905 гг.12.
В декабре 1905 г. особое совещание под председательством С.Ю. Витте постановило образовать комиссию для изучения вопроса о предоставлении железнодорожной концессии американским предпринимателям. Против ее предоставления активно выступал Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер, который, в частности, писал: «Предложение американского синдиката на первый взгляд весьма заманчиво, но по существу для нас не только невыгодно, но и для целостности государства крайне опасное»13. Следует заметить, что американский синдикат предлагал начать строительство данной железной дороги на территории России, начиная с территории неподалеку от Берингова пролива. В 1906 г. правление синдиката «Аляска—
116
Сибирь» создало технический комитет, состоявший из известных в США специалистов, и объявило о выделении 6 млн. долларов на технические изыскания. Однако в 1907 г. после длительных переговоров американский проект был отклонен правительством России14.
Завершая анализ исторических фактов, свидетельствующих о нескольких безуспешных попытках американцев реализовать свои проекты в сфере международного экономического сотрудничества с Россией в области железнодорожного строительства в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, необходимо заметить, что до сих пор вопрос участия американского капитала в железнодорожном строительстве на Дальнем Востоке России остается весьма актуальным. Так, в 1991 г. в США была создана международная финансовая корпорация, заявившая о своем намерении вложить 9 млрд. долларов в строительство железнодорожного туннеля под Беринговым проливом. Тоннель лишь часть проекта, хотя технически наиболее трудоемкая. По обе стороны от Берингова пролива планируется строительство трансконтинентальной железнодорожной магистрали, общая протяженность которой составляет 6.500 километров. Линия должна связать Нью-Йорк с Якутском, Москвой и Парижем. В 1992 г. в Вашингтоне, а в 1993 г. в Москве состоялись российско-американские конференции, где обсуждались вопросы реализации данного грандиозного проекта. В этом случае остается лишь надеяться на то, что судьба этих проектов будет более счастливой, чем у их исторических предшественников, и дело международного сотрудничества России и США по данному вопросу продвинется дальше теоретических концепций и пустых обещаний.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. L. Gass to J. B. Clay. 01. 15. 1859. House Ex. Doc. 98. 35 Cong. I Sess. Washington, 1858. P. 4; Collinth to the President. 02. 29. 1858. House Ex. Doc. 98. 35 Cong. I Sess. Washington, 1858. P. 48.
2. Ibid. P. 49.3. Collins P., Donough M. Siberian Journey Down the Amur to the
Pacific, 1856—1857/ / A New Edition of «A Voyage Down the Amur».
117
Madison: The University o f Visconsin Press, 1962. Back flap. P. 52, 87—90, 110-111.
4. Выписка из журнала Сибирского комитета от 22. 04. 1857. РТИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 95. Л. 11—13.
5. Там же. Л. 4—6.6. P. Collinth to W. Marcy. 11. 30. 1856. House Ex. Doc. 98. 35
Cong. I Sess. Washington, 1858. P. 1.7. Выписка их журнала Сибирского комитета от 22. 04.
1857. РТИА. Ф. 1265. Оп. 6. Д. 95. Л. 11—13.8. Русский вестник. 1902. Февраль. С. 661; Саблер С.В. и
Сосновский И.В. Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем, 1893—1903 гг. СПб., 1903. С. 101—102.
9. Тригорцевич С. С. Дальневосточная политика империалистических держав в 1906—1917 гг. Томск, 1965. С. 86.
10. Славин С.В. Американская экспансия на северо-востоке России в начале 20 века / / Летопись Севера. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 146.
11. Красный Архив. 1930. Т. 6 (43). С. 175.12. Славин В. С. Американская экспансия на северо-востоке России
в начале 20 века / / Летопись Севера. М.; Л., 1949. Т. 1. С. 146.13. П.Ф. Унтербергер — В.Н. Коковцеву. 1906 г. РТВИА. Ф.
99. Оп. 1. Д. 9. Л. 8.14. Записка министра иностранных дел по вопросу о
деятельности американского синдиката «Аляска—Сибирь». АВПРИ. Ф. 150. Оп. 493. 1905—1906 гг. Д. 473. Л. 121.
В.Л. Хейфец, Л. С. Хейфец
МИХАИЛ БОРОДИН В НОВОМ СВЕТЕ: ДИПЛОМАТ ИЛИ МИССИОНЕР
КОМИНТЕРНА?
Мексика стала первой латиноамериканской страной, с рабочим движением которой в 1919 г. Коминтерном были установлены связи в ходе поездки Михаила Бородина (настоящая фамилия — Грузенберг). Миссия первого представителя III Интернационала в Новом Свете отличалась от поездок ранних эмиссаров Коминтерна в страны Западной Европы, чья задача
118
заключалась в установлении контактов с лидерами левого крыла социалистических партий, со многими из которых они были знакомы по циммервальдскому движению. Эти люди неплохо ориентировались в сложных взаимоотношениях различных течений рабочего движения и политической ситуации тех стран, куда их направляло большевистское руководство, так как они жили там или бывали во время эмиграции. Бородин же командировался в Латинскую Америку, зная о ней не больше любого интересующегося политикой жителя США, страны, где он прожил одиннадцать лет.
Почему целью поездки была избрана Мексика? С точки зрения тактики Коминтерна выгоду скорее принесла бы миссия в Аргентину, где с января 1918 г. действовала Интернациональная социалистическая партия, пытавшаяся играть роль «континентального Интернационала», распространяя свое влияние на рабочее движение Уругвая, Чили и Бразилии, и уже в апреле 1919 г. обратившаяся к Коминтерну с просьбой признать ИСПА «единственной секцией Интернационала в Аргентине»1.
Представляется, что основой для выбора Мексики послужил именно набор заданий, порученных Бородину Коминтерном и НКИД РСФСР. В ряде исследований и в воспоминаниях соратников Бородина указывается на контрабанду драгоценностей для нужд коммунистического движения региона как на важнейшую часть его миссии2. Однако это не было его единственным поручением. 17 апреля 1919 г. В.И. Ленин подписал документы о назначении М. Грузенберга генеральным консулом РСФСР при правительстве Мексиканской Республики. Ему поручалось вступить в переговоры «с целью установления отношений между правительствами обеих республик по вопросам поддержания дружественных отношений между ними, установления торговых отношений», заключить и подписать от имени РСФСР предварительное торговое соглашение. 24 марта с Бородиным встречался Ленин, после чего направил наркому внешней торговли Л. Красину записку с просьбой принять будущего генерального консула3.
Мексика была единственной страной Латинской Америки, не разорвавшей отношений с Россией после прихода к власти большевиков, а лишь приостановившей их (ни одна из сторон не делала официального заявления о разрыве диплома
119
тических отношений)4. Ко времени Октябрьского переворота в России в Мексике завершилась буржуазно-демократическая революция с явно антиамериканской окраской. Серьезно портила отношения с северным соседом прогерманская ориентация президента Каррансы. На этом, вероятно, и предполагали сыграть руководители НКИД и Коминтерна. Это открывало некоторые перспективы для налаживания отношений. Соратник Бородина Филипс считал, что верительные грамоты должны были быть вручены лишь при уверенности в признании правительства РСФСР5. Главным же поручением Михаила Марковича, даже если бы он и стал послом в Мексике, было «изучение тамошних условий», что на эзоповом языке коминтер- новцев означало финансирование и руководство коммунистическим движением Латинской Америки с Мексикой в качестве ее центра6.
Американский радикальный журналист К. Билс полагал, что задачей Бородина было предотвратить вступление США «в войну на стороне Британии <против РСФСР> путем организации таких неприятностей в Мексике, которые подвигли бы <...> на вооруженную интервенцию <в Мексику>. Таким образом, Соединенные Штаты были бы заняты вблизи от своего дома»7. Неприятностью номер один могла стать деятельность компартии. Судя по воспоминаниям М.Н. Роя, в Москве не считали, что подобная деятельность испортит отношения с Мексикой, наоборот, рассчитывали на поддержку ее президента, имея в виду антиимпериалистическую, антиамериканскую направленность коммунистического движения, вполне сочетавшуюся с основным вектором внешней политики Мексики.
Документ, составленный российским (назначенным еще при царе) консулом в Мексике со слов вовлеченного в события секретаря Генерального консульства Мексики в Москве Х. Вильярдо, проливает свет на подготовку и первый этап поездки Бородина. В марте 1919 г. в консульство поступило приглашение встретиться с замнаркома по иностранным делам в РСФСР Л. Караханом, который сообщил и.о. консула Блидину о желании СНК создать Русско-мексиканскую торговую палату и направить «американского гражданина русского происхождения» Грузенберга для доставки правительству Мексики соответствующих предложений в дипломатическом пакете с пе
120
чатями мексиканского консульства; требовалось выдать последнему мексиканский дипломатический паспорт и свидетельство о пребывании его в должности вице-консула Мексики в Москве. Вильярдо предложил сделку: учредить палату пока только в Москве, а вместе с Бородиным отправить и его самого. Организационное собрание Русско-мексиканской торговой палаты состоялось 5 апреля в консульстве, а 12 апреля — в помещении Коминтерна в присутствии Вильярдо, Блидина, Бородина, завотделом дипкурьеров НКИД Канторовича, сербского коммуниста Милкича и секретаря ИККИ А. Балабановой. Изрядная сумма (500 тысяч рублей, 300 тысяч немецких марок, 200 тысяч австрийских крон, т. е. 45 тысяч долларов по тогдашнему курсу) была запечатана в дипломатические пакеты, причем во время беседы Балабанова и Бородин несколько раз связывались по телефону с Лениным. В связи с отсутствием в консульстве чистых бланков дипломатических паспортов, те были напечатаны в московской типографии по представленному образцу8.
В Берлине Бородин уговаривал мексиканца помочь в переговорах с правительством об утверждении его в должности российского консула, пообещав взамен добиться аналогичного поста для Вильярдо в Бразилии. Вильярдо, изложив все происшедшее в Москве поверенному в делах Мексики в Германии Л. Ортису, неожиданно получил указание пригласить Бородина для ратификации его назначения вице-консулом и выдачи мексиканской визы. Сам же Ортис, собиравшийся в Мексику, пообещал эмиссару Коминтерна и НКИД РСФСР содействие9.
Уже в Женеве Бородин сообщил мексиканцу, что является советским генеральным «представителем на всю Америку» с временной резиденцией в Мексике как «наиболее передовой республике». Для этой цели и везутся деньги. Устройство же торговой палаты — повод к контакту с консульством Мексики в Москве10. Совместное путешествие прервалось в мае или июне, когда Вильярдо получил известия об аресте в Москве своей невесты и Блидина и вернулся в Россию, Бородин же отправился далее. В России мексиканец был арестован, но вскоре освобожден и привезен на встречу с Караханом, давшим согласие на выезд семьи Вильярдо за границу в обмен на помощь в переправке в Европу советских курьеров. Вильярдо сообщил,
121
что сотрудники ВЧК изъяли хранившиеся в консульстве документы, однако не тронули ценностей, а вскоре был освобожден и Блидин.
По прибытии в Германию Вильярдо обратился к военному атташе Мексики полковнику Крум Геллеру, а тот, в свою очередь, к немецким властям, арестовавшим курьеров. Вернувшийся вскоре в Берлин Ортис действия полковника не одобрил, сочтя их медвежьей услугой11 .
Бородина к тому времени уже не было в Европе: 14 июля в сопровождении проживавшего ранее в Перу, а позже служившего секретарем в одном из мексиканских консульств в Европе немецкого лейтенанта Шредера он отправился в США. В конце августа в Санто-Доминго он, заявив американскому консулу о том, что является служащим мексиканского консульства, направляющимся в Мексику с документами, выданными мексиканским генеральным консулом в Москве, запросил визу для поездки в Чикаго к своей семье. Его рассказ и документы вызвали подозрения и чиновник телеграфировал в Вашингтон, рекомендовав «как можно более тщательное» наблюдение за Бородиным в США. 7 сентября Бородин прибыл в Нью-Йоркскую гавань и был допрошен сотрудником Бюро расследований Дж. Сполански, знавшим московского эмиссара и располагавшим сообщениями о контрабандной перевозке последним бриллиантов. Однако обыск и допрос оказались безрезультатными: драгоценностей не было. Проследивший маршрут Бородина Сполански выяснил, что тот нанес визит сотруднику Бюро Мартенса Д. Дубровскому, пообещав доставку драгоценностей в ближайшее время, после чего отправился в Мексику12.
В начале осени 1919 г. в Мехико уже завершился I Национальный социалистический конгресс, созванный для объединения существующих в стране левых партий и групп в общенациональную организацию, принятия ее программы и назначения делегата на II Интернационал. На конгрессе присутствовали представители как социалистов, так и анархистов, анархо- синдикалистов и реформистских профсоюзов. Декларация принципов созданной конгрессом Мексиканской социалистической партии провозглашала борьбу за полное уничтожение капиталистического строя посредством осуществления социаль
122
ной революции; указывала на необходимость установления «временной диктатуры пролетариата и трудящихся земли, единственных классов, заинтересованных в установлении социализма» как первого шага на пути к полной победе коммунизма, отвергала возможность освобождения рабочего класса парламентским путем. В качестве ориентира признавался Манифест III Интернационала, а главной задачей социалистического движения провозглашалось завоевание решающего влияния среди трудящихся классов, руководство их борьбой и пропаганда идеи свержения капитализма посредством революционного захвата политической власти13.
На конгрессе возник конфликт по вопросу о предоставлении делегатского мандата реформисту Моронесу, против чего резко выступил член СПМ американец Линн Гэйл. Моронес парировал удар, сообщив о тайных связях своего оппонента с правительством. Решающий голос в пользу допуска на конгресс реформистов «в целях гармонии» был отдан представлявшему газету «El Socialista» индийцу Рою. По этой причине один из лидеров социалистов А. Сантибаньес покинул конгресс, а его место было занято Ф. Симэном (Ч. Филипс).
После завершения конгресса, 7 сентября Л. Гэйл и несколько его соратников провозгласили создание Коммунистической партии Мексики (КПМ). Серьезных политических и теоретических расхождений у обеих партий не было и непосредственной причиной подобного шага явился в значительной степени вопрос о составе руководства и делегации на II конгресс Коминтерна. Деятельность КПМ осенью 1919 г. выражалась прежде всего в борьбе против большинства августовско-сентябрьского конгресса, в частности против Роя, Симэна и генерального секретаря СПМ Х. Аллена. Гэйл опубликовал заявление о том, что «человек Гомперса», Моронес, «абсолютно доминировал» на конгрессе при помощи Роя и Симэна, втайне осуществлявших его планы; что Рой еще два-три месяца назад не был социалистом и даже теперь есть основания «сомневаться, стал ли он им в полной мере», связался с социалистическим движением лишь с целью быть избранным делегатом партии на Международный социалистический конгресс; Симэн вошел в социалистическое движение еще позже Роя, а его статьи в «El Heraldo de Mexico» полностью соответствуют политике бур
123
жуазной и либеральной газеты.В свою очередь, Рой и Симэн заявили, что попытки Гэйла
провести «параллель между собой и Джоном Ридом» бессмысленны: КПМ состоит из нескольких человек, программа же ее не более радикальна, чем у социалистов. Кроме того, было известно, что сам Гэйл был «ничтожеством» и в США не имел никакого отношения к социалистическому движению, связи его с социалистами начались вследствие получения денег от немецких агентов на ведение антивоенной пропаганды в его личном «Gale’s Magazine». После этого Гэйл начал получать деньги и бумагу для журнала от правительства Каррансы с целью ведения агитации среди рабочих. Оппоненты КПМ заявили, что влияние данной партии существует только в США и прочих странах, введенных в заблуждение словосочетанием «коммунистическая партия» и «реалистическими историями о расколе на “правых” и “левых” в Мексике». Гэйл был обвинен в том, что является «потенциальным полицейским шпионом». Последний апеллировал к Д. Риду, сообщая, что лживые обвинения со стороны МСП в его адрес — это недостойная ответа «гниль»14. Представитель Коминтерна прибыл в Мехико в октябре, еще не зная, что часть его работы уже выполнена. 13 октября его переводчик, американский социалист Маллен связался с сотрудниками англоязычной секции «El Heraldo de Mexico» Симэном и Граничем (М. Голдом) и, убедившись в их социалистических взглядах, организовал встречу с Бородиным, сообщившим, что является представителем Москвы. Симэн свел московского гостя с Роем15. Оценив ситуацию в радикальном левом движении Мексики и осознавая возможности, которые представлял для Коминтерна активист МСП индийский националист Рой, Бородин пообещал тому помощь в борьбе за независимость его родины после преобразования МСП в компартию и назначения Роя делегатом на 2-й конгресс Коминтерна16. Долго уговаривать индийца не пришлось. При помощи Симэна и иных неофитов коммунистической идеи он энергично приступил к делу. По словам Роя, он с Бородиным набросал план предстоящего съезда партии. Бородин составил приветствие от имени ИККИ. Для самих Роя и Симэна все сложилось не так просто, как они описывают это в своих мемуарах. Против изменения названия партии выступил член И К МСП
124
Сервантес Лопес. Произошел второй раскол. ИК МСП на заседании 24 ноября единогласно (присутствовали 7 из 22 членов И К, Бородина на данном мероприятии не было) провозгласил основание М ексиканской коммунистической партии (М КП)17.
При наличии в Мексике двух компартий, каждая из которых полагала себя истинной представительницей пролетариата страны и добивалась признания со стороны III Интернационала, московскому эмиссару предстояло взвесить, развитие какой партии сулит большие перспективы, и решить, кому отдать предпочтение. Поскольку контакты Бородина с социалистами проходили в основном через Роя и Филипса, то итог раздумий был практически предрешен: от имени Коминтерна он признал именно МКП «единственной пролетарской и революционной партией в Мексике», заверив ее генерального секретаря X. Аллена, что, несмотря на временный характер признания и необходимость его ратификации Бюро III Интернационала, делегат партии будет наделен «всей полнотой прав». Уже в Европе он рекомендовал Амстердамскому бюро ИККИ оказать МКП финансовую поддержку18.
Созданию МКП способствовали не только усилия Бородина. В социалистическом движении Мексики было достаточно радикальное крыло: марксистские кружки в Веракрусе, Орисабе, Тампико, Мехико и других городах. Группа членов МСП во главе с Алленом и Э. Камачо издавала газету «El Soviet», название которой не оставляло сомнений в ее направлении. При этом данные революционные группы имели весьма отдаленное представление о пролетарской революции, сущности Советской власти, большая их часть находилось под влиянием анархизма и анархо-синдикализма. Приезд Бородина и его влияние на часть лидеров социалистов ускорили назревавшие в левом движении процессы. Полномочия же его были весомыми, позволяя подписать от имени ИККИ обращение к МКП и уверенно говорить о признании партии, едва он поставит вопрос перед ИККИ.
Убедившись в «революционной сущности программы и организации» мексиканских социалистов, Бородин предложил им создать Латиноамериканское бюро III Интернационала для ведения пропаганды на всем континенте, объединения «про
125
летарских движений этих стран» и прокладывания «пути для социальной революции во всех них (выделено автором. — В.Х., Л.Х.)», укрепления связей между организациями и группами, базирующимися на коммунистических принципах. Название «El Soviet» было изменено на «El Comunista», и она была провозглашена органом и МКП, и Бюро. Временный комитет Бюро издал Манифест (опубликован 8 декабря — вероятно, уже после отъезда Бородина, фактически же Бюро было конституировано в конце ноября), призвавший трудящихся Латинской Америки принять участие в Коммунистическом конгрессе и создать постоянный исполком Латиноамериканского бюро III Интернационала19.
В письме к Балабановой Аллен сообщил об единодушном одобрении чрезвычайной сессией ИК МСП Манифеста Коминтерна как «основополагающего принципа нашего движения» и изменении названия партии на «коммунистическую» (уточнив, что МСП «никогда не посылала представителя во II Интернационал») и попросил зарегистрировать МКП как члена Коминтерна и признать Латиноамериканское бюро официально связанным с Интернационалом. Более подробную информацию должны были сообщить отправленный в Москву делегат партии и Бородин20, который, в свою очередь, известил, что цель создания Латиноамериканского бюро — созыв Континентального конгресса, с участием делегатов Северной, Южной и Центральной Америк, Вест-Индии для объединения всех «революционных элементов» и борьбы против империализма США, присоединения «всего Латиноамериканского континента» к III Интернационалу21.
Московский эмиссар не забывал и о дипломатической стороне своей миссии: с помощью Роя, имевшего контакты в правительственных кругах, он встретился на обеде в доме индийца с Каррансой. Президент, по словам Роя, не мог действовать открыто, потому что США могли счесть официальную беседу с агентом Коминтерна casus belli и пойти на интервенцию. Это определило неофициальный характер встречи, на которой присутствовали также министр иностранных дел, председатель палаты депутатов и ректор университета. Судя по имеющимся источникам, в ходе беседы генеральный консул РСФСР даже не затрагивал вопросы торгового соглашения, заявив вместо это
126
го, что Советское правительство сочувствует борьбе народов Латинской Америки против империализма и стремится помочь им любыми доступными ему способами. Президенту была предложена идея создания Латиноамериканского бюро Коминтерна в Мексике во главе с Роем22. Определенного ответа Карранса не дал, хотя не упустил случая передать наилучшие пожелания Ленину. Эти слова не были простым жестом вежливости, а имели практические последствия: МИД Мексики обеспечил Бородину возможность связаться с Бюро Коминтерна в Голландии и Москвой через свои миссии в Амстердаме и Скандинавии. Мексиканский дипломат Карденас полагает, что контакты, установленные генеральным консулом РСФСР в Мексике с «наиболее выдающимися личностями, способствовали пониманию необходимости возобновления дипломатических отношений с Советским Союзом»23.
Вернувшись в Европу, Бородин связался с Амстердамским бюро. Оценив положение в Западном полушарии как «великолепное», хотя многое пошло «не так, как <...> ожидал», он сообщил о присоединении МКП к Коминтерну, создании Коммунистической секции на Кубе, об организации Бюро и подготовке Латиноамериканского коммунистического конгресса. Указав на раскол в коммунистическом движении США и заявив, что «наличие двух коммунистических партий непостижимо» и «очень опасно», Бородин предложил руководству Коминтерна вмешаться и «разрешить противоречия»24, при этом ни словом не упомянув о расколе в коммунистическом движении Мексики — либо считал его кажущимся, а одну из параллельных компартий — фактически не существующей, либо полагал, что данный конфликт может быть разрешен без вмешательства извне.
В письме нет информации о дипломатической стороне поездки. Или она относилась к «неприятностям», о которых Бородин обещал сообщить при личной встрече, или по данному вопросу он собирался отчитываться лишь перед начальством в НКИД. И все-таки результаты работы генерального консула, представляется, были показательней предполагаемого отчета. Если Бородин, не сумев реализовать свои консульские полномочия, констатировал общее «великолепие» ситуации, нужны ли дополнительные размышления о том, какая из двух его ипостасей — коминтерновская или дипломатическая — имела приоритет?
127
Бородин известил руководство Амстердамского бюро об организации Бюро в Испании для поддержания постоянной международной связи. Решение об его создании было принято на встрече коммунистов Испании и Мексики, предполагалось, что для налаживания обмена информацией в нем должны быть делегаты Испании, Голландии, Италии, Франции, Англии и Латинской Америки. По мнению Бородина, эта структура была бы полезной для ее участников — ибо бюро III Интернационала не в состоянии поддерживать связь с каждой отдельной страной (в Европе), а Латинская Америка кажется столь удаленной от европейского коммунистического движения, как будто это «иная планета»25.
После информации о Латиноамериканском бюро, Амстердамская международная конференция в феврале 1920 г. решила использовать мандат, выданный КП Америки на создание Американского бюро Коминтерна, в сотрудничестве с Латиноамериканским бюро, структуры которого должны были быть трансформированы (при вмешательстве КПА) в соответствии с большим полем деятельности Американского бюро III Интернационала: представлять Коминтерн в Новом Свете, объединить коммунистическое движение континента, руководить им, обеспечить пропорциональное представительство коммунистических организаций Западного полушария на следующем конгрессе Коминтерна, наладить регулярные контакты с Центрально-европейским вспомогательным бюро и с РСФСР26.
Из Берлина Бородин дал Рутгерсу письменную рекомендацию Рою (Роберто Аллену): «Тов. Аллен — коммунист. Он верит, что спасение Индии находится не в руках националистического движения в Индии, а индийского пролетариата, ...рассматривает работу в Индии как часть работы Коммунистического Интернационала» — и предположил, что как делегат МКП он мог бы представить свою партию и Латиноамериканское бюро на готовящейся Амстердамским бюро конференции, выступить с докладом о работе Интернационала в колониях27. Однако в связи с задержкой конференции супруги Рой отправились в Москву.
Амстердамскому бюро пришлось заняться разрешением конфликта параллельных компартий Мексики. Этому предшествовало письмо Гэйла находившемуся в контакте с Бюро ре
128
дактору английской газеты «Workers’ Dreadnought» С. Панкхерст, в котором он возмутился выдачей инструкций КПА о сотрудничестве с МКП, заявив, что мексиканских членов Латиноамериканского бюро III Интернационала он не знает, у участвующего же в Бюро эмигранта из США «сомнительная репутация попутчика»; помощник Роя является американским аген- том-провокатором, сам же он ранее интересовался лишь освобождением Индии, в Социалистическую партию вступил ли т ь летом 1919 г. Ходят слухи, что он находился на содержании немецкого посольства, а затем «запродался американским финансовым интересам». Далее Гэйл предостерег, что Бюро не основано на признании и сотрудничестве с КПМ28.
Руководитель Амстердамского бюро С. Рутгерс указал, что опирается на информацию «товарища Б[ородина]», обладающего «опытом как в коммунистическом движении, так и в оценке людей», считавшего Роя «замечательным товарищем и хорошим коммунистом», который предостерег его против Гэйла как «фантастически самоуверенного человека». Живший в США в 1917—18 гг. и тесно связанный с социалистическим движением, нидерландский коммунист, отметив, что не слышал упоминания имени Гэйла как коммуниста или социалиста, подчеркнул, что Амстердамское бюро склонно игнорировать неподтвержденные фактами заявления Гэйла. Рутгерса не смутило предоставление мандата Моронесу, так как конгресс еще не был коммунистическим, а мексиканское рабочее движение являлось гораздо революционнее в целом, чем американское. Он отметил, что индиец Рой, чьи соотечественники «похожи по состоянию духа на мексиканских пеонов», может быть, прав, пытаясь связаться с массами через существующие рабочие союзы. Итоговый вердикт Рутгерса был таков: 1) продолжать доверять Рою и по-прежнему быть очень осторожными в отношениях с Гэйлом; 2) в отношении Панамериканского бюро оставить решение этого вопроса КПА29.
Во время Второго конгресса III Интернационала началось «вознесение» Роя на вершину коминтерновского Олимпа. Доселе неизвестному в международном рабочем движении человеку поручается подготовка тезисов по национально-колониальному вопросу (в дополнение к ленинским), год спустя он будет избран в ИККИ. Случайности в этом не было: Рой сперва
129
Бородиным и Рутгерсом, а затем и руководством III Интернационала рассматривался как одна из самых перспективных фигур для работы на Востоке. Индийский эмигрант, сумевший достичь высокого положения в Мексике, обладал, с точки зрения ИККИ и Ленина, способностями, чтобы быть одним из руководителей борьбы против англичан в колониальном мире, несмотря на отсутствие у Роя мандата коммунистов Индии, да и само коммунистическое движение начинает формироваться в этой стране позже при его участии. В тот момент были важны не столько способности Роя как теоретика и организатора, сколько уникальное сочетание в нем коммуниста и индийца, что позволило ему мгновенно затмить своего наставника. При этом является весьма важной рекомендация самого Бородина, который лично представил мексиканского коммуниста Ленину и (значительно позже) Сталину. И если во время первой встречи в центре внимания были вопросы Латинской Америки, то на второй речь уже в основном шла об Азии. Уже тогда в восприятии значительного числа руководителей Коминтерна Латинская Америка и Восток представляли собой сходные регионы, что позже привело к отождествлению китайского и латиноамериканского опыта и одному из самых крупных провалов III Интернационала — восстанию Национально-освободительного альянса Л.К. Престеса в Бразилии в 1935 г.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Historia del socialismo marxista en La Republica Argentina. Buenos Aires, 1919. P. 41, 67.
2. Oswald J.G. and Strover A.J. The Soviet Union and Latin America. N. Y , 1970. P. 16; Soviet Relations with Latin America / Klissold S. (ed.) L , 1970. Р. 3; Roy M.N. M.N. Roy’s Memoirs. New Delhi, 1964 Р. 198—199; Gomez M. From Mexico to Moscow / / Survey. London, 1964. N 53. Р. 39.
3. РЦХИДНИ. Ф. 2. On. 1. Д. 9324. Л. 1—1 об; Советско- мексиканские отношения (1917—1980). Сб. докл. М., 1981. С. 9—10.
4. Cardenas H. Las relasiones mexicano-soveticas. Mexico, 1974. Р. 40; Cardenas H. Historia de las relaciones diplomaticas entre Mexico y Rusia. Mexico, 1993. Р. 45.
130
5. Gomez M. Op. cit. Р. 36.6. Там же; Historia del communismo en Mexico / Martinez V.
(ed.). Mexico, 1985. P. 28.7. Beals C. Glass Houses. Ten Years of Free Laucing. Philadelphia,
1938. P. 45.8. Государственный архив Российской Федерации (ТАРФ). Ф.
5881. On. 1. Д. 170. Гл. 6—8, 10—11. Согласно переписке Коминтерна с НКИД РСФСР, Бородину в 1919 г. было выделено «полмиллиона ценностей и пятьдесят тысяч в иностранной валюте». (РЦХИДНИ. Ф. 495. On. 18. Д. 20; Ф. 2, On. 2. Д. 220. Л. 1—1 об.) С последним документом был ознакомлен Ленин.
9. ТАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 170. Л. 14—15. В отчете Ортис сообщил:«Сеньор Майкл Грузенберг, [...] американец из Калифорнии, испытывающий симпатии к Мексике, человек умный, занимающийся торговлей и увлеченный политическими и социальными преобразованиями в России ... сообщил мне, что вскоре едет в Мексику» (Wood E. Arriola. Sobre rusos y Rusia. Mexico, 1994. Р. 231—232).
10. ТАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 170. Л. 20. Английская и американская разведки полагали, что Бородин получил такой же пост в отношении Латинской Америки, как Мартенс для США и Канады, и инструкции повлиять на мексиканское правительство, чтобы то помогло России продовольствием и товарами первой необходимости. (См.: Carr B. El movimiento odrero y la politica en Mexico, 1910—1929. Mexico, 1981. P. 106).
11. ТАРФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 170. Л. 27—30; Wood E. Arriola. Op. cit. P. 231—233.
12. Jacobs D.N. Borodin. Stalin’s Man in China. Cambridge, 1981. P. 61—62; Holubnychy L. Michael Borodin and the Chinese Revolution, 1923—1925. N. Y. : Columbia University Press, 1981. P. 45; Spolansky. J. The Communist Trail in America. N. Y , 1951. P. 173— 174.
13. РЦХИДНИ Ф. 495. Оп. 108. Д 1. Л. 6; Op. cit. /А . Martinez Verdugo (ed). Mexico, 1985. P. 24.
14. РЦХИДНИ. Ф. 495. Оп. 108. Д 6. Л. 1; Д. 4. Л. 7—8; Д. 3. Л. 13.
15. Рою Бородин первоначально представился как Брантуэйн (Roy V.N. Op. cit. P. 178; Taibo I I y R. Vizcaino. La Memoria Roja. Mexico, 1984. P. 14). Указанные Филипсом (первая половина 1919 г.),
131
Роем (лето 1919 г.), Билсом и Сполански (1920 г.) даты приезда Бородина не подтверждаются документами и представляются ошибочными. (См.: Gomes M. Op. cit. P. 35—36; Roy M.N. Op. cit. P. 177—178; Beals C. Op. cit. P. 44; Spolansky J. Op. cit. P. 172).
16. Beals C. Op. cit. P. 50.17. Roy M.N. Op. cit P. 211; Fuentez M. Marquez, Araujo O.
Rodriguez. El Partido Comunista Mexicano (en el periodo de la International Comunista, 1919—1943). Mexico, 1973. P. 62.
18. РЦХИДНИ. Ф. 495. On. 108. Д. 1. Л. 10; Д. 3. Л. 4; Ф. 497. On. 2. Д. 1. Л. 12—12 об.
19. Там же. Ф. 495. On. 108. Д. 1. Л. 6; Сведения о создании бюро уже в 1918 г. и посланном им письме Ленину летом 1919 г. не nодтверждаютcя документами, дата же получения письма, вероятно, определена неверно, речь должна идти о лете 1920 г. [Rosendo Salazar y J. Escobedo. Las pugnas de la gleba (Los albores del movimiento obrero en Mexico). Mexico, 1972. P. 271; Ленин В.И. Биографическая хроника. Т. 7. М., 1976. С. 324].
20. РЦХИДНИ. Ф. 495. On. 108. Д. 3. Л. 1—2.21. Там же. Ф. 497. On. 2. Д. 1. Л. 1.22. Roy M.N. Op. cit. P. 205—206.23. Cardenas H. Las relaciones... P. 57; Cardenas H. Historia...
P. 157. В октябре (т. е. в момент пребывания М.М. Бородина в Мексике или непосредственно перед этим) в контакт с генеральным консулом М ексики в Н ью -Й орке Р.П. де Негри вошли «представители российского правительства в Нью-Йорке», попросившие сообщить в Мехико о намерении СНК РСФСР отправить в Мексику торговое представительство и высказавшие «большие симпатии российского представительства, что оказалось бы выгодным Мексике (Wood E. Arriola. Op. cit. P. 229).
24. РЦХИДНИ. Ф. 497. On. 2. Д. 1. Л. 1.25. Там же. Л. 3.26. Делегат Мексики (Рой или Филипс) прибым уже после
окончания мероприятия и с ним члены Амстердамского бюро смогли переговорить лишь частным образом. (См.: Bulletin du Bureau Auxiliare d ’Amsterdam de l ’Internationale Communiste. Mars 1920. № 3. P. 3, 9. РЦХИДНИ. Ф. 497. On. 1. Д. 4. Л. 9, 12; Там же. On.2. Д. 2. Л. 111—112).
27. Там же. On. 2. Д. 1. Л. 39.28. Там же. Д. 5. Л. 9—13. Oдновременно КПМ создала свое
132
Панамериканское Коммунистическое агентство во главе с Дж. Барредой. (См.: Bernstein H. Marxismo en Mexico, 1917—1925/ / Historia mexicana. 1958. Vol. VII. № 4. P. 503).
29. РЦХИДНИ. Ф. 497. Оп. 2. Д. 2. Л. 199—200а.
Т.К Коноплич
ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИДЕОЛОГИИ ЛИБЕРАЛИЗМА В ПЕРИОД НОВОГО КУРСА
(ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ)
Обращаясь к изучению истории США, необходимо отметить, что период Нового курса занимает в ней совершенно особое место, поскольку, в силу сложности и противоречивости своего содержания, он как “система правительственных мер администрации президента Ф.Д. Рузвельта, направленных на преодоление последствий кризиса в социальной, общественно-политической, культурной сферах развития США”1, характеризовался и тем, что именно в 1932—1941-х гг. самим ходом социального развития в центр политических дискуссий была выдвинута проблема жизнеспособности функционирования модели либеральной идеологии и, как следствие, остро назрела необходимость в модернизации идей либерализма.
Известно, что на определенном этапе своего развития любое общество сталкивается с проблемами подобного рода, возникновение которых обусловлено тем, что идеология как “система теоретических взглядов и идей, отражающая степень познания обществом мира в целом и отдельных его сторон в частности”1 , есть явление общественного сознания, подчиняющееся его общим закономерностям. При этом общественное сознание выступает как необходимая сторона общественно-исторического процесса, как функция общества в целом, и вне сферы сознания невозможно понять и объяснить ход истории. В соответствии с этим в сфере теоретической философии сформулировано несколько закономерностей, отражающих специфику общественного сознания в целом. К их числу можно отнести
133
закон активного (условно) обратного воздействия общественного сознания на общественное бытие, закон взаимодействия и взаимовлияния правовой, религиозной, философской, нравственной, художественной, политической форм общественного сознания и закон преемственности развития общественного сознания3.
Являясь определенным уровнем общественного сознания, теоретическим отражением окружающей действительности, подчиняясь вышеперечисленным закономерностям целостного процесса общественного развития, идеология, в отличие от общественной психологии, есть рациональный уровень общественного сознания, который в опосредованной форме находит свое отражение в работах идеологов-интеллектуалов данного исторического периода. Развиваясь в определенном (прогрессивном, стагнационном или регрессивном) направлении, в соответствии с действием закона обратного воздействия общественного сознания на общественное бытие, закона преемственности интеллектуального (в т. ч. и идеологического) опыта, наследия предыдущих эпох, общественное сознание накладывает определенный отпечаток на социальную среду, которая, в свою очередь, в существенной мере, влияет на выработку содержания теоретических построений идеологов. Так, в период, когда не существует расхождений между идеологическими принципами и политической практикой, т. е. когда данные теоретические постулаты под влиянием фактов из сферы социальной действительности находят активную поддержку в сознании представителей большей части населения, можно констатировать, что система иерархической социально-философской соотнесенности сфер теоретической идеологии, политической практики социально-экономической действительности4 находится в сбалансированном состоянии. И наоборот, между политической практикой и теоретическими идеологическими разработками возникает конфликт, когда постулаты из сферы абстрактно-теоретических построений не находят своего подтверждения на практике, что вносит диссонанс в процесс социально-политического развития общества. Из этого видно, что политическая практика - один из производных компонентов социально-экономической действительности в целом. По сути, она является своеобразным индикатором социальных процессов, свидетельствующим о возможностях, характере, пер
134
спективах, прочности позиций той или иной идеологической модели в контексте конкретных социально-экономических условий, поскольку именно из области политической практики в сферу теоретической идеологии поступают сигналы рассогласования в системе отношений “социальная действительность ” — “идеологическая практика ”, в соответствии с которыми в области теоретической идеологии приходится обновлять методику анализа социальной действительности, внося по необходимости соответствующие коррективы в систему идеологических принципов.
Перед тем как обратиться к анализу конкретных проблем в истории становления системы американского либерализма в период Нового курса, следует определиться в формулировке самого понятия “либерализм ”. Известно, что в широком смысле понятие “либерализм” в своем классическом понимании трактуется как “идейно-политическое движение, объединяющее сторонников буржуазно-парламентского строя и буржуазных свобод в экономической, политической и других сферах”5. В узком смысле данное явление понимается как “политика либеральных партий, ориентированных на сохранение механизмов рыночного хозяйства и свободной конкуренции при минимально необходимой регулирующей роли государства, умеренный социальный реформизм, обеспечение международной безопасности, развитие интеграционных процессов”6. Наиболее полно и ярко понятие либерализма нашло свое определение в работах Д. Локка, Т. Гоббса, А. Смита, Вольтера, Д. Юма, О. Конта, Ш. Монтескьё, Д. Дидро, Т. Джефферсона, Б. Франклина и И.-В. Гёте.
Анализируя особенности структуры либеральной идеологии, следует отметить, что в социальной философии и политологии выделяют так называемое “идейно-нравственное ядро классического либерализма”1. По мнению некоторых исследователей, его содержание составляют “положения об абсолютной ценности человеческой жизни, изначальном равенстве индивидов, автономии индивидуальной воли, сущностной рациональности и истинности христианских добродетелей человека, существовании определенных неотчуждаемых прав человека на жизнь, свободу и частную собственность и создание государства на основе общественного консенсуса с целью сохранить и защитить естественные права человека, о договорном характе-
135
ре отношений между государством и индивидом, доминанте закона как инструмента социального контроля и “свободе в законе” как праве и возможности “жить в соответствии с постоянным законом, общим для каждого в этом обществе... и не быть зависимым от непостоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого человека” (Локк), ограничении объема и сфер деятельности государства, защищенности - прежде всего от государственного вмешательства - частной жизни индивида и свободы его действий (в рамках закона) во всех сферах общественной жизни, существовании высших истин разума, доступных усилиям мысли индивида, которые должны играть роль ориентиров в выборе между добром и злом, порядком и “войной всех против всех”8.
По мнению ряда исследователей, возникновение и закрепление в общественной практике идей и моделей так называемого .западноевропейского либерализма конца XIX— начала XX века и “нового либерализма ” Ф. Хайека как разновидностей либеральной идеологии свидетельствует о том, что “либерализм как сложная идеологическая система претерпевал значительные изменения как в процессе своего теоретического развития, так и в процессе реализации данных идей в жизни общества (выделено нами. — Т. К.)»9. Это еще раз подтверждает предположение о том, что выдвижение в центр политических дискуссий проблемы жизнеспособности идеологии либерализма было обусловлено самим характером общественного развития в начале XX века.
Анализируя причины возникновения серьезного кризиса либеральной идеи, свидетельством которого было появление в конце XIX — начале XX века нескольких, конкурирующих между собой форм либерализма, можно согласиться с точкой зрения И. И. Евлампиева, классифицировавшего либерализм как “одну из форм политических утопий”, зависящих от фундаментальных характеристик человеческого бытия и конечного смысла существования индивидов10. Разделяя мнение Евлампиева о том, что все разновидности либеральной идеологии объединяет одна общая цель — достижение “земного рая”, который должен был возникнуть после воплощения в жизнь предписанной системы политических, социально-экономических принципов при полном соблюдении свободы каждой личности, также можно согласиться с другой мыслью этого исследователя, в которой он
136
указывает на то, что недостаток идеологии классического либерализма заключается в существовании в ее недрах определенного рода претензии на выражение системы абсолютных принципов, не приемлющих никакой альтернативы, самодостаточных в своей ценности, непосредственно в самих себе воплощающих идеальную форму общественного устройства”11.
Исторические события конца XIX — начала XX вв., когда в период затяжных экономических, политических, социальных кризисов были похоронены все иллюзии человечества на достижение реального “земного рая”, ещё раз доказали невозможность осуществления любой политической утопии. Появление других разновидностей идеологии либерализма было связано с отказом от привычной мировоззренческой концепции, основанной на вере в разумное устройство мироздания и признание необходимости искать новое мировоззрение, требующее признания определенной значимости иррационального начала. Этим, по мнению И. И. Евлампиева, и обусловлено, стремление к поиску символа веры, полностью противоположного старому, дискредитировавшему себя в ходе истории. В этой связи вполне закономерно на повестку дня может встать вопрос о необходимости модернизации прежней идеологической модели, если здравые силы общества стремятся соблюсти баланс сил, не разрушив основ прежней, удовлетворяющей их, социально-политической и идеологической системы.
Известно, что под модернизацией идеологической системы в социальной философии понимается “процесс обновления идеологии через изменение ее содержания в соответствии с требованиями социального развития путем введения различных усовершенствований в систему взглядов и идей, в которых оцениваются отношения людей к действительности и к друг другу, актуализации значения новых целей и программ социальной деятельности, направленной на закрепление или развитие существующих социальных отношений”12. Исторические факты свидетельствуют, что появление необходимости в использовании методов модернизации обуславливается потребностями развития конкретного общества.
Сущность процессов модернизации какой-либо идеологии в целом или конкретной идеологической модели в частности заключается в существовании в недрах любой общественной сис
137
темы механизма, способного в критические периоды развития социума мобилизовать его способность к самосохранению через использование на теоретическом уровне принципов выработки новых усовершенствованных социально-политических концепций, применение которых в процессе политической практики может содействовать обновлению и закреплению на уровне сознания индивидов значения принципов существенно реформированной системы политических и идеологических перспектив, что, в конечном счете, может содействовать благоприятному разрешению возникшей проблемы. Всё это обуславливает поступательное развитие данного общества.
Философская сущность проблемы модернизации какой-либо идеологии в целом или идеологической модели в частности состоит в существовании объективно возникающего в ходе развития общественного познания целого комплекса вопросов, решение которых представляет существенный теоретический интерес. Их содержание можно свести к нескольким аспектам:
1. Насколько быстро и действенно используются в конкретном обществе его генетические способности к мобилизационному реагированию и модуляционному регулированию с целью преодоления конкретных проблем, возникающих под влиянием ряда негативных факторов социально-экономического характера в истории данного общества на определенной стадии своего развития.
2. Насколько гибки и прочны связи в системе иерархического соотношения сфер теоретической идеологии, политической практики и социально-экономической действительности.
3. Насколько содержательной и своевременной является деятельность тех политиков, идеологов, которые принимают активное участие в процессе модернизации существующей идеологической доктрины.
4. Какова степень социальной приемлемости и уровень адаптации в социуме тех идеологических моделей, что были генерированы в процессе модернизации существующей идеологической доктрины.
Думается, что в контексте данного исследования рассмотрение части обозначенного комплекса вопросов поможет в некоторой степени разобраться в социально-философской сущности модернизационных процессов, играющих существенную
138
роль в истории развития социальных систем.Переходя к анализу проблемы, обозначенной в заглавии
данной работы, необходимо отметить, что период Нового курса в истории США можно отнести к числу тех моментов, на примере которых с позиций методологии социальной философии можно в достаточно полной мере изучить специфику модернизационных процессов, имевших место в идеологической сфере. Интересно, что при этом некую хрестоматийность, имеющуюся в характере развития указанных социальных процессов, можно объяснить тем, что в 1930-е годы модернизация существующей в США идеологической доктрины происходила через эволюцию ранее преобладавшего в общественном сознании варианта классического либерализма, который в работах Л. Харца получил название “локкизма”, или “американизма’1 , а в сочинениях некоторых отечественных и зарубежных исследователей трактуется как “laissez-fairism”, или “ортодоксальный либерализм”14.
Необходимо заметить, что рассмотрение особенностей модернизационных процессов, происходивших в США в 1930-е годы в сфере идеологии, может носить оттенок формальных рассуждений, если в логическом контексте исследовательской работы при изучении особенностей идеологии американского классического либерализма (“американизма”, или “ортодоксального либерализма”) и ее модернизированного варианта не использовать приемы сопоставительного анализа, не идти от изучения конкретных причин, обусловивших необходимость столь кардинальных перемен, к анализу особенностей теоретической базы, практического наполнения обновленной либеральной идеологии, к определению уровня социальной перцепции (социального восприятия) модернизированного варианта американского либерализма, обуславливающего успех или крах модернизационных процессов, протекающих в конкретных социальных системах.
В этой связи необходимо выделить те компоненты, которые составляют сущность “идейно-нравственного ядра классического американского либерализма”. По мнению К.С. Гаджиева и Ю.А. Замошкина15, основу американского варианта либерализма формируют такие американские общественно-политические идеалы, как вера в незыблемость идей так называемой
139
“американской мечты”, “американской исключительности” и “твердого индивидуализма”.
Генетически происхождение указанных общественных идеалов обусловлено историей развития европейской общественно-политической мысли в эпоху Реформации, когда впервые были сформулированы идеи о стране, где царят покой и счастье. Впервые, как указывает И.П. Дементьев16, об этом написал Томас Мор, поместив в 1561 году идеальное государство на земли только что открытой Америки. Тем самым он дал пример для подражания Ж.-Ж. Руссо, который видел в Америке поле для реализации “естественных законов”. Идея “исключительности”, сформированная под влиянием сопоставления в сознании иммигрантов понятия “Новый Свет” как антитезы термину “Старый Свет”, стала символом идеологии первых американских поселенцев. Именно в нем синтезировались стремления вчерашнего европейского крестьянина укрепиться на земле, стремление буржуа получить более высокую прибыль, намерение гонимого пуританина воплотить на новой земле проекты “Града Божьего”. В значительной степени на процесс формирования американского варианта либерализма оказало учение Жана Кальвина о предопределении человеческой судьбы, впоследствии занявшее центральное место в пуританской идеологии. Именно оно генетически обусловило появление и закрепление в общественном сознании американцев идей об “избранности”, “исключительности”, каком-то особом цивилизационном пути, уготованном для Нового Света самой судьбой. “Мы должны иметь в виду, что будем подобны Граду на холме, и глаза всех будут устремлены на нас”, — внушал своим единомышленникам-уча- стникам третьей экспедиции английских переселенцев в Массачусетсскую бухту в 1630 году на борту флагманского корабля “Arabella” глава экспедиции Дж. Уинтроп в своей проповеди “Образец христианского милосердия”17.
Также, кроме этого, в особой мере на процесс кристаллизации идеологической системы американского либерализма повлияли мировоззрение и теоретические концепции Бенджамина Франклина, Томаса Пейна, Томаса Джефферсона, сформировавшиеся в условиях борьбы североамериканских колоний за независимость и национальное единство. Опираясь на теорию об абстрактном “естественном человеке”, движущие
140
силы исторического развития своей страны они видели в росте просвещения, прогрессе знаний и морали, также включая в содержание своих теорий концепцию об особенности американской нации и Америки в целом. Наличие свободных земель порождало иллюзии о возможности избавить Новый Свет от наемного труда, других отвратительных сторон капитализма. Тогда свободные земли казались неисчерпаемыми и многие просветители выражали убеждение, что каждый в США сможет осуществить свое “естественное право” на землю, где собственность будет распределяться равномерно, а всеобщее благополучие обеспечено на много столетий вперед. Именно так, под влиянием особенностей социального развития, на протяжении трехсот лет были сформулированы “идея об американской исключительности” ( “American Supremaсy”), “американская мечта” ( “American Dream ”), “твердый индивидуализм” ( “Rugged Individualism”) и доктрина “предопределения судьбы” ( “Manifest Destiny”) — общественные идеалы, составляющие специфическую основу идеологии либерализма в Америке.
Обращая внимание на теоретическое содержание этих общественных идеалов, следует отметить, что на современном этапе их идеологическое наполнение существенно не изменилось. Так, например, под “теорией исключительности” ( “American Supremacy”) в современной американской политической теории и практике всегда понималась и понимается концепция, обосновывающая уникальность исторического опыта США, идеальность американских общественно-политических институтов как образцов для подражания и в конечном итоге неподвласт- ность американской системы экономических отношений общим закономерностям социального развития18. Понятие “американская мечта ”(“American Dream”) рассматривается как общественный идеал, подчеркивающий существующее в американском обществе равноправие, материальное процветание19. По сути, “американская мечта” является компонентом идеологии американского либерализма, и понимается в США как “сочетание свободы и равных возможностей”10. В соответствии с этим понятие “твердый индивидуализм” (“Rugged Individualism”) рассматривается как решительное сопротивление индивида всем попыткам контроля или ограничений со стороны правительства, проявлений государственного патернализма11.
141
Главным отличием той модели классического либерализма, которая сформировалась за триста лет в США, были, по мнению профессора Е.Ф. Язькова, “пронизывающий ее демократический дух, твердая ориентация ее сторонников на джефферсоновские идеалы политического равенства, социального эгалитаризма и реальное равенство возможностей”22. Американцы верили, что их успех или поражение в борьбе за место под солнцем зависит только от личных способностей и умений.
Свои первые изменения американский либерализм как целостная идеологическая система, утвердившая свое влияние после Гражданской войны, претерпел в последние десятилетия XIX века. Причиной тому послужило возникновение огромного количества гигантских трестов, крупных монополистических объединений, которые, действуя без каких-либо ограничений, с начала XX века превратили США в страну классической корпоративной частной собственности и корпоративного капитализма.
В условиях неограниченного господства крупных корпораций идеология классического либерализма стала стремительно терять свои демократические черты. Идеи индивидуальной свободы и равенства возможностей все чаще стали подменяться лозунгами в духе социал-дарвинистских теорий “борьбы за существование” и “выживание наиболее приспособленных” . Именно в это время зарождается идеологическая доктрина, получившая в работах и выступлениях Г.К. Гувера название “твердого индивидуализма” (Rugged Individualism), которая позднее была взята на вооружение представителями крупнейших американских корпораций, капитанами американской индустрии.
В условиях кардинально изменившейся обстановки, в период резкого сокращения социальной мобильности населения, образ Америки как страны равных возможностей, где движение вверх по социальной лестнице зависит лишь от индивидуальных способностей, стал всё более тускнеть в сознании среднего американца. Особенно ярко это проявилось в годы затяжных экономических кризисов, начавшихся с середины XIX века. В это время большая часть американского общества была лишена какой-либо поддержки со стороны правящих кругов, предоставлявших в то же самое время неограниченные возможно
142
сти для обогащения владельцам крупных корпораций. В такие периоды представители средних и малообеспеченных социальных слоев чувствовали явное понижение своего социального статуса. Это наталкивало их на размышления об истинности и действенности постулатов американского либерализма.
Уже в конце XIX века в США стали появляться первые признаки глубокого кризиса капитализма, этико-экономическая система которого была построена на принципах “Laissez faire, laissez passer ”!3, пропагандирующих идеи свободной конкуренции и широкой свободы ицдивдда. Именно в это время со всей силой проявилось противоречие между эффективностью капитализма и его антисоциальностью.
Анализируя последствия воздействия данных процессов на американское общество, можно заметить, что сила и притягательность индивидуалистской идеологии стали ослабевать. Именно в это время на повестку дня был поставлен вопрос о необходимости осуществления позитивных регулирующих действий со стороны государства с целью смягчения воздействий экономических последствий процесса монополизации и создания системы социальной защиты всех представителей американского общества.
Под воздействием сильной волны радикально-демократических антимонополистических движений конца XIX века, в период так называемой “эры Прогрессивизма” были предприняты первые шаги в деле реформирования традиционных институтов американского общества в соответствии с постулатами идеологии нового либерализма, теоретические основы которой были разработаны в начале XX века представителями про- грессистского направления в американской общественной мысли. К их числу можно отнести Герберта Дэвида Кроули (1869— 1930), Уильяма Дженнингса Брайана (1860—1925) и Луиса Бран- дейса (1856—1941). В своих теоретических построениях идеологи “нового либерализма” исходили из того, что в Америке в условиях социально обострившейся обстановки необходимо отказаться от концепции “всецело пассивного государства”. Напротив, оно должно стать регулятором экономической и социально-политической сфер жизни общества. Так, в частности, Л. Брандейс (назначенный в 1918 году президентом В. Вильсоном одним из членов Верховного суда) сформулировал принципы
143
философии “нового индивидуализма”, которая в своей сущности синтезирует идею социальной справедливости обновленной либеральной доктрины индивидуализма. Брандейс полагал, что идеология американского либерализма в целом отвечает потребностям развития американского общества. Незначительные изменения необходимы лишь для оздоровления американской экономики, которую следует реформировать с целью обуздания неограниченной законом деятельности некоторых монополий, разорявших мелких предпринимателей. Брандейс был уверен, что после осуществления законодательных реформ, равновесие в системе либеральных социально-экономических и правовых ценностей восстановится и идея индивидуализма получит в США свое второе развитие.
Обращаясь к анализу философского подтекста социально-политической ситуации, сложившейся в США в начале XX века, следует отметить, что данный период, вплоть до октября 1929 года, когда началась Великая Депрессия, можно отнести к разряду тех исторических эпизодов, которые в наиболее яркой степени иллюстрируют сущность абстрактно-теоретических исследований, выявляющих существование причинно-следственных связей между идеологическими принципами и политической практикой в системе отношений “социально-экономическая действительность” — “политическая практика”. Так, период, начинающийся с этапа освоения Америки и заканчивающийся расцветом системы государственно-мополистичес- кого капитализма, можно отнести к тому времени, когда в американской истории не существовало серьезных расхождений между идеологическими принципами и политической практикой. То есть в указанный период под влиянием факторов стабилизации социально-экономического развития, отсутствия ярко выраженных социальных противоречий в американском общественном сознании были восприняты основные теоретические постулаты идеологии американского либерализма, для которого было свойственно идеализировать такие общественно-политические идеалы, как “американская мечта”, “твердый индивидуализм”, “американская исключительность” . Реализуясь в сфере политической практики в содержании деятельности администраций президентов Гардинга и Кулиджа, абстрактная политическая теория американского либерализма яв
144
лялась, по существу, одной из производных конкретной социально-экономической действительности. Отстаивая верность данного факта, следует привести аргументы из сферы теоретической и социально-политической философии, где рядом исследователей было заявлено о том, что политическая деятельность той или иной партии и ее лидеров в любой стране, в том числе и в США, определялась и определяется характером социально-экономического развития общества, его запросами, требованиями, пожеланиями. Без учета особенностей доминантного воздействия потребностей социально-экономического и политического развития данного общества на содержание теоретического и практического вариантов определенной идеологической модели осуществление конкретной политической деятельности и политической практики просто невозможно.
Возвращаясь от общетеоретических вопросов к анализу обозначенной темы, следует заметить, что период конца XIX века характеризовался появлением ряда серьезных социально-экономических проблем в жизни американского общества, преодолевавшего последствия Гражданской войны, экономического кризиса 1893 года. Именно в это время под влиянием стремления разрешить возникшие в американском обществе проблемы сторонники умеренной модернизации идей классического либерализма, осознавая, что идеи “твердого индивидуализма”, призывающие осуществить “американскую мечту” (что в свое время успешно сделали Э. Карнеги, Д. Рокфеллер, Вандербильты, Дж. П. Морган), не находят должного понимания и отклика в социальной среде, пытались преодолеть возникшее рассогласование в системе отношений “социально-экономическая действительность” — “политическая практика” — “идеологическая теория” через использование механизмов частичной модернизации идеологии американского либерализма, сущностью которой было отсутствие существенных изменений основополагающих принципов системы американского либерализма. В этой связи У. Брайаном, Г. Кроули, С. Брандейсом были представлены концепции обновленного либерализма. Их основное содержание сводилось к стремлению не изменять социально-экономический аспект общественно-политических идеалов “американской мечты”, “твердого индивидуализма”, а ли т ь придать им в некоторой степени социально ориентированный
145
характер. Таким образом, либеральные реформы, а в их числе были и меры по введению элементарных норм трудового законодательства, по демократизации избирательной системы, проведенные в период Прогрессивной эры, лишь в незначительной степени содействовали ограничению монополистической деятельности и пресечению наиболее ярких проявлений корпоративного произвола.
Изучение особенностей начального этапа модернизации американского варианта классического либерализма дает право утверждать, что все социально-политические реформы периода Прогрессивной эры представляли собой лишь первые шаги на пути реорганизации и приспособления американской модели классического либерализма к потребностям социального прогресса, к новой социально-экономической обстановке в эпоху, когда Америка превратилась в страну корпоративного капитализма. На практике эта теоретическая “модернизация” в законодательной сфере вылилась в принятие антитрестовского законодательства Шермана (1890), тарифа Андервуда, а позднее - в ратификацию в конгрессе антитрестовского законодательства Булвера—Клейтона (1904), законов о федеральной торговой комиссии, подоходном налоге и помощи фермерам. Как тогда казалось, эти меры в существенной степени упорядочивали и ограничивали социально экспансионистский характер экономической деятельности американских монополий. Но начало Великой Депрессии показало, что на деле вместо серьезного реформаторства был осуществлен всего лишь “косметический ремонт” зашедшей в глубокий кризис социально-политической и идеологической социальной модели.
Анализируя специфику методики “поверхностной модернизации” идеологической модели американского либерализма, осуществленной в 1900—1920-е гг. в США, следует заметить, что преодоление социально-экономического кризиса шло в первую очередь за счет внутренних ресурсов американского общества. Этому способствовал подъем экономики в период после первой мировой войны. Эти факторы стимулировали появление эпохи “Prosperity” (Процветания) в США. Именно в это время, благодаря стабилизации социально-экономического развития страны, достижению определенного уровня материального процветания, в противовес ранее существовавшей
146
разбалансированности причинно-следственной связи в системе идеологических принципов и политической практики, была достигнута гармония между уровнями теоретической идеологии, политической практики и социально-экономической действительности в системе их иерархической социально-философской соотнесенности. Особенно ярко это проявилось в сфере политической практики на примере деятельности президентов эпохи “Prosperity” — У. Гардинга (1918—1923) и К. Кулид- жа (1923—1928).
Характеризуя особенности политической практики администраций указанных президентов, следует отметить, что пропаганда значимости лозунгов, отстаивающих ценности либер- татистского толка14 , привела в конечном счете к тому, что к концу 1920-х годов одной из неотъемлемых черт в сознании американцев стала склонность к концентрации внимания на непосредственных предметах человеческой деятельности и политических характеристиках материального успеха, поскольку в эти годы главным героем и примером для подражания стал человек, сумевший реализовать себя в соответствии с принципами “американской мечты”, которого в Америке принято называть “self-made man ”. Это свидетельствовало о том, что к концу 1920-х годов в общественно-политической жизни Америки сложилась такая ситуация, анализируя которую можно говорить об относительной гармонии содержания сфер политической практики и теоретической идеологии. Это, в свою очередь, говорило о высоком уровне и органичности характера приспособления содержания данных сфер друг к другу в системе их иерархической соотнесенности в эпоху “Prosperity” .
Но крах на нью-йоркской фондовой бирже и последовавшие за ним коллапс банковской системы, разрушение стабильности развития отраслей в американской экономике, влияние фактора товарного перепроизводства, высокий уровень безработицы, доходивший в отдельных районах США до 70 процентов, показали, что гармонизация отношений в области иерархической соотнесенности сфер политической практики и теоретической идеологии была непрочной и разрушилась под ударами разразившегося в октябре 1929 года экономического кризиса, который позднее трансформировался в период длительной депрессии.
147
С философской точки зрения кризис 1929—1933 годов можно охарактеризовать как комплексное явление. Во-первых, это был структурный кризис, обозначивший назревшую необходимость перехода к созданию нового поколения индивидуальных технологий и требовавший не только технико-технологической модернизации, но и подлинной революции в сфере производственного управления. Во-вторых, это был кризис системы свободной (нерегулируемой) конкуренции, которая в отсутствие действенной системы государственного контроля привела к жестокой борьбе олигополических корпораций, сопровождавшихся разрушительными последствиями для общества. В-третьих, это был социальный кризис, возникший из-за отсутствия социальной системы, способной амортизировать последствия действия конкурентного механизма с учетом эффективности использования производственных ресурсов, что в конечном итоге порождало высокий уровень безработицы. В- четвертых, это был кризис, ярко проявивший неспособность прежней идеологической модели, регулируя, влиять на характер социально-экономического развития американского общества в условиях глобальной депрессии. Всё это, по сути, поднимало на повестку дня в общественно-политической жизни Америки начала 1930-х годов вопрос о нежизнеспособности функционирования механизмов частично обновленной в эпоху Прогрессивизма идеологии американского либерализма, что в конечном счете выдвигало вопрос о перспективах социального развития США в условиях нестабильного социально-политического развития мира в целом. «Кризис продемонстрировал, что “система свободного предпринимательства” не просто дала серьёзный сбой, а исчерпала свои возможности как саморегу- лируемый, самонастраиваемый механизм»15.
В соответствии с этим в сознании некоторых политиков, мыслящих наиболее прагматично, возникла проблема, заключающаяся в необходимости проведения глубокой модернизации, которая способна внести существенные коррективы в сферу институциональных отношений, что, в свою очередь, могло бы существенным образом помочь ускорению развития процессов позитивных преобразований того, что было разрушено в период затяжного экономического кризиса.
Обращаясь к рассмотрению вопроса, касающегося анализа
148
особенностей модернизации в институциональной сфере, следует напомнить, что в политической философии под институциональным дизайном понимают такие преобразования, которые затрагивают связи в экономической (проблемы разделения труда, собственности, заработной платы, социальных пособий), политической (проблемы государства, армии, правоохранительных структур, партийных отношений), социальной, культурной сферах функционирования конкретного общества26. В процессе осуществления преобразований принятие сложных практических решений требует от политика, инициирующего их, умения отвечать за те негативные последствия, которые могут появиться в случае неудачного выбора той или иной модели институциональных преобразований. Успех реформ зависит от знания механизмов функционирования обновляемой модели социальнополитической системы и способностей политического лидера реализовать определенную схему модернизации.
Анализируя теоретическую сторону реформ Нового курса и их практическое воплощение, следует заметить, что Франклин Делано Рузвельт был таким политическим лидером, которого можно отнести к числу прагматично мыслящих политиков. Его схема модернизационного обновления американского общества, предложенная и реализованная в период 1932—1941 гг., основывалась на стремлении осуществить институциональные преобразования через обновление идеологической доктрины американского либерализма, модернизированный вариант которой преподносился как улучшенная, очищенная от множества негативных идеологических наслоений разновидность локкизма.
Став в 1932 году президентом, Рузвельт, используя в своей политической практике так называемый метод теоретикоигрового общения с массами, приступил к созданию идеологической базы, необходимой для проведения институционально-конституционных преобразований. Практической реализацией президентских замыслов явилось проведение широкомасштабной пропагандистской кампании, в которой и президент (его радиообращения к народу, известные как “беседы у камина”, или “Fireside Chats”), и члены его администрации (инспекционные поездки Г. Икеса, Р.Г Тагвелла по США) стремились достичь взаимопонимания с народом, добиться высокого
149
уровня социального восприятия пропагандируемых реформ, что, по их мнению, могло бы служить свидетельством восприятия в американском обществе идей о необходимости осуществления модернизации и готовности каждого индивида пойти на определенные жертвы во имя блага всей нации. В этой связи, касаясь вопросов национальной консолидации, Рузвельт в своем первом инаугурационном обращении подчеркивал: “Если мы хотим идти вперед, мы должны двигаться как обученная и дисциплинированная армия, желающая принести жертвы во имя блага общей дисциплины, иначе не может быть прогресса и невозможно никакое руководство”17.
Анализируя набор теоретических установок, присутствующих в содержании некоторых выступлений президента, можно увидеть, насколько в период кризиса президент США, реализуя перспективную цель модернизации существующих институтов, мог быть актуальным, гибко реагируя на требования текущего момента. Так, апеллируя к основным духовным ценностям американского народа и существующей политической традиции использовать мысли “отцов-основателей”, выбирая из их работ те идеи, которые были наиболее созвучны его реформаторским замыслам, Рузвельт подчеркивал, что Новый курс “отвечает американской традиции, которая велит действовать постепенно, прибегать к регулированию только в силу конкретных потребностей и смело идти на необходимые перемены”. “Я разделяю, — указывал Рузвельт, — убеждение Авраама Линкольна, который говорил: “Законная задача правительства — делать для сообщества граждан всё то,что в их интересах, но не делается ими самими, поскольку, выступая каждый в своем индивидуальном качестве, они не могут этого сделать совсем или не могут сделать хорошо” (выделено автором. — Т.К.)»18.
Заявляя о том, что он является приверженцем идей либерализма, Рузвельт тем не менее в своих выступлениях пытался убедить американцев в том, что необходимо переосмыслить содержание некоторых идеологических постулатов классического либерализма. В соответствии с этим, он указывал: “Я по- прежнему верю в идеалы, но я против возврата к тому пониманию либерализма, при котором свободный народ в течение многих лет постепенно загонялся на службу к привилегированному меньшинству. Я предпочитаю — и уверен, что вы со мной
150
согласитесь, — то расширенное понимание либерализма (выделено нами. — Т.К.), под знаком которого мы движемся к более полной свободе и такой социальной защищенности среднего человека, какой еще не знала история Америки”29. Отстаивая собственную позицию, президент сформулировал свое политическое кредо, содержание которого заключалось в следующих его словах: “Либерализм становится средством защиты для дальновидного консерватора и я являюсь консерватором именно такого рода, поскольку я и либерал такого же рода”30.
Придерживаясь джефферсоновской концепции собственности, указывая на то, что это право оформилось исторически, благодаря государству, и в силу этого именно оно должно бороться с издержками свободного развития частной собственности, Рузвельт постоянно подчеркивал, что настало время наполнить либеральную концепцию прав человека таким содержанием, которое бы в максимальной степени смогло бы в условиях нарастающей международной напряженности обеспечить национальное единство американцев. В соответствии с этим становится понятно, чем можно объяснить особый интерес президента к проблемам и чаяниям простых американцев, чьи интересы в период Великой Депрессии оказались максимально ущемленными. Анализируя особенности развития политической жизни Америки в период Нового курса, можно заметить, что на практике эти устремления были реализованы через постепенный отказ от использования в сфере общения и коммуникативно-идеологического воздействия образа индивидуалис- та-супермена как символа истинности постулатов идеологии американского либерализма и обращение в сфере политической теории и политической практики к образу “забытого человека” ( “Forgotten M an”), олицетворяющего собой тип простого, брошенного на произвол судьбы американца. Тема “забытого человека” оказалась в центре обновленного варианта либеральной доктрины, которая использовалась администраторами Нового курса как идеологическое обоснование соответствия осуществляемых реформ содержанию фундаментальных основ идеологии либерализма. “До сих пор я говорил только об основах нашей политики [...]. Теперь я перехожу к тем звеньям, из которых сложится наше долговременное благополучие. Я уже говорил, что мы не сможем его достичь, если половина нашей
151
страны будет процветать, а другая половина — бедствовать”,— заметил президент. — Если у всех людей есть работа и справедливая зарплата или справедливые прибыли, то каждый может что-то покупать у своего соседа, и бизнес идет хорошо. Но если отнять зарплату и прибыль у половины, то дела ухудшатся вдвое. Положения не спасает даже небывалое процветание удачливой половины. Лучше всего, когда достигается всеобщее разумное благосостояние ш .
Хотя образ “забытого человека” был заимствован из соци- ал-дарвинистской концепции американского социолога Уильяма Грэма Самнера (1840—1910), его морально-этический подтекст и идеологическое наполнение в период Нового курса было совершенно другим. Трансформация самнеровского образа “забытого человека” как прообраза социального неудачника, не способного отстоять свои интересы в схватке с соперниками, в образ, символизирующий социальную невостребованность индивида, нуждающегося в минимальных социальных гарантиях и проявлении заботы со стороны государства, свидетельствует об определенной эволюции общественного мнения и социального восприятия американцев, многие из которых в годы Великой Депрессии превратились в реальные образы тех “забытых людей”, о которых так много говорил президент. Обосновывая столь пристальное внимание государства к нуждам простых американцев, Ф.Д. Рузвельт и его окружение утверждали, что экономика относится только к средствам, а не к целям жизни. “Человек, — подчеркивал президент в своих обращениях к нации, — есть первореальность”, отмечая тем самым, что жесткая индивидуалистическая модель с социал-дарвинистским наполнением, отработав свой ресурс, морально изжила себя.
Появление идеи о необходимости того, что государство, вследствие кризисного экономического развития, должно повернуться лицом к рядовому потребителю, а не к эгоистическим интересам бесконтрольно орудующих в ней монополистических кланов, можно назвать прямым следствием развития социально-реформистских процессов. Позднее идея социально-экономического антимонополизма приобрела ключевое значение в социально-экономической жизни США. Исследуя данное явление в свете философского анализа, можно отметить, что усиление антимонопольной политики в период Нового курса, прояв
152
лением чего было принятие Закона о восстановлении промышленности (NIRA), явилось следствием осознания представителями президентской администрации и определенной частью американского общества того, что в текущий момент необходимо самым решительным образом упорядочить деятельность монополий и крупных финансовых структур, поставив их под контроль государства. Правда, осуществление таких мер со стороны президента трактовалось несколько необычно. Так, в своем обращении к народу Рузвельт подчеркивал: “Было бы совершенно неправильно считать принятые нами меры установлением правительственного контроля. Это, скорее всего, партнерство — партнерство между правительством и фермерами, между правительством и промышленностью, правительством и транспортом. Партнерство не в смысле участия в прибылях, — поскольку прибыли будут по-прежнему доставаться частным гражданам, — а в смысле планирования и проведения планов в жизнь (выделено нами.— Т.К.)”32. Далее, предвидя появление огромного количества обвинений в стремлении осуществить чуть ли не социалистические преобразования, президент, предвосхищая удары своих политических оппонентов, указывал: «Я убежден, что в будущем государство возьмет на себя значительно большую роль его граждан. Сегодня некоторые склонны считать, что эта мысль является типично социалистической. Мой ответ им будет таким: она££ ?? а ?? ' i ' i“социальная , а не “социалистическая »33, замечая при этом, что он выступает “против идеи некоего моратория на реформы— идеи, по существу, просто реакционной”, поскольку “либеральное направление исходит из признания того, что новые явления общественной жизни во всем мире требуют новых подходов». Отставая свою точку зрения, Рузвельт аргументированно заявлял: «Когда я говорю “либерал”, я имею в виду людей, верящих в прогрессивные принципы демократии и представительной власти, а не каких-то экстремистов, которые, по существу, склоняются к коммунизму»34.
Анализируя сущность проблемы модернизации либеральной идеологии в контексте обновления содержания идейно-нравственного ядра американского либерализма, нужно заметить, что в период Нового курса произошло замещение ранее доминантных символов “крайнего индивидуализма”. Так, образ сильного человека сменил “забытый человек”, морально-этичес
153
кие постулаты социал-дарвинистского толка, связанные с философией воинствующего антистейтизма, заимствованные из ушедшей навсегда в прошлое эпохи классического капитализма, сменились идеей социальной ответственности государства за судьбы своих граждан.
Переходя к анализу прочности связей в системе иерархической соотнесенности сфер теоретической идеологии, политической практики и социально-экономической действительности, следует обратить внимание на то, что, кроме модернизации в сфере идеологии, существенной деталью институционального дизайна является конституционный дизайн, формирующий весомую долю преобразований в сфере законодательства35. Исследуя указанные процессы, можно сделать вывод, что в контексте реформ периода Нового курса особенностью институционального дизайна являлось стремление администрации президента Рузвельта осуществлять данные преобразования, опираясь на “закрепление” в массовом сознании постулатов обновленной идеологии американского варианта либерализма. Эта прагматическая убежденность в необходимости проведения постепенных, поэтапных преобразований была продиктована политическим расчетом президента и его окружения, их осознанием, что, в случае неудачного выбора, принятие сложных решений способно только усилить социальную напряженность в обществе.
Исходя из понимания того, что по своей сущности демократические институты являются “сложными устройствами, допускающими над собой манипуляцию и использование оптимальных для индивидуальных целей стратегий”36 в период Нового курса был осуществлен ряд кардинальных мер, направленных на стабилизацию функционирования связей между экономической, политической, социальной, духовной сферами жизни общества.
Анализируя характер модернизационных процессов 1930х гг., можно заметить, что Ф.Д. Рузвельт, предлагая обществу каскад преобразований и обновленческих идей, которые в истории США носили принципиально беспрецедентный характер, имел существенное преимущество перед предшествующими реформаторами. Оно заключалось в том, что весь спектр реформ Нового курса - упорядочение банковского законода
154
тельства, создание администрации по восстановлению сельского хозяйства (ААА — Agricultural Adjustment Administration, 1933—1942), принятие национального акта о трудовых отношениях (закон Вагнера, 1935), первого в истории США федерального закона о социальном страховании, создание природоохранной администрации в долине реки Теннесси (TVA — Tennessee Valley Authority, 1933), администрации по электрификации (REA — Rural Electrification Administration, 1933) и переселению фермеров из зон, подвергшихся процессу эрозии почвы, создание администрации общественных работ (PWA - Public Works Administration, 1933 —1939; WPA — Works Public Administration, 1935-1943), осуществление реформы Верховного суда (1937) — протекал в обстановке сохранения стабильности государственных институтов и традиционных политических структур в США как на федеральном, так и на местном уровнях. Такую тактику можно объяснить, ссылаясь на сложившееся в социально-философской науке мнение, свидетельствующее о том, что на определенном этапе любая корректировка в политической или идеологической сферах влечет за собой необходимость в соответствующей переориентации масс. Это обязывает ещё более осторожно и взвешенно обращаться с идеологическими принципами, с опасением относиться к их ниспровержению. Осознавая это, Рузвельт остерегался крутых, пропагандистских экспромтов, эффектных приемов, способных, в случае неосторожного движения, вывести американскую конституционно-правовую и государственную систему из равновесия.
Возлагая всю ответственность за происходящее на себя, американский президент в своих многочисленных обращениях к нации обосновывал это право, ссылаясь на то, что “большая часть <...> великих дел совершалась президентами, которые не были орудиями конгресса, а подлинными лидерами страны, правильно истолковывавшими нужды и стремления народа”37.
В его планы не входил демонтаж основных постулатов американизма, традиционных ценностей и приоритетов либерализма. Рузвельт не предавал анафеме прошлое, а лишь требовал хладнокровно демистифицировать его реальный контекст, сняв позолоту лишь с мнимых достижений американской системы, трезво оценив ее плюсы и минусы. В соответствии со
155
своими убеждениями в своем очередном радиообращении к нации Рузвельт настойчиво убеждал своих слушателей в том, что они должны понять, что “экономика требует не только восстановления, но также нравственного реформирования и перестройки. Нравственного реформирования — поскольку экономические бедствия последних лет в значительной мере произошли именно оттого, что видные представители наших финансовых и коммерческих структур пренебрегали простейшими принципами справедливости. Перестройки — поскольку было необходимо преодолеть и новые негативные процессы в нашей экономической жизни, и старые, которым прежде не уделялось внимания (выделено нами. — Т.К.)”38.
Анализируя быстроту и действенность реализации в недрах американского общества его генетических способностей к мобилизационному реагированию и модуляционному регулированию возникающих проблем, следует подчеркнуть, что в период осуществления реформ Нового курса высокоразвитое гражданское общество, реагируя на начало процесса широкомасштабных реформ, глубоко структурированное и воспитанное на уважении к конституционному порядку, имея возможность предоставлять выход общественному недовольству через легитимные каналы - средства массовой информации, парламентскую оппозицию, лоббизм, различные формы общиннорелигиозной деятельности - служило своеобразным амортизатором, снимающим избыточное социально-политическое напряжение.
Безусловно, в столь кратком обзоре невозможно дать всесторонний философский анализ такой сложной темы, как изучение проблемной стороны процесса обновления содержания идеологии американского варианта либерализма. Но всё же, обращаясь к истории дальнейшего развития Америки, можно попытаться дать оценку значения последствий модернизаци- онных процессов, сыгравших существенную роль в обновлении курса перспективного развития США.
В целом анализируя причину успеха реформ Нового курса, можно заметить, что такой фактор, как стремление сохранить политический консенсус в обществе, был предопределен созданием обновленной системы социальных ценностей и нравственных ориентиров, которая была в состоянии органично впи
156
тывать в себя наряду с новыми, реформистскими идеями традиционные для американского общества идеалы. Это, по мнению А.С. Маныкина, и “поддерживало стремление инициаторов политического процесса консолидировать не только своих сторонников, но и подключать к конструктивному участию в политическом процессе оппозиционные политические силы”39.
Другая причина успеха реформ Нового курса заключалась в том, что вся корректировка в институциональной сфере (реформирование механизма разделения властей, перестройка партийной системы, обновление конституционно-правовых доктрин, постепенная институционализация новых политико-правовых структур, призванных обеспечить осуществление социально-экономических преобразований) была основана на разумности теоретической концепции модернизации идеологической доктрины, изначально нацеленной на конструктивность созидательной деятельности. Именно это позволило избежать развития модернизации по революционному варианту, для которого характерна крутая ломка всего уклада жизни, а также насилие и хаос. Факт избрания Ф.Д. Рузвельта на второй и третий президентские сроки говорит о том, что он как политик и идеолог реформ Нового курса имел широкую социальную поддержку. Об этом свидетельствует содержательная сторона выступлений президента, который в 1938 году в своем радиообращении к избирателям произнес: «Нагляднее всего каждый из вас может судить о ходе восстановления экономики, если спросит самого себя, как изменилось его собственное положение. Разве не улучшилось ваше материальное состояние по сравнению с прошлым годом? [...] Разве не улучшились условия труда? Разве не окрепла ваша вера в собственное будущее? Позвольте мне также задать вам еще один простой вопрос: разве за эти достижения вам лично пришлось заплатить такую уж большую цену? Твердолобые консерваторы, а также те, кто теоретическими рассуждениями прикрывает собственные корыстные интересы, будут говорить вам об утрате личных свобод. Но на это я вам также предлагаю ответить, исходя из фактов собственной жизни. Можете ли вы сказать, что лишились своих конституционных прав и свобод, возможности действовать и выбирать ? Возьмите Билль о правах, на котором зиждятся ваши свободы и который я тожественно поклялся соблюдать. Прочтите любое положение
157
Билля и скажите - отнял ли кто-нибудь лично у вас хоть крупицу этих великих гарантий? Я нисколько не сомневаюсь в том, каким будет ваш ответ. Он дается опытом вашей собственной жизни (выделено нами. — Т.К.)»40. Смелость высказываний, простота, доступность, образность мысли, содержательная насыщенность обращений президента, в которых содержалось теоретическое обоснование необходимости осуществления модернизационных преобразований, были теми компонентами, что обусловили исторический успех модернизационных реформ Нового курса. Об этом, по мнению А.С. Маныкина, свидетельствует и весь исторический опыт, доказывающий лишь одно: люди поддерживают реформы лишь тогда, когда видят ощутимое улучшение ситуации, а обновление, ведущее к обвальному ухудшению жизни народа, никому не нужно.
Экстраполируя результаты политической практики, имевшие место в период Нового курса, в контекст современного развития Америки, можно заметить, что заслуга Рузвельта как президента и ведущего политического лидера Америки того времени заключалась также в том, что “ему не только существенным образом удалось обновить либерализм на основе его социал-демократизации, но и добиться реальных успехов в практическом воплощении новых идей. В конечном результате это привело к тому, что его деятельность способствовала превращению либерализма в открытую идеологическую и политическую систему, воплощению новых идей. В конечном результате это привело к тому, что его деятельность способствовала превращению либерализма в открытую идеологическую и политическую систему, и эта открытость позволила капитализму выйти из исторического тупика”41.
Опираясь на конкретные результаты анализа данной проблемы, зная, что созданный в процессе модернизации идеологической модели своеобразный теоретический вклад, “прирост” интеллектуального опыта передается (ретранслируется) в сферу политической практики и может служить для политиков практическим руководством к действию42, можно предположить, что практическая жизнеспособность той или иной идеологии всегда определялась и определяется рядом факторов, в т. ч.:
1) мобильностью (иммобильностью) связей в системе “социальная действительность” — “идеологическая практика”;
158
2) актуальностью (неактуальностью) содержания корректив, выработанных в сфере идеологической теории.
Данные компоненты, воздействуя на характер развития модернизации — выработки и закрепления новых принципов, интеллектуальных постулатов в сфере теоретической идеологии и далее их реализации в сфере политической практики, — могут в значительной степени способствовать успеху или предопределить катастрофу откорректированных политических моделей, демонстрируя крах или жизнеспособность той или иной идеологической доктрины. Исходя из содержания указанных социальнофилософских установок, можно отметить, что наиболее ярко всё это проявилось в США в период Нового курса, где на протяжении более чем трехсотлетнего периода развития нации и страны в целом проблема жизнеспособности функционирования механизмов либерализма как фундаментального идеологического основания социальной системы в целом в политической истории Америки стала приобретать всё большую значимость, актуализируясь в контексте ситуации нараставшего социально-экономического кризиса, расшатывавшего фундаментальные основы идеологии классического либерализма в Америке.
В соответствии с философским подходом к пониманию политики как “вида рисковой (негарантированной) коллективной деятельности, являющейся амортизатором, снимающим избыточное социально-политическое напряжение в области властных отношений, участники которой пытаются изменить свой статус в обществе и перераспределить сферы влияния в контексте сложившихся исторических возможностей”43, оценивая значимость поднятой в работе проблемы, можно с уверенностью утверждать, что вызванный к жизни ходом общественно-политического, социального развития кризис жизнеспособности постулатов и социальных ценностей идеологической модели либерализма и его разрешение в период Нового курса способствовали началу действенного обновления и преобразования прежней социально-экономической модели и этической системы американского государственно-монополистического капитализма. Результатом этого было то, что под влиянием перемен эпохи Нового курса в США возникла и до сих пор существует новая политическая культура с присущими ей политическими коллизиями, риторикой, символикой и психологическим подтекстом.
159
Наглядным примером сказанному может служить тот факт, что и сейчас в Америке продолжают использовать идеологический инструментарий из арсенала эпохи Нового курса, возможности которого наиболее полно использовал президент Никсона, который, как и Рузвельт, но уже в 1970-е гг., видел определенного рода опасность, заключающуюся, по его мнению, в том, что “индивидуализм, долго бывший наиболее характерной чертой американского характера, может привести к коллапсу нации, и свобода, которая была наиболее взлелеянным достоянием, будет существовать только в учебниках истории”44. В связи с этим он призывал американцев “учиться искусству национального единства в условиях отсутствия войны или легкой внешней угрозы”: “Если мы окажемся неспособными преодолеть этот вызов, то наше разнообразие, долго бывшее источником могущества, превратится в деструктивный фактор”45.
Оценивая содержательную сторону приведенных слов, следует отметить, что данный пример свидетельствует о том, что даже через шестьдесят с лишним лет в американском обществе после своего разрешения проблема истинной ценности, адекватности, актуального соответствия идеологических принципов сущности социально-экономического развития общества остается весьма существенным и реальным компонентом политической жизни США.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993. С.331.
2. Келле В.Ж. Идеология / / Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 199.
3. Там же.4. Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград, 1995.
С. 208.5. Либерализм / / Политология: Энциклопедический словарь.
М., 1993. С. 154; Михайлов Б.В. Либерализм / / Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 331.
6. Либерализм / / Политология: Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 154.
7. Там же.8. Там же.
160
9. Евлампиев И.И. Метафизические предпосылки идеологии либерализма и ее типы: (Либерализм как цель и либерализм как средство) / / Философские науки. 1994. № 4. С. 73.
10. Там же. С. 79.11. Там же. С. 82.12. Modernization / / Reese W.L. Dictionary of Philosophy and
Religion Eastern and Western Thought. Hassocks (Sussex), 1980. P. 363.
13. Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993. С.241.
14. Согрин В.В. Конфликт, согласие, плюрализм / / Харц Л. Либеральная традиция в Америке. М., 1993. С. 304; ПаррингтонB.Л. Основные течения американской мысли. Т. 1. М., 1962. С. 64.
15. Гаджиев К.С. Американская нация и национальное самосознание. М., 1981. С. 71; Замошкин Ю.А. Вызовы цивилизации и опыт США: история, психология, политика. М., 1991. С. 65.
16. Дементьев И .П . Теория “американской исклю чительности ” в исторической мысли США / / Вопросы истории. 1986. № 2. С. 81.
17. Wintrop Papers. N. Y , 1968. Vol. 2. P. 295.18. Дементьев И .П . Теория “американской исклю
чительности ” в исторической мысли США / / Вопросы истории. 1986. № 2. С. 81.
19. Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. М., 1993. С. 6.
20. Американа: Англо-русский лингвострановедческий словарь. М. : Полиграмма, 1996. С. 32.
21. Трофимова З.С. Словарь новых слов и значений в английском языке. М., 1993. С. 244; Американа: Англо-русский лингвострановедческий словарь. М .: Полиграмма, 1996. С. 819.
22. Язьков Е. Ф. Новый курс Рузвельта и его место в истории США / / Материалы конференции “Новый курс Ф. Рузвельта: значение для США и России”. М.: Изд-во МГУ, 1996. С.5.
23. Доктрина невмешательства (Laissezfaire)— либеральный лозунг “Laissezfaire, laissez passer” (“не мешайте действовать”)— выдвинули французские физиократы. Позднее он стал классической заповедью экономического либерализма.
24. Пугачев В.П. Основы политической науки. Т. 2. М., 1993.C. 41.
25. Мальков В.Л. Социальная политика Ф.Д. Рузвельта:
161
размышления об истоках и уроках / / Материалы конференции “Новый курс Ф. Рузвельта: значение для США и России ”. М. : Изд- во МГУ, 1996. С. 50.
26. См.: Ордешук П. Эволюция политической теории Запада и проблема институционного дизайна / / Вопросы философии. 1994. № 3. С. 24-36.
27. Roosevelt F. D. The First Inaugural Address / / The American Reader: Words That Moved A Nation / Ed. by D. Ravitch. N. Y , 1991. P. 268.
28. Рузвельт Ф.Д. Речь “Положение в промышленности и трудовые отношения ” от 30. 09. 1 9 3 4 // Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. М., 1995. С. 50.
29. Там же.30. Roosevelt E.D The Public Papers & Addresses / Ed. by S.
Rosenman: In 13 Vols. N. Y , 1938-1950. Vol. V. N. Y , 1942. P. 389-390.
31. Рузвельт Ф.Д. Речь “Сто дней. Цели NIRA ” от 24. 07. 1 9 3 4 // Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. М., 1995. С. 22—23.
32. Рузвельт Ф.Д. Речь « “Новый курс”: первые результаты» от 03. 05. 1 9 3 3 // Рузвельт Ф.Д Беседы у камина. М., 1995. С. 16.
33. The New York Times. 25. 10. 1932. P. 1.34. Рузвельт Ф.Д. Речь “Новые меры по стабилизации
экономики. Проблемы демократической партии ” от 24. 06. 1938 / / Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. М., 1995. С. 114.
35. Ордешук П. Эволюция политической теории Запада и проблема институционного дизайна / / Вопросы философии. 1994. № 3. С. 24.
36. Там же. С. 32.37. Binkley W. The Powers of the President: Problem of American
Democracy. N. Y , 1937. P. 262.38. Рузвельт Ф.Д. Речь “Ответ на критику”от 28. 06. 1934
/ / Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. М., 1995. С. 36.39. Маныкин А С . Что может дать опыт Нового курса
сегодняшней России ? / / Материалы конференции “Новый курс Ф. Рузвельта: значение для США и России”. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 75.
40. Рузвельт Ф.Д. Речь “Ответ на критику”от 28. 06. 1934 / / Рузвельт Ф.Д. Беседы у камина. М., 1995. С. 37.
41. Согрин В.В. Франклин Рузвельт и развитие американского либерализма / / Материалы конференции “Новый курс Ф. Рузвельта: значение для США и России”. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 43.
162
42. Крапивенский С.Э. Социальная философия. Волгоград, 1996. С. 209.
43. Панарин А.С. Философия политики. М., 1994. С. 235.44. Book Expert: Nixon Final Words / / The Time. 02. 05. 1974.
P. 24.45. Ibidem.
И.А. Петрова, Г.П. Кибасова
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ АМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ СОВЕТСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ КАНУНА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Во второй половине 1930-х годов отмечается резкое увеличение внимания американцев к сфере международных отношений и характеру внешней политики администрации США. Развитие сентябрьского кризиса и Мюнхенское соглашение явились на страницах американских газет и журналов, в политической и исторической литературе предметом острейшей дискуссии. В Белом доме, в конгрессе США, внутри различных партий, общественных организаций шла ожесточенная борьба по вопросам характера внешней политики США, роли страны на международной арене.
Общественное мнение, так же как и позиции профессиональных политиков, разделилось на две части: «изоляционисты» и «интервенционисты». Первые продолжали традиционную для США линию, настаивая на «невмешательстве» в европейские дела. «Интервенционисты» доказывали необходимость поддержки антифашистской борьбы европейских «демократий». Их позиции, вплоть до начала второй мировой войны, ослаблялись политикой «умиротворения», проводимой самими европейскими «демократиями». Надо отметить, что и «изоляционисты», и их противники представляли из себя весьма неоднородные в социально-политическом отношении группы1.
В конце 1938 г. после межсессионных выборов и обострения международной обстановки в конгрессе США стали более четко
163
просматриваться социальные параметры обеих групп. Среди «изоляционистов» преобладали представители монополий, связанных экономическими интересами с Германией, а также лидеры профашистских и расистских организаций. Большинство «изоляционистов» являлись членами республиканской партии США (А. Ванденберг, Г. Фиш, Д. Гинкхэм и др.). В группу «изоляционистов» вошли «аграрные республиканцы» во главе с сенатором У. Борой (W. Borah) и сторонники «истинного нейтралитета»2. Открытый антисоветизм использовался этой группировкой в своих партийных внутриполитических целях для борьбы с внешнеполитическим курсом администрации Ф.Д. Рузвельта.
На слушаниях в конгрессе в 1939 году «изоляционисты» подняли вопрос о «нарушении» со стороны представителей президентской администрации соглашения «Рузвельт — Литвинов», обвиняя Ф. Рузвельта чуть ли не в сочувствии Советам. Попутно был поставлен вопрос о «долгах» СССР американским гражданам. В целом эта кампания носила открыто провокационный и клеветнический характер.
«Интервенционисты» в конгрессе были представлены членами демократической партии, поддерживающими Ф. Рузвельта, занимавшего в то время крайне осторожную позицию, сориентированную на поддержку европейских демократий, и в первую очередь Англии. По мере развития фашистской агрессии «интервенционисты» пришли к признанию необходимости отдельных соглашений с Советским Союзом. После начала второй мировой войны «коммунистическая угроза» представлялась им эфемерной по сравнению с фашистской. В конечном итоге логика антифашистской борьбы, рост симпатий к СССР как жертве агрессии привели к развитию союзнических отношений с СССР. Антисоветизм «интервенционистов» на непродолжительное время ушел на второй план.
Первые американские концепции советской внешней политики предвоенного периода отражены на страницах печати: они носили остро публицистический характер. При этом критерием оценки внешней (как и внутренней) политики Советского Союза явилась «доктрина тоталитаризма», в соответствии с которой СССР приравнивался к фашистским государствам и противопоставлялся истинным «демократиям»3.
Наиболее мощная антисоветская волна в американской
164
печати поднялась после подписания пакта Молотова—Риббентропа. «Наконец, — отмечала влиятельная “Times”, — образовался демократический фронт. Обманный фронт разрушен и антидемократические системы — на одной стороне, а демократические — на другой»4.
«Эту позицию поддержало большинство изданий. Разногласия в оценке пакта касались в основном поиска виновных. Печатные издания концерна Херста обвиняли в этом «английских радикалов, коммунистов, псевдокоммунистов, красных, розовых и лиловых». «Почему Германия заключила договор с Россией, своим социальным и политическим врагом? — спрашивал “Journal American”. — Потому что Германия была не в состоянии заключить мирный союз с Францией и Англией, ее естественными соседями и политическими партнерами»5. В позиции крайне правых, таким образом, ясно очерчено стремление к созданию единого антисоветского фронта.
Практически близкие по смыслу оценки советской внешней политики мы находим в достаточно популярном в предвоенные годы журнале, претендующем на научность — «Current History». Правда, позиция этого издания являлась скорее компромиссной между «изоляционистами» и «интервенционистами». Уже в начале 1939 г. журнал дал отрицательную оценку Мюнхенскому соглашению. В связи с отставкой М.М. Литвинова редколлегия журнала высоко оценила его борьбу за создание системы коллективной безопасности в Лиге Наций и развитие двусторонних отношений СССР с другими странами. Цель этой статьи была прямо противоположной: единственный человек, который боролся за мир в СССР, устранен; позиция Литвинова не имеет ничего общего с позицией советского правительства в целом6. Удивительно, как подобное могло произойти в «тоталитарной» стране! Нагромождением прямой лжи явилась серия статей Л. Лора, опубликованных в 1939—1940 гг. Интересно заметить, что автор выступает против СССР от имени «международного рабочего движения и мировой революции»7.
Печать США нашла поддержку в политической и исторической литературе. Как это ни странно, но крайне правые концепции были поддержаны бывшими марксистами, такими, как Ю. Лайонс и М. Истмэн8. Так, Лайонс утверждал, что предстоящая борьба — «это не борьба между коммунизмом и фашиз
165
мом, это борьба за моральные и этические идеалы, которые не признаются обоими этими движениями». Главный вывод работ Истмэна еще проще: «Сталин — суперфашист»9.
На фоне этих работ гораздо более научными представляются книги русских эмигрантов, некоторые из них переехали в США в начале-середине 1930-х годов из Германии. Как правило, несмотря на крайний антисоветизм, их работы характеризуются более обширной источниковедческой базой, неоднозначностью оценок.
Среди работ русских эмигрантов в первую очередь выделим книгу бывшего русского летчика, затем белогвардейского офицера Т.А. Таракуцио «Война и мир в советской дипломатии», неоднократно переиздававшуюся в послевоенный период. Автор подчеркивает целеустремленность Советского государства в борьбе за мир и коллективную безопасность, анализирует теоретическую базу марксизма. Выделены и обоснованы три основные направления борьбы за мир в деятельности советского правительства: использование трибуны и аппарата Лиги Наций; заключение двусторонних договоров с «некоммунистическими» странами и налаживание отношений по дипломатическим каналам; борьба за проведение в жизнь тактики единого народного фронта против фашизма10.
Однако основной мыслью работы Таракуцио является, на наш взгляд, попытка доказать, что главной целью СССР было стремление осуществить идею проведения мировой социалистической революции. Когда мирное сосуществование отвечает этой цели, Советы борются за мир, когда не отвечает — предпочитают войну. Автор утверждает, что вместе с построением социализма для СССР отпала необходимость бороться за мир. В силу этого якобы был заключен пакт о ненападении с Германией.
Значительной известностью среди американцев пользовались работы русской эмигрантки В.М. Дин, занимавшей в предвоенные годы пост заместителя .директора «Foreign Police Association». Она, как и Таракуцио, безоговорочно поддерживала «интервенционистов», но в отличие от него достаточно критически оценивала политику «умиротворения», и особенно Мюнхенское соглашение. По ее мнению, политика «умиротворения» закончилась в начале 1939 г. Она считала, что советско- германский пакт был наказанием за Мюнхен. Как и многие
166
«интервенционисты», Вера Мишель Дин не отрицала тоталитаризм Советского государства, но доказывала, что во внешней политике СССР, как и все другие страны, руководствуется принципами соблюдения «национальных интересов»11.
Большое влияние на общественное мнение в предвоенный период12 оказала книга европейского корреспондента «The New York Times» Кларенса К. Стрейта «Союз сейчас»13, представлявшего позицию умеренной части «интервенционистов». Находясь под влиянием концепций тоталитаризма, Стрейт ратует за немедленное создание системы коллективной безопасности для отпора фашистской агрессии, отмечая возможность и желательность объединения «демократий» с СССР. К. Стрейт раньше других показал отрицательные последствия Мюнхена и отметил антисоветскую направленность «Пакта четырех», правда, только в плане игнорирования СССР.
В первые дни после заключения советско-германского пакта о ненападении далеко не все американские историки восприняли его как сенсацию, как «взорвавшуюся бомбу». Так, во время радиодискуссии, состоявшейся 27 августа, в которой приняли участие профессора Чикагского университета, профессор У. Лэвис отметил, что «в результате этого соглашения Россия сохраняет баланс сил не только в Европе, но и в Азии». Его поддержали другие участники дискуссий. К. Райт подчеркнул, что СССР «предотвратил окружение со стороны Японии и Германии, и это то, чего он никогда не смог бы достигнуть другим путем». Во время дискуссии была дана отрицательная оценка мюнхенской политики, подчеркнута ее антисоветская направленность. Участники дискуссии подчеркнули, что, если бы Англия, Франция и СССР заключили бы союзный военный договор, «войну можно было предотвратить»14. По существу, участники этого разговора обозначили концепции, выходящие за рамки чисто «интервенционистских» взглядов, приблизившись в этом к позициям американских либералов.
Американский либерализм в этот период был представлен журналистами «The New Republic» и «The Nation». В этих изданиях сотрудничали многие известные деятели американской культуры и науки. Журнал «The Nation» в конце августа 1939 г. опубликовал письмо известных общественных деятелей «Всем сторонникам демократий и мира» (всего 4000 подписей.
167
В их числе были Р. Кент, Ф. Шуман, М. Лернер, А.Р. Уильямс, В. Шин и др.). В этом письме прозвучал страстный призыв к сотрудничеству СССР и США, Советский Союз объявлялся “форпостом” против войны и агрессий15.
В воззвании подчеркивалась необходимость бороться с разжиганием волны антисоветизма: «С целью повернуть антифашистские чувства против СССР они (профашистские идеологи) распространяют чудовищную ложь, что СССР и тоталитарные государства практически одно и то же. Таким образом они надеются создать разногласия прогрессивных сил, чьи объединенные усилия являются делом первостепенной важности во имя поражения фашизма»16.
Другой либеральный журнал «The New Republic», соглашаясь с необходимостью объединения с Советским Союзом для борьбы с фашизмом, причислял все же его к тоталитарным государствам, основывая свою мысль на том, что в СССР существует однопартийная система.
Концепции «национального интереса» и «тоталитаризма» по отношению к анализу советской внешней политики плохо уживались. В американском историографическом направлении это привело к расколу среди либералов.
В условиях антисоветской истерии, развернувшейся в США в начальный период второй мировой войны, большинство либералов стали оценивать внешнюю политику СССР с позиций крайнего консерватизма. Так, Луис Фишер заявил, что Советы никогда не хотели заключить пакта об отпоре агрессии с западными «демократами»17, указывая на концепцию умеренно консервативной публицистики и историографии о смене политики Советского Союза в связи с отставкой М.М. Литвинова, об отказе Англии и Франции от «политики умиротворения» после короткой войны Германии с Чехословакией.
Немногие либералы в тех условиях продолжали отстаивать свои прежние взгляды как на развитие международных отношений в целом, так и на роль СССР в них. В вышедшей в начале 1941 года книге Ф. Шумана доказывается, что заключение пакта о ненападении было вызвано отказом «демократий» от действенного договора с Советским Союзом, продолжением ими «политики умиротворения», означавшей стремление направить фашистскую агрессию в Восточную Европу. Ф. Шуман
168
считал, что одной из основных целей советско-германского пакта «является выигрыш времени», который позволил бы СССР лучше подготовиться к отпору агрессии18.
В это время Ф. Шуман в противовес всем оттенкам консервативных концепций утверждал, что призывы «демократий» к миру, терпимости и справедливости в условиях развернувшейся агрессии, ведут к разрушению мира и справедливости; они служат прикрытием главной цели «умиротворителей», поддерживаемых США, — «использования фашизма против коммунизма»19.
Естественно, что, кроме небольшой группы либералов, с прямой поддержкой позиции СССР выступили американские коммунисты. В своих периодических изданиях «The Communist» и «Daily Woker» они стремились к созданию широкого антифашистского фронта, разоблачали тактику «умиротворителей». В брошюре У.З. Фостера «Что есть что о войне. Вопросы и ответы» показана абсурдность обвинений против Советского Союза в развязывании им войны. У.З. Фостер так объясняет причины советско-германского пакта: «Поняв, что все его мирные усилия потерпели поражение, и не желая быть втянутым в войну, которую он не смог предотвратить, в целях самообороны и руководствуясь здравым смыслом, СССР отступил от линии огня любителей войны и занял позиции нейтралитета»20.
Голоса либералов и коммунистов не оказывали сколь-нибудь существенного влияния на общественное мнение вплоть до нападения фашистской Германии на СССР. К моменту нападения Германии на Советский Союз американцы привыкли к молниеносным победам рейха в Европе. Они начинали понимать ту реальную угрозу, которую нес фашизм всем народам, стали осознавать, что Америке не удастся остаться вне войны. Американское правительство открыто стало на сторону «демократий», приступив к оказанию материальной помощи Англии. Опросы общественного мнения июня-июля 1941 г., проведенные институтом Дж. Гэллапа, показали рост симпатий к СССР. Так, 72 % американцев желали победы в начавшейся войне СССР и только 4 % — Германии. Правда, 44 % думали, что победит Германия, лишь 22% опрошенных отдавали победу Советам21. За оказание материальной помощи Советской России высказались менее 40 % американцев22.
169
В этот период произошел поворот в тоне и настроениях средств массовой информации США в оценке внешней политики СССР. Большинству казалось, что «произошло чудо», и «стало ясно, что о Советском Союзе в последние 20 лет было сказано больше лжи, чем о любой другой нации»23. В это время в США широкое распространение получают либеральные внешнеполитические концепции С. Ниринга, Дж. Дэвиса, К. Ламон- та, А.Р. Уильямса24.
Опросы общественного мнения в США в период войны показывают резкие колебания общественного мнения американцев25. К концу войны отмечен рост антисоветских настроений, связанный с возникновением проблемы послевоенного переустройства мира. Широкую известность в самом начале войны получили слова будущего американского президента Г. Трумэна: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают друг друга как можно больше»26. Эти слова стали манифестом крайне консервативного направления как в американской политике, так и в американской историографии.
Тем не менее точка зрения «изоляционистов» в целом начинает исчезать со страниц печатных изданий, так же как и проповедь взглядов фашиствующих политиков. В годы войны крайне консервативное направление несколько видоизменилось, заимствовав идеи у «умеренных» и отчасти либералов. К таким исследованиям, на наш взгляд, можно отнести коллективный труд сотрудников университета Северной Каролины27. Его авторы стремятся доказать непредсказуемость и эгоистичность советской внешней политики, в которой, по их мнению, преобладали то приоритеты идей мировой революции, то стремление к созданию системы коллективной безопасности (М. Литвинов), то желание взаимовыгодно сотрудничать с нацистами. При этом последний поворот в политике был связан, по мнению ряда авторов, с тем, что после переговорных процессов в результате получения Румынией и Польшей гарантий военной поддержки со стороны западноевропейских держав «исчезла угроза Украине». Более того — советское правительство не шло на сотрудничество с «демократиями» в ходе войны, так как боялось, что это «приведет к концу советской системы». К тому же, по мнению
170
этих авторов, СССР стремился столкнуть своих врагов во имя мировой революции28.
Практически не изменил крайнего антисоветизма Макс Истмэн. В статье, опубликованной в 1943 г., он продолжает развивать идеи тождества фашизма и коммунизма29. Единственной уступкой изменению общественного мнения явилось название статьи «Чтобы успешно сотрудничать — мы должны знать факты о России». Вывод в указанной работе был сделан прямо противоположный: сотрудничать с тоталитарным режимом нельзя. СССР, по мнению Истмэна, не поможет и в борьбе с Японией, так как он подписал с ней договор. (Удивительно, но практически во всей западной литературе и прошлого и настоящего не упоминаются Декларации о дружбе, подписанные с Германией, Англией и Францией после Мюнхенского соглашения!). Впрочем, Истмэн высказал и еще более «ценные» идеи: по их мнению, во всех убийствах западных политических деятелей виноват СССР.
«Новые» крайне консервативные концепции выдвигает американский профессор и русский эмигрант Д. Даллин30. Оказывается, не США, а СССР проводил «политику изоляционизма». Основываясь на записке посла Франции в Германии о том, что «ходят слухи» о немецких предложениях Советскому Союзу (такие предложения поступали неоднократно), Д. Даллин приходит к выводу, что в мае 1939 года в Москве начались переговоры между СССР и Германией. Анализу этих событий был посвящен целый раздел книги.
В годы второй мировой войны лидирующие позиции в американской публицистике и историографии стали занимать представители умеренно консервативного течения, развивающего концепции «национального интереса». В это время большой известностью пользовались работы У. Липпмана — американского журналиста, политолога и социолога. В одной из его работ 1943 года целая глава была посвящена анализу советско-американских отношений. Исходная позиция и одновременно вывод У. Липпмана состоит в том, что, несмотря на значительные различия в идеологии, «Советский Союз и США, обычно каждый во имя своих интересов, поддерживали друг друга»31.
В работе Липпмана, как большинства представителей умеренно консервативного течения в американской историогра
171
фии, советско-германский пакт объявляется «оборонительным», а главной «ошибкой демократий» признается Мюнхенское соглашение. Уже через год в своей новой книге У. Липпман несколько смещает оценки, заявляя, что во имя обеспечения мира СССР должен претворять в жизнь «демократические» нормы. Здесь же он возвратился к мысли о том, что СССР, преследуя цели «революционного мирового коммунизма», отказался от них временно, заключив союзнические отношения с западными странами32. Подобные колебания (а иногда и колебания более резкого толка) были свойственны многим представителям умеренно консервативного течения.
В целом надо отметить, что в концепциях умеренных консерваторов преобладали все же благожелательные оценки советской внешней политики33. Одной из наиболее серьезных работ в американской историографии рассматриваемого периода является книга А.У. Поупа «Максим Литвинов». Используя жанр биографического повествования, американский историк показал динамику развития международных отношений. Более детально он сумел вскрыть тактику проволочек, затягивания хода англо-франко-советских переговоров со стороны Англии и Франции, характер и содержание их закулисных маневров34.
Завершая анализ историографических концепций, анализирующих характер советской внешней политики в период второй мировой войны, следует заметить, что небывалый рост интереса рядовых американцев к СССР привел к появлению большого количества общих работ о Советском Союзе, которые в целом отличались доброжелательностью настроя авторов по отношению к стране Советов35. Правда, в значительной мере эти книги носили конъюнктурно-публицистический, а не научный характер в силу того, что их авторы обходили неприятные, по их мнению, вопросы. Хотя содержание данных работ и отличалось противоречивостью, недосказанностью мысли исследователей, тем не менее появление в американской историографии работ такого плана можно в определенной мере назвать прорывом в сфере научного подхода к изучению рассматриваемой проблемы.
172
П РИ М ЕЧАН И Я
1. См. : Наджафов Д.Г. Народ США против войны и фашизма. М., 1969. С. 68—91.
2. Congressional Record. Vol. 78. Part. 1. P. 469, 307—309.3. Levering R.B. American Opinion and the Russian Alliance,
1939—1945. €hapel Hill: The University of North Carolina Press, 1976. P. 262.
4. The New York Times. 08. 24. 1939.5. Цит. по: Levering R. Op. cit. P. 19.6. Current History. 1939. Vol. 49. N 6. P. 17—19.7. Current History. 1939. Vol. 5. P. 87.8. Lions E. Assignment in Utopia. N. Y , 1937; Lions E. Stalin:
Czar of All the Russians. Philadelphia, 1940; Eastman M. Reflection on the Failure o f Socialism. N. Y , 1955.
9. Цит. по: Levering R. Op. cit. P. 22.10. Taracousio T.A. War and Peace in Soviet Diplomacy. West
Point, 1975. P. 218—226.11. Dean V.M. Russia’s Role in the European Conflict/ / Foreign
Affairs. 1940. March, 9. Vol. XIX. N 24. P. 301—316.12. См.: Gallup G, Rae S.F. The Pulse of Democracy. The Public
Opinion Poll and How it Works. N. Y , 1940. P. 208, 209, 316; Levering R. Op. cit. P. 21—22.
13. Streit K. Union Now: A Proposal for a Federal Union of the North Atlantic. N. Y , 1939.
14. Laves W , Utley C , Wright Q. A Radio Discussion of Europe on the Verge. Chicago, 1939. P. 7—11.
15. The Nation. 08. 26. 1939. P. 228.16. The New Republic. 1939. N 1291. P. 88—89.17. Schuman F.L. Europe on the Eve. The Crisis of the Diplomacy,
1933—1939. N. Y. and. L , 1939. P. 261—262, 352.18. Ibid. P. 33.19. Foster W.Z. What’s What about the War Questions and
Answers. N. Y , 1940. P. 7.20. Livering R. Op. cit. P. 45.21. Hero A. O. American Religious Groups View Foreign Policy:
Trends in Rank-and-Fill Opinion, 1937—1969. Ounham, 1973.22. Ward H The Soviet Spirit. N. Y , 1944. P. 10.23. См. : Nearing S. United World. The Road to International Peace.
N. Y.,1945; Goetz D. Russia and America. Old Friends— New Neighbors.
173
N. Y , 1945; Davies J.E. Our Soviet Ally in War and Peace. N. Y , 194424. Warren C. American Attitudes toward Russia / / Antioch Review.
1947. June. P. 183-185.25. The New York Times. 06. 21. 1941.26. Pegg C.H. American Society and the Changing World. N. Y ,
1944. P. 57.27. Ibid. P. 58.28. Reader’s Digest. 1943. July. Vol. 43. N255. P. 1—14.29. Dallin D.I. Soviet Russia’s Foreign Policy, 1939—1942. New
Haven, 1944. P. 26—29, 33—39.30. Lippman W. The U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic.
Boston, 1943. P. 177.31. Lippman W. The U.S. War Aims. Boston, 1944. P. 149—
152.32. См., например: Fry V. The Peace that Failed. N. Y. , 1944;
Davies J. Mission to Moscow. N. Y , 1941; Culberston E. Total Peace. N Y , 1943.
33. Pope A. U. Maxim Litvinov. N. Y , 1943.34 См., например: Wolfe L. Short History of Russia. N. Y., 1944;
Baker N. Lenin. N. Y ., 1945; Mandel W. A Guide to the Soviet Union. N Y , 1945.
35. Например: The Mainstream of Civilization. HBI. 1989. P. 934—937; Huge T. World History. N. Y , 1996. P. 642—653.
Е.Ш. Музраева
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КАЛМЫКИИ В США
В последнее время интерес к истории калмыков и их предков, ойратов, возрастает как в Европе, так и в США.
Развитие востоковедения в США в целом, монголоведения и калмыковедения в частности, во многом связано с деятельностью российских ученых, оказавшихся в Америке в эмиграции. Н.Н. Поппе, продолжительное время являвшийся профессором университета в г. Сиэтле, способствовал заметному оживлению востоковедческих исследований. Большую известность получили труды Г.В. Вернадского. В США проживает и плодотворно работает профессор Мэрилендского университе
174
та Араш Борманджинов, калмык по происхождению, родившийся в 1922 г. в Сербии в семье эмигрантов из России.
Исследования по истории калмыков публикуются в периодических изданиях, таких, как «Монгольские исследования», «Журнал по Центральной Азии», «Уральская и Алтайская серия университета Индианы» и др. В 1960-е годы в США издавался «Калмыцко-Ойратский сборник», в котором публиковались статьи по истории, этнографии, культуре калмыков. Издателями сборника были Араш Борманджинов и Джон Крюгер. Выходу в свет сборника способствовало Общество ревнителей калмыцкой культуры, действовавшее в Филадельфии. В этом сборнике опубликованы труды Н.Н. Поппе, Г.В. Вернадского, П. Рабел и других исследователей1.
В статье Г.В. Вернадского «Историческая основа русско- калмыцких отношений» продвижение калмыков на запад и вхождение в состав России рассматривается в связи с русской колонизацией Сибири. Ученый считает, что существовала угроза покорения Сибири калмыками, так как они имели многократное численное превосходство над русскими гарнизонами. Однако этого не произошло в силу ряда причин. Г.В. Вернадский указывает на то, что «русское проникновение на Восток... привело к собиранию монгольских и тюрко-татарских народов и племен Россией. В конце концов, русским удалось объединить под своей властью или влиянием большую часть территории бывшей Монгольской империи (кроме внутренней Монголии и, конечно, Китая). Россия стала евразийской державой. В этом смысле можно говорить о том, что Россия явилась наследницей Монгольской империи»2. Взгляд Вернадского на развитие русско-калмыцких отношений следует назвать широким, комплексным и глубоким, что свойственно работам всех выдающихся исследователей.
Следует особо отметить научную и организаторскую деятельность профессора А. Борманджинова. Круг его научных интересов широк. Он известен и как филолог-славист, и как кал- мыковед. Его перу принадлежат филологические изыскания в области калмыцкого языка, исследования по народному эпосу «Джангар», а также труды по истории калмыков3.
Известным трудом Борманджинова, недавно переведенным на русский язык, является исследование «Ламы калмыц
175
кого народа: ламы донских калмыков»4. История духовной жизни народа, деятельность религиозных подвижников в последнее время привлекают к себе внимание исследователей. Задача духовного очищения и возрождения, стоящая сейчас перед нашим обществом, не разрешима без обращения к истокам духовности, истории буддизма. Борманджинов пишет: «Калмыки всегда были ревностными буддистами или ламаистами. Ламаистское духовенство пользовалось большим уважением. Число духовных лиц по отношению к общему населению было значительным. Многочисленные храмы, как кочевые, так и стационарные, служили не только местами поклонения, но и центрами буддийского образования, а также светского начального обучения»5. В книге американского историка рассматривается деятельность лам донских калмыков с начала XIX в. до 30-х годов XX в. В 1930-е годы буддийская церковь Калмыкии подверглась гонениям и разорению. Профессором Борманджино- вым проделана большая работа по изучению труднодоступных источников и создан оригинальный труд, аналогов которому нет в современном калмыковедении. Книга снабжена редкими фотографиями духовных глав калмыцкого народа.
Эмиграция из Советской России времен гражданской войны становится предметом изучения современных историков. Свой вклад в создание истории калмыцкой эмиграции внес Араш Борманджинов. Его статьи посвящены проблемам культурной ассимиляции калмыков в Европе и США, истории калмыцкой диаспоры в Сербии6. Профессор показывает, как калмыки-эмигранты и их потомки стремились сохранить себя как этнос, несмотря на превратности судьбы и существование в поликультурной среде. Ценность этим публикациям придает то, что автор был непосредственным участником событий, о которых пишет. Он выступает и как очевидец, и как историк. Это придает его сочинениям неповторимый эмоциональный оттенок. В целом деятельность профессора Борманджинова способствует созданию полной и объективной истории калмыцкого народа, а также она помогает сближению и взаимообогащению культур разных народов.
Заметным вкладом в американское калмыковедение является труд Стивена Халковица «Монголы Запада»7. Книга примечательна тем, что в ней содержится перевод известного литературного памятника «История калмыцких ханов». Теперь и
176
на английском языке можно прочитать произведение анонимного автора, создавшего свой труд, вероятно, в конце XVIII— начале XIX в. Калмыковеды признают перевод Халковица достаточно адекватным оригиналу. По мнению профессора Борманджинова, «Халковиц прекрасно знает ойратскую письменность»8. Несмотря на некоторые неточности, главным образом в написании терминов, названий и имен, книга С. Халковица является событием для всех тех, кто интересуется историей калмыцкого народа.
Успешно исследует историю калмыков Майкл Ходарков- ский из университета в Чикаго. Им написана статья о Петре I и Аюке-хане и книга «Там, где встретились два мира: Русское государство и кочевники-калмыки. 1600—1771»9. Книга Ходар- ковского написана на основе широкого круга источников и литературы. Особенно важно то, что автор, пожалуй, первым из калмыковедов использует турецкие источники. Они имеют особое значение для исследования ситуации на южных российских границах. Ходарковский считает, что русские документы как источники во многих случаях не следует абсолютизировать: к ним следует относиться критически.
В предисловии к своей книге Ходарковский пишет, что стремился избежать «русско-центристского» подхода к истории калмыков и их взаимоотношений с Россией. Он полагает, что историю этого кочевого народа следует рассматривать в концептуальных рамках традиционного калмыцко-монгольского общества. В силу этого он стремился использовать социально-политические и экономические категории, присущие данному обществу. В то же время американский историк отмечает, что отношения России с калмыками во многом были типичными, схожими с ее отношениями с другими кочевыми народами, проживавшими у южных границ государства.
М. Ходарковский указывает на то, что главная цель российского правительства — укрепление южной границы и использование калмыков в качестве военной силы — оставалась неизменной в течение длительного периода в XVII—XVIII вв. Тем не менее политика Москвы по отношению к калмыкам подверглась существенным изменениям, начиная от простого покровительства и заканчивая полным включением в состав Российской империи. Ученый также показывает, что внутрен
177
ние изменения в калмыцком обществе явились во многом результатом контактов калмыков с Россией. Взаимодействие культур оседлых и кочевых народов, стоящих на разных ступенях развития, является сложным и противоречивым процессом. Хо- дарковскому удалось создать многоплановую и объемную картину русско-калмыцких отношений и интеграции калмыков в жизнь Российской империи. Его книга является крупным достижением на пути создания подлинной истории калмыцкого народа и истории Российского государства10.
Необходимо отметить, что история калмыков привлекает внимание таких ученых, как Джон Крюгер, Паула Рабел, Чарльз Риз.
В заключение следует заметить, что история калмыцкого народа изучается многими американскими исследователями. Их достижения довольно значительны, они являются важным вкладом в историографию истории калмыков. Правда, в основном изучается история XVII—XIX вв., а проблемы новейшей истории Калмыкии почти не привлекают внимания ученых. Впрочем, следует заметить, что историки и Калмыкии, и России также не преуспели в создании научно объективной концепции современной истории России. Так что изучение современной истории Калмыкии, а также создание целостного, обобщающего труда по истории калмыцкого народа с древнейших времен до наших дней остаются актуальной задачей как для отечественных, так и зарубежных историков.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Kalmyk-Oirat Symposium / Ed. by Arash Bormanshinov and John R.Krueger. Philadelphia, 1966.
2. Вернадский Г.В. Историческая основа русско-калмыцких отношений/ / Kalmyk-Oirat Symposium. Philadelphia, 1966. P. 18.
3. Bormanshinov A. Prolegomena to a History o f Kalmyk Noyons (Princes). 1. Buzava (Don Kalmyk) Princes / / Mongolian Studies. 1991. Vol. XIV. P. 41—80; A Secret Kalmyk Mission to Tibet in 1904 / / Central Asiatic Journal. 1992. Vol. 36. N 3—4. P. 161—187; The Lamas of the Kalmyk people: The Don Kalmyk Lamas / Indiana University Reseach Institute for Innes Asian studies. Bloomington (Indiana), 1991.
178
4. Борманджинов А. Ламы калмыцкого народа: ламы донских калмыков / Авторизованный пер. Э.-Б. Гучиновой. Элиста, 1997.
5. Там же. С. 8.6. Bormanshinov A. Some problems of cultural assimilation of the
Kalmyk in the United States and Europe / / Ural-Altaische Jahrbuches. Wiesbaden, 1990. Bd. 9. P. 225—235; Борманджинов А. Записки о калмыцкой диаспоре. Первый буддийский храм в Европе. Перипетии «сербских» калмыков в 1944—1945 гг. / / Теегин герл. Элиста, 1990. N 8.
7. Halkovic S. The Mongols o f the West. Bloomington (Indiana),1985.
8. Bormanshinov A / / Mongolian Studies. 1988. Vol. XI. P. 116— 120. Рец. на кн.: Halkovic S. The Mongols o f the West. Bloomington (Indiana), 1985.
9. Khodarkovsky M. Uneasy Alliance: Peter the Great and Ayuki Khan / / Central Asian Survey. 1988. Vol. 7. N 4; Where Two World Met: The Russian State and Kalmyk Nomads, 1600—1771. Ithaca; N. Y , 1992.
10. Bormanshinov A. / / Mongolian Studies. 1994. Vol. XVII. P. 99—126. Рец. на кн.: Khodarkovsky M. Uneasy Alliance: Peter the Great and Ayuki Khan / / Central Asian Survey. 1988. Vol. 7. N 4.
С.В. Голунов
ИСЛАМ В СНГ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКО- АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В современных условиях ислам становится одним из факторов, определяющих новую геополитическую ситуацию на постсоветском пространстве. При этом важно учитывать не только интенсивность процессов национально-культурного возрождения в мусульманских районах СНГ, но и втягивание последних в важнейшие геополитические системы (Ближний и Средний Восток), международные организации (ООН, ОИК, ОБСЕ и т. п.). Учитывая, что и Россия, и США имеют в упомянутых районах серьезные стратегические интересы и располагают весьма значительным потенциалом для их воплощения, характер взаимодействия между данными странами в рассматриваемой сфере
179
способен оказать сильное влияние на развитие ситуации далеко за пределами самого мусульманского юга СНГ.
В советский период такое взаимодействие приобретало, по большей части, форму противостояния. Если Советский Союз, последовательно проводя атеистическую политику у себя дома, стремился использовать ислам и мусульманские территории СССР для иллюстрации преимуществ своей системы перед мусульманским миром, то для США исламский фактор в первую очередь имел значение в свете отстаивания своих стратегических интересов на Ближнем и Среднем Востоке, обозначенных известным американским политологом З. Бжезинским как нефть и моральные обязательства перед Израилем1. Как угроза этим интересам были восприняты происшедшие в 1979 г. Исламская революция в Иране и ввод советских войск в Афганистан. В связи с последним событием американские политики и аналитики обратили более серьезное внимание на мусульманские районы СССР, во многом сохранившие, несмотря на проводимую в их отношении политику секуляризации и модернизации, традиционалистский уклад и поэтому представлявшиеся некоторым западным экспертам той отправной точкой, с которой в СССР могли бы начаться дезинтеграционные процессы2. Наряду с усилением пропагандистского вещания на данные районы предлагалось предпринять и более активные действия, включая, например, обсуждение в ООН вопроса о дискриминации прав советских мусульман3.
Такая стратегия находилась, по-видимому, еще в стадии разработки, когда процесс дезинтеграции СССР, в котором мусульмане сыграли, кстати, гораздо меньшую роль, чем им отводилась упомянутыми экспертами, принял необратимый характер. Крушение Советского Союза привело не только к появлению на политической карте мира шести новых мусульманских государств (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), но и к неуклонному возрастанию роли ислама как фактора политической жизни на постсоветском пространстве. С одной стороны, исламское возрождение в итоге практически повсеместно оказалось обусловленным культурно-этническими рамками, но с другой — в условиях социального и экономического кризиса ислам стал одним из средств выражения различных политических интересов, в том числе и местных ре
180
жимов, оправдывающих перед Западом ущемление демократических свобод необходимостью противодействия наступлению радикального исламизма. К исламу апеллируют и те страны, которые пытаются играть патерналистскую роль по отношению к мусульманским районам СНГ. Это в первую очередь Турция, Иран, Пакистан и Саудовская Аравия.
Сложившаяся ситуация побуждала и Москву, и Вашингтон к выработке новой стратегии, которая на первых порах, ввиду отсутствия у США значительных экономических интересов, с одной стороны, и стремления России в первую очередь предотвратить дезинтеграцию старых связей — с другой, носила преимущественно превентивный характер. Беспокойство обеих стран вызывали исламский радикализм, эскалация абхазского, карабахского и таджикского конфликтов, неопределенность судьбы центральноазиатских ядерных технологий и материалов, к которым, по некоторым данным, проявляли интерес такие страны, как Ирак, Иран и Ливия. Беспокойство России связано с угрозой распространения сепаратизма в собственных пределах, США — в связи с опасением за свои стратегические интересы на Ближнем Востоке.
В то же время в подходах Москвы и Вашингтона по рассматриваемому кругу вопросов имелись существенные нюансы. Последний, поначалу рассматривая Россию как державу, которая неизбежно уступит свои позиции таким мусульманским «центрам силы», как прозападная и секулярная Турция4 или видевшийся главным геополитическим противником США на Ближнем Востоке исламистский Иран, делал ставку на Анкару5, тогда как Россия, опасаясь, что так называемый «эффект домино» (т. е. «цепная реакция» распространения по мусульманским районам СНГ идей радикального ислама или национализма) затронет и ее пределы6, видела угрозу и в турецком пантюркизме (имеющем своим компонентом и идею исламской солидарности), и, в несколько меньшей степени, в иранской идеологии «экспорта исламской революции». Несколько различались позиции сторон и в отношении секулярных, но ущемлявших демократические свободы местных режимов. Политика США по отношению к последним явилась, как представляется, результатом компромисса между двумя точками зрения, первая из которых предусматривала немедленное оказание помощи данным режи
181
мам, а вторая — увязывала такую помощь с экономической и политической либерализацией7. Следствием этого можно считать, например, с одной стороны, предоставление в 1993—94 гг. Узбекистану и Туркмении режима наибольшего благоприятствования в торговле, а с другой — довольно резкие демарши в связи с нарушением в центральноазиатских государствах демократических свобод8. Из Москвы же некоторая критика, как правило, звучала лишь по поводу ущемления прав русскоязычного населения, однако в то же время именно Россия оказывала республикам Центральной Азии основную поддержку в военной, политической и экономической сферах, предоставив упомянутым государствам только в 1993 г., по данным известного российского экономиста А. Илларионова, кредиты в размерах от 45 до 70 процентов от их ВВП, что в туркменском случае оказалось в расчете на душу населения в 2,7 раза больше, чем было выделено Центробанком ... самой России9.
Одним из главных примеров позитивного взаимодействия Москвы и Вашингтона в данной сфере являются совместные усилия последних по вопросам о нераспространении и ликвидации центральноазиатского ядерного потенциала. Еще в декабре 1991 г. эту проблему затрагивал посетивший Казахстан с официальным визитом госсекретарь США Дж. Бейкер10. Несколько позже между Россией, Белоруссией, Украиной и Казахстаном там же было подписано соглашение о нераспространении ядерного оружия. При этом Алма-Ата настояла на временном сохранении своего ядерного потенциала11, что вызвало на Западе серьезную озабоченность. Между тем в мае 1992 г. Бейкер посетил также Узбекистан и Таджикистан, не только призывая, в последнем случае, Душанбе в обмен на экономическую помощь отказаться от разнообразных связей с Ираном, но и желая получить гарантии, что уран местного происхождения не попадет в руки заинтересованным в его получении Ирану или Ливии12. Если в таджикском случае источники ядерных материалов впоследствии были фактически взяты под контроль российскими миротворческими силами, то в казахстанском Н. Назарбаев после продолжительных переговоров в Вашингтоне в мае 1992 г. признал СНВ-213. После этого в 1993 г. Казахстан согласился с приданием стратегическим ракетным частям статуса российских (с последующим их выводом из республики), а затем, в ходе визита в
182
Алма-Ату вице-президента А. Гора, присоединился к договору о нераспространении ядерного оружия и заключил соглашение о его демонтаже, продав США в 1994 г. около 600 кг обогащенного урана14. Таким образом, вопрос о казахстанском ядерном потенциале удалось успешно разрешить.
Во многом сходными оказались позиции России и США и по отношению к затрагивающим мусульманские районы СНГ конфликтам, возможными последствиями которых виделись, в частности, усиление исламского радикализма и втягивание в них третьих мусульманских сил. Имея совпадающие по большинству вопросов точки зрения относительно карабахского и абхазского урегулирования, основанные на признании территориальной целостности Азербайджана и Грузии и их широкой автономии — соответственно Нагорного Карабаха и Абхазии, обе страны приняли активное участие в работе Минской группы под эгидой СБСЕ по Нагорному Карабаху. Более того, в 1994 г. США поддержали резолюцию ООН, дававшую зеленый свет вводу российских миротворческих сил в Абхазию15. Определенное сходство позиций обеих сторон проявилось и по отношению к таджикскому конфликту. Как известно, созданные в 1992 г. по решению лидеров центральноазиатских государств и России коллективные миротворческие силы фактически приняли сторону ходжентско-кулябской коалиции. Это в 1993 г. привело к вытеснению основных сил исламистов на территорию соседнего Афганистана. Новое таджикское правительство, несмотря на факты репрессий по территориально-этническому и политическому признакам, было признано не только Москвой, но и фактически Вашингтоном, который, по некоторым сведениям, начал оказывать поддержку кулябцам еще летом 1992 г., когда Россия сохраняла нейтралитет16. Вместе с тем обе страны стремятся к поддержанию контактов и с оппозицией: Россия, став главным посредником в процессе национального примирения (что привело к подписанию в июне 1996 г. московского соглашения о принципах политического урегулирования17), США, оказав в гуманитарной и дипломатической сферах определенную поддержку базирующейся в Афганистане оппозиции18.
Наконец, достаточно благосклонной по отношению к России можно считать официальную американскую позицию в связи с чеченским конфликтом. Так, в декабре 1994 г. представи
183
тель госдепартамента Майкл Маккэри назвал данный конфликт исключительно внутренним делом Российской Федерации19. В начале 1995 г. США и НАТО согласились с временным сохранением Россией на южном фланге превышающего лимиты количества обычных вооружений. Вашингтон осудил террористические акты чеченских сепаратистов в Буденновске и Кизляре20, проявив явно критическую позицию, по существу, лишь в отношении намерения федерального командования применить неадекватную для взятия Грозного силу, приветствовав вместе с тем миротворческие усилия генерала Лебедя21. В ходе конфликта благосклонности Вашингтона добивались и чеченские повстанцы. Однако небезуспешное стремление создать себе благоприятный имидж в глазах американского общественного мнения сочеталось при этом с критикой США не только за благоприятный для Москвы нейтралитет, но даже и за якобы имевшую место прямую помощь России. Об этом заявил в интервью польской газете «Rzecz Pospolita» лидер сепаратистов З. Яндарбиев, обвинив американскую разведку в содействии операции по устранению Д. Дудаева посредством предоставления российским спецслужбам данных о технических параметрах системы его сотовой связи22.
Вместе с тем по мере обусловленной ростом экономических и политических интересов активизации политики США в отношении мусульманского юга СНГ, между Москвой и Вашингтоном стали возникать достаточно серьезные противоречия, ставшие отчасти результатом непоследовательности политики самой России. Это происходило на фоне дисбаланса в сфере геополитических интересов России, пытавшейся, с одной стороны, сохранить свое политическое лидерство, а с другой — укрепить взаимовыгодные связи. Во многом по этой причине в некоторых случаях США стали рассматриваться в качестве определенного противовеса России. Ярким примером этому, в частности, может служить сделанное в 1995 г. в ходе визита в Вашингтон весьма откровенное заявление Вафы Гули-заде, главного советника по внешней политике азербайджанского президента Г. Алиева. Он назвал Россию врагом номер один (после нее, по его мнению, следуют Иран и исламский фундаментализм) и призвал США к совместной борьбе с этими силами23. Как в России, так и в США усилились голоса, обвиня
184
ющие другую сторону в стремлении к гегемонии на постсоветском пространстве. В американском случае это нашло выражение в появлении за короткий период доктрины геополитического плюрализма З. Бжезинского24 или доктрины М. Олбрайт25. В их содержании предусматривается, в частности, создание на геополитическом пространстве СНГ противовесов России через поддержку национальных интересов таких ныне независимых государств, как Украина и Узбекистан. В какой-то мере симптоматично, что Вашингтон заметно снизил остроту своей критики в отношении центральноазиатских режимов (фактически согласившись с их оправданиями нарушений демократических свобод «фундаменталистской угрозой»), усилив в то же время оказание помощи данным государствам в военной сфере. Не случайно, что в 1996 г. Узбекистан пошел даже на столь ответственный шаг, как присоединение к введенным США экономическим санкциям против Ирана26.
Наиболее выраженно российско-американские противоречия проявились в связи с усилением соперничества за контроль над минеральными ресурсами юга постсоветского пространства. Как известно, тогдашний азербайджанский президент А. Эльчибей в 1992 г. одобрил вхождение в консорциум по добыче нефти каспийского шельфа трех американских компаний — «Макдермотт», «Пеннзойл» и «Юнокал». Российская сторона в данном проекте не принимала никакого участия. Позже Г. Алиев, пришедший к власти в 1993 г. (как полагает ряд аналитиков, не без помощи Москвы27), предоставил 10-процентную квоту российскому «Лукойлу».
Дальнейшая борьба, если не считать встретившие противодействие Вашингтона попытки Москвы оспорить азербайджанский статус месторождений каспийского шельфа (наиболее крупными из которых являются «Азери», «Гюнешли» и «Чираг»), развернулась за маршрут транспортировки добываемой нефти. Если Россия настаивает на маршруте, проходящем через Чечню в Новороссийск (что, согласно одной из существующих версий, стало главной причиной военной акции Центра против сепаратистов28), то США (не только из-за дороговизны российских тарифов за упомянутую транспортировку, но и ввиду опасения, что Москва при случае могла бы использовать «нефтяной кран» для шантажа Запада29) отдают предпочтение другим вариантам,
185
проходившим бы либо через Армению и Турцию (для этого необходимо урегулировать карабахскую и курдскую проблемы), либо через Грузию (а это, в свою очередь, требует строительства нового нефтепровода)30. Следует отметить, что в данном случае Россия и США продемонстрировали способность к компромиссу, достигнув в начале 1995 г. в рамках комиссии Гор— Черномырдин договоренности о двойном маршруте транспортировки каспийской нефти, хотя вопрос о том, какой из этих маршрутов в перспективе станет главным, по-прежнему остается открытым.
Довольно неоднозначная ситуация сложилась и в связи с обострением афганского конфликта, приведшего в сентябре 1996 г. к захвату Кабула исламистским движением «Талибан». Ряд европейских СМИ и аналитиков (в частности, известный французский эксперт О. Руа) обвинили Вашингтон в поддержке талибов с целью изолировать Иран и открыть дорогу к минеральным ресурсам Центральной Азии31. Это позднее нашло подтверждение в признании пакистанского премьер-министра Б. Бхут- то32. В этой связи отмечалось и заключение контракта на строительство проходящего через Афганистан к пакистанскому порту Карачи трубопровода. Известно, что одним из участников данного проекта является ранее упомянутая компания «Юнокал». Большой резонанс получило в этой связи и высказывание посетившего контролируемый г. Кандагар сенатора-республиканца от штата Колорадо Х. Брауна. Ему понравилось, что талибы «глубоко религиозные» и .«сильно антисоветские» — выражение, получившее в интерпретации итальянской газеты «Corriere della sera» вероятное завершение: «а теперь антирусские»33. Наступление талибов, как известно, вызвало глубокую озабоченность в центральноазиатских республиках и России. Это проявилось, в частности, на алма-атинском совещании в октябре 1996 г. Вместе с тем необходимо отметить, что и Россия, и США сохраняют довольно сдержанный подход к афганской проблеме, воздерживаясь от явных шагов в пользу какой-либо из сторон.
Можно констатировать, что политика обеих стран в отношении мусульманского юга СНГ имеет тенденцию к активизации, что порождает довольно серьезные противоречия, которые, однако, находят цивилизованное и взаимоприемлемое разрешение. В то же время общая заинтересованность сторон в со
186
хранении и поддержании стабильности в данных районах, обнаруживающая наибольший потенциал для позитивного взаимодействия сторон, представляется более существенной. Это нашло свое выражение и в проводившихся в сентябре 1997 г. под эгидой ООН миротворческих учений «Центразбат», в которых принимали участие как Россия, так и США34. С одной стороны, налицо обеспокоенность ряда российских политиков тем фактом, что именно Вашингтону принадлежала в организации этих учений главная роль, однако, с другой — именно общность интересов обеих стран по вопросу о сохранении стабильности в регионе стала здесь, как представляется, определяющей.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Brzezinski Z. Out o f Control. N. Y. , 1993. P. 163.2. Широкий резонанс получило, например, утверждение
известного французского советолога Э. Каррер д'Анкосс, согласно которому «позади “хомо советикус” вырисовывается “хомо исламикус”», а «советский народ имеет по меньшей мере две составляющие— советские люди и советские мусульмане» (Carrere D'Encausse H. Lempire eclatee. Paris, 1978. C. 254, 270).
3. Данная идея принадлежит советнику президента Р. Рейгана в сфере советско-американских отношений, известному американскому советологу Р. Пайпсу. (См. : «Воинствующий ислам» и меры противодействия его влиянию. М., 1988. С. 11). Высокие должности занимали и ряд других американских аналитиков, изучавших данный круг вопросов. Так, Дж. Кричлоу возглавлял «Радио Свободы», а Г. Фуллер являлся вице-председателем Национального разведывательного совета при ЦРУ и т. д.
4. В интервью турецкой газете «Cumhuriyet» Г. Фуллер заявил, например, что «так как русские не хотят усиления исламского радикализма в Центральной Азии, турецкая модель им тоже выгодна» (Cumhuriyet. Istanbul. 1991. 8 Sept. S. 9).
5. Некоторые аналитики и политические деятели (например, сенатор А. Грэнстон) предлагали сделать ставку на усиление влияния в данных районах самих США, поддерживая в качестве образца для новых республик не турецкую, а американскую модель.
187
(См.: Central Asia in Transition: A Report to the Committee on Foreign Relations by Senator Alan Granston. Washington, 1992. P. 6). Такая точка зрения не получила, однако, широкой поддержки.
6. Так, по утверж дению российского политолога И. Могилевкина, две потенциальные линии данного процесса — кавказская и центральноазиатская — якобы «направлены на то, чтобы соединиться в течении Нижней Волги и продолжать движение дальше вверх, разделяя Россию на две части» (Независимая газета. 1994. 15 сент.).
7. The Los Angeles Times. 1992. 10 Febr.8. Так, в сентябре 1993 г. посол по особым поручениям
госдепартамента США С. Тэлбот накануне беседы с узбекским президентом Исламом Каримовым встретился с руководством запрещенного и обвиняемого узбекскими властями в связях с исламистами национал-демократического движения «Бирлик», а осенью того же года госдепартамент отказался принять уже прибывшую в США официальную узбекскую делегацию, мотивируя свое решение нарушениями прав человека в Узбекистане. (См.: Известия. 1993. 16 июня; 1994. 5 июля).
9. Там же. 1993. 16 сент.10. Там же. 1991. 18 дек.11. Там же. 1991. 22 дек.12. Haghayeghi M. Islamic Revival in the Central Asian Republics
/ / Central Asian Survey. Oxford. 1994. Vol. 13. N 2. P. 260.13. Известия. 1992. 18 мая.14. Там же. 1994. 25янв.; Независимая газета. 1994. 26 нояб.15. Пэ О., Ремаркль Э. Политика ООН и СБСЕ на Кавказе:
Спорные границы на Кавказе. М., 1996. С. 132.16. Известия. 1993. 7 сент.17. См.: Независимая газета. 1997. 28 июня.18. См., например: Duran Kh. Tragеdie Tadschikistan. Blatter
fur deutscher und internationale Politik / / Stuttgart. 1994. N 1 . S. 92.19. Новая ежедневная газета. 1994. 16 дек.20. Известия. 1995. 26 июня; 1996. 20 янв.21. Там же. 1996. 30 июля.22. Там же. 1996. 30 июля.23. Комсомольская правда. 1995. 1 авг.24. См.: Brzezinski Z. The Premature Partnership / / Foreign
Affairs. N Y. , 1994. Vol. 73. N 1 . P. 67—72.
188
25. См.: Сегодня. 1996. 2 4 мая. С. 9.26. См. : Starr S. Making Eurasia Stable / / Foreign Affairs. 1996.
Vol. 75. N. 1. P. 80—92.27. См., например: Cohen A The «New Great Game» / / Eurasian
Studies. Ankara. 1996. Vol. 3. N. 1. P. 6—7.28. См., например: Федоров Ю. Каспийский узел / / Мировая
экономика и международные отношения. 1996. N 4. С. 87.29. Ibidem.30. Ibidem.31. См.: Московский комсомолец. 1996. 10 окт.; Figaro. 1991.
30 Sept. P. 5.32. См., например: Независимая газета. 1996. 22 окт.33. Corriere della sera. 1996. 1 Oct. P. 11.34. Известия. 1997. 23 сент.
Джон Алленсворт
ИСПАНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ОБЩНОСТЬ В США
Ввиду дальнейшего расширения сотрудничества между Россией и США в грядущем десятилетии очевидным становится то, что наибольшую выгоду от концентрации потоков и обмена людьми, товарами, услугами и информацией получат те, кто в состоянии понять всю сложность взаимоотношений между нашими двумя странами. Известно, что население Соединенных Штатов обязано своим происхождением практически всем странам мира, хотя большей частью, конечно, его сформировали эмигранты из стран Европы. Все переселившиеся в Америку старались слиться с относительно однородную национальную общность, основанную на традициях англосаксонской культуры. Неважно, откуда прибывали эмигранты — из Италии, Западной Африки, России, Германии, Китая или Польши. Спустя два поколения их потомки говорили только на английском языке. Внуки неанглоязычных эмигрантов уже, как правило, не говорили на языке своих предков и не могли полностью представлять себе родную культуру. Межнациональные
189
браки, особенно между потомками европейцев, еще дальше удаляли людей от культуры их предков.
Только испаноязычные культурные группы в США отличаются устойчивым стремлением уйти от представленной ассимиляционной модели. Теоретически термин «испаноязычное (Hispanic) население» в Соединенных Штатах используют по отношению к тем людям, чье культурное происхождение генетически связано с Испанией. Испаноязычное население США представлено следующими группами: 1) потомками испанских и мексиканских семей, оказавшихся на территории Соединенных Штатов вследствие Мексиканской войны; 2) потомками эмигрантов из Испании, прибывших в США в течение XX века и адаптировавшихся в англоязычной среде, как и другие европейцы; 3) современным потоком эмигрантов из испаноговорящих латиноамериканских стран. Именно эта последняя группа и представляет собой наибольшую и самую быстрорастущую часть испаноязычного населения США. Эти люди стремятся сохранить свою национальную идентичность, говорят большей частью по-испански и, как правило, живут замкнутыми группами на окраинах городов или в сельской местности. Большинство из них — мексиканцы, а также жители Пуэрто- Рико и Кубы. За последние два десятилетия их число значительно пополнилось за счет эмигрантов из Доминиканской Республики, Гватемалы, Сальвадора, Никарагуа и Перу. Таким образом, сейчас после прибытия этой последней волны эмигрантов в США представлена вся Латинская Америка.
Статистика впечатляет. По данным департамента торговли США, лишь за 1997 год испаноговорящее население составило в США 32 миллиона человек. Таким образом, США сегодня стоят на пятом месте в мире по числу людей, говорящих по-испански, после Мексики, Испании, Аргентины и Колумбии. Испаноязычное население — самое быстрорастущее национальное меньшинство в Соединенных Штатах. Эти люди составляют большую часть населения сельской местности Южного Техаса, Нью- Мексико и центральной части Калифорнийской долины. Во многих больших городах, как, например, в Лос-Анджелесе, Нью- Йорке, Чикаго, Хьюстоне и Майами, насчитывается более миллиона испаноязычных жителей. Культурный ландшафт многих мест сегодня все более напоминает испанский. Это отражается в
190
звуках, ритмах, видах и запахах Гилеа (Флорида), восточного Гарлема (Нью-Йорк), восточной части Лос-Анджелеса, южной долины Альбуквера, Пильсене (Чикаго), графства Гвиннет в Джорджии, Дефиансе (штат Огайо), Голланде (штат Мичиган), Скоттбуфе (Небраска) или Гваделупы в Калифорнии. В любом из этих мест радиопрограммы, рестораны, рынки, ароматы кухни, музыка и другие знаки говорят о преобладании испанских культурных традиций.
Так исторически сложилось, что со времен открытия Америки и появления европейских поселений, то есть с XVI века, часть современной площади Соединенных Штатов была испанской колонией. Это территория штата Флорида и нынешних юго-западных районов Северной Америки. Названия многих штатов и больших городов имеют испанское происхождение или же существует испанский вариант американского названия: Флорида, Невада, Калифорния, Колорадо, Нуэва (Нью- Мексико), Аризона, Техас, Монтана, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско, Сакраменто, Альбуквер, Тускон, Лас- Вегас, Эль-Пасо, Сан-Антонио. Но все же по характеру и темпам ранее рассмотренные процессы культурно-исторического влияния испанской культуры на развитие североамериканских культурных традиций в целом несопоставимы с тем, что происходит в наши дни. Так, за период с 1960 года количество испаноязычного населения США возросло в 8 раз. В повседневную речь англоязычных американцев вошли ряд испанских слов и выражений: hasta la vista, patio, plaza, salsa, manianan. Мексиканская кухня, напитки, музыка становятся все более популярными. Даже столь любимый американцами кетчуп теперь уступает по популярности мексиканскому соусу «салса». Это явление, называемое иногда «потемнением американской кожи», стало предметом активного обсуждения среди политиков, националистов, ученых и педагогов (Гаверлук, 1997).
Какое значение все это может иметь для россиян, интересующихся как Соединенными Штатами, так и Латинской Америкой? Для ученых, особенно латиноамериканистов, немаловажно будет отметить, что Россия внесла свой вклад в «испанизацию» США. В 1769 году испанцы под предводительством отца Джуниперо Съерра основали в Сан-Диего первое из цепи поселений, основная цель которых была защитить северо-за
191
падную часть Тихого океана и Калифорнию от русских поселенцев в Северной Америке. Это раннее поселение испанцев в Калифорнии заложило основу одной из четырех испанских территорий, сформировавшихся в ходе завоевания Америки с XVI по XVIII век. После этого в последние десятилетия XX века волна кубинских эмигрантов, явившись следствием Карибского кризиса как эпизода «холодной войны» между СССР и Соединенными Штатами Америки, совершенно изменила культурный ландшафт Майами. Эмиграция оппонентов революционного кубинского правительства Ф. Кастро, активно поддерживаемого Советским Союзом, и их поселение в Южной Флориде привели к тому, что большая часть Майами превратилась в некую «альтернативную Гавану».
Второе важное для латиноамериканистов замечание — это то, что традиционная граница между Латинской и собственно английской Америкой сдвинулась на север: от политической границы между США и Мексикой к некой линии, проходящей гораздо севернее. Реально сам процесс деления на Латинскую и английскую Америку затрудняется тем, что по всей территории Соединенных Штатов разбросаны островки испанской культуры, размеры и количество которых постоянно возрастает.
Распространение испанской культуры в США должно приниматься во внимание российскими бизнесменами, особенно если они хотят расширять экспорт своей продукции. США сегодня уже не только англоговорящая страна. Рынок из 32 миллионов испаноязычных потребителей в Соединенных Штатах может оказаться прибыльнее любого другого испаноязычного рынка в Западном полушарии. Как уже было замечено, по числу испаноязычного населения США стоят на пятом месте в мире и соответственно на четвертом в Западном полушарии. Однако стоит отметить, что доходы испаноязычного населения в США заметно выше, чем в странах Латинской Америки. В Соединенных Штатах можно найти больше потенциальных покупателей российского импорта, чем, скажем, в Колумбии или Перу. В силу сказанного, российским коммерсантам не стоит развивать торговлю только со странами Латинской Америки, пренебрегая при этом испаноязычными американскими потребителями. В Соединенных Штатах существует развитая система средств массовой информации, вещающая на испанском языке и включающая в
192
свое число печатные издания, теле- и радиопрограммы, а также возможности обмена информацией по электронной сети «Интернет». Все это может способствовать организации рекламного промоушена любого товара на испанском языке.
Туризм — одна из наиболее быстро растущих сфер международного бизнеса. В некоторых странах это главный источник поступления валюты. Для благоприятного развития этой сферы услуг необходимо сочетание нескольких факторов: местные достопримечательности (известные исторические места, благоприятный климат, песчаные пляжи и высокоразвитая индустрия развлечений), места для проживания, система питания, транспорта, высокий уровень обслуживания, максимально упрощенные таможенные процедуры и цены, доступные для широкого круга клиентов. Однако, как показал недавний пример экотуризма на Коста-Рике, успех или неудачи отдельных туристических фирм во многом зависят от маркетинговой политики той или иной компании. Когда российские фирмы выйдут на мировой туристический рынок, для них будет более целесообразным проводить рекламную кампанию своих услуг не только в Испании и странах Латинской Америки, но и в США для испаноязычной части населения. При этом важно также предусмотреть увеличение числа испаноговорящих гидов и другого обслуживающего персонала.
В заключение необходимо отметить, что все те, кто стремится понять современную этнокультурную ситуацию в Соединенных Штатах Америки, должны принимать во внимание происшедшие за последнее время серьезные изменения культурного ландшафта в США, где сейчас особо важное положение занимает испанская культура. Вследствие этого те, кто серьезно занимаются изучением истории США, должны осознавать, что не учитывать данный фактор, игнорируя особую роль и влияние представителей испаноязычного населения в жизни американского общества, — значит, по своей сути, упустить важную часть истории и культуры Америки в целом.
Перевод c английского Е.Ю. Мошковой
193
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ: ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА
Скотт Э. Райан
ПАРАДОКС СВОБОДЫ: ТЕСНЫЕ РАМКИ ВСЕОБЩЕЙ СВОБОДЫ
То, насколько парадоксально звучит заглавие этой статьи, лишь отражает парадокс единой американской свободы в мире, который все больше американизируется. Свобода всегда была парадоксом, и это становится еще более очевидным, если принять во внимание наши предположения.
Отвечая на просьбу профессора А.И. Кубышкина, члена Российской академии гуманитарных наук, директора Центра "Американа" Волгоградского государственного университета, я подготовил эту статью, в которой представлено мое личное мнение, скорее просто мнение рядового американца, чем некий универсальный совет, как обрести и сохранить свою свободу, не допуская над ней постороннего контроля.
Первый парадокс обретения свободы — это ее потеря. Это необходимо понять при восприятии американской свободы, чтобы потом не потерять сущность своей личной свободы. Более того, если кто-то намерен войти в XXI век, обладая своей личной свободой, не попав при этом в сети некой единой свободы, ему нужно знать, как воспринимать Америку, чтобы не быть поглощенным американской культурой, знать, что стоит принимать и что не следует принимать из предлагаемой несвободы в рамках единой свободы.
На основании своих жизненных наблюдений я понял, что Америка недостаточно компетентна по части оказания России необходимой интеллектуальной поддержки, консультаций в сфере решения проблем гражданских прав и свобод граждан. Это объясняется тем, что Америка не признает краха своей свободы
194
и полагает, что именно она победила в «холодной войне» за свободу. В США считают, что падение советской коммунистической системы — это победа американского капитализма. Но, как это часто бывает, мы судим, исходя из собственных убеждений, не задумываясь при этом о возможном существовании альтернативных точек зрения. Свобода должна развиваться, иначе она разлагается; а тот, кто признает свою победу в битве за свободу, забывает о сути свободы и в конечном счете теряет ее.
Я полагаю, раз мы знаем о проблемах в сфере соблюдения гражданских свобод в Советском Союзе, то можно утверждать, что и в США также существуют проблемы аналогичного порядка. Я не раз слышал, как приехавшие из России в Америку профессора говорили, насколько свободнее они здесь себя чувствуют. И их правота в этой ситуации ничуть не меньше их заблуждения, когда они не осознавали своей свободы на Родине. Я также заметил существенное различие между тем, как Америку критикуют американцы, и, например, тем, как это делают коммунисты. Главное различие в том, что американская критика (в том числе моя) касается вопроса о том, что конституция США не может все-таки ужиться с повседневными проявлениями свободы.
Конечно, используя в Америке свои гражданские права, в т. ч. и право на свободу мысли, гражданин, критикуя правительственных чиновников, президентскую администрацию, может почувствовать, что он живет в самой свободной стране мира. Забавно, но для жителей Северной Америки свободное волеизъявление столь же характерно, как для жителей Латинской Америки, где за подобного рода выступления поддерживаемые США диктаторы преследовали и убивали свой народ.
Один из парадоксов американской свободы состоит в том, что любой человек может критиковать свое правительство и политических лидеров, но не может критиковать свободы других граждан, сам при этом не попав под огонь жестокой, зачастую бессодержательной критики. В качестве примера сказанному могу привести случай, происшедший со мной в моем университете на одном из последних семинаров, посвященном анализу проблем сексуальных меньшинств в Америке. После моего выступления меня назвали изувером, фашистом и нацистом только за то, что я назвал «занятия» гомосексуалистов и лесбиянок ненор
195
мальными. Надо заметить, что ранее я никогда ни в чем таком подобном не был замечен. Кроме того, это вдвойне было обидно слышать, поскольку в свое время я поступил в университет как сын ветерана второй мировой войны. Учтите, я критиковал этих людей, ссылаясь на то, как все это плохо, преступно, что таких людей надо изолировать от общества — но мне не позволили назвать их свободу так, как она того заслуживает.
Следует заметить, что если теория Маркса предложила диктатуру пролетариата, которая впоследствии стала доминирующей в социально-философской концепции Ленина, то утверждение американской свободы вылилось в возникновение децентрализованной неформальной диктатуры добровольности любого процесса. Если А. Смит в работе «Рассуждения о богатстве народов» лишь сформулировал классические принципы экономической теории «Invisible hand», то американское экономическое процветание проповедует такое становление «во-все-вмешивающейся» свободы, которое уже под именем свободы эту самую свободу и уничтожает.
Представляя себе единую американскую свободу в ее абстрактной проекции, анализируя при этом попытки личности соотнести эту сферу с другими возможностями свободного действия, можно утверждать, что единая американская свобода за- формализовалась, стала «процессом в себе», направленным на ограничение личной свободы каждого в рамках некой усредненной свободы, не похожей на свободу реального человека.
Например, процесс принятия так называемых «законов ненависти» (законов, запрещающих социальную нетерпимость), трансформировавшись из некоего испытания чувств в формальную сенсибилитацию мыслей человека, их приведение к образцу единой мысли под давлением фактора социального самоуправления, породил своеобразный самопроизвольный ментальный социализм. Результат становления американской свободы парадоксален, поскольку это свобода и несвобода одновременно: свобода каждого быть несвободным в рамках единой свободы. В несвободе есть действующий компонент свободы, а в свободе — компонент несвободы, и в этом строгом процессе корректировки свобод, когда не дозволена никакая свобода, кроме той, рамки которой устанавливают другие, именем свободы называется общеамериканская квази-свобода.
196
Я подозреваю, что марксистско-ленинская теория установления диктатуры пролетариата, при всей своей несвободе, не давила в СССР так на внутреннюю свободу личности, как это делает процедура установления общеамериканской единой свободы, какой бы свободной она ни была. Единые американские свободы изначально свободны извне, но в то же время они не так уж и свободны, поскольку конкретная личность приспосабливается к свободе быть несвободной внутри некой единой усредненной личности американца, приспосабливается к свободе других под давлением образца этой универсальной личности.
Если же она не приспосабливается, как я в своем университете, к общеамериканскому процессу «само-и-вокруг-себя-совер- шенствования», тогда человеку, как и мне, отколовшемуся от единого американского образца, устраивают социальный ГУЛАГ, навешивая ярлыки нациста или что-нибудь другое в этом роде.
Американская свобода превратилась в процесс, когда человек наполняет свою жизнь не только тем, чем хочет, добровольно (что было бы корректно), но и тем, что продиктовано фактором корректности других людей. При этом свое «я» принудительно подгоняется под некое «улучшенное», усредненное «я».
Выступая с подобного рода речами в Америке, на «земле свободы и родине мужества», я тем не менее должен заранее подготовиться к тому, что мне могут дать еще какое-нибудь скверное, далекое от реальности, прозвище. Может быть, на этот раз меня назовут не нацистом, а сталинистом (американцы — это, конечно, не русские, которые знают истинное значение нацизма и сталинизма).
Обращаясь столь вольно со строгой цензурой несвободной политической корректности, я рискую попасть под оружие наименее корректной, но наиболее распространенной цензуры — политически корректного экстремизма. У политически корректных, т. е. тех, кто любит ненавидеть ненависть в любом ее проявлении, кроме своей собственной ненависти, существует еще экстремистский рефлекс, дающий им право называть человека нацистом или сталинистом. Это самое свободное, что они могут сделать против человека, который, как я, легко нарушил строгие рамки политически корректной само- цензуры, не полюбив то, что политически корректные люди
197
заставляют любить каждого.Ярлык сталиниста, совершенно не подходящий к высту
пающему за более реальную свободу, все же больше других подходит мне, поскольку я готовил эту статью в ответ на просьбу профессора из г. Волгограда, который в Америке больше известен как Сталинград. Однако я спешу успокоить читателя (скорей американского, чем русского), я вовсе не сталинист, поскольку даже переименование Сталинграда в Волгоград не вызывает у меня никаких претензий.
Наряду с другими, ярлыки нацистов и сталинистов были некорректно истолкованы политически корректными людьми Америки в процессе превращения общеамериканской свободы в общеамериканскую корректность, свободы выражения — через несвободу откорректированных выражений — в некорректную корректность свободы с несвободными выражениями корректности. При разрушении смысла слов политически корректные люди используют свою свободу, чтобы затронуть свободу других, заменяя, например, слово «woman» на «womyn», как это случилось в государственном университете Нью-Йорка, с целью освободиться от природных и нормальных различий между полами и тем самым быть сексуально-корректным.
Другим примером проявления парадокса американской свободы может служить тот факт, что Америка никому не разрешает свободно торговать с Ираном или Кубой, в то время как она сама вольна торговать с кем угодно, даже с несвободным коммунистическим Китаем. Насадив идеалы американской свободы почти повсеместно, США занимаются свободной торговлей, извлекая прибыль из того, что отрицает эту же самую свободу в других странах.
Я полагаю, что Америка потеряла свободу в тот момент, когда она, полагая сама и убеждая в этом других, заявляла, что обладает свободой для себя и для всех, на самом деле, не имея ни свободы в своей стране, ни в мире.
Терминология периода «холодной войны» с ее делением на капиталистов и коммунистов, «правых» и «левых», должна остаться в прошлом. Не важно, насколько прочно закрепились эти образы в общественном сознании обоих народов, важно, что сейчас эти понятия не способны объяснить то, что могли в свое время объяснить.
198
Замечено, что знание порождает презрение. Этого презрения недоставало многим американским советологам при оценке своих способов определения «кто есть кто» в Кремле, определявшим социально-политический статус советских лидеров по тому, в каком порядке они располагались на кремлевской трибуне Мавзолея В.И. Ленина. А ведь у власти могли быть и другие люди, не считавшие нужным выставляться напоказ перед всем народом.
Прежний подход являлся более чем ошибочным, поскольку был разнонаправленным, одновременно «левым» и «правым» в операционном процессе установления новой, изначально свободной свободы. Операционная сторона современного процесса установления свободы, особенно установки единого мирового стандарта американской свободы, во всех его изначально свободных проявлениях, нуждается в анализе скорее с точки зрения действенного эффекта, а не с позиций анализа идеологических причин. Идеология настолько же бесполезна в процессе анализа того, куда мы движемся в плане свободы, насколько полезной она оказывается при ответе на вопрос, откуда мы идем. Необходимо больше информации об Америке, и не только для того, чтобы установить идеологические корни нашей свободы и то, как же к ней приблизиться, но и для того, чтобы принять ее и приспособить к себе. Но мы, как американцы, так и русские, должны как можно больше знать о том, к чему мы не хотим прийти, и то, как не прийти к этому парадоксу обретения свободы через ее потерю.
В этой связи я полагаю, что библейскую фразу о «рожденном не от плоти Отца» можно отнести к новой, спасительной прелести свободы в так называемой новой Святой Троице, которую, по моим представлениям, образуют Отец, Сын и Святой Дух Свободы. Прославленный сын Америки Джордж Вашингтон одновременно является отцом американской свободы в указанном гипостатическом союзе Отца и Сына при реальном духовном присутствии свободы. Американская свобода основана, с одной стороны, на сыновстве Джорджа Вашингтона, Сына и Отца американской свободы, а с другой стороны, на отцовстве свободы по отношению ко всем людям. Святой Дух американской свободы исходит от Отца, Сына и Святого Духа через вдохновенные слова американской Конституции,
199
дух автора которой и есть, по моему убеждению, свобода.Спасением от американской свободы для личности может
стать категория «рожденный “не-made-in-America”», то есть вне процесса превращения личности и ее свободы в еретическую транссубстанцию самостоятельной функции единой американской свободы.
В новом всемирном саду американизированной свободы чарующая прелесть свободы может стать неприятной, когда нет на самом деле свободы, и еще более отвратительной при нелепой избирательности, предпочтении одной свободы перед другой, в метастазе духовной свободы истинного выбора, при универсальном выборе свободы для всех, который и приводит к избирательности, выбору для себя одной свободы за счет других.
Это изначальный грех свободы, которого должны избегать любой ценой «американский Адам» и «русская Ева», получая свободу через ее потерю в запретном плоде избирательности. Ведь вкусивший запретный плод свободы человек будет изгнан из сада личной свободы, теряя при этом плоды собственной свободы выбора и взамен обретая избирательность. В Исходе свободы, свободы истинного выбора, добродетельный выбор личной свободы теряется при постыдной, вынужденной избирательности единой, всеобщей свободы. При выборе единой американской свободы, когда каждый свободен, как и все остальные, в прелестях отлучения от добра и зла конкретного человека, индивид уподобляет свою свободу вероятности быть, как и все остальные, несвободным в единой невероятной свободе.
Анализируя, таким образом, свободный и несвободный выбор в рамках изначально свободного процесса свободы — от свободной торговли к свободе слова и свободе во всем, — можно заметить, что свобода во многом фиксирована, а не свободна. При попытке зафиксировать свободу, сделать ее скорее более, чем менее свободной, нужно проанализировать успехи и промахи американской свободы, успех ее правильного выбора, выбранной свободы, и промахи неверного выбора, избирательности свободы.
Сейчас, когда по всему миру широко рекламируются ценности американизированной свободы, необходимо выявить основное различие между истинной сущностью американской свободы и тем, к каким результатам привела американизация мира.
200
Основное различие состоит в выборе между свободным выбором (основой истинной свободы) и избирательностью, к которому пришла американизированная свобода при своем распространении.
Суть американской свободы изложена в конституции, и это защищает свободу от политического и религиозного догматического экстремизма сверху. Конституция Америки внесла большой вклад в процесс формирования самого понятия свободы, но по отношению к сущности современного понятия американских повседневных свобод она устарела на двести лет. Таким образом, в то время как Америка в сфере идеологии преуспела в определении в своем конституционном пространстве понятия свободы и защиты собственных прав от посягательств сверху, процесс определения ее свобод может быть настолько же несвободным, насколько они могут быть свободны от горизонтального, а не вертикального влияния в своем отрицании свободы через ее утверждение.
Американцы любят говорить, что они живут в самой свободной стране мира, но в то же время им требуется покупать дорогие системы безопасности, чтобы в стенах своего дома защитить свою свободу от свобод других людей. На деле, если кто-то не может купить для себя общеамериканскую свободу и откупиться от свобод других людей, он легко может стать жертвой этой самой несвободной из всех свобод, пострадав от преступности на улице или произвола в суде.
Новое общеамериканское отрицание личной свободы через горизонтальное утверждение единой общеамериканской свободы отвергает свободу с большей силой и более современными методами, чем прежнее отрицание свободы сверху. Отрицая сущность старого догматизма сверху, американская свобода тем не менее в процессе общеамериканской обработки свободы личности одновременно свободно воспринимает и новый горизонтальный догматизм.
В ходе своей поездки по Карибским островам я заметил, что чем более американизированным становится остров, тем хуже на нем криминальная обстановка. Решением этой проблемы, конечно, не будет ни возврат к колониальному прошлому, ни фашизм, ни коммунизм, скорее, это будет власть свободы личности и освобождение от несвободы обретать свободу
201
через ее потерю, несвободы в рамках единой американизированной свободы.
В тяжелые времена «холодной войны» об Америке говорили, как о расистски настроенной стране. Чтобы поколебать этот образ Америки, а также и другие представления, как, например, представление о моем американизме как о чем-то антиамериканском, замечу, что теперь вся эта расистская характеристика оказалась настолько фальшивой, насколько была справедлива раньше. Хотя в Америке еще можно столкнуться с проявлениями расизма, наряду со случаями дискриминации и обратной дискриминации (существование которой скорее утверждает дискриминацию как таковую, чем опровергает ее), американцы — расисты в гораздо меньшей степени, чем жители многих других стран. Америка во многом преодолела свой расизм благодаря многовековой истории приема эмигрантов разных национальностей, религиозных групп, которые рано или поздно ассимилировались с коренным населением.
Опыт Америки по созданию американского единства, принятию людей в рамки так называемого «американского опыта»— это больше, чем просто «американская мечта», это объединяющая реальность американской политической системы. Демократическая политика Америки, политика разделения власти с целью обеспечения максимальной автономии при минимальном ограничении унифицированной нации — это тот опыт, который, может быть, в адаптированном виде будет весьма полезен для России, например в разрешении ее проблем с Чечней.
Процесс О.Дж. Симпсона, транслировавшийся по всему миру благодаря Си-эн-эн, — это прекрасный образец того, что в Америке хорошо и что плохо. Для тех россиян и жителей других стран, которые не следили за ходом процесса, сообщу, что Симпсон был чернокожим бейсболистом, кумиром всей Америки, мультимиллионером, чье лицо часто мелькало на экране телевизора. Он был обвинен в убийстве своей жены- красавицы и ее любовника Рональда Голдмана, но в ходе судебных разбирательств Симпсон был признан невиновным.
Еще недавно закон запрещал афро-американцам жениться на белых женщинах. Сейчас эта несправедливость исправлена в законе и никого в процессе судебных разбирательств не смущал "черно-белый" брак О.Дж. Симпсона и Николь Браун.
202
Более того, в ходе расследования цвет кожи Симпсона был для него неоспоримым преимуществом, а не недостатком, поскольку он чувствовал себя уверенно, когда его судили равные, к тому же представители американского правосудия показали себя не с лучшей стороны и Симпсон выиграл процесс, отклонив от себя все обвинения в убийстве двух человек. Когда Симпсона признали невиновным, это автоматически стало признанием вины американской системы правосудия, правосудия богачей, демагогов и бесчестных людей.
Позднее после своей победы над американским правосудием Симпсон был приглашен выступить перед Оксфордским студенческим союзом по поводу приезда туда на учебу группы американских студентов. Его пригласили скорее британские, чем американские представители университета с целью понаблюдать, насколько американское правосудие неспособно поддерживать продекларированную в конституции США свободу. Дело Симпсона проиллюстрировало провал американского правосудия, которое превратилось в законную систему сделок против справедливости, на которой паразитируют различные «вспомогательные профессии», такие, как, например, «профессиональный свидетель».
В действительности, в теории и практике в сфере американского правового бизнеса наибольшим опытом по части продажности обладают именно «профессиональные свидетели», и дело Симпсона доказало этот факт. Когда их призывают к ответу, они могут по части фарисейских уловок и трюков превзойти любую представительницу первой древнейшей профессии, лишь бы угодить желаниям своего заказчика. Хочу заметить, что проститутки все же работают честнее, тогда как «профессиональные свидетели» в союзе со слугами закона предоставляют бесчестные услуги в деле оформления комплекса ложных показаний, доказывающих, что Симпсон не мог совершить преступления, которое на самом деле он явно совершил.
Показав всему миру, что за деньги можно нанять любых профессионалов — хороших юристов, "профессиональных свидетелей", "добрых» судей", — дело Симпсона, по моему мнению, подтвердило репутацию Америки как самой «свободной» страны в мире: свободной для богатых преступников разных национальностей, имеющих деньги, поскольку в США, как стране с лучшей из всех свобод, можно купить все.
203
Хотя Америка и избавилась от позорного клейма расизма, сейчас в ней началась позорная гонка по превращению по- настоящему честной профессии юриста в настоящий бизнес и бесчестную профессию, которая сама по себе опровергает возможность существования справедливого бизнеса. Этот процесс замены честного профессионализма бесчестной деловой хваткой выходит далеко за рамки юриспруденции и вспомогательных юридических профессий, распространяясь практически на любую сферу человеческой деятельности, которая могла бы приносить прибыль. Поскольку в бизнесе существует правило, гласящее, что клиент всегда прав, может быть, совершенно неразумно превращать изначально отстаивающую честь и справедливость настоящую профессию в «настоящий» бизнес. На мой взгляд, Оксфордский союз это осознал.
В противовес советам официальных американских представителей, я хочу посоветовать России, чтобы следующим своим шагом она сделала нечто правильное, основываясь на том факте, что нельзя бездумно копировать американское законодательство. Сделав это, россияне смогут преодолеть негативные последствия советской системы правосудия, продолжая использовать общественных заседателей не только в отдельных судебных разбирательствах, но и в юридической системе страны в целом. Развивая дальше эту традицию, все большее количество качественно подготовленных профессионалов сможет вовлекаться в более демократичную и профессиональную правовую систему. В дополнение к использованию института общественных заседателей (народных судов), на мой взгляд, к делу должны быть привлечены и присяжные заседатели с правом контроля за ходом процесса и наблюдения за общественным и частным обвинением.
России, возможно, не следует пользоваться советами американских юридических «экспертов» и «специалистов» по привлечению к уголовной ответственности невинных и укрытию преступников, поскольку это будет способствовать уничтожению истинной справедливости. Безусловно, никто, и я в том числе, ни в коей мере не призывает к возвращению к советской практике политических преследований инакомыслящих, я лишь выступаю за дальнейшее улучшение и профессиональное развитие сложившейся ранее в СССР практики использования
204
народных судов в неполитическую российскую законодательную систему. На мой взгляд, можно предположить, что, например, в московском городском суде скорее отпустят невиновного нищего, чем в американском, где, скорее всего, оправдают виновного богача, вроде Симпсона.
Смысл моих рассуждений состоит опять же в том, что хваленое американское правосудие дискредитирует себя, помогая всеми силами богатым преступникам, вместо того чтобы помогать всем соблюдать справедливость и законность. Хотя Америка и считается молодой страной, но ее правосудие в чем-то напоминает средневековье, когда вместо суда два рыцаря устраивали битву, в которой был прав тот, кто побеждал. В современной Америке место рыцарей заняли юристы, которые выступают за обе стороны, не считаясь с тем, кто прав, кто виноват. Правда остается за теми, чьи деньги оказались более мощным оружием. Таково правосудие богачей, демагогов и бесчестных людей.
Я уверен, что мое предложение о повышении значимости роли присяжных и народных судей при создании более квалифицированной следственной комиссии по определению вины обвиняемых в ходе судебных разбирательств будет проигнорировано Американской ассоциацией адвокатов. Но если на него и обратят внимание, то только затем, чтобы навесить унизительный ярлык социалистического или, хуже, коммунистического, или, еще хуже, сталинистского толка.
В защиту своего мнения хочу заметить, что мои советы бывшему Сталинграду не имеют ни сталинистской, ни коммунистической, ни капиталистической окраски. Они, скорее всего, научные. Если реально (и это действительно реально!) показать, что можно добиться большей справедливости вне зависимости от денег посредством изъятия из практики судебных разбирательств излишней конкуренции, тогда можно дело считать закрытым и признать американскую судебную систему действительно виновной.
Если марксизм-ленинизм на практике не смог отстоять диктатуру пролетариата, то «маркетизм» американского капитализма не может предотвратить превращение почетных профессий в способ бесчестного получения денег. Американская конституция свободы защищает каждого от диктата сверху, но она
205
не способна защитить его от каждодневных проявлений процесса установления единой свободы, когда деньги диктуют все.
Американская медицинская ассоциация (АМА) еще один пример этого. Медики и фармацевты совместно критикуют тех, кто практикует нетрадиционные формы и методы лечения — гомеопатию, хиропрактику, использование пищевых добавок, улучшающих иммунную систему, — только потому, что те являются угрозой их монопольному праву оказывать населению медицинские услуги. В Америке больше, чем в любой другой стране, делают сложных и дорогостоящих операций вроде кесарева сечения, оперируют в области кардиологии, нейрохирургии. Среди американцев больше всего наркоманов, среди которых есть такие, кому врачи прописывают массу таблеток, обогащая тем самым мультимиллионеров фармацевтической промышленности.
Все открытия, сделанные АМА, относятся к области поиска наиболее дорогих способов лечения, способных исключить из практики восточную медицину. Все, что угрожает благополучию традиционной медицины, уничтожается, но при этом врачи, кажется, стали знать меньше, чем непрофессионалы организации «Green Peace», информирующие население об отрицательном влиянии на здоровье соевых бобов, выращенных на основе методов генной инженерии, обработанного пестицидами зерна, искусственных пищевых консервантов и красителей, молока коров, которым в свое время делали инъекции гормональных препаратов.
Кажется, следующим этапом так называемого научного исследования в области генетики будет борьба с ожирением, поскольку для США эта проблема наиболее актуальна. Можно предположить, что ученые наверняка заявят, что все это происходит не по вине нездорового питания, а по вине недавно обнаруженного «гена полноты», от которого снова будет предложено новое дорогое лекарство.
Что же касается СПИДа, другой медицинской проблемы огромного масштаба, то, в связи с существующей версией о том, что вирус иммунодефицита человека в одних случаях может вызывать СПИД, в других — нет, можно предположить, что на исследование этой проблемы денег не найдется, чтобы результаты, не дай бог, не пошатнули благополучие капитанов мировой ме
206
дицинской и фармацевтической индустрии. Для них серьезный вред, причиненный больным СПИДом, — ничто, в сравнении с осознанием опасности потери собственной прибыли.
Можно привести немало других подобных примеров из различных сфер человеческой деятельности, где профессионализм зачастую подменяется погоней за прибылью, ведь погоня за прибылью — это наиболее существенный компонент идеологии американского бизнеса.
Из вышесказанного можно понять, что свобода в Америке не защищает индивида от контроля над ним свободного профессионального процесса, который управляется лишь свободой превратить любую профессию в способ добывания денег.
У России нет другого выбора, кроме как продолжать уже начатый человечеством путь и пересечь Рубикон свободы. Однако, переходя на другой берег, нельзя забывать о том, что свобода должна развиваться, в противном случае она разлагается. Это подтверждается примером существования американской дилеммы свободы, где обретение свободы было достигнуто через ее потерю.
Завершая свои рассуждения на данную тему, хочу подчеркнуть, что подобно тому, как для поимки вора требуется вор, или же, точнее, только вор лучше всех может защитить себя от кражи, так и для защиты от воздействия факторов установления американизированной свободы, уступая своему желанию не попасть в сети свободы быть несвободным в свободе выгоды, требуется то, что и было сделано: помощь рядового американца, вроде меня.
А.И. Пигалев
АМЕРИКАНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЦЕЛОСТНОСТЬ ИСТОРИИ
(ОПЫТ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ)
Выдающийся испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет однажды заметил, что самый тяжкий человеческий порок — неблагодарность, и, дабы его мысль не была сведена к баналь
207
ному морализаторству, пояснил: «Неблагодарный забывает, что большая часть того, чем он владеет, не создана им самим, а досталась ему даром от других, тех, кто приложил усилия, чтобы создать и сохранить все созданное. Однако, забыв об этом, неблагодарный не понимает истинного значения того, чем он владеет. Он думает, что получил во владение спонтанный дар природы, как и природа — неуничтожимый»1. Сказанное весьма выпукло характеризует способ существования любой культурной реальности, которая, в отличие от природы, возможна лишь на гребне человеческого усилия и для того, чтобы продлить свое существование в следующий момент, нуждается в таком же усилии, которое было необходимо для ее появления на свет. Иными словами, любой фрагмент культуры не дан, а задан, он творится в каждое мгновение и без этого творения не может существовать. Именно в этом заключается главный смысл противопоставления культуры природе, поскольку природа понимается в качестве такой области действительности, где все происходит «само собой» или, как сказал бы современный человек, «автоматически». Следовательно, малейшее ослабление соответствующего усилия означает, что те или иные фрагменты культурной реальности оказываются под угрозой, они могут бесследно исчезнуть. «Культурная энтропия» является следствием неблагодарности, в смысле Ортеги-и-Гассета, и она сопутствует всякому ослаблению усилия, поддерживающему и воспроизводящему само существование культуры.
Нынешняя эпоха характеризуется именно такими всплесками неблагодарности, что, собственно, является существеннейшей чертой современной ситуации в культуре. В полной мере это относится к такой важной сфере культурной действительности, как история. В самом деле, можно сказать, что культура— это механизм трансляции во времени приобретенных свойств или, если угодно, их передачи по наследству. Скажем, мы забываем, что такое свойство, как быть русским, немцем, французом, американцем и т. д., — это именно приобретенные свойства, они не детерминируются биологическими факторами, их не было, они некогда возникли и с тех пор транслируются во времени. Однако, как и все, относящееся к сфере культуры, эти приобретенные свойства не наследуются автоматически (как наследуются биологические свойства), а требуют определен
208
ных механизмов. Разрушение или «неисправность» этих механизмов влекут за собой исчезновение соответствующих свойств,и, кстати, именно в этой ситуации они начинают считаться чисто биологическими, что, применительно к нашему примеру, равнозначно всплеску национализма или даже расизма. Таким образом, все историческое существование оказывается, в известном смысле, «творением из ничего», а история представляет собой совокупность как органов такого творения, так и механизмов передачи сотворенного по наследству. Следовательно, историческое время и историческое существование, как и все элементы культуры, хрупки и неустойчивы, требуют особых условий для своего поддержания.
Тем не менее на уровне обыденного сознания (а очень часто — и на профессионально-исследовательском уровне) историческое существование человека и человечества рассматривается в качестве пребывания всего и вся лишь в физическом времени. Иначе говоря, сам факт существования той или иной культуры рассматривается как ее безусловная принадлежность к истории. При этом «неблагодарно» забывается, что сама история является плодом определенных, весьма специфических человеческих усилий, которые должны постоянно воспроизводиться каждой культурой, которая мнит себя принадлежащей к истории. Выражаясь иначе, можно сказать, что иногда исследователи забывают факт сотворенности и соответственно возможности истории. Это должно навести нас на мысль о том, что без осознания этого никакого безусловно объективного существования исторического времени просто и не может быть. Таким образом, в данном случае можно указать на то, что и сама история, и историческое время не даны, а заданы. С другой стороны, это означает, что если историческое время предполагает особую организацию времени, то далеко не каждая культура на основе только одного факта своего существования может быть отнесена к истории в качестве целостного образования. Скажем, хорошо известно, что дохристианские (языческие) культуры развивались в рамках циклического времени, которое к тому же с современной точки зрения текло в обратном направлении — от «золотого» века к «серебряному», от него — к «бронзовому» и т. д., вплоть до конца данного цикла и начала нового цикла. В этой связи совершенно справедлива точка зрения, согласно которой
209
именно христианство своим возникновением создало условия для появления истории как целого всемирной истории вообще. Впоследствии эти условия и соответствующие им механизмы секуляризируются, но остается неизменным требование экзистенциального усилия для существования единого исторического времени. Однако христианство служило лишь «оболочкой» целого комплекса механизмов, выполнявших функцию объединения народов во всемирной истории, а сами эти механизмы действовали, прежде всего, в сфере межнациональных и наднациональных контактов.
Сказанное означает, что даже в нынешней ситуации далеко не все существующие на земле культуры могут быть отнесены ко всемирной истории. Многие из них живут в своих «историях» (во множественном числе). Следовательно, создание исторического времени имеет два этапа: во-первых, создание исторического времени для данной человеческой группы или сообщества, и во-вторых, «сочленение» своей истории с неким общим и универсальным историческим временем, которое, собственно, и называется «всемирной историей». Если все ныне существующие культуры справились с решением первой задачи (это, собственно, является главным условием перехода от «природы» к «культуре»), то далеко не всем пока удалось войти в единое историческое время. Более того, пребывание во всемирной истории отнюдь не гарантировано раз и навсегда, и возможны «выпадения» из единого исторического времени тех культур, которые там некогда пребывали, как это в свое время произошло с нацистской Германией и Россией после октября 1917 года.
Разумеется, для историка и политолога все разговоры об условиях возможности всемирной истории и конституирова- нии единого исторического времени могут показаться далеким от актуальных политических реалий теоретизированием. Однако это первое впечатление разбивается от столкновения с реальным смыслом тех проблем, которые стоят на пороге третьего тысячелетия перед современным миром. Ведь, формируя свое отношение к актуальным политическим реалиям, историк и политолог руководствуются целым рядом мировоззренческих и методологических установок. Переводя охарактеризованную выше философскую и культурологическую проблема
210
тику на язык политических понятий, можно сказать, что пребывание в своем, а не всемирном историческом времени означает изоляцию, политическую и экономическую автаркию, что, очевидно, находится в резком противоречии с интегративными процессами, составляющими саму суть тенденций в характере развития мировой истории. Однако куда более важным и, в сущности, определяющим является следующее соображение: пребывание в некоем едином времени — это, вообще говоря, условие внутреннего мира для данного сообщества. Тогда данное сообщество живет в едином ритме, действует самосогласованно, солидарно и, следовательно, без радикальных внутренних конфликтов. Тем не менее это, так сказать, локальный мир и мирное состояние, которое существует внутри сообщества, не входящего в единое историческое время, не может быть распространено на другие сообщества иным способом, кроме применения насилия, т. е. чаще всего военного вмешательства. Военное вмешательство, рассмотренное в этом аспекте, и есть навязывание данной культурой своего локального образа жизни другим культурам. Таким способом другие культуры включаются всего лишь в локальное время данной культуры, но отнюдь не в единое историческое время. А это означает, что принадлежность к единому историческому времени является необходимым (хотя и не всегда достаточным) условием мирного сосуществования различных культур.
С этой точки зрения новые аспекты смысла обнаруживаются во введенном В.С. Соловьевым понятии христианской политики, которое противопоставляется понятию политики интересов: «Согласно общераспространенному мнению, — пишетВ.С. Соловьев, — каждый народ должен иметь свою собственную политику, цель которой — соблюдать исключительные интересы этого отдельного народа или государства. В то время как представители европейской цивилизации, англичане или французы, действуя исключительно в своих национальных интересах, самоуверенно кричат об этом на весь свет как о деле вполне пристойном и даже похвальном, раздаются иногда и у нас патриотические голоса, требующие, чтобы мы не отставали в этом от других народов и также руководствовались бы в политике исключительно своими национальными и государственными интересами, и всякое отступление от такой “поли
211
тики интереса” объявляется или глупостью, или изменой»2. В свете сказанного выше «политика интересов» может быть охарактеризована как определенная имитация: вместо вхождения в единое историческое время, абсолютизируется свое, локальное время, и именно оно навязывается силой другим культурам. Но, как заявляет В.С. Соловьев, возможна и такая политика, в которой «...грубое стремление к своей выгоде превращается в возвышенную мысль о своем культурном призвании»3. И далее он добавляет, что «идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной лишь тогда, когда это призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение»4. Поэтому проблема конституирования единого исторического времени является как раз той самой проблемой, которая имеет непосредственные выходы на практическую политику, а сама тема приобретает статус ключевой проблемы не только философии истории, но и философии политики. Для обоснования сказанного нам неизбежно придется обратиться к анализу ряда общих общефилософских проблем. В первую очередь это касается осмысления сущности исторического времени. И здесь никак не обойтись без экскурса в историю культуры, поскольку в противном случае невозможно будет разрушить физикалистс- кие представления об историческом времени.
Оживление концепций циклического времени (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин и др.), а также подъем традиционалистских движений (Р. Генон, Ю. Эво- ла, М. Элиаде и др.) свидетельствуют о том, что процесс конституирования единого исторического времени вступил в острейшую фазу своего развития. Ожесточенность противодействия процессу унификации указывает на наличие весьма значительного потенциала сопротивления в недрах тех культур, которые не только продолжают жить в своих «историях», но и рассматривают любые интегративные тенденции, любые, даже самые мягкие, попытки включить их в единое историческое время в качестве «угрозы национальной безопасности», «вмешательства во внутренние дела», покушения на саму суть своей национальной души, в качестве империалистических амбиций и экспансии чуждых культур («культурного империализма»). В этом отношении весьма любопытен факт расцвета анти
212
американских настроений в странах «третьего мира», а также в ряде европейских государств, культуры которых сохранили еще значительное количество архаических компонентов и ментальных стереотипов. Сам по себе этот факт не был бы показательным, и его можно было бы отнести к проявлениям тривиальной ненависти к сильному соседу по планете, если бы он парадоксальным образом не переплетался бы с антисемитскими настроениями, а малейшие попытки оказать влияние на данную культуру не отождествлялись бы с неким всемирным еврейским заговором. Антиамериканизм и антисемитизм причудливо объединяются в сознании таких критиков, что вполне естественно наводит на мысль об особой роли американской культуры в конституировании единого исторического времени. Весьма симптоматично, скажем, свидетельство отца Сергия Булгакова как ярко выраженного носителя русского национального и православного сознания о своем спонтанном (что особенно важно в данном контексте) восприятии американской культуры. Отправляясь в США с лекциями, он записал на первой же странице дневника: «Когда-то у Зомбарта прочитал: “America ist ein Judenland»” (“Америка — страна евреев”). И теперь, сидя на немецком пароходе “Европа” с флагом со свастикой, я окружен еврейскими путешественниками, и среди северного, жаргонного немецкого языка, когда слышу гнусавый американский в виде исключения, то сердце мое несколько радуется...»5. Разумеется, отец Сергий Булгаков не был ни антисемитом, ни ярым противником американской культуры, но его бессознательное подчеркивание связи американской и еврейской культур, будучи, конечно же, частностью, наводит на серьезные размышления, касающиеся самих механизмов конституирова- ния единого исторического времени. Здесь мы, наконец, подходим к главной проблеме нашей статьи. Для краткости дальнейших рассуждений мы предварительно сформулируем окончательные выводы в виде тезисов.
Первый тезис, который мы попытаемся обосновать, заключается в утверждении того, что конституирование всемирной истории предполагает существование в семье народов, живущих в своих «историях», некоторого выделенного («избранного») народа, миссия (или, по В.С. Соловьеву, призвание) которого как раз и состоит в том, чтобы вводить их в
213
единое историческое время. Именно на этот народ возлагается задача осуществлять упомянутые выше межнациональные и наднациональные контакты. Но для этого он должен жить в особом времени, которое обладало бы способностью быть фоном локальных времен других культур, оттенять именно их локальность и тем самым делать относительной любую ограниченную солидарность. Иначе говоря, локальное время этого народа не может навязываться силой, а должно обладать способностью прорастать в качестве семени будущего общечеловеческого единства. Второй тезис сводится к утверждению, что до эмансипации евреев во время Великой французской буржуазной революции евреи и были таким народом. Эмансипация евреев сняла с этого народа миссию объединения «историй» во всемирную историю, но с этого момента иудейский мессианизм продолжает жить в национальном мессианизме: именно после эмансипации евреев стали возможны грезы об особой миссии французского, русского, немецкого и других народов. Третий тезис теснее всего связан с заявленной в названии статьи темой и состоит в гипотезе, заключающейся в том, что, вероятно, в нынешней ситуации функция конституирования целостной истории перешла к американской культуре, что и вызывает переплетение (и даже отождествление) антиамериканских и антисемитских настроений в культурах, находящихся за пределами единого исторического времени.
Обратимся теперь к обоснованию вышеобозначенных тезисов. Правда, при этом мы отнюдь не претендуем на обоснование всех трех тезисов (это и невозможно в рамках краткой статьи). Последующее изложение можно рассматривать, скорее, как первое приближение к проблеме, и именно с этих позиций его и следует оценивать. Более того, по нашему глубокому убеждению, исчерпывающее исследование может быть дано только коллективом специалистов и требует междисциплинарного подхода. Поэтому мы попытаемся в первую очередь проанализировать комплекс идей, связанных с первым тезисом, а все, что касается второго и третьего тезисов, наметить, так сказать, пунктирной линией. Для этого мы кратко опишем то понимание исторического времени, которое было характерно для древнееврейской культуры, которое могло «прорасти» (и действительно «проросло» в христианстве) в качестве об
214
щечеловеческого времени.Как уже указывалось выше, языческие культуры жили и
живут в циклическом времени. Чтобы разорвать этот цикл, нужно было постулировать возможность остановки, после которой время могло бы начать свое течение заново. Это было впервые сделано именно в древнееврейской культуре благодаря субботе, которая, будучи точкой абсолютного разрыва времени, обеспечивала возможность такой остановки и, следовательно, освобождение от власти и прошлого, и настоящего. Суббота в древнееврейской культуре стала днем, в который человеку предписывалось восстанавливать свои духовные и физические силы и соответственно запрещалось работать. Сама идея субботы противоречит всему, что характерно для духов умерших и звезд на небосклоне, с помощью которых культуры, предшествовавшие еврейской, синхронизировали свое время и делали его совместным для всех членов данного человеческого сообщества. Духи не отдыхают, они находятся в постоянном движении, и только потому люди могут верить, что их предки не умерли. Точно так же звезды никогда не останавливаются на своем пути, обращаясь на небосклоне с удручающей неизменностью. В мире циклического времени не может появиться ничего нового, и ли т ь потому звезды однозначно говорят людям, что и когда им делать на земле. Напротив, древнееврейская культура размыкает циклы «вечного возвращения» и создает представление о линейном времени, в котором только и может появиться нечто новое. Поэтому все заповеди Бога Яхве начинаются с утверждения его единственности, и совершенно особую роль при этом играет обещание субботы, т. е. обещание вывести человека из безостановочного кругового движения. И Бог, Творец мира, и его народ отдыхают каждый седьмой день. Суббота — это абсолютный разрыв в круговороте времени, освобождение от содержания и власти шести предшествующих дней, когда мир подготавливается для нового творения. В течение шести дней человек пребывает в мире, а на седьмой день выходит к его творцу и тем самым сам становится творцом. Он делает это, объявляя прошлое и настоящее уже чем-то бывшим, безвозвратно прошедшим. Прошлое не отменяется и не уничтожается, но именно в субботу позволяется разорвать связи зависимости от прошлого и настоящего и начать все сначала6. Однократность — важнейшая
215
характеристика божественности Яхве, и он творит мир непрерывно, так что смысл предыдущего акта творения выявляется последующими актами.
Доминирующим становится будущее. Происходящая из будущего «тяга» конституирует уже не циклическое, а линейное время, что означает понимание времени в качестве истории, в качестве пророческого слова, становящегося плотью. Творение из ничего и соответствует отсечению причинно-следственных связей, тянущихся из прошлого: данный момент освобождается от всего предшествующего ему и начинает все «с чистого листа». Таким образом, история — это не постепенное выявление того, что уже пребывало в готовом виде в каком-то моменте цикла времени, а именно исполнение обетованного, творение как появление нового, которое не повторяет старое, непредсказуемо, однократно и открывается в качестве обетования Бога. Иначе говоря, историческое время становится ареной Божественного откровения, и только Бог может вывести человека из безостановочного круговоротного движения и даровать ему покой — субботу. Тогда появляется возможность посмотреть на все из конца времени как состояния полноты творения, и это делает все частные верования и привязанности относительными. Конец времени выявляет смертность этих верований и привязанностей, неизбежно заставлявшую конституировать время в качестве цикла (иначе они не могли бы сохраняться как самотождественные). Мифы «вечного возвращения», обходящие смерть и устраняющие ее от конституирова- ния времени, скрывают все, предшествовавшее начальному моменту. Тем самым, на деле создавая частное отношение, они маскируют его принципиальную фрагментарность. Время истории, напротив, начинается не с частных привязанностей (например, смерть культурного героя или основание Рима), а находится «по ту сторону» всякого частного прошлого, начинаясь с сотворения Адама, а его внутреннее напряжение создается деятельностью пророков и ожиданием Мессии. Таким образом, время впервые признается потенциально общим для всего человеческого рода. Для того чтобы оно стало действительно общим, нужно было выйти за пределы того отдельного народа, жизнь которого впервые начала протекать в историческом времени. В противном случае историческое время оказывается
216
все же частным, локальным, а не общечеловеческим. Такой выход и был осуществлен в христианстве.
Темпоральное, а не «пространственное» понимание истории является характерной чертой не только иудаистской, но и христианской традиций. Сам мир интерпретируется как лишенный пространственных характеристик и толкуется исключительно как «история». Это не «космос» в греческом понимании, а именно временной аспект существования, что в значительной степени присутствует и в представлении о «конце света», и в противопоставлении «века сего» некоторому «веку грядущему». Христианство особо связывает представление о времени со смертью и воскресением. Сам смысловой центр времени помещается в будущее: из него исходят обетования, и оно определяет настоящее. Экзистенциальное напряжение присутствия человека «здесь и теперь» обеспечивается динамичным характером времени, конституированного в качестве истории. Оно не течет само по себе, но требует участия человека в историческом свершении. Экзистенциально напряженной является и «вечная жизнь», также предполагающая вовлечение в исторический процесс человеческих усилий. Главной предпосылкой продолжения истории является такой образ действий, который обеспечивал бы превращение смерти в условие продолжения жизни: смерть должна быть попрана смертью, она должна приносить плод, и только тогда культура может существовать в истории. При этом будущее формируется последовательностью отказов в настоящем. Иными словами, будущее требует жертвоприношений в настоящем (система отказов, отрицаний, смерть в самом общем смысле), и только так настоящее получает возможность продлить свое существование. «Сочленение» различных эпох в единое историческое время обеспечивается смысловым центром истории — крестной смертью Иисуса Христа.
В самом деле, каждая культура формируется в качестве определенного ответа на некоторый вызов, на критическую ситуацию, на принуждение, и только эффективность этих ответов делает ту или иную культуру длящейся и жизнеспособной. Именно найденные основателями той или иной культуры ответы, кодифицированные и застывшие, образуют ее неповторимый облик. Многообразие этих окаменевших ответов, персонифицируясь в богах различных пантеонов, непроницаемыми
217
перегородками отделяло культуры друг от друга и подчиняло каждую из них неотменимому «судьбоносному» порядку. Основания каждой такой культуры зависели от раз и навсегда данных ответов, т. е. от некоторого события в прошлом. Попытаться отменить всесилие данных в прошлом ответов с помощью еще одного ответа. Возможно, он будет всего лишь еще одним ответом среди многих других и в этом качестве ничем не будет отличаться от них, но единственный способ познания истины и состоит в этом выявлении конечности и относительности каждого отдельного ответа.
Но на это не способны ни философское рассуждение, ни проповедь, ни религиозное пророчество, ни прекраснодушные призывы, поскольку они не затрагивают саму жизнь претендента на роль преобразователя всех прежних ответов. Все эти ответы должны быть собраны в душе одной личности и претерпеть смерть вместе с ней, что и произошло в конце земной жизни Иисуса Христа7. Тем самым он становится воплощением всех предшествовавших ему ответов сразу и в то же время ни одного из них в отдельности. Все они отныне несут на себе печать первородного греха в качестве наследственного: обусловленность прошлым в понимании их приверженцев — это, увы, не отрицательное, а положительное свойство. Крестная смерть Иисуса Христа отменяет инерцию прошлого и потому она — предвосхищение смерти каждого такого ответа до наступления его полной и окончательной смерти. Умереть для своего, частного бога, для своей святыни, которую считаешь бессмертной, — значит избежать смерти с этим богом и святыней, которые на самом деле, конечно же, смертны. Именно крестная смерть выявляет сущность Иисуса Христа не как законченного воплощения, а как живого Слова Бога. Он — свободно предпосланный человеку замысел, позволяющий каждому освободиться от власти данных в прошлом ответов и опереться только на ничем не опосредованную веру.
Именно христианство создало современную Европу в качестве единства в многообразии. Однако это отнюдь не означает, что все европейские народы (крещенные, кстати, «en masse») сразу стали христианскими. Указанное обстоятельство сохраняло функцию евреев в деле введения народов в единое историческое время, т. е., в сущности, сохраняло их избран
218
ность. Великая французская буржуазная революция, основываясь на представлении о «человеческой природе» и соответственно о некоем «естественном человеке», объявила всех людей одинаковыми и именно на этой основе эмансипировала евреев — они отныне стали считаться не избранным народом, а ли т ь одним народом среди многих. Фактически же это означало расширение числа носителей мессианской идеи — потенциально такими носителями могли стать все народы. Очевидная связь революционных настроений 1789 г. со становлением специфического облика американской культуры придала мессианской идее на Американском континенте свои неповторимые черты: «Америка отличается от всех остальных стран тем, что она была заселена благодаря свободному выбору ее граждан, независимо от того, прибыли ли они вместе с пилигримами или на последнем корабле с эмигрантами. Но этот свободный выбор миллионов и миллионов <принцип естественного права>, свободное согласие становились реальностью снова и снова»8. Сам характер заселения и необходимость начинать все «с чистого листа» сделали американскую культуру максимально открытой и тем самым придали ей функции того «фона» других культур, роль которого прежде выполнял иудейский мессианизм. Но способность американской культуры делать относительными все замкнутые на самих себя культуры отличалась от иудейского мессианизма тем, что соответствующие процессы развивались под сенью христианской системы ценностей. Речь шла о переориентации привязанности со Старого Света на Новый Свет, причем последний с самого начала не претендовал на автаркию и представлял собой постоянное моделирование процесса смерти и воскресения: «Америка — это плавильный котел (“Melting Pot”) для многих народов. Разнообразие, несходство ее обитателей при отсутствии двух необходимых условий приведет к распаду и разрушению. Должно существовать динамичное движение и должно быть достаточно времени для объединения несхожих элементов. Наличие времени в человеческих делах позволяет нам быть терпеливыми. Американская демократия нуждается в терпении. Если мы потеряем терпение по отношению друг к другу, мы потеряем свою душу. Динамизм обеспечивался постоянным ростом и экспансией. Граница превращала всех, независимо от расы, веры и цвета кожи, в пер
219
вопроходцев»9. Именно это делало и делает американскую культуру ненавистной для тех культур, которые, преследуя традиционно понимаемый национальный интерес, стремятся, с одной стороны, к самоизоляции, а с другой — к экспорту своей локальной системы ценностей, прибегая для стимуляции этого, в случае собственных неудач, к тактике политического терроризма.
Однако при этом остается большое количество сложных и принципиальных вопросов. В ортодоксальном иудаизме избранность еврейского народа понимается отнюдь не как благословение, и для обозначения этого серьезного обстоятельства используется весьма выразительное словосочетание — «иго небес». Иными словами, избранность понимается как тяжкое бремя, как та «призванность», о которой говорил В.С. Соловьев. Как воспринимается американским менталитетом неожиданно перешедшая к американской культуре объединительная функция? Соответствует ли этот менталитет серьезности и принципиальному характеру задачи? Как конкретно формируется открытость американской культуры и что ей угрожает? Возможна ли, хотя бы в принципе, ее самоизоляция? Существуют ли и насколько сильны тенденции к самоизоляции? Ослабевает или усиливается в настоящее время роль христианских ценностей в выполнении американской культурой своей миссии по обеспечению целостности истории? Насколько эффективно американская культура выполняет свою объединительную функцию и насколько адекватно ее статус сверхдержавы соответствует выполнению ею своих задач? Каковы методы выполнения этой функции? Является ли Америка состоявшейся сверхдержавой в этом новом смысле и насколько сильны в менталитете американской культуры тенденции традиционного понимания термина «сверхдержава»? Это далеко не полный перечень вопросов, которые возникают и требуют своего разрешения в контексте рассмотренной нами проблемы. Ответы на эти (и многие другие, не сформулированные здесь) вопросы не могут быть даны сразу и просто на основе некоего интуитивного видения. Если постановка вопроса, сформулированного в данной статье, верна, то для ее конкретизации необходима серьезная, основательная аналитическая работа, актуальность которой, несмотря на ее мнимо академический характер, обус
220
ловлена неотложными практическими задачами, стоящими перед человечеством в третьем тысячелетии.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Ортега-и-Гассет X. Идеи и верования / / Ортега-и-Гассет X. Избранные труды. М., 1997. С. 423.
2. Соловьев В.С. Великий спор и христианская политика / / Соловьев В.С. Сочинения: В двух томах. Т. I. М., 1989. С. 60.
3. Там же. С. 61.4. Там же. С. 62; В связи с этим В. С. Соловьев совершенно
справедливо указывает: «Раз признано и узаконено в политике господство своего интереса, только как своего, то совершенно невозможно становится указать пределы этого своего; патриот считает своим интерес своего народа в силу национальной солидарности, и это, конечно, гораздо лучше личного эгоизма, но здесь не видно, почему именно национальная солидарность должна быть сильнее солидарности всякой другой общественной группы, не совпадающей с пределами народности?» (Там же. С. 63). И еще: «Возводить свой интерес, свое самомнение в высший принцип для народа,как и для лица— значит узаконивать и увековечивать ту рознь и ту борьбу, которая раздирает человечество» (Там же. С. 64).
5. Булгаков С.Н. Поездка в Америку / / Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1996. С. 397.
6. Еврейской субботе соответствует и главный ежегодный еврейский праздник — «Йом Кипур» (Судный день). С помощью него ритм событий в природе был заменен ритмом событий в истории. В Судный день иудей молится об отмене всех обетов, клятв, обязательств, взятых, на себя перед Богом, а не перед людьми. Смысл этого праздника — произнесение «нет» собственной воле и подготовка к осуществлению воли Бога. Только это делает Бога чистым актом и чистым будущим, поскольку все его прошлые творения лишаются божественного статуса, и познание того, что не есть Бог— условие понимания Бога. Каждый год («Йом Кипур»), каждые семь лет («залежный год»), каждые семь раз по семь лет («юбилейный год») произносилось это «нет», способное воспрепятствовать превращению времени в цикл. Поэтому «Йом
221
Кипур» может быть назван субботой всех суббот.7. Вопрос о соотношении Иисуса Христа и культуры в
западных культурологических исследованиях уже давно не является экзотикой (см., например: Христос и культура: Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М., 1996).
8. Rosenstock-Huessy E. Out o f Revolution: Autobiography of Western Man. Providence (RI), 1993. Р. 683.
9. Rosenstock-Huessy E. Mad Economics or Polyglot Peace / / Stimmstein 4. (Jahrbuch der Eugen Rosenstock-Huessy Gesellschaft). Moessingen-Talheim, 1993. Р. 28.
И.М. Супоницкая
РОССИЯ И АМЕРИКА: ОПЫТ СРАВНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В наши дни Россия находится на перепутье. Закончился длительный имперский период ее развития. Она выбирает новую модель. Взоры многих обращаются к США, с которыми часто сравнивают Россию. Рассмотрим эти сходства и различия двух стран, чтобы понять, насколько правомерны эти сравнения и может ли вообще на русской земле использован американский опыт.
У двух стран, действительно, немало близких черт. Обе находятся на периферии европейской христианской цивилизации. Обеим свойственны разнообразие природных условий, обширные пространства, длительная колонизация земель. «История России, — писал В.О. Ключевский, — есть история страны, которая колонизуется»1. То же заявил в конце прошлого века Ф. Тернер о США: «Вплоть до наших дней американская история представляет в большей степени историю колонизации Великого Запада»2.
Россия и Америка — крупнейшие аграрные державы, почти в одно время вступившие на мировой рынок зерна и ставшие конкурентами в конце XIX века. Одновременно они уничтожили формы принудительного труда: крепостное право (1861) и рабство (1863).
222
Можно найти общее в сознании русского и американца. Это, прежде всего, развитое чувство национальной гордости, вера в особую миссию своего народа. Американец убежден, что Америка избрана стать оплотом свободы и демократии во всем мире. Его патриотизм порой переходит в национальную кичливость. Норвежский писатель К. Гамсун, побывавший в США, был удивлен уверенностью американцев, считавших, что «все лучшее изобретено в их стране»3. Россияне же уповают на особый путь развития России. Ф.М. Достоевский полагал, что русские призваны «внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей»4. У каждого народа по-своему проявилась страсть к гигантизму: в Америке — самые высокие небоскребы, самые большие плотины и мосты, в России — великие стройки коммунизма.
Однако за внешним сходством двух стран скрывается совершенно разное содержание. США, порожденные английской торговой экспансией, представляют часть западной цивилизации. Россия, как восточноевропейская страна, соединила черты Запада и Востока, не будучи, по сути, ни тем, ни другим. «Мы никогда не шли вместе с другими народами, — писал П.Я. Чаадаев, — мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого»5.
Различны не только природа и климат двух стран, но само влияние природной среды. США — страна переселенцев, возникшая сразу на буржуазных началах. Американская природная среда ли т ь дооформила сознание европейца, превратив его в американца. Но он сохранил основы, выработанные западноевропейской культурой, — протестантизм, развитый институт частной собственности и права, индивидуализм. Американцу изначально был свойственен, говоря словами М. Вебера, «капиталистический дух» — рыночное рациональное сознание. С момента своего возникновения американские колонии имели представительные органы (первый — в Вирджинии в 1619 году), законы (первая писаная конституция — в Коннектикуте в 1639 году). Страна сразу начала развиваться как гражданское общество.
США не знали того мучительного перехода от традиционного общества к современному, к рыночной экономике, кото
223
рый пережила Западная Европа и другие народы. Рыночное сознание, отсутствие старых, добуржуазных структур в хозяйстве, в уме — того, что Гете назвал «базальтом столетий», — стали двумя важнейшими факторами, ускорившими развитие США и способствовавшими их достижениям. США сразу начинали с того, чего до сих пор добивается Россия: реализации прав частной собственности на землю, построения гражданского общества, функционирования рыночной экономики и воспитания, в соответствии с этим, гражданской сознательности и ответственности граждан.
Новый Свет поразил европейцев богатством растительного и животного мира. Изобилие Америки начиналось с изобилия и разнообразия природного. Умеренный климат, благоприятный для земледелия (северная граница США находится на широте Ростова-на-Дону, т. е. российских южных районов), не ставил перед поселенцами проблемы выживания, борьбы с голодом, разве что в первые годы из-за неприспособленности их к новым условиям. Свободный и упорный труд пионеров приносил реальные плоды, обеспечивая достаток. Поэтому американцы смогли превратить дикие и пустынные прерии Среднего Запада в зерновой пояс страны, ее житницу. Природные условия вселяли уверенность в собственные силы, в разум человека.
Иное дело — Россия. Суровый климат (большая часть территории — север), неустойчивая, трудно прогнозируемая погода, откуда, по словам Ключевского, появилось русское «авось». «Природа Великороссии, — отмечал историк, — ...часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса, своенравие климата и почвы обманывает самые скромные ожидания... Невозможность рассчитать наперед... (неожиданные метели и оттепели, непредвиденные августовские морозы и январская слякоть), заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразились на складе ума великоросса...»6.
Для русского крестьянина характерен не постоянный, равномерный труд, как для фермера, а кратковременный, с большой затратой сил. Сельскохозяйственные работы в России длятся четыре месяца вместо восьми и более в Европе и Америке. И это настоящая «страда», страдание, когда работают от зари до
224
темна. Земледелие и животноводство здесь малоэффективны: нужно запасти продовольствия на восемь месяцев для себя и скота, а каждый третий год — неурожайный. Поэтому цель земледельца в России — не получить доход, а выжить. На данную особенность, контрастирующую условиям Америки, указал американский историк Р. Пайпс: «Страна в основе своей настолько бедна, что позволяет в лучшем случае вести скудное существование. Бедность эта предоставляет населению весьма незначительную свободу действий, понуждая его существовать в условиях резко ограниченной свободы выбора»7.
Если для Америки характерна изолированная семейная ферма, то для России — деревня, община. Эти социально-экономические институты стали системообразующими факторами в истории двух стран. Мелкий фермер-землевладелец — главная фигура в США вплоть до XX века, отчего там всегда преобладали средние слои населения, а не беднейшие, как в России. Именно экономически независимый производитель (будь то фермер, мелкий предприниматель) был социальной базой американской демократии. Немаловажен и человеческий материал, прибывший в Новый Свет, куда ехали за экономической, религиозной и политической свободой. Атлантический океан служил своеобразным средством естественного отбора: его пересекали независимые и мужественные люди, готовые порвать со своими прежними традициями и прошлым.
Обилие земли и недостаток свободных рук так и не позволили укрепиться в США крупному землевладению, как феодальному, так и капиталистическому. Оно существовало только на Юге, где плантационное хозяйство требовало не сезонной, подобно Северу, а круглогодичной работы. Это привело к использованию в Америке принудительного труда сначала завербованных из Англии, затем рабов, позднее арендаторов-кроп- перов.
Россия же страна крупного землевладения, общинного землепользования и подневольного труда. В 1857 году 80 % населения составляли несвободные крестьяне (49 % из них — негосударственные, 51 % — крепостные, помещичьи)8. Основная масса населения никогда не имела частной собственности на землю, отсюда — резкая социальная поляризация, отсутствие сильного среднего класса, демократических традиций.
225
Крупное землевладение, высокая концентрация богатства, кастовость были характерны и для американского Юга. Эти черты сближают его с Россией. Некоторые американские исследователи даже объясняют появление рабства в США и крепостного права в России одной причиной — недостатком рабочих рук9. Однако при внешней справедливости подобного тезиса следует сказать, что эта причина относится только к рабству США. В России экономический фактор никогда не играл решающей роли. Закрепощение крестьян диктовалось нуждами не хозяйства, но государства — необходимостью средств на содержание армии, аппарата10. Плантационное же рабство оказалось «встроенным» в американскую буржуазную цивилизацию, частью которой являлся и Юг, где также основную массу населения составляли фермеры-землевладельцы.
Крестьяне России, освободившись от крепостничества, страдали от малоземелья: в начале XX века более половины крестьянских дворов имели до 10 десятин земли (это, по подсчетам, составляет 26 акров). В Америке того же времени мелкие и средние фермеры, владевшие от 20 до 175 акров, составляли 70 % фермерства11. Этот широкий средний слой обеспечил победу США в хлебной конкуренции с Россией и стал основой самого емкого в мире внутреннего рынка для национальной промышленности.
После отмены крепостного права Россия в 3,5 раза увеличила вывоз зерна, став ведущим мировым экспортером. Однако если американский фермер продавал излишки продовольствия, то русский крестьянин сокращал собственное потребление12. Различие в положении аграрного производителя — независимого фермера и крестьянина, так и не ставшего самостоятельным хозяином, собственником земли после отмены крепостного права, — одно из самых важных отличий двух стран.
Частная собственность, в противоположность Америке, была всегда слабо развита в России. Для нее характерна коллективная собственность на землю. В 1905 году 77 % крестьянских дворов Европейской России владели землей на основании общинного права13, т. е. сельская община владела, а ее члены пользовались землей. В тяжелых природных и социальных условиях община, конечно, помогала выжить, содержала больных и стариков. Но в то же время она подавляла предприимчивость, дух
226
личной инициативы, мешая развитию рыночных отношений.В России традиционно сильна неприязнь к частной собствен
ности как к неправедному делу — в отличие от США, где частная собственность священна, — и популярностью пользовалась и пользуется до сих пор идея о том, что земля — общенародное достояние. Поэтому аграрная реформа П.А. Столыпина 1906—1910 годов, призванная разрушить общину и насадить мелких земельных собственников, в России была встречена неоднозначно. Против нее выступил Л.Н. Толстой, заявивший в письме к Столыпину: «Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею». Столыпин возразил: «Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие “собственности” на землю у крестьян создает все наше неустройство»14.
Дальнейшая история страны подтвердила правоту слов Столыпина. Неразвитость институтов частной собственности не позволила России перейти к рыночному хозяйству. Ее модернизация закончилась коллапсом, который привел к октябрьскому перевороту 1917 года15. Советская общенародная собственность, колхозная практика превратили СССР в импортера зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Общинный коллективизм стал благоприятной средой для коммунистических идей. Из-за отсутствия исторического опыта частной собственности в России не могли укрепиться индивидуалистические ценности, столь характерные для США и всего западного мира.
Еще одно важное отличие двух стран — различные по характеру взаимоотношения между обществом и государством. Общество Запада столетиями боролось с государством за свои права. В Англии эта борьба началась с принятия в 1215 году Великой хартии вольностей и завершилась в период «Славной революции» 1688 года — победой общества и передачей власти представительному органу — парламенту. Америка, получившая в наследство западноевропейские достижения, сразу формировалась как гражданское общество — общество, которому служит государство и в котором соблюдается приоритет закона. В США как переселенческой стране общество к тому же возникло раньше государственных структур и само их создавало для своих нужд, поэтому в Америке государство не враждебно обществу.
Т. Джефферсон желал своей стране правительство, мень
227
ше правящее, исходя из идеи, что «государство — ночной сторож». А. Линкольн уточнил и развил мысль Джефферсона о том, что предназначение государства состоит в «управлении народа посредством народа и для народа» («The Government of the People, by the People, for the People»).
В России государство всегда подавляло общество, так и не дав оформиться гражданским принципам. Этому есть ряд причин. Прежде всего сильного государства требовало географическое положение страны, находящейся на границе двух миров — Запада и Востока — и постоянно оборонявшейся от обоих. Этого не знали США, защищенные от врагов естественной преградой— океаном. Не менее серьезно другое обстоятельство: в российском обществе, в отличие от западного, никогда не существовало сильной оппозиции государству. Православная церковь, в противоположность католической, с давних времен находилась под властью государства. Тем самым Россия оказалась лишенной того длительного, не всегда мирного диалога между церковью и государством, приучившего западный мир к поиску и достижению компромиссов. Сильная католическая церковь ослабляла централизм и монологичность государства.
Кроме того, в России отсутствовали массовые городские средние слои — главная социальная база, в недрах которой в Западной Европе возникла оппозиция государству. Город был рассадником свободомыслия, а гражданин — это прежде всего житель города и приверженец данной идеи. Россия, в противоположность этому, оставалась сельской, с неразвитой городской жизнью страной. Она не знала длительной цеховой организации промышленности, что связано со спецификой земледелия, поскольку из-за длительной сельскохозяйственной бездеятельности ремесло не отделилось от земледелия, приняв своеобразную форму промыслов. Города в России являлись прежде всего центрами административными и военными, а не ремесла и торговли.
Вся история России — это история постепенного усиления государства, пока, наконец, после Октябрьского переворота 1917 года его власть не стала тотальной. Советский период был закономерным продолжением всего предшествующего развития страны. Со времен Ивана Грозного существовала прямая связь между земельной собственностью и службой государству.
228
Но даже освобождение Екатериной II дворян от обязательной службы не сделало землевладельцев и вообще собственников свободными и независимыми людьми. Каждого мог настигнуть гнев государев, и у каждого государство могло конфисковать имущество, как в свое время поступали с врагами государя — эмигрантами А.И. Герценом, И.С. Гагариным, П.В. Долгоруковым.
Экономика, идеология, политика — все служило нуждам государства, а не человека, общества. Именно государственные интересы, прежде всего военные, были главным стимулом развития хозяйства. При Петре I создавались промышленные мануфактуры, необходимые для снаряжения армии и флота. Таковы же причины крепостного права, а затем и его отмены, продиктованной стремлением сохранить могущество России, пошатнувшееся после Крымской войны. Такова была и сталинская индустриализация, проведенная на крови крестьян для усиления обороноспособности СССР. Армия, флот, государственный аппарат поглощали более половины государственного бюджета Российской империи, по подсчетам П.Н. Милюкова (1700 г. — 80 %, 1801 г. — 59 %, 1892 г. — 42,6 %)16. Та же тенденция сохранилась и в советский период.
Если в основе американской системы стоит человек, и система служит его благу и благу общества, то в России человек служит системе и ее благу. Вот почему при богатстве недр и лесов так беден народ России. Тотальная государственность породила отчужденность общества от государства, антиэтатис- тские настроения, поэтому Россия стала родиной анархизма (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). В советское время, да и в наши дни, обмануть государство не считается безнравственным, поскольку его считают враждебным человеку. Подобный взгляд невозможен в США, стране с высокоразвитым сознанием гражданского долга, где каждый старается помочь государству. То, что в России называют стукачеством, доносительством, в Америке приветствуется как выполнение каждым человеком своего гражданского долга.
Главным государственным принципом России всегда был централизм; для США долгое время была характерна децентрализация, и лишь со второй половины XIX века усилилась тенденция к централизации, хотя до сих пор сохранилась силь
229
ная власть на местах. В Америке нет главного города, как Москва, нет понятий центра и провинции, столь свойственных России, где центр всегда подавлял периферию, стирая региональные различия, делая однородной всю страну. От гнета центра вольнолюбивые россияне бежали на окраины, где слабее рука государства, больше свободы, а значит, и люди жили зажиточнее (Сибирь, Кубань, Дон). В США с развитием рыночной экономики также происходило стирание различий между регионами, но при этом не исчезала их специфика, сохранившаяся в сознании, культуре людей. Разнообразие остается одной из характерных черт Америки. В наши дни на смену традиционному первенству Северо-Востока приходит усиление Дальнего Запада. Калифорния стала самым многонаселенным штатом страны.
Разное содержание имела колонизация земель двумя странами. США расширялись на запад, Россия — на восток. Точнее, Россия расползалась по кругу, как Москва строилась, превращая завоеванные земли в одну большую вотчину с единым центром. Завоевывая земли, она не осваивала их, поскольку основная фигура общества — крестьянин не был собственником земли, а у государства не было возможности уделять особое внимание развитию своих окраинных земель, где завоеванные народы легко приспосабливались к жизни в Российской империи. Американцы же с помощью колонизации создали всю страну и, будучи хозяевами земли, быстро ее освоили. После их освоения для коренных жителей — индейцев — не осталось места.
Обе страны многонациональны, но опять-таки по-разному. Россия, в основном насильственно присоединявшая соседние народы, являлась по существу унитарным государством. В СССР федерализм по национальному признаку носил формальный характер, в стране шла тотальная русификация. В Америку представители всех народов, кроме афро-американцев, приехали добровольно и американизировались, не забывая при этом своих этнических корней. Американская культура сложилась при этническом разнообразии. Федерализм США основан не на национальном, а на территориальном принципе.
Анализируя черты сходства и различия двух социальных систем, давайте посмотрим, как рассмотренные факты отрази
230
лись на национальном характере и культуре двух народов? Американец по натуре — деятель, творец собственной судьбы и своей страны, индивидуалист. Но, правда, ему также свойственно и чувство кооперации, оставляющей за каждым человеком самостоятельность. «Свободный дух кооперации» наряду с волей к труду и преуспеванию американский философ Дж. Сантаяна считал основным среди трех главных качеств, характерных для американизма17.
Стремление к материальному благополучию всегда было главным для американца, именно за этим большинство переселенцев приехало в Новый Свет. Рационализм и прагматизм— основные качества его сознания. Американец склонен к конкретному, не теоретическому знанию. Его беспокоит вопрос «как?», а не «почему?»
Отсутствие традиционализма, помогавшее Америке добиваться успехов в экономике, технологиях, политической власти; длительная колонизация земель, жизнь пионеров отразились на культуре Америки, «варваризировали» американца. Он не склонен к глубокомыслию, не столь любознателен, поскольку в большинстве своем увлечен количественным результатом собственной деятельности (богатством, успехом). Его главные достижения находятся в материальном мире (технологии, быт). В США интеллект долго не был оценен по достоинству. Это подтверждает и тот факт, что из атмосферы гнетущего материализма некоторая часть американских художников и писателей уезжала в Европу. В этой связи следует отметить, что гораздо сложнее и противоречивее в контексте американской истории выглядит характер южан, территория которых в годы Гражданской войны пережила состояние антиномии и трагедии. Это, так же как и влияние климата, внесенные рабством патернализм, кастовость, культ чести, неизвестные остальным регионам, сближает южан-американцев с русскими. Исходя из данного факта, можно объяснить существование той особой силы, психологичости, свойственной американской литературе южных штатов США (У. Фолкнер, Т. Вулф, Т. Уильямс). Это, возможно, влияет на популярность и обуславливает притягательность творчества этих американских писателей в России.
Россиянин самим климатом, социальной системой приучен к пассивности, терпению, к невозможности собственными сила
231
ми решить свою судьбу. Он меньше американца верит в разум, человеческие способности. От этого в России рациональная философия долго оставалась неразвитой, подобно тому, как это было на Западе. Россиянин нацелен скорее на созерцание, чем на деятельность, которая, как правило, не приносит результатов: от ума только горе. Он привык, что с ним никто не считается, государство обманывает его, и он отвечает ему тем же. Он не верит, как американец, в прогресс, изменение жизни к лучшему, живя в безнадежности и тоске. С трудом отбиваясь от негативных природных и социальных условий, россиянин всегда думал не о том, как лучше жить, но лишь о том, чтобы выжить, устоять. Постоянное давление системы на человека воспитало особый тип стоицизма и неизвестные Западу формы сопротивления: не только побег и бунт, но и так называемую «внутреннюю эмиграцию» — в себя, в семью. Призыв Пушкина «Ты — царь, живи один» — девиз не только поэта, но и россиянина вообще. Именно постоянное сопротивление нечеловеческим условиям породило то, что собирательно называют «русским духом» и что отчетливо выразила русская литература. В отличие от экономического рационализма американца и западного человека вообще, россиянину более свойственна душевность, сострадательность (так называемая «широкая русская душа»). Вся русская культура обращена к человеку, являясь формой сопротивления государству. Вот почему так чтимы поэты и писатели в России. Они — народные пророки, помогающие выжить в условиях, малопригодных для нормальной жизни человека
Но у русского характера есть свои оборотные стороны: отсутствие уважения к личности (как к себе, так и к другим), личной ответственности, терпимости и умения вести диалог. Без этих качеств невозможен переход к рыночной экономике, гражданскому обществу. О необходимости «перевоспитания русского характера, усвоения некоторых западных добродетелей» еще в начале XX века писал русский философ Н.А. Бердяев. Под этим он имел в виду «эмансипацию личности», «пробуждение творческой активности человека», а также изменение роли государства в России, которое должно «стать внутренней силой русского народа ...его орудием, а не ...господином»18. Бердяев, по существу, призывал россиян воспитывать черты, развитые в характере американцев. Однако подобное
232
перевоспитание вряд ли возможно осуществить без отказа от тех качеств, которые всегда привлекали в русском характере (отзывчивость, эмоциональность).
Завершая анализ основных черт социальных систем двух стран, необходимо отметить, что в конце XX столетия обе страны находятся на перепутье. С одной стороны, Америка достигла исполнения своей мечты, поскольку в целом ее общество добилось материального благополучия. Теперь для развития американцам нужны новые горизонты, новые идеалы. С другой стороны, в этой ситуации у России проблема стоит гораздо сложнее — она выбирает новый путь развития. По сути, ее общество, стремясь не превратить Россию во второстепенную державу, уже осознало необходимость развития рыночной экономики, ценность идеалов демократии и либеральных свобод. Вопрос лишь в том, хватит ли на это социальных сил и политической воли и как совершить переход к рынку, индивидуализации сознания, не растеряв лучших качеств характера россиянина, воспитанных многовековой традицией существования русского человека, очевидно, нуждающихся в перемене?
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. М., 1956. Т. I. С. 31.2. Turner F.D. The Frontier in American History. N. Y , 1920.
P. 1.3. Гамсун К Духовная жизнь Америки: Полн. собр. соч.: В 12
т. СПб., 1910. Т. 4. С. 493-494.4. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. СПб., 1995. Т. 14. С.
439.5. Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1991. Т. 1.
С. 323.6. Ключевский В.О. Указ. соч. С. 313, 315.7. Пайпс Р. Россия при старом режиме. Кембридж (Масс.),
1990. С. 2 -3 .8. Водарский Я.Е. Население России за 400лет (XVI— начало
XXв.). М., 1973. С. 57.9. Domar E.D. The Causes of Slavery or Serfdom: A Hypothesis
/ / Journal of Economic History. 1970. Vol. 30. N I. P. 18—32; Kolchin
233
P. Unfree Labor: American Slavery and the Russian Serfdom. Cambridge, 1987. P. XI.
10. Шапиро А.Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV—XVI вв.). Л., 1987. С. 230—231; Данилова Л.В. К вопросу о причинах утверждения крепостничества в России / / Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы, 1965. М., 1970. С. 130—140.
11. 1 акр — 0,4 га; 12-th Census of the United States. Washington, 1902. Vol. V. Part I. P. XLIV; Рубакин H.A. Россия в цифрах. СПб., 1912. С. 151.
12. Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1991. С. 95.
13. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М.,1991. С. 88.
14. Цит по: Зырянов П.Н. Петр Столыпин: Политический портрет. М., 1992. С. 65—69.
15. См об этом: Данилов В. Аграрная реформа и аграрные революции в России / / Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире / Сост. Т. Шанин. М., 1992. С. 310—321.
16. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1896. Т. 3. С. 123.
17. Santayana G. Character and Opinion in the United States. N. У.щзб, 1921. P. 169.
18. Бердяев H. Судьба России. М., 1918. С. XIV, 23, 66.
Э.В. Баркова
НЕКОТОРЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА США И РОССИИ
При соотнесении различных культур, особенно тех, которые не имеют общих генетических корней и устойчивых исторических взаимосвязей, важно выделить некоторую инвариантную основу, способную указать на масштаб их соотношений, и уточнить показатели, по отношению к которым имеет смысл говорить о большем или меньшем различии тех или иных культур или, напротив, об их определенном сходстве. Сказанное отно
234
сится и к анализу таких мощных, сложных, достаточно автономных и самобытных культур, как культуры США и России.
Действительно, эти культуры не только удалены друг от друга территориально, имеют не только различные этнические корни, но и существуют в различных формах социально-исторического времени. Причем если культура США сформировалась и сейчас функционирует на основе лишь одного общественного строя — капитализма, то культура России имеет и более древние исторические пласты, включающие в свой состав и многовековой феодализм, и недолгий период развития капитализма, и не менее сложные для анализа советский и постсоветский периоды, выявившие различные, но всякий раз глубокие процессы переориентации личности и общества.
При сравнительном анализе этих двух культур — даже взятых в их обобщенном национальном варианте, и как бы минуя тем самым культуры многих этносов, народностей и наций, живущих в этих странах, — было бы существенным представить необходимость формирования методологического аппарата или такого типа обоснования, которое включало бы работу с разнородными показателями, в совокупности дающими системное представление о культуре. Но не сходство идей, образов, идеалов, типов символики затрудняет сведение всего этого к общему знаменателю, к некоторой результирующей модели. Более адекватным решением такой задачи, как мне кажется, стало бы выделение некоторой инвариантной основы, или «клеточки» — определенной категории, «характеризующей содержание этих культур, в которой уже заданы те тенденции, которые в более полном виде развернуты в культурной среде и ее структурах. Найти эти истоки — значит найти ключ к последующим различиям в специфике указанных культур. Если исходить из важнейших функций любой культуры: освоения собственной среды обитания людей и адаптации к данным — природным и общественным — условиям и в связи с этим выработки нормативов социального поведения, отборе определенных ценностей и наделении их статусом идеала, цели и смысла существования, то подобная клеточка может быть выражена содержанием культурного пространства — той смысловой социальной сферы, в которой и развертываются процессы культурной жизни.
Культурное пространство — это форма бытия природы,
235
социума и человека в культуре и через культуру. Именно здесь раскрыто смысловое измерение «своего» и «чужого», «близкого» и «далекого», «современного» и «прошлого», здесь возникают многочисленные смысловые связи людей друг с другом и с внешним миром, возникает смысловой центр и периферия; ценностное измерение и восприятие человека, личности, индивидуальности; отношение к истории и своему времени; здесь обозначаются внутренние границы возможного и невозможного для современников, появляются различные точки отсчета. От социального пространства, в котором структурируется социум (функционально — по территории, по статусу социальных групп, по ценностным ориентациям населения), пространство культуры отличается прежде всего тем, что здесь формируется и приобретает структуру тот смысл, который как бы формализуется в схемах жизнедеятельности людей, определяя некоторую форму очевидности, черты образа жизни, особенности ролевого поведения, общения, оценок. Упрощая, можно сказать, что пространство культуры выступает как бы своеобразным входом в социальное пространство. Однако это не просто вход, но и некий каркас, форма устойчивости данного социума, определяющая его особенности и стилистику, специфику быта, поведения, восприятия и переживания действительности.
Лишенное пространства культуры, социальное пространство и сам социум теряют основание, поскольку утрачивают целевые ориентиры, выходящие за рамки организации условий жизни, которые обеспечиваются экономикой, производством. Именно поэтому культурное пространство способно задавать общие ориентиры жизнедеятельности данного социума, а также сохранять определенную историческую устойчивость последнего благодаря своему постоянству.
Так, несмотря на то, что в США за последние 200 лет произошли значительные социальные структурные изменения, заданная с самого начала американской истории ориентация на индивидуализм и сейчас, насколько я могу судить, определяет культурный климат этой страны. Иначе обстоит дело в России: тот дух, с присущими ему традициями соборности и общинности, который зародился во времена Киевской Руси, сохраняется и по сей день, оставив за собой различные общественные уклады. Именно устойчивость культурно-простран
236
ственных характеристик той или иной страны, региона определяет культурную идентификацию, что способствует формированию и развитию национального самосознания.
И как бы ни отличались друг от друга относительно «законченные», замкнутые в себе парадигмы российского культурно-исторического опыта, между всеми ними есть нечто общее, узнаваемое. Сколько бы ни насчитывалось «Россий» в истории русской культуры, — это именно история русской, а не какой-либо иной культуры, несмотря на всю ее несомненную «прерывность», дискретность и все резкие, подчас весьма драматические, «разрывы».
С другой стороны, культурное пространство позволяет понять основные функции культуры, специфику определенного общества или страны. Обратимся к истории США: освоение обширных территорий Американского континента, напряженная борьба за выживание определили особенности характера поселенцев. В ходе освоения пространства выработался тип личности, достаточно автономной в своих действиях и поступках, рассчитывающей прежде всего на свои собственные силы, индивида, ценящего прежде всего личную свободу и независимость. Несмотря на широчайшее многообразие верований, художественных стилей, типов ценностных ориентаций и соответствующих им вариантов среды, создаваемой многообразием этносов, народов и даже рас, всех объединяет некий дух Америки, «американская мечта», в которой каждому может быть гарантирован успех, если только в него сильно верить. Но именно поэтому базовой характеристикой культурного пространства этой страны является максимальная дистанцированность любой личности от любой другой и от социума. В американском обществе любой индивид имеет достаточно простора для собственного жизненного маневра, для личной инициативы, и именно такой простор всячески фиксируется и поддерживается в любом направлении американской культуры. В США, как, вероятно, ни в одной другой стране мира, общественная жизнь конструируется на основе максимально возможной личной свободы. Именно подобное конструирование — как стиль жизни — определяет высокую личную активность населения, его постоянное стремление к лидерству, которое всегда было присуще этой стране.
Но однако эти же условия определяют достаточно сла
237
бый, малый интерес американцев к фундаментальным наукам, теории, отвлеченным рассуждениям, созерцательности. Реальность внешнего мира для американца — это настоящее, определяемое успехом, личными усилиями, практическими результатами. Почему эти черты американца как типа личности необходимо связывать именно с культурным пространством, а не с социальной психологией или социологическими факторами? Именно потому, что в этом пространстве связываются воедино тип и стиль поведения, способ оценки окружающей среды и других людей с глубинным смыслом жизни самой культуры, с тем, как она задана и организована с самого начала в США.
Если в этой связи попытаться определить пространственные социокультурные характеристики коренного россиянина, причем не обязательно русского по национальности и православного по вероисповеданию, то многое в нем окажется связанным с тем, что освоение российских просторов, расселение по землям России, мироустройство ее граждан началось еще в раннефеодальный период, сохранивший, с одной стороны, большую власть общинного начала, а с другой — духовные, особенно религиозные, «технологии» такого освоения. Кроме того, качество субъекта культуры, живущего в определенном духовном пространстве, оказывает обратное воздействие на распад или собирание территории. У нас на Руси интегрирующая сила христианства содействовала сплочению русских земель. Под сенью княжеского скипетра и креста мелкие этносы объединялись в крупные. Складывалась русская нация, возникало современное чувство родины. Феодальная внутренняя пассивность личности, ее связанность сословными, этническими и другими традициями, незначительность возможности для индивидов или общностей активно осваивать природу, собственные земли и пространства смысловые, духовные сделали авторитет общины как субъекта более реальным и весомым, чем авторитет личности. Отсюда — неразвитость личностного самосознания россиянина и, наоборот, значимость тех общинных, сословных норм, ритуалов, которые в полной мере проявились в народной культуре и, хотя и в меньшей мере, затронули элитарную и профессиональную культуру.
Величина пространства, обширность самой территории имеет большое значение для развития как американской, так и
238
русской культуры. Но если американец практически осваивает свою землю, то русский ее скорее пересекает, ибо он всегда как бы в большом пути, где может быть что угодно — чудеса, приключения, войны. При этом всегда сохраняется та дистан- цированность от территории, которая снимается лишь через радикальное переустройство, через напряженный труд. Но в пространстве русской культуры, если посмотреть на нее обобщенно, труд также имеет смысл, пути, движения в пространстве и времени. Когда крестьянин пашет в поте лица, он не столько «останавливает» для благоустройства природные процессы, не столько вмешивается в их ход, сколько следует за ходом обычной жизни, ритм которой задан из жизни и который нельзя да и не стоит как-либо менять. Труд здесь — это своеобразное пересечение океана времени, такого же необъятного, как и сама территория, сама земля, в конечном плане — сам Бог.
Американец вмешивается в сцепление событий, изменяет и преобразует свою среду обитания именно потому, что ему никто и ничто — кроме закона — не мешает это делать. Именно поэтому не какие-то духовные ориентиры определяют цели и смысл его бытия, сколько успех, благополучие. Американец не пересекает свое пространство — хотя тема пути широко представлена в литературе США, он устраивается в этом пространстве и поддерживает его целостность именно потому, что имеет полную свободу делать это, так же как делают это все другие люди.
Симптоматично, но прагматическая ориентация в конечный итоге находит свое проявление даже в характере общей теории. В этом отношении показательны социокультурные импликации такого американского культурологического направления, как холизм. Это междисциплинарное учение, возникнув еще в 1950-е годы в процессе деятельности ассоциации «American Studies», и сейчас развивает свои разработки проблемы целостности американской культуры и истории. С точки зрения основоположников американского культурологического холизма (H.N. Smith, R.H. Pears, L. Marx), современная наука, создавая жесткие рациональные модели американской жизни, не проникает в ее сердцевину. Такой сердцевиной, или основой, выступает национальный миф. Миф — «идеальная конструкция», в кото
239
рой рациональное и иррациональное сплавлены, выступая как бы в нерасчлененном виде. Именно в силу этой особенности с мифами необходимо работать, причем если традиционных мифов нет, то их следует создавать в соответствии с определенными общественными, политическими, идеологическими потребностями. Особенностью мифа при этом является то, что образ каждого героя можно интерпретировать так, как этого требует официальная идеология. Например, образ так называемого по- селенца-пионера, осваивающего земли Дикого Запада, можно интерпретировать в зависимости от установки либо как новатора, осваивающего новое, смелого первопроходца, либо как анархиста, неспособного жить в обществе.
Холизм видится автору данной статьи жесткой и прагматической системой, согласно которой для поддержания целостности социокультурного пространства следует использовать все возможные средства. Если какая-либо женская, молодежная, политическая и т.д. организация «выпадают» из существующей сложившейся смысловой целостности пространства, то к ним следует применять самые строгие методы. Заметим, в традициях русской философии исходным пунктом в обоснованиях такого рода традиционно выступала нравственная идея: всякая новая позиция прежде всего должна быть нравственно обоснованной.
И здесь, как мне кажется, важно зафиксировать не только различие философских толкований целостности культур, но и принципиальное различие характера целостности жизни Америки и России, их разную «пульсацию», ритмику и динамику. Целостность как пространство жизни, ее связей, коммуникаций не физическая абстракция, единая для всех стран и народов, а содержательная, отражающая стиль жизни того или иного субъекта.
Американская и русская культуры задают разные измерения собственной среде обитания. Эти измерения невозможно сравнивать с ценностных позиций: какая из культур лучше или хуже. Лишь в синтезе эти измерения формируют то интегральное мышление, в котором проявляется бережное и заботливое отношение к природе, человеку, обществу и культуре, которое задает новые основания формирующегося информационного общества, нового видения мира на пороге третьего тысячелетия.
240
Естественно, представленный образ пространственного выражения культур США и России весьма схематичен и условен и поэтому он нуждается в конкретизации. Но ясно, что методологические возможности использования категории культурного пространства при сравнительной характеристике культур для выделения и осмысления их общечеловеческих вариантов достаточно перспективны и требуют дальнейшего анализа.
В.И. Кирьянов, А. Ф. Московцев
ДЕМОКРАТИЯ В АМЕРИКЕ И РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ, ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ ПОМОЩИ А. ДЕ ТОКВИЛЯ
Книга Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» — удобный повод и стимул для того, чтобы, обратившись к истории современной России, понять, почему страна, обладающая колоссальными природными и человеческими ресурсами, многовековой историей и культурой, в новых условиях не сумела, как и «передовые народы», достичь всеобщего благосостояния и почему она так стремительно теряет свое лицо, заимствуя не только облегчающие жизнь средства, но и образцы обществе- ного устройства и культуры. Мы все больше смотрим, «как у них», не находя при этом опоры в самих себе.
Прочтение названной книги будет носить выборочный характер — под углом зрения интересующих нас российских закономерностей.
Главная отличительная особенность российской действительности — отсутствие массовой общественной силы, идущей «снизу» и обновляющей все общество. Все преобразования, которые произошли здесь за последние годы, затронули, в лучшем случае, лишь сравнительно небольшой слой наиболее активных людей или носили преимущественно «верхушечный» характер, поскольку были сосредоточены на смене институтов общества. Последний этап преобразований оказался в руках еще меньшей группы людей и приближенных к ним. На обочине великого общественного движения к новой России оказалось
241
большинство ее населения.В последние советские годы многочисленные политичес
кие начинания, вплоть до «горбачевской перестройки», не смогли приобщить к ним «критическую человеческую массу», единственную силу, способную произвести назревшие общественные изменения.
Рассматриваемая национальная закономерность требует к себе особого внимания, так как пассивная общественность в условиях нестабильности ставит все более остро на повестку дня вопрос о судьбе тысячелетней российской культуры, самом существовании самобытного и имеющего многовековую историю Российского государства.
Контрастом новейшей советско-российской истории выступает опыт немецкой, японской, североамериканской общественных систем, демонстрирующих высокий тонус общественной жизни.
Алексис де Токвиль как раз находился у истоков американской демократии, в которой увидел воплощение некоего принципа, имеющего всеобщее значение. Этот всеобщий демократический принцип, или основная форма демократии, по мнению Токвиля, чаще всего формулируется как «равенство усилий существования людей»1. Из данной «исходной первопричины», по мысли автора, проистекает «каждое конкретное явление общественной жизни американцев». В то же время у других народов, например французов, демократия «не завоевывала общество постепенно с целью мирного установления своей власти, напротив, она беспрестанно продвигалась вперед, порождая беспорядки и грохот сражений»2.
На языке современности «демократия» также является смысловым «ключом» для понимания ключевых общественных проблем. Но «волшебное слово» здесь уже не равенство, а свобода. Последовательный либерализм ассоциируется, например, с экономическими достижениями и высокими темпами развития в странах с рыночной экономикой. Для России же он выступает официально пропагандируемым символом необратимости, правильности направления и успешности проводимых общественных преобразований.
Непопулярная сегодня терминология, используемая А. де Токвилем, не должна отвлекать нас от главного — предлагаемо
242
го им способа разрешения фундаментального противоречия между индивидом и обществом, который и был, на его взгляд, наиболее последовательно реализован в Америке. Демократия, по сути, отождествляется французским автором с таким общественным устройством, которое наилучшим образом согласовано с интересами всех членов социума и позволяет им свободно проявлять свои наклонности и развивать данные им способности. Причем под устройством общества в данном случае понимается отнюдь не исключительно или по преимуществу политические институты, а любые устоявшиеся элементы общественной жизни — церковь, семья, армия, язык, промышленность и т. д.
Основное значение принятия демократического способа организации общественной жизни, которое отмечает А. де Ток- виль, — проведение «великой социальной революции» без крови и потрясений, через «всемирный, долговременный» процесс «постепенного установления равенства условий». Американский капитализм, например, был преобразован не по рецепту «экспроприации экспроприаторов», а приобщением большинства населения к высоким стандартам потребления через массовое производство доступных по цене товаров и повышение заработной платы наемным работникам.
Политические революции дают сильнейший и гораздо более заметный импульс развитию общества, но если и он не будет воспринят и преобразован на уровне микроэлементов общества, то их разрушительные последствия могут превысить все достижения. «Октябрьский переворот» в России был действительно великим общественным достижением, но идея В.И. Ленина о «высшей организованности», получив некоторое воплощение в централизованном планировании, не была дополнена в реальности «новым отношением к труду» и другими элементами демократии на «местах».
А. де Токвиль обращает внимание на «лихорадочность» деятельности американцев, подразумевая их исключительную активность и энтузиазм в любой сфере. Все последующие путешественники также неизменно отмечали энергичность и деловитость, свойственные характеру американцев.
В данном случае нас интересует объяснение того, в чем сам А. де Токвиль видел причины возникновения такой активности.
В книге мы не встретили буквального и точного указания
243
на то, как, в понимании автора, трактуются причины возникновения энергичности в характере большинства американцев. Разве что эту роль могут выполнить ссылки Токвиля на «лихорадочное рвение, с которым американцы стремятся достичь материального благополучия»3, «жажду материального благополучия», которая называется даже «господствующей страстью в душах людей»4. Однако российские надежды на автоматическую работу «чисто» экономического интереса так и не сбылись. У десятков миллионов наших российских современников никак не получается проявить свою «жажду» материального благополучия в экономической или другой общественно-полезной активности.
«Активизация человеческого фактора» в последнее советское десятилетие проводилась с расчетом на приведение в действие всего многообразия мотивов человеческой деятельности. Но в эти годы устаревшие институты общества не позволили в полной мере заработать механизмам экономической заинтересованности.
В рассматриваемой работе А. де Токвиля «жажда материального благополучия» вписана в сложный контекст общественной жизни. Во-первых, она выступает здесь в форме «просвещенного эгоизма», в котором интересы каждого «жаждущего» согласованы с интересами других, всего общества. Подобное изменение в характере мотивации есть результат длительной воспитательной работы общества. Во-вторых, общественная позиция не только «просвещает», но и придает мотивации и активности дополнительную силу или, наоборот, существенно ослабляет их. «Когда государством правит общественное мнение, — пишет А. де Токвиль, — все люди сознают ценность общественного признания и каждый пытается добиться его, стараясь обрести уважение и привязанность тех людей, среди которых он должен жить»5.
Таким образом, ни в одном обществе не действуют простые схемы «голого» материального интереса или «чисто» морального долженствования. Везде они обнаруживают свою недостаточность.
Природа человека такова, что она несет в себе многообразие способностей и потребностей. В «свободных институтах, имеющихся в распоряжении жителей Соединенных Штатов»6, на
244
званное многообразие находит выход и развивается в столь же разнообразной и интенсивной человеческой активности. При другом общественном устройстве тарифная система, должностная и номенклатурная иерархия и другие институты, предназначенные для оценки трудовой активности, не дают в полной мере проявиться этому разнообразию и, самое главное, не стимулируют развитие профессионализма. Правда, стоит заметить, что названные формы при этом вовсе не исключают возможности для становления выдающихся личностей и образцов трудовой активности. Природа человека неистребима даже в унизительных условиях тюрьмы, жесткой армейской иерархии и др.
Американцы времен А. де Токвиля имели счастливую возможность создавать общественные институты «под себя». И современность, по-видимому, во многом сохранила такое их качество. Советская же общественность формировалась под воздействием многочисленных экстремальных ситуаций и «вызовов», связанных с революцией, гражданской и Отечественной войнами, индустриализацией и т. д. Подобные институты были законсервированы на длительный срок коммунистической идеологией, поскольку любые попытки сколько-нибудь заметного их изменения квалифицировались как «разрушение основ социализма» и сопровождались неизбежной уголовно-правовой оценкой. Достаточно в этой связи отметить ситуацию с хозяйственной инициативой, которая плохо вписывалась в советскую систему нравственных координат. Но поскольку тем не менее ни одна хозяйственная система не может обходиться без инициативы, большая ее часть столь же неизбежно приходила в столкновение с существующими нормами и формировала обширный сектор теневой экономики.
Современные российские институты пришли в движение. Но это движение не породило адекватного всплеска общественной активности. Более того, в некоторых своих моментах это движение больше походит на разрушение, а в других же оно находит выход в полу- или откровенно криминальной активности.
До сего времени бывший советский человек (так называемый «совок») так и не получил для себя адекватных форм человеческого общежития. Ему суждено снова вписываться в «схемы», требующие от него проявления новых качеств, кото
245
рые у большинства людей до сих пор не сформированы.Особо выделим постановку А. де Токвилем проблемы на
емного труда. Анализируя в то время современную ему американскую промышленную систему, автор имел довольно мало наблюдений, для того чтобы правильно оценить увиденное. С одной стороны, наемный труд есть неотъемлемый элемент американской демократии, хотя в силу тех социально-экономических условий он пока не получил заметного развития. Но с другой стороны, данный элемент внес существенное противоречие в демократическую систему, разрушая равенство условий существования («эти бедняки почти не имеют возможностей изменить свое положение и стать богатыми»7), превращая человека-работника в крайне одностороннее и зависимое существо, которое «ничего не ожидает от предпринимателя, кроме заработной платы»8.
Для современного общества наемный труд — судьба подавляющей части населения страны (до 90 %). Отчасти его притязания на материальное благосостояние могут быть удовлетворены при существующих общественных формах. Но невозможно посчитать все попытки, предпринимаемые для поиска путей хотя бы частичного изменения положения наемного труда с помощью различных форм «участия в прибыли», «демократизации управления», «кружков качества», отказа от конвейерной системы организации труда и т.д.
В советской общественной системе действительный статус работника как наемного никогда не признавался в полной мере и всячески замазывался официальной идеологией в средствах массовой информации, твердивших о рабочем как «хозяине предприятия, общественного производства, страны». Однако и в рамках этой системы предпринимались заметные усилия по развитию «рабочего самоуправления». Кроме того, некоторые «завоевания трудящихся», например гарантированность работы и заработка, находились в существенном противоречии с социально-экономической природой экономической системы трудового найма.
Некоторые представители части российской общественности весьма ощутимо в своем сознании продвинулись по пути полного и окончательного признания господства формы наемного труда в сфере производства и соответствующего оформле
246
ния этого на законодательном уровне. Они стремятся отбросить при этом все сопровождавшие эту форму советские «излишества» (вроде «участия трудящихся в управлении» и т. п.). Подобного рода тенденция означает для подавляющей части населения еще большее сужение источников социально-экономической активности и противостоит общемировой тенденции в этой области.
Заметное и впечатляющее место в книге А. де Токвиля занимает описание роли ассоциаций в общественной жизни американцев. «Американцы самых различных возрастов, положений и склонностей, — пишет этот автор, — беспрестанно объединяются в различные союзы»9. И достигли «наивысшего искусства» сообща эффективно «справляться со всей массой бесконечных мелких дел»10.
Поразительный для российского человека факт, с трудом согласующийся со стереотипами, утвердившимися в его сознании, вроде «американец — индивидуалист», «россиянин — коллективист». Однако последний в обычной жизни в гораздо большей степени, чем первый, проявляет индивидуализм и анархизм, демонстрируя сплошь и рядом полную неспособность к участию в совместном труде, наладить который удается лишь с помощью властных механизмов.
Видимо, каждому человеку в России еще предстоит пройти длительный путь в деле формирования стремления к свободному и самостоятельному объединению с другими субъектами в малых и больших общностях, что составляет первооснову общественной жизни.
Отсутствие этой системы систематически восполнялось в советской жизни гипертрофией объединяющей роли государства и его институтов. Поэтому свертывание государственной активности может происходить лишь в меру развития частной инициативы и не должно приводить к разрушению сложившихся элементов общества.
На основании сказанного можно сделать некоторые краткие выводы, заключающиеся, на наш взгляд, в следующих положениях: а) всеобщая форма демократии состоит в таком способе построения общественных институтов, который позволяет подавляющему большинству индивидов свободно проявлять и развивать свои способности; б) несмотря на наличие всеоб
247
щего принципа демократии, построение ее конкретных форм не терпит шаблона; в силу этого национальные формы демократий не могут не иметь специфических элементов; в) чтобы не допустить деградации новой российской общественности, необходимо в длительной перспективе находить пути сочетания уже наличествующих здесь элементов рыночной демократии и традиционно-советского демократизма, включая основные элементы так называемых «завоеваний трудящихся» и государственный просвещенный патернализм.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1994. С. 27.2. Там же. С. 32.3. Там же. С. 394.4. Там же. С. 390.5. Там же. С. 376.6. Там же. С. 377.7. Там же. С. 408.8. Там же.9. Там же. С. 378.10. Там же. С. 379.
М.П. Бузский
АМЕРИКАНСКИЙ ПРАГМАТИЗМ И ЕГО СМЫСЛ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Возникшая после 1991 года ориентация нашей страны на ценности и достижения Запада, ее стремление осваивать передовой опыт более развитых стран позволяют уже подвести некоторые предварительные итоги. Прежде всего открывается бесперспективность непосредственного переноса западного опыта на российскую почву: такой опыт не усваивается обществом непосредственно. Требуется более глубокое исследование того, что же действительно может воспринять Россия, какая его
248
«часть» может стать внутренним пространством России, а какая должна быть отброшена как принципиально неприемлемая. Для того чтобы наши реформы дали положительные результаты, требуются интенсивные и «опережающие» исследования, способные выделить нужные для России фрагменты западного опыта. Для обществоведов это означает разработку соответствующих методов «трансплантации» зарубежной культуры и цивилизации в российскую среду — социум, культуру, менталитет, механизмы трансляции прошлого в настоящее.
С этих позиций весьма интересным является осмысление потенциала такого сугубо американского мировоззренческого и этического регулятора повседневной жизни и поведения индивидов, как прагматизм. В советский период он был воспринят достаточно негативно в философской, педагогической, социологической среде. В соответствующих публикациях отмечалась недопустимость отождествления истины с успехом, субъективность опоры лишь на внутренний опыт личности, узость «ситуационной» основы мышления, возникающего как стремление решить возникшее затруднение в действиях индивида; давалась негативная оценка того, что данные общественные идеи (да и само устройство общества) зависят лишь от того, что люди верят в эти идеи и эти связи. Весь пафос критики сводился к тому, что субъективные условия жизнедеятельности индивида и общества не могут быть основой функционирования общества, ибо они сами лишь отражение тех объективных законов, в соответствии с которыми и действуют, мыслят люди данной эпохи. С позиций исторического материализма субъективность человека, его мышление всегда вторичны, производны от более фундаментальных, объективных общественных структур, законов, отношений. Поэтому и выделение зависимости объективных параметров общества от субъективных верований и т.п. — полный абсурд. Таким был пафос и контекст критики прагматизма.
Однако дело обстоит не так просто. Прежде всего, сам марксизм признает, что потребности общества выходят за рамки данной, современной или текущей (наличной) действительности. «Потребность полагает производство идеально», — подчеркивал Маркс в одной из своих работ, говоря об анализе экономического прогресса. Но раз так, то потребности как потенциальное состояние общества детерминируют его наличное положе
249
ние, выступают способом отрицания данной действительности. Во-вторых, наиболее фундаментальные, интегрированные в единство потребности осознаются как классовые, общественные интересы, превращаясь в движущую силу общественного развития. Следовательно, субъективный фактор играет огромную роль в общественной жизни, поскольку именно через него люди могут относиться к внешней необходимости, постигать ее, выбирать те направления, которые наиболее благоприятствуют осуществлению тех или иных социальных интересов.
Почему же признание реальности субъективного фактора в марксизме не способствует признанию правомерности идей и принципов прагматизма? Почему до сих пор эта идеология не исследуется с точки зрения позитивности ее потенциала? Сейчас публикуется множество учебников по менеджменту, написанных зарубежными авторами, в которых содержится идея, заявляющая о том, что именно успех (его прогнозирование, установка на его достижимость, вера в него и т.п.) определяет целесообразность тех или иных действий руководства и коллектива данной фирмы, предприятия и т.д. Но ведь это и есть идеология прагматизма, которая неявно принимается за основу! Почему же этот контекст не подвергается анализу? Ведь понятие «успех» — очевидная движущая ось любого предпринимательства. Если вера в успех, возникающая до всякого результата, уже отождествляется с самим успехом, то почему эти же идеи, выраженные и систематизированные в прагматизме, не привлекают внимания наших обществоведов, да и самих практиков-менеджеров?
Причина здесь в том, что западный опыт рынка, как и его товары, переносится в Россию в готовой «упаковке» и предназначен лишь для потребления, но не для критического осмысления. Здесь абсолютизируется этот опыт и его контекст (идеология) сами по себе, предотвращая даже возможность во всем этом осознанно разобраться. Но с каких позиций? Что же положить в основу такого осмысления? Вот в этом и существует сейчас проблема.
В России сейчас нет собственной идеологии, в соответствии с которой может быть четко определена цель и ориентиры существования индивида, идеологии, которая была бы воспринята всем обществом как выражение интересов большинства предста
250
вителей социальных слоев и групп в российском обществе, включая представителей различных этносов, классов, наций, религиозных конфессий и т. д. А отсюда — и отсутствие какой-либо корректировки по отношению к западным технологиям организации общественной жизни. На практике это означает ли т ь то, что такой опыт не принимается обществом в целом, выступая ли т ь парадигмой узкого слоя преуспевающих «новых русских». Тем не менее значение западного опыта гораздо глубже, чем его простое прикладное использование как ноу-хау.
Существует ли сейчас в нашем обществе позиция или потребность более глобального усвоения «духа» прагматизма? Бесспорно, да. Но ее необходимо четко определить. На мой взгляд, это потребность в развитии институтов гражданского общества, на основе которых в России станет интенсивно развиваться и самоуправление, начнут разрешаться накопившиеся проблемы федерализма, демократизм и правовая культура станут воздействовать на жизнь наших сограждан в гораздо большей мере, способствуя более быстрому выходу России из состояния неопределенности и кризиса.
Но причем здесь гражданское общество? Какое отношение оно имеет к прагматизму? Самое непосредственное. Берусь утверждать (хотя это может вызвать возражения), что прагматизм как раз наиболее адекватно выразил идеологию, формирующееся самосознание гражданского общества. Если выйти за рамки такой распространенной у нас трактовки прагматизма, как утилитаризм и «голая» полезность, и т. п., то открывается основная, полезная для нас, цель прагматизма: ориентировать индивидов на самих себя, опираясь только на собственные силы, знания, умение преодолевать экстремальные ситуации, верить в личный успех.
В трудах У. Джеймса, Д. Дьюи, Г. Мида и других нет указаний на то, что личность должна замыкаться в себе. Наоборот, всячески подчеркивается реальность того мира, который создается благодаря универсальности внутреннего опыта личности. Сходная ориентация индивидов, инвариантность содержания их собственного личного опыта и создают те общественные связи, в которых максимально высвобождена свобода индивидов, а реальность непосредственно проецируется и создается как совокупность их сходных переживаний, установок и верований.
251
Прагматизм исследовал это сходство, анализируя феномен сомнения, который характерен для любого индивида в его жизнедеятельности. И те механизмы (психологические и, меньше, социальные), благодаря которым это сомнение разрешается, сменяются уверенностью как внутренней готовностью человека действовать. Сомнение — это ответ на новое, неожиданно возникающее в обществе (окружающей индивида среде, ситуации), это субъективная регистрация, оценка этого нового. Следовательно, сомнение — это восприятие реальности без соответствующей «технологии» ее освоения. Сомнение — это осознание и переживание того, что в данной ситуации имеется то, что может создать угрозу индивиду, его целям. Это очень близко подходит к модели стратегического менеджмента, постоянно встраивающего такое «сомнение» (т. е. критическую оценку вероятности успеха, степени риска в достижении цели и т. п.) в набор управленческих процедур. Для прагматизма сомнение — постоянно присутствующий компонент внутреннего опыта индивида, поскольку он должен жить в постоянно меняющейся среде и адаптироваться к ней.
Еще один компонент социальной связи, возникающей через сходство внутреннего опыта индивидов, — трактовка значений (ситуаций, вещей, знаков, жестов, ролей и т. д.) как способа социального общения, социальной коммуникации между людьми. Г. Мид специально подчеркивает, что «значение не есть нечто субъективное, и местонахождение его не следует искать в психике индивида. Значение принадлежит социальному процессу»1. Структуру значения Г. Мид связывает с жестом, его символическим выражением (т. е. его смыслом) и ответной реакцией других индивидов, которая тоже узнается тем, кто первый что-то выразил жестом. Так, в результате возникают социальные роли, в форме которых происходит взаимодействие между индивидами, группами, и тем самым образуется устойчивость общества. «Хотя первоначально значение жеста связано с некоторой конкретной реакцией конкретного индивида, оно, будучи социальным по своей природе, обнаруживает тенденцию к универсализации». Это предполагает сферу, «внутри которой эти жесты или символы обладают тем же самым или общим значением для всех членов данной группы, обращаются ли они с этими символами к другим индивидам
252
или реагируют на них как те, к кому символы адресованы другими индивидами», как подчеркивает Мид2.
В этой коммуникативной среде возникает и само «Я« личности, оно — результат первичности для индивидов такой среды.
Применяемый Мидом поведенческий, бихевиористский подход к объяснению индивида и общества, оснований социума, конечно, не может быть исчерпывающим. Однако именно этот подход наиболее глубоко осваивает теория управления, менеджмент, выявляя на этой основе современные черты рыночной экономики, закономерности предпринимательства. И если именно это — т .е. целостность, универсальность рыночной среды — понимать как саморегулирование экономической среды гражданского общества, формирующего независимых экономических субъектов и плюрализм собственности как сферы, пространства и возможностей действий таких субъектов, то можно видеть действительную близость прагматизма к такой среде и к такому обществу.
Но прагматизм не анализирует сущность экономических процессов. Он дает ли т ь характеристики человека, индивида, наиболее соответствующие таким экономическим процессам, и отмечает, что эти субъективные характеристики являются первичными для понимания и самого общества. Оно, как сложная система, не имеет чего-либо, что бы ни проходило через структуры личности, было бы для личности «непрозрачным», внешним. Именно поэтому личность, полностью включенная в это общество, способна реализовать здесь свои интересы и стремления. Здесь человек свободен именно потому, что выступает основанием для формирования социальной среды, которая потому и саморегулируется, а не управляется извне государством. Марксистские критики прагматизма и, в частности, концепций Г. Мида отмечают в качестве значительного недостатка то, что в своем объяснении устойчивости общества, его характеристик он не использует примеры из производственной сферы. Так, они утверждают: «Г. Мид говорит о самых различных формах совместных социальных актов, в которых участвует индивид и формируется его сознание и самосознание: семейные отношения, драка, игра, поиски пищи и т. д. Единственный тип деятельности, который как бы не существует для него и не принимается им во внимание, — это произ
253
водственная деятельность людей, которая в действительности составляет основу их совместной жизни и основу возникновения языка и сознания»3.
Г. Мид не пытается проследить историю генезиса человечества через производство и общение. Он лишь дает картину конкретного общества — современного западного общества, в котором субъективность существует как основа деятельности и понимания, основа социальных связей, значений вещей и типов поведения людей. Субъективность — это уровень развития личной свободы, признания такой свободы основанием «горизонта» возможностей индивидов, выступающих на этом фундаменте значений.
Прагматизм — это не утилитаризм или субъективный идеализм. Это — философское, идеологическое осмысление субъектного «устройства» гражданского общества и тех типов поведения, оценок вещей и людей, которые в нем возникают — именно на основе самоорганизации такого общества, его относительной независимости от государства. Гражданское общество — это обыденность поведения и общения людей, повседневность, в которой есть свои правила игры, свои пределы и допущения. Именно такая сфера в наибольшей мере формирует индивидуализм как максимальное саморегулирование индивида. В США, где существует свой тип личности, где развит именно индивидуализм, его основанием является философия прагматизма. Как отмечает М. Лернер, «этот новый человек отличается подвижным, беспокойным характером... Он всей душой принадлежит к здешнему миру, питая мало интереса к потусторонней жизни, очень остро чувствует время и знает ему цену. Его честолюбие нацелено отнюдь не на духовные ценности. Привыкнув мыслить категориями реальных и достижимых, он исполнен оптимизма, веры в прогресс, уважения к техническому мастерству и материальному преуспеванию... След, оставленный в искусстве и в развитии человеческой мысли, имеет точно такой же характер. Верит он лишь в то, что можно пощупать, схватить, измерить. Это человек техники, которого занимает вопрос “как?” и совершенно не волнуют проблемы цели и блага. Он далек от аскетизма, ценит комфорт и свято верит, что жизненный уровень — это самое важное, а может быть, даже и смысл всей жизни»4.
254
Но является ли эта личность, типичная для США, образцом типа личности как субъекта гражданского общества вообще? Может ли формирующееся гражданское общество давать другие ориентиры личности и может ли философией гражданского общества, его идеологией быть не только прагматизм, но и какая-то другая философия? Конечно, да. Американская модель не исчерпывает других, более «национальных» вариантов гражданского общества. Она лишь частично подходит к условиям России. Но что же тогда нам дает в этом отношении прагматизм? На мой взгляд, несколько возможностей: во-первых, он позволяет освоить и пережить коллективную субъективность как основание общественных отношений и смыслов. А это значит, что от глубины, качества такой субъективности зависит и состояние общества. Во-вторых, он доказывает, что активность личности не должна зависеть от общественного спроса или «одобрения». Каждый человек имеет право и обязан быть активным именно потому, что это — важнейшее условие нормального состояния общества. В-третьих, в обществе не должно быть ничего такого, что бы не предполагало личный интерес и личные возможности. Уже отсюда следует максимальная полнота информации для каждого, реальное равноправие различных форм собственности, развитая правовая культура каждого индивида. Наконец, именно демократические формы принятия решений будут обеспечивать и личную ответственность за их исполнение.
Таким образом, идеология и философия прагматизма должны восприниматься как концепция социальной «приоритетности» общества, такой приоритетности, в которой именно субъективные верования, надежды, оценки и установки могут быть регуляторами практической деятельности. Лишь через внедрение этого зарубежного опыта с учетом наших традиций, культурных и других стереотипов возможно зарождение реальных, а не формальных предпосылок как гражданского общества, так и его проявлений — самоуправления, самостоятельности и взаимодействия регионов, а также формирование внутреннего национального и регионального рынка, общероссийской и региональной культур. Но такая «имплантация» прагматических ориентиров должна быть тщательно подготовлена с точки зрения философской методологии, анализа современной ситуации, перспектив России, ее
255
возможных духовных ориентиров и других факторов освоения современного передового зарубежного опыта.
Таким образом, потенциал прагматизма — это рост активности индивидов, на основе которого и будет происходить освоение азов образа жизни, требований и регуляторов формирующегося гражданского общества — важнейшего гаранта дальнейшего укрепления и развития демократизма в России.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Современная буржуазная философия. М., 1978.2. Mead G.H. Mind, Self and Society. Chicago, 1963. P. 89.3. Современная буржуазная философия. М., 1978. С. 70.4. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. М., 1992.
Т. 1. С. 82.
И.Е. Казанин
РОССИЯ И США: ПЕРСПЕКТИВЫ КОНФРОНТАЦИИ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Проблемы общественного развития, вызванные к жизни последствиями цивилизационной неоднородности в развитии мирового сообщества, в последнее время все чаще привлекают внимание специалистов различных областей знания: историков, культурологов, философов, политологов, геополитиков. Эти последствия в литературе получили неоднозначную трактовку, и спектр мнений достаточно широко выражен: в масштабе от концепции «диалога культур»1 до теории «столкновения цивилизаций»2. Наибольшее влияние на современные политические события оказывают геополитики. И это не удивительно. В последнее время прикладная геополитика, особенно на Западе, становится, образно выражаясь, »картой и компасом» современной геостратегии. Речь в данном случае не идет об узкопрофессионально-дипломатических просчетах политических ситуаций как последствиях принятия того или иного
256
внешнеполитического решения. Проблема заключается в разработке долгосрочного прогноза развития внешнеполитической ситуации, который должен приниматься во внимание представителями политической элиты ведущих мировых держав. Работа С. Хантингтона представляет именно такое сочинение3.
Не следует, однако, считать, что заданная Хантингтоном «цивилизационная парадигма» является чем-то новым. К ней, на наш взгляд, как нельзя более подходит русская пословица о том, что «новое — это хорошо забытое старое». Геополитика, еще до появления ее первых классических концепций в виде работ Альфреда Мэхена, Хэлфорда Макиндера, Рудольфа Чел- лена, Карла Хаусхофера4, была в значительной степени осмыслена русским ученым Н.Я. Данилевским в своей работе «Россия и Европа»5. Именно размышления Н.Я. Данилевского положили начало анализу идей конкуренции в сфере мирового цивилизационного пространства культурно-исторических типов (так называемых «локальных цивилизаций»), способствовали появлению интереса к поиску причин возникновения в недрах отдельных цивилизаций дополнительных источников собственного развития и противостояния конкурирующим цивилизациям, а также реализации национально-государственных интересов в ци- вилизационно неоднородном пространстве. Аналогичная проблематика находится в центре внимания и современных ученых.
Наиболее крупной вехой последнего времени в обозначенной сфере исследовательской проблематики стало появление статьи С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций»6. Полемика, которую вызвала эта работа в отечественной и зарубежной науке, не прекращается. Это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что потенциал заявленной темы, как в работах самого Хантингтона, так и его оппонентов7, далеко еще не исчерпан, а сама проблема имеет исключительную актуальность как в собственно научном, так и в своем прикладном использовании». На анализе затронутых С. Хантингтоном проблем и тех задачах, которые предстоит решать России в случае развития событий по предложенному американским исследователем сценарию, хотелось бы остановиться подробнее.
На наш взгляд, США, как в прошлом, так и в настоящем, в своей политической культуре ориентируются на образцы политического поведения, столь характерные для ис
257
тории Римской империи. История Запада и его признанного лидера США — это история борьбы за жизненное пространство в его различных формах, история уничтожения цивилизаций, история ликвидации всего, что так или иначе не поддается «переделке по заданному образцу». Если Западу удавалось добиться своей цели, он имел мощный дополнительный импульс для своего развития, получая в виде «удобрения» этнический материал, новые территории, сырьевые ресурсы. Кроме всего прочего, он также укреплял свой менталитет «гегемона» в мировом сообществе цивилизаций.
Однако в последнее время прежние классические формы подчинения народов стали малоэффективными. События во Вьетнаме особенно ярко это доказали. Тем не менее классический римский императив «divide et impera» по-прежнему остается главным приемом американской внешней политики. Международные события последнего десятилетия в СССР, а ныне в России, странах СНГ, в Югославии, на Ближнем Востоке — все это не случайные явления. Это долговременная стратегия принципа «разделяй и властвуй», который США и в настоящее время успешно используют в различных регионах мира.
Естественно, что наибольшее сопротивление эта политика встречала в странах, которые являлись представителями одной локальной цивилизации. В данном случае потенциал геополитических ресурсов внешней политики США оказывался не всегда действенным для реализации поставленных целей. В связи с этим перед интеллектуальной элитой, формирующей основные направления в геостратегии США, встал вопрос, каким образом повысить влияние Запада в отношении других локальных цивилизаций? Одна из наиболее приемлемых для Запада моделей развития событий была предложена С. Хантингтоном8 , который в своей работе пошел дальше классических представлений и канонов, ранее использовавшихся для ослабления геополитических конкурентов (среди которых в т. ч. были и межнациональные, межконфессиональные, идеологические конфликты и т.д.).
Он предложил стимулировать процессы «столкновения цивилизаций»9, что, естественно, было значительным шагом вперед по сравнению с прежними формами ослабления геополитических конкурентов и усиления американского влияния в раз
258
личных регионах. Более того, С. Хантингтоном была намечена стратегия ослабления геополитических конкурентов не только посредством межцивилизационного столкновения, но и путем их внутреннего разложения, через распространение чужеродных цивилизационных элементов массовой культуры западной цивилизации10. Лишенные в результате такой политики собственного культурно-исторического основания, локальные цивилизации оказываются не в состоянии противостоять разрушительным процессам и становятся удобным объектом иного цивилизационного влияния, утрачивая собственные уникальные цивилизационные признаки.
На наш взгляд, в ближайшие десятилетия геостратегия США в качестве приоритетных форм будет рассматривать именно эти два обозначенных С. Хантингтоном направления: во- первых, будет осуществлено стимулирование процессов, связанных со столкновением цивилизаций, при постоянном присутствии США в роли международного арбитра и, во-вторых, вероятно, будет осуществлено разложение культурно-исторических оснований тех цивилизаций, которые являются геополитическими конкурентами США на международной арене.
В наше время противостояние этой тактике является одной из приоритетных задач российской (да и не только российской) сферы внутренней и внешней политики. В этом вопросе интересы России во многом объективно совпадают с интересами других локальных цивилизаций и национально-государственных образований не только в Европе, Азии, Африке, но и странах Западного полушария, которые также находятся в сфере жизненно важных геополитических интересов США, что далеко не всегда соответствует интересам государств и цивилизаций, являющихся объектами для проявления постоянной заботы и внимания к ним со стороны их северного соседа. Представляется, что в ходе сложившейся ситуации, России, не поступаясь национальными интересами и руководствуясь прагматическим расчетом, следует координировать свои усилия с другими близкими по духу цивилизациями, чтобы не оказаться в положении конфликтующей стороны или сырьевого, технологического придатка и этнического материала для той или иной цивилизации.
Идея многополярного мира, в случае его успешной реали
259
зации, дав России дополнительные источники для упрочения собственных позиций на международной арене, все-таки не снимет потенциальной опасности, сформулированной С. Хантингтоном в его теории «столкновения цивилизаций». В силу этого необходимо искать точки соприкосновения, взаимовыгодного сотрудничества с целью совместного сопротивления вполне вероятной, на наш взгляд, альтернативе развития событий на международной арене, предложенной С. Хантингтоном.
При этом, на наш взгляд, речь не должна идти о создании некой новой конфронтационной линии на месте предложенных С. Хантингтоном так называемых «линий разлома цивилизаций». Цивилизационное многообразие современного мира — уникальная ценность, которой обладает человечество, и унифицировать его по конкретному образцу одной из локальных цивилизаций (пусть даже обладающей для этого в настоящее время необходимыми ресурсами) — преступление перед человечеством, мировой цивилизацией и ее будущим.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Семенникова Л.И. Россия в сообществе мировых цивилизаций. М., 1994; Россия и мир: В 2 ч. / Под ред. проф. А.Л. Данилова. М., 1994.
2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / / Полис. 1994. № 1.
3. Хантингтон С. Указ. соч.4. См. напр.: Сорокин К.Н. Геополитика современности и
геостратегия России. М., 1996. С. 5—9.5. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. Первое
издательство этой книги, по свидетельству известного английского исследователя Дж. Уолдена, относится к концу 1860-х гг. (См.: Указ. соч. С. 556).
6. Хантингтон С. Указ. соч.7. См., напр.: Дискуссия вокруг цивилизационной модели: С.
Хантингтон отвечает оппонентам / / Полис. 1994. № 1; УткинА.И. Россия и Запад: мир общечеловеческих ценностей или планетарной разобщенности? / / США: экономика, политика, идеология. 1997. № 3; Самуйлов С.М. Неизбежное столкновение
260
цивилизаций / / США: экономика, политика, идеология. 1995. № 1, 2.8. Хантингтон С. Указ. соч.9. Там же. С. 47, 48.10. Там же. С. 44, 45.
Т.А. Анисимова, Е.А. Баранская
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ АМЕРИКАНСКОГО КАМПУСА
И УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДАХ РОССИИ
Университетские комплексы как в России, так и в США (где их называют кампусами) должны представлять собой среду с оптимальными условиями для сложных процессов подготовки высокообразованных специалистов в различных областях знаний. На возникновение и дальнейшее развитие высших учебных заведений, университетов в том числе, влияют такие факторы, как потребность науки, производства, культуры, искусства, медицины и прочих сфер человеческой деятельности.
Первые университетские здания появились, как известно, в XII—XIII вв. в европейских странах: Англии (Оксфорд), Италии (Падуя), Франции (Сорбонна). Они представляли собой корпус, включающий большой зал и несколько учебных помещений. В России первый университет был основан в Москве в 1755 г. К тому времени уже существовали такие высшие учебные заведения, как Киево-Могилянская академия, основанная в 1632г., и в Москве Славяно-греко-латинская академия, основанная в 1687 г. В 1757 г. сформировалась Академия художеств в Петербурге. Как правило, эти учебные заведения размещались в одном двух-трехэтажном корпусе, симметричном по планировке и непременно с центральным портиком на главном фасаде1.
Уже в ХХ в. за годы Советской власти в России высшие учебные заведения получили большое развитие. В последние пятьдесят лет вокруг отдельных университетских учебных зданий, если позволяла окружающая территория города, или на свободных городских территориях сформировались крупные уни
261
верситетские комплексы. Одним из первых таких градостроительных решений является огромный комплекс Московского государственного университета на Ленинских горах (группа авторов: Л. Руднев, С. Чернышев, П. Абросимов, А. Хряков, В. Насонов). В его ансамбль входят 27 основных и 10 вспомогательных зданий, сгруппированных в осевую композицию. Высотный объем со шпилем главного здания представляет собой ядро всего ансамбля и служит значительным градостроительным акцентом.
Однако А.Г. Раппапорт и Г.Ю. Сомов отмечают, что осуществление идеи авторов создания «гигантской объемно-пространственной композиции, символизирующей пятиглавие древнерусских соборов и кремлевскую стену [...] не могло отменить необходимости глубокого осмысления факторов организации учебного процесса и жизни студентов»2. Главный корпус МГУ лишь в относительно небольшой части служит учебным целям, остальной же объем — это студенческое общежитие (6000 номеров) и профессорские квартиры. «Навязанная организация жизни, символическая форма привели ко многим неудобствам в учебном процессе, огромному перерасходу площадей и объемов»3.
По проекту В. Бондаренко и Ю. Зимина, комплекс Волгоградского государственного университета должен представлять собой хорошо организованный, благоустроенный ансамбль, раскрывающийся на Волгу, с четко выделяемыми функциональными зонами, где жилая зона, размещаемая возле 2-й Продольной улицы, формируется четырьмя многоэтажными корпусами общежитий, объединенными общественно-торговым центром со столовой.
Но в силу объективных причин проект был осуществлен частично и огромные необустроенные территории вокруг университета нарушают его масштабность, снижают значимость в архитектурно-планировочной организации города.
На территории США первый колледж (Гарвард) был учрежден легислатурой колонии Массачусетс в 1636 г. и открыт в 1638 г.; следующим был колледж Уильяма и Мэри, основанный в 1693 г. в Вильямсберге; и затем — колледж Йель, открытый в 1701 г. поначалу в Сейбруке, а с 1716 г. обосновавшийся в Нью-Хэйвене и ставший университетом в 1869 г. Если учесть,
262
что в начале своего существования в Йельском университете числилось 15—20 человек, а к 1900-му году — 1200 человек, то становится ясно, что и пространственно такое учреждение было довольно компактным4. Но, например, на плане 1905 г. кампуса университета Корнелл (основан в 1865 г. в Итаке) мы можем насчитать уже около 50-ти зданий и видим, что комплекс университета имеет пространственно-развитую структуру5. Для сравнения — на сегодняшний день в кампусе свыше 100 зданий. К числу крупнейших американских университетских городков можно отнести такие, как Пеннстейт в Стэйтколледже, где кампус включает тоже свыше ста зданий, и университет Огайо в Коламбусе — более двухсот зданий.
Университетские комплексы как в России, так и в США являются крупными урбанистическими образованиями, независимо от того, расположены ли они в «теле» большого города, что более типично для России, или автономно, в природном окружении, что характерно для большинства университетов США.
В зависимости от специфики структуры университета, величины его контингента, природно-климатических условий, места университетского комплекса в системе застройки, особенностей строительной базы города и многих других условий, каждый университетский городок имеет индивидуальный архитектурный облик. Так, выразительный подход к главному зданию МГУ со стороны Москвы-реки в виде системы площадей, аллей, партеров, завершающийся огромным водным зеркалом, в котором отражение высотного здания придает ему еще большую значимость, создает образ столичного университета, первого и самого крупного университета страны. В государственном университете Огайо (г. Коламбус, штат Огайо) отличительной запоминающейся чертой является значительное по размеру озелененное пространство — «молл», называемое «овал», сфокусированное на главное здание библиотеки со статуей Уильяма О. Томпсона на первом плане (скульптор Эрвин Фрей, последующая доработка Томаса Е. Френча и Говарда Д. Смита). Уильям Окслей Томпсон был президентом этого крупнейшего в США университета с 1899 по 1925 гг., и его именем названа также библиотека, возле которой поставлен памятник.
263
Функциональное зонирование университетского комплекса в России и США основывается на общих принципах, в том и другом случаях в качестве основных зон выделяются следующие:1) учебно-научная (учебные корпуса, лаборатории, производственные мастерские, научно-исследовательские подразделения);2) административно-общественная; 3) жилая (чаще выделяют зону студенческих общежитий и зону жилых домов профессорско-преподавательского состава); 4) спортивная; 5) хозяйственная; 6) обслуживающая (медицинские и культурные учреждения и другие объекты, не выделяемые в отдельные зоны).
Небольшие по численности университеты имеют упрощенное зонирование, в крупных университетах зонирование более усложненное, и каждая из перечисленных зон может быть разделена на несколько подзон. Взаиморасположение функциональных зон в каждом университетском комплексе зависит от множества факторов, но можно выделить основные композиционные схемы, такие, как центричная, веерная, линейная и полицентричная. Первые две схемы характерны для небольших и средних по размеру комплексов, две последние — для крупных.
Учебно-научная зона, как правило, располагается в непосредственной близости от главной площади-форума, являясь архитектурным фоном для более выразительных по своим архитектурно-художественным характеристикам зданий администрации, библиотеки или музея. В частных архитектурных решениях факультетские здания сами являются образными акцентами всего университетского комплекса.
Композиционным центром или ядром университета, как правило, является площадь-форум, которую организуют наиболее выразительные по своему архитектурному облику и основные по своей учебной и культурной функции в университетском городке здания и сооружения, а именно: здание ректората и других административных служб, библиотека, музей, театр, здание крупных учебных аудиторий. Следует отметить, что в американском кампусе немаловажное значение придается формированию студенческого центра, который испытывает значительные нагрузки по интенсивности посещения и продолжительности времяпрепровождения студентов в нем. Такой центр, являясь своеобразным фокусом, формирует определенный климат
264
студенческой жизни. И от того, насколько он будет отвечать запросам студентов, зависит многое в их социальной среде.
Учитывая наметившуюся в России тенденцию роста студенческого интереса к более разнообразному и избирательному проведению досуга, целесообразно применение таких уже апробированных в студенческой среде за рубежом сооружений, как кино-, видеобары с местом для танцев, кегельбаны, предприятия занимательного и нетрадиционного питания, площадки для игры в гольф и крикет6.
Функциональная и объемно-планировочная структура, элементы благоустройства и озеленение площади-форума в каждом конкретном случае решаются по-разному и определяются многими объективными и субъективными факторами, главными из которых являются выразительный ландшафт, экономические возможности, высокая проектная культура в целом.
В американском университетском комплексе характерной чертой является размещение в ядре кампуса дома президента университета. В этом есть свой резон. С одной стороны, в силу непосредственной близости вся университетская жизнь протекает на глазах президента. С другой стороны, сам президент, будучи постоянно на виду у студентов и преподавателей, вынужден принимать активное участие в большинстве мероприятий и акций, нередко перенося какие-то встречи и обеды домой, в более непринужденную обстановку.
Так, во время званого обеда накануне Рождества у президента провинциального университета в штате Пенсильвания один из приглашенных иностранных студентов поинтересовался, как часто он принимает у себя гостей. Выяснилось, что за год в доме этого президента обедало более трех тысяч приглашенных. В свою очередь, он непременно присутствовал на всех студенческих конференциях, спортивных соревнованиях, форумах, концертах, выставках и прочих мероприятиях. Конечно, не каждый американский университет может похвалиться столь демократичным президентом, но постоянное пребывание президента в кампусе имеет свое преимущество.
Строительство многих архитектурных объемов, формирующих университетские комплексы России, велось по типовым проектам, поэтому архитекторам и дизайнерам приходилось для
265
создания выразительного архитектурно-художественного облика всего комплекса изыскивать дополнительные возможности и полнее использовать окружающий ландшафт. Так, например, центр новосибирского Академгородка, расположенный на спокойном рельефе, представляет собой протяженное открытое пространство, обустроенное цепочкой свободно стоящих зданий и обогащенное небольшими курдонерами между ними7. Надо сказать, что в целом композиция достаточно проста, не отличается особым изыском, что являлось характерной чертой того времени в проектировании и строительстве данного комплекса.
Внутренняя функциональная и композиционная структура университетского комплекса обусловливает большое значение взаимосвязи двух основных зон: учебных зданий и жилых домов-общежитий студентов. В современной архитектурной практике наблюдаются две тенденции их развития: дифференциация и взаимное проникновение. Наибольшее распространение получило контрастное сопоставление объемно-планировочных решений и архитектурного образа этих двух зон, когда более строгие формы невысоких учебных зданий контрастируют со своеобразной многоэтажной застройкой студенческих общежитий. Такой прием, например, использован в композиции комплекса Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе. В настоящее время в общежитиях проживает около 50% всех студентов России, поэтому проблема проектирования данной формы жилья является весьма актуальной.
В нашей стране применение нормативов при проектировании студенческих общежитий позволяет обеспечить современный уровень комфорта во всех зданиях этого типа. Однако норма жилой площади на одного студента, как правило, минимальная. Комната на двух студентов имеет площадь 9—11 кв. метров, на трех — 14—16 кв. метров. Не так велика она и в американских университетах. Например, в общежитии Стэн- фордского университета даже дочери американского президента Билла Клинтона Челси предоставлена скромная по метражу комната — 1,8 м х 5 м8. Если в США строгих нормативов площади и санитарно-технического оборудования для строительства студенческого жилья нет, то особенностью многих крупных общежитий является разнообразие планировочных реше
266
ний и уровня комфорта застройки. Как в России, так и в США наиболее распространенными приемами застройки является объединение общежитий в жилые группы или размещение их изолированно друг от друга, однако система обслуживания студентов в России заметно уступает американской.
В отличие от нашей действительности, в проектной культуре США такие естественно возникающие задачи, как организация жилья для семейных студентов, решаются гораздо проще. Комплексы специализированных общежитий, спроектированные в 1961 г. для Йельского университета (архитектор Пол Рудольф) и в 1964 г. для Гарвардского университета (архитекторы Серт, Джексон и Гэрли), послужили примером для многих подобных решений9. Кроме общежитий, являющихся собственностью университета, где предусматриваются такие жилые ячейки или даже отдельные корпуса, существует своеобразная форма жилья как для одиноких, так и для семейных студентов, арендуемого или принадлежащего студенческим общественным организациям, основанным на принципе самоуправления («Fraternity»). В крупных университетах таких организаций может быть множество. Например, в Корнелльс- ком университете дома различных «Fraternity» формируют целые жилые группы, значительные по своим размерам. В университете Огайо специальный отдел занимается вопросами аренды домов в университетском городке, предлагая самые различные по составу, степени комфортности и в целом по своей архитектуре дома или комнаты в этих домах. Стоимость домика, в составе которого жилая комната, одна небольшая спальня, кухня и санитарный узел, колеблется от 315 до 379 долларов в месяц. Аренда дома с тремя спальнями стоит примерно 560 долларов в месяц. На стоимость аренды влияют такие условия, как услуги прачечной, наличие плавательного бассейна, террасы, места для парковки машин, индивидуально контролируемое теплоснабжение и кондиционирование. Достаточно подробную информацию о предлагаемых условиях не только в этом университете, но и во многих других можно получить без особого труда через Интернет.
Подводя определенный итог и указывая на то, что авторы не претендуют осуществить в этой небольшой статье анализ проектных решений университетских комплексов, а всего лишь
267
пытаются выявить некоторые общие и различные черты в проектной культуре и практике обеих стран, следует отметить, что показателем качества проектирования, строительства и эксплуатации университетских комплексов как в России, так и в США можно считать целесообразную организацию учебного и научно-исследовательского процесса, формирование благоприятного социального климата в студенческо-преподавательской среде, комфорт проживания, а также архитектурно-художественное единство ансамбля. В силу стремительно меняющихся научно-технических, социально-экономических, культурнобытовых и прочих условий жизнедеятельности человеческого общества реконструкция существующих и формирование новых университетских комплексов с учетом прогрессивного отечественного и зарубежного опыта и современных тенденций развития будет всегда являться актуальным вопросом.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений. М., 1985.
2. Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре: проблемы теории и методологии. М. : Стройиздат, 1990. С. 35.
3. Там же.4. Словарь американской истории с колониальных времен до
первой мировой войны. СПб., 1997.5. The СепШгу at Cornell. Ithaca. N. Y. , 1980.6. Комплекс общежитий для студенческой молодежи / /
Обзорная информация. М., 1984. № 11.7. Иконников А.В. Архитектура города. Эстетические
проблемы композиции. М., 1972.8. Чижиков М. В университете Челси Клинтон придется
жить по-спартански / / Комсомольская правда. 1997. 12 сент.9. Архитектура США: Каталог выставки. М., 1974.
268
В.В. Носков
АМЕРИКАНСКАЯ «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА» В СОЦИОЛОГИИ И РУССКАЯ
«ЭТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
Изучение истории становления национальных социологических школ в США и России позволяет обнаружить немало совпадающих черт и сходных явлений. Поразительный характер носят даже чисто хронологические совпадения. Основатель американской социологии Л.Ф. Уорд приступил к написанию своей «Динамической социологии» в 1869 году. В этом же году русский философ В.В. Лесевич опубликовал статью «Философия истории на научной почве», с которой начинается библиография русской литературы по социологии. Опубликована же «Динамическая социология» была в один год (1883) с «Основными вопросами философии истории» Н.И. Кареева, который после ознакомления с работой американского коллеги заметил, что многие аргументы этой книги могли бы подкрепить аналогичные доводы «Основных вопросов».
Вынесенные в заглавие определения во многом носят условный характер. Ни Уорд, ни его младший современник Ф.Г. Гиддингс не были чистыми «психологистами» в социологии, придерживаясь скорее концепции многофакторного объяснения общественных явлений. Ни оба вместе, ни каждый по отдельности Уорд и Гиддингс не образуют никаких школ, оставаясь абсолютно автономными величинами в мире теоретической социологии. Каждый из них выступил с достаточно самостоятельной концепцией, имевшей характер философско-исторической доктрины, что отражало общее для последних десятилетий XIX века стремление зарождавшейся социологической науки взять на себя решение тех задач, которые поставила перед мировым обществоведением традиционная философия истории. Эта тенденция была характерна и для ранней русской социологии. Тем не менее Уорд завоевал популярность прежде всего в качестве автора «Психологических факторов цивилизации»; Гиддингс, хотя и с оговорками, зачастую рассматривался как его продолжатель, поэтому в историю мировой социо
269
логии оба ведущих представителя первого поколения американских социологов вошли как выразители психологического направления.
Еще сложнее обстоит дело с характеристикой ранней национальной школы в отечественной социологии. Основатели ее, П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский, зарекомендовали себя приверженцами так называемого «субъективного метода», благодаря чему исповедуемые ими доктрины получили обобщающее название «субъективная социология». Против этого определения решительно выступил третий крупный представитель ранней русской социологии С.Н. Южаков, предложивший название «этико-социологическая школа», поскольку ни одно другое направление в мировой социологии не придавало, как он указывал, такого значения нравственному элементу в общественном процессе, а нравственной доктрине — в общественной науке. К числу представителей этого направления он относил Лесевича, Михайловского и Кареева. Это определение подхватил В.М. Чернов, однако наряду с ним он использовал формулировку «активно-динамическая школа» (что можно объяснить прямым влиянием Уорда), считая ее основоположником А.И. Герцена.
В социологической литературе использовались также такие определения, как «русские субъективисты», «русская социологическая школа», применяющая субъективный метод, «русская субъективная школа в социологии» и даже «этический субъективизм». За каждым из них выстраивались несколько различные именные ряды, но для всех вариантов объединяющей была фигура Михайловского, который, по выражению Кареева, создавал «чисто гуманитарную социологию». Кареев, выступивший не только одним из основоположников национальной социологии, но и ее историком, принял поначалу термин «русская субъективная социология», позднее — «русский социологический субъективизм», но в конечном итоге он остановился на понятии «этико-социологическое направление». К нему он относил П.Л. Лаврова, Н.К. Михайловского, С.Н. Южакова, В.М. Чернова, Л.Е. Оболенского и, с серьезными оговорками, самого себя.
Указывая на большие различия и даже разногласия, существовавшие между ними, Кареев как объединяющую всех
270
черту выделял «социологический психологизм русской школы», с которым непосредственно была связана и ее этическая ориентация. Этот условный психологизм явился тем элементом, который давал определенные основания для сближения по целому ряду параметров ранних русской и американской школ. При этом российские аналитики постоянно подчеркивали, что и их русские предшественники, и американские коллеги пришли к сходным результатам совершенно независимо друг от друга, но отдавали хронологический приоритет основоположникам русской социологии. Второй важный совпадающий аспект представляла очевидная философско-историческая направленность исследований как русских, так и американских социологов в те годы, когда еще только происходило становление социологической науки и она не разграничила предметы ведения со спекулятивной философией истории.
Это касалось прежде всего вопроса о роли личности и вообще субъективного фактора в истории. На этом направлении русские и американские социологи в равной степени противостояли марксизму, а в более широком смысле — экономическому или любому другому детерминизму. Автономия и активная роль личности в историческом процессе, несмотря на большое разнообразие подходов и нюансов, была общим символом веры для социологов двух стран. Американцы ушли несколько вперед в разработке проблемы «личность и нация», но их русские коллеги больше преуспели в изучении вопроса «личность и общество». Американцы раньше приступили к исследованию малых групп, рассматривая их как посредника между индивидуумом и «большим» обществом, но и в России вплотную приблизились к пониманию важности этой проблемы в процессе напряженной дискуссии о соотношении классового и общественного сознания.
То большое внимание, которое уделяли в России взглядам Уорда и Гиддингса, а также характер восприятия и использования их идей помогают лучше понять ход развития русской общественной мысли в наиболее критический момент истории страны, когда в ней складывались предпосылки революционного взрыва. Идеи американских социологов широко использовались во внутренней полемике по самым животрепещущим вопросам русской общественной жизни, выходя дале
271
ко за рамки чисто академического спора. Один перечень имен тех российских мыслителей и общественных деятелей, которые тем или иным образом откликнулись на их сочинения, указывает на важность проблемы взаимодействия американской и русской общественной мысли в тот ответственный исторический период. Это В.В. Лесевич и Н.И. Кареев, П.Н. Милюков иВ.М. Чернов, П.Б. Струве и Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и К.М. Тахтарев, М.Н. Ковалевский и П.А. Сорокин.
Один из первых пропагандистов концепции Уорда в России, бывший народоволец П.Ф. Николаев обратил внимание на то, что книга американского социолога особенно интересна «для нас, русских», поскольку, по его мнению, очевидно значительное совпадение взглядов ее автора со взглядами некоторых из наших оригинальных социологов. Уорд, со своей стороны, тоже отмечал, что доктрины, воплощенные в «Динамической социологии», с самого начала приобрели особое очарование для славянского ума. Сходство между воззрениями Уорда и многих русских социологов-субъективистов многократно подчеркивал Кареев. Взгляды Гиддингса тоже, по его мнению, весьма сильно напоминают русскую «субъективную социологию» с ее психологическими и этическими соображениями, с ее интересом к человеческой личности. Милюков особо подчеркивал то «общее идейное влияние», которое Гиддингс и Уорд оказали на его «Очерки по истории русской культуры». Как отметил Бердяев, выступивший противником американской социологической школы, русские субъективисты имели все основания считать Уорда «своим». Примечательно, что в послевеховский период сам Бердяев заговорил таким языком, каким могли бы выразить свои взгляды раскритикованные им американцы. Это касалось прежде всего вопроса о первостепенном значении «личности» и «нации» по сравнению с «интеллигенцией» или «классами». В этих рассуждениях русского мыслителя парадоксальным образом проявилось сходство идей, которые одновременно рождались в столь разных странах, как США и Россия.
Благодаря сходству некоторых взглядов Уорда и Гиддингса с воззрениями русской национальной школы в социологии (и в ряде направлений в русской общественной мысли в более широком смысле) эти точки зрения превратились в заметный фак
272
тор внутренней истории отечественного обществоведения в пору его наивысшего расцвета; они в наибольшей степени соответствовали подходам тех русских мыслителей, которые искали для своей страны варианты бескровного преобразования общества, не желая ввергать Россию в пучину братоубийственного конфликта. В их сочинениях искали, в частности, подтверждение традиционно русской точки зрения, согласно которой нужна была не только истина, но и справедливость. Также американские социологические теории были привлекательны и потому, что они представляли собой противоположность марксизму, альтернативу которому так безуспешно искала передовая русская общественная мысль в канун катастрофы 1917 года.
М.А. Анипкин
КОНЦЕПЦИЯ П.А. СОРОКИНА И АМЕРИКАНСКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
СОЦИОЛОГИЯ
Имя П.А. Сорокина чаще всего связывается с американской социологической мыслью, что, конечно, небезосновательно. Достаточно вспомнить ставшее расхожим утверждение о том, что он является одним из «отцов-основателей» социологии в США. В связи с этим вызывает интерес вопрос, почему же Сорокина там не читают, да и знают достаточно слабо? Оказал ли он вообще какое-либо влияние на американскую философскую и социологическую мысль? Поразмышлять над этим представляется важным, поскольку Питирим Сорокин, будучи представителем русской философской традиции, весьма успешно вошел в критико-аналитический контекст американской социально-философской мысли в конце 1920-х годов, а в конце 1930-х — начале1940-х издал главный труд своей жизни — четырехтомную «Социальную и культурную динамику», популяризированный вариант которой неоднократно переиздавался на разных языках.
Иными словами, русский ученый выступал в роли транслятора идей русской философии на почву американской интеллектуальной традиции. Насколько это было удачно?
273
Следует сразу сказать о том, что существует мнение о принадлежности мировоззрения П.А. Сорокина традициям западной научно-философской школы. Возможно, это объясняется двумя причинами. Во-первых, фундаментальные труды по истории русской философской мысли, на которых воспитано нынешнее поколение русских философов (прежде всего, работы В.В. Зеньковского, Н.О. Лосского, Г. Флоровского), не содержат упоминания о Сорокине вообще.
Во-вторых, основные труды Сорокина по философско-социологической проблематике действительно были написаны в США, но их предмет и содержание от этого не изменились, поскольку сущностно значимые аспекты своего научного творчества были определены ученым именно в России. Представляется ненужным специально обосновывать положение о принадлежности Сорокина к русской социально-философской традиции, поскольку это уже было осуществлено в других работах.
В данном случае творческая деятельность Сорокина интересна как пример некоего «интеллектуального диалога» России с Америкой.
Сразу скажем о том, что наиболее плодотворной, с точки зрения теоретического развития, стала идея «интегрализма» и связанная с ней проблема интегрированных социокультурных типов, а также вытекающее из них представление о роли ценностей, в частности морали, как интегрирующих сил в социокультурном пространстве. В данном случае речь не идет о соро- кинской теории социальной стратификации и мобильности, ставшей уже классической в истории социологии.
Иными словами, структурно-функциональный подход в американской социологии, в частности теория Р. Мертона, развивает тему интеграции социокультурного пространства. Так, например, у него высокая степень интеграции связана с увеличением функциональности культурно-стандартизированных элементов.
У Т. Парсонса получила развитие мысль Сорокина об интегративной функции морали, которую Сорокин рассматривал на примере введения морали в поле власти, увеличивая тем самым функциональность последней. Парсонс развивает в русле системного теоретико-социологического анализа соро- кинское представление о трех структурных составляющих со
274
циокультурной системы: личности, общества и культуры.Изучение творчества Сорокина с очевидностью позволяет
сделать вывод о том, что развитие упомянутых идей в рамках структурно-функционального подхода связано с его именем. Даже А. Тойнби, критиковавший метод П. Сорокина, относил к его безусловной заслуге пристальное внимание к проблеме возможности интегрирования различных социокультурных систем.
Исходя из концепции Сорокина, не бывает социокультурных систем, полностью интегрированных или полностью дезинтегрированных. Можно говорить только о наибольшем уровне интеграции социокультурной системы. Всегда в системе остаются неинтегрированные, разнородные, логически несогласованные социокультурные элементы. Но всегда есть и наиболее интегрированные элементы, несущие в себе наибольший логико-сочетающийся смысл, составляющие целостность, поддерживающие сохранение социокультурной системы, поэтому полностью система разрушиться также не может. Неинтегрированных элементов может быть бесчисленное множество, а интегрированных всегда немного (всего, по мнению Сорокина, существует три базовых типа).
Этот концептуальный подход русского социолога весьма наглядно проявляется в теории взаимодействия морали и власти. В соответствии с ней предполагается необходимость введения морали во властное поле для увеличения функциональности власти. Высокая степень интегрированности социальной системы, без которой современное общество развиваться дальше не может, непосредственно зависит от полифункциональности власти.
Важен тот факт, что большую роль морали в интегрированности социальной системы, как уже было обозначено, в конечном итоге отмечал Т. Парсонс. Это дает нам право еще раз подтвердить определенное влияние со стороны Сорокина, последователем которого Т. Парсонс не был. Как бы то ни было, Парсонс прямо пишет: «Современное общество движется в сторону все большего ассоциационного плюрализма, обеспечиваемого возможностью морального обоснования все более широкого диапазона выборов»1. Таким образом, некоторый моралецентризм, являющийся одной из отличительных черт русской философской традиции, был в какой-то степени внедрен в американскую социологию. В то же время любопытно, что упоминания о Сороки
275
не там, где это было бы вполне естественным, отсутствуют. Так, например, вызывает полное недоумение отсутствие имени Сорокина в недавно изданном у нас учебнике социологии Нейла Смел- зера, особенно в том его разделе, который посвящен проблемам изучения темы социальной мобильности2. Вероятно, здесь можно назвать несколько основных причин:
1. Сорокин так и остался, главным образом, русским мыслителем, по существу, непонятым в Америке, что чрезвычайно ярко высветило принципиальное своеобразие русской философской традиции.
2. Принадлежность к русской философской традиции обусловила и второй важный фактор — специфику научного повествования, изобилующего метафорами, апелляциями, не совсем понятными американской научной публике, что не укладывалось в строго социологические каноны, с одной стороны, но и не было исключительно философским — с другой. (Это побудило толкователей настаивать на расширительном определении термина «философия»3).
Кроме того, проблематика научного творчества Сорокина далеко не всегда понималась как актуальная. Это касается той же идеи интегрированности. На мой взгляд, сама постановка проблемы: как возможны наиболее интегрированные, а значит, устойчивые социально-культурные системы, — беспокоила П.А. Сорокина не случайно (вспомним его «революционную» биографию). Эта проблема наиболее значимо предстает в периоды глубоких структурных изменений в социальной системе и выражается в сознательном или неосознанном поиске устойчивых компонентов, которые могли бы «смягчить» трансформацию системы и сохранить ее логико-значимые характеристики. Именно этот процесс характерен для современной России, называющийся »модернизацией» или «трансформацией». В связи с этим теория П.А. Сорокина представляет актуальность, прежде всего, для «постсоветского» пространства в неизмеримо большей степени, чем для Запада.
3. Другой немаловажной причиной некоторого неприятия его идей было резко негативное, я бы даже сказал, презрительное отношение Сорокина к фрейдизму, к которому в США относятся с большим трепетом4.
4. Следующей основной причиной может быть личная. Здесь
276
следует вспомнить Мертона, который особенно подчеркивал критический стиль П.А. Сорокина. С удовольствием критикуя других, Сорокин относился агрессивно к иным точкам зрения. Будучи оппонентом, вспоминает Мертон, знаменитый ученый «всегда наслаждался, показывая кому-либо его ограниченность»5. П.А. Сорокин любил, чтобы ему оказывали уважение. Он не был очень общительным, иногда позволял себе вспышки гнева. Правда, «...в целом, — заключает Мертон, — он был очень хорошим человеком»6. На мой взгляд, именно конфликтом с Т. Парсонсом может быть объяснено отсутствие имени Сорокина на страницах упоминавшегося учебника по социологии Н. Смелзера, который является последователем идей научной школы Парсонса и соавтором совместно изданных книг. Иными словами, личные мотивы ни в коем случае не следует отбрасывать, даже тогда, когда речь идет о дискуссии в научном сообществе.
И все же, несмотря ни на что, Сорокин является примером очень удачного вхождения в традицию американской социально-философской мысли. Некоторые его идеи вошли в критико-аналитический контекст последней. Именно поэтому переводить на русский язык сорокинские термины, генетически связанные с русской философией, следует очень осторожно. Это, например, относится к самому термину «интегрализм». Понятно, что возникает соблазн назвать его по-русски «всеединством». По существу это правильно, но «интегрализм» — это именно введенная в контекст американской социологии идея «всеединства» со специфическими связями и отношениями сложившегося научного аппарата другой культурной среды.
То же самое относится к переводу термина «идеациональ- ный». Есть вариант перевода его как «умозрительный», но он, на мой взгляд, не отражает изначального смысла английского слова «Ideational»7. «Умозрительный» же носит в русском языке несколько уничижительно-спекулятивный оттенок.
Рассмотренные здесь отдельные аспекты своеобразного интеллектуального диалога наводят на более общие размышления. Насколько плодотворен подобный диалог вообще и в современной ситуации в частности? Возможен ли он сегодня в принципе, а если да, то каковы его границы? Пример Сорокина, считающийся весьма удачным, представляется довольно красноречивым, иллюстрирующим громадную сложность про
277
ецирования категорий одной культурно-интеллектуальной традиции на другую.
Эта проблема актуальна для современной научной ситуации в России, когда, например, в гуманитарной среде возникает вполне понятный соблазн объяснить отечественные социокультурные явления с помощью заимствованных извне категорий, некоторые из них уже сейчас проявили свою несостоятельность.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Реф. ст.: Парсонс Т. Некоторые проблемы общей теории в социологии / / Современная западная теоретическая социология: Т. Парсонс (1902-1979). М., 1994. С. 96.
2. См.: Смелзер Н. Социология. М., 1994.3. См.: Ford B. J. Sorokin as а Philosopher / / Pitirim Sorokin in
Review. Durham (N.C.), 1963. P. 39—66.4. См.: Sorokin P., Lunden W. A. Power and Morality. Boston,
1959. P. 127—128.5. Мертон Р. Фрагменты из воспоминаний/ / Социологические
исследования. 1992. N 10. С. 130.6. Там же. С. 132.7. См. философское значение: 1) относяйщийся к образованию
понятий; 2) относящийся к представлению о предметах, непосредственно не воспринимаемых чувствами.
Бернард Колоски
ТВОРЧЕСТВО КЭЙТ ЧОПИН КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Сто лет назад в США существовала группа писателей, многие из которых прекрасно знали или просто имели представление о творчестве И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. Наиболее авторитетным в их среде был Уильям Дин Хо- уэллс (William Dean Howells)1, редактор двух самых влиятельных литературных изданий своего времени — «The Atlantic
278
Monthly» и «The Harper’s Monthly». Он восхищался мастерством Достоевского, Толстого, называя их «великими художниками». Хоуэллс настоятельно советовал своим соотечественникам читать произведения этих русских писателей. Параллельно с этим он предостерегал своих молодых коллег от соблазна подражать тому особому стилю трагического мировосприятия действительности, столь характерному для творчества русских писателей- реалистов конца XIX века.
С творчеством Достоевского, Толстого этих американских прозаиков роднит их общее стремление правдиво отражать окружающую их картину человеческого бытия. Кроме того, вместе с Хоуэллсом данные американские писатели разделяли то, что он сам наиболее ценил в творчестве Ф.М. Достоевского — «терпение, милосердие, справедливость, покорное смирение и осознание личностью своей ответственности перед другими». Наиболее известными в их числе были Марк Твен и Генри Джеймс. Дин Хоуэллс не скрывал своего восхищения их талантом и по мере собственных сил и возможностей поддерживал Твена и Джеймса.
Анализируя особенности развития американской литературы конца XIX — начала XX века, следует остановиться на творчестве Кэйт Чопин (Kate Chopin), современнице М. Твена и Г. Джеймса, поскольку ее проза может представлять особую ценность для исследователей, специализирующихся в сфере культурологии и гендерной социологии, где, наряду с другими проблемами, подробно изучается характер социального развития США в 1880-х гг. Кроме того, ее работы могут составить определенную источниковедческую ценность для историков, занимающихся компаративным анализом уровней социальноэкономического и культурного развития России и США начиная с XIX столетия и вплоть до наших дней. Объясняя особое значение творчества Кэйт Чопин для историков, следует заметить, что на страницах своих книг она выявила положительные и отрицательные стороны эпохи Процветания в Америке, проанализировала существовавшие в то время в жизни американского общества конца XIX века возможности и проблемы в сфере этнокультурной дифференциации, описала внутренний мир героя, находящегося в стадии мучительного, но в то же время радостного поиска путей к личностной самореализации.
279
Обращаясь к творчеству Чопин, следует заметить, что ее имя малоизвестно за пределами США. Ее творческий путь был недолгим. Она получила признание у критиков после выхода в свет в 1894 году своей первой книги «Bayou2 Folk» («Народ болот»). Далее на протяжении 1890-х годов ее рассказы публиковались в самых популярных американских журналах того времени— «The Vogue», «The Atlantic Monthly», «The Century», «The Harper’s Young People», «The Youth Companion» и многих других изданиях. Напечатанный в 1897 году сборник рассказов К. Чопин «A Night in Acadie» («Ночь в Акадии») получил в целом высокую оценку, за исключением романа «The Awakening» («Пробуждение»), который снискал самые недоброжелательные отзывы американских литературных критиков. Но, несмотря на это, Кэйт, вплоть до последнего дня своей жизни, продолжала писать. После смерти автора в 1904 году ее творчество в течение более чем пятидесяти лет было забыто, а имя было мало кому известно даже в США. Лишь в 1970-х годах на волне всплеска активности феминистского движения роман «Пробуждение» получил в США высокую оценку как со стороны последователей суфражизма, так и со стороны литературных критиков. Более того, он был назван значительным явлением в истории современной американской литературы. Кэйт Чопин, по утверждениям феминистов, в XIX веке была, по существу, тем писателем, в творчестве которого были затронуты весьма насущные проблемы, не потерявшие до сих пор для американских женщин своей остроты и актуальности. Это может служить объяснением причин того необычайного интереса к творчеству Чопин в последние 25 лет в США. Некоторые из ее произведений, в т. ч. и «Пробуждение», вошли в антологию американской классики, предназначенную для изучения в качестве учебного пособия для всех американских университетов и ряда средних школ. Кроме этого, в настоящее время данный роман выдержал 10 изданий в мягкой обложке; сейчас в США о Кэйт Чопин написаны сотни статей и опубликованы десятки книг.
Обращаясь к исследованию творчества американской писательницы, следует отметить, что, вопреки преобладавшему в ее произведениях интересу к анализу судеб простых американских женщин, живших в 1890-х годах, К. Чопин ни в коей мере нельзя отнести к числу авторов, фокусирующих свое внимание
280
ли т ь на одной этой проблеме. Писательский талант К. Чопин многогранен по своей сущности. Ее пристальное внимание и анализ существовавшей в XIX веке в США проблемы дискриминации прав женщин лишь одна из граней ее творческого дарования и тонкого восприятия окружающей художника действительности. Подобно другим своим современницам-коллегам по перу, она ясно понимала причины противоречий, имевших место в истории американского феминистского движения, набиравшего силу в конце XIX века: существовавшие, с одной стороны, мотивы стремления к личностной самореализации, а с другой стороны, желание сохранить при этом возможность оставаться женой и матерью ставили американских женщин перед тяжелым нравственным выбором. Многогранность творчества К. Чопин, говорившей и писавшей на двух языках — английском и французском, проявилась и в том, что она, по существу, является наследницей и продолжательницей лучших литературных традиций, существовавших до нее во французской и англоамериканской литературе. Для ее творческого мировосприятия характерна изысканность мысли, утонченность стиля. Это отличает К. Чопин от других американских писателей конца XIX века. На примере анализа судеб своих героев она изобразила сферы бытия индивидов — этнокультурную, социально-экономическую, личностно-психологическую, которые под влиянием феминистских идей сильно трансформировались. В своих рассказах Чопин отождествляет причины появления в Америке феминистского движения с причинами борьбы других социальных групп за свои социальные права. Так же как и женщины, представители этих социально-этнических групп, по мнению Чопин, находятся в подчиненном положении, лишены права собственности и поэтому борются за свои права. В контексте сказанного можно отметить, что стилистику Чопин отличает тематический полифонизм, которого писательница достигает через изображение одного явления сквозь призму другого, отображение острых психологических состояний героя через опыт его социального окружения.
В большинстве ее рассказов Луизиана является тем местом, на своеобразном фоне которого автор изображает своих героев, борющихся за собственное существование. В мировосприятии автора этот южный штат — место, где происходят
281
хаотические изменения и непредвиденные ситуации. В произведениях Чопин Луизиана предстает разоренной окончившейся 25 лет назад Гражданской войной (1861—1865). В ее восприятии Луизиана конца 1890-х годов — территория, где доходы на душу населения резко упали, регион, в котором плантационно-рабовладельческая система хозяйствования пришла в упадок, среда, где по причине усиления социального и межэтнического напряжения повсюду стало распространяться насилие.
Анализируя характер тематической направленности произведений американской писательницы, следует отметить, что значительными проблемами для США конца 1890-х годов, по мнению Чопин, были крайняя нужда, глубокое невежество, неграмотность и царящее повсюду насилие. Хотя в своих романах она не описывает страдания людей, умирающих с голода, но тем не менее некоторые герои произведений Чопин испытывают нужду. Это видно на примере одного из персонажей, который, ничего не имея, был вынужден ценой недоедания, кормить своего больного брата. Большинство героев ее романов одеты в лохмотья, живут в ветхих лачугах. Многие из некогда великолепных плантаторских поместий тоже находятся в плачевном состоянии, ужасая хозяев разрухой своих фасадов и дающими течь дырявыми крышами. Углубляя психологизм своей прозы и поляризируя мир интересов и социальных ценностей представителей нью-орлеанского бомонда, развлекающегося на островных курортных местечках в Мексиканском заливе, и мир ценностей большинства простых людей, жителей Луизианы, находящихся в состоянии непрерывной борьбы с ужасающей нищетой, К. Чопин, изображая существующее в американском обществе резкое социальное противостояние, проявляет себя как мастер реалистического направления в американской литературе конца XIX века.
Большинство героев произведений К. Чопин пытаются реализовать себя как личность, достигнуть более высокого социального статуса в обществе, удовлетворяя при этом свои личные потребности. На примере судеб своих персонажей писательница показывает, насколько некоторые люди способны сбалансировать собственные материальные потребности со своим стремлением достичь духовного равновесия от осознания гармонии личного и общественного интересов.
282
Уильям Дин Хоуэллс на примере судеб своих героев исследовал механизм распространения в американском обществе идеи «грубого индивидуализма» (Rugged Individualism), когда люди, исповедующие эти принципы, «самоуверенно наглы и в силу своих возможностей карабкаются с различной скоростью наверх к социальному благополучию, отталкивая и уничтожая при этом всех; они мошенничают, обманывают, воруют, совершая все свои преступления руками, покрытыми кровью, душой, отмеченной печатью порока». В противоположность Хоуэллсу, К. Чопин была далека от желания анализировать проблемы нравственности в выборе и деятельности индивидов.
Лишь в начале своего творческого пути Кэйт Чопин обратилась к данной проблеме, изобразив в одном из первых своих романов в качестве героя человека, который ищет то, что близко людям всего мира, даже на пороге XXI века. Этот человек, как пишет Чопин, хотел «сохранить ясность и чистоту своих помыслов, защищая свой внутренний мир от влияния круговерти повседневной жизни, воздействия низких помыслов и страстей, бессмысленных удовольствий всей той среды, которая обедняет духовный мир существующего в ней рядового американского предпринимателя».
Переходя к анализу социально-экономического фона произведений К. Чопин, следует заметить, что для историков в этой связи особенно интересным может оказаться детальное описание особенностей экономического и исторического развития одного из крупнейших южных штатов США, каким является Луизиана. Общеизвестно, что романы К. Чопин пользовались особой популярностью в среде креолов, кэйджунов3, афро-американцев, индейцев и представителей испаноговорящего населения штата Луизиана. Герои ее произведений отличаются не только тем, что они имеют различное этническое происхождение, но и тем, что руководствуются в жизни разными по содержанию социальными ценностями и целевыми установками. Во многих ее романах ярко отражено богатство культурных традиций креолов и кэйджунов, населяющих Луизиану. Все креолы, герои ее произведений, являются потомками французских и испанских переселенцев-католиков. Несмотря на то, что многие из них перенесли все ужасы и тяготы Гражданской войны, потеряв при этом практически все свое
283
имущество, они, как отмечает Чопин, сумели сохранить свое человеческое достоинство, оставаясь при этом весьма образованными и предприимчивыми людьми. Анализируя отдельные произведения американской писательницы, можно заметить, что представители старшего поколения креолов, пытаясь сохранить в Америке свою генетическую европейскую (французскую) самобытность, общались на одном из старофранцузских диалектов. Изображая процессы культурно-исторической ассимиляции, столь характерные для Луизианы конца XIX века, автор отмечает, что в противоположность старикам молодое поколение креолов предпочитает разговаривать на английском языке, без сожаления забывая свои прежние традиции.
Кэйджуны — жители Акадии, чьи характеры столь рельефно выписаны К. Чопин, являются потомками двух или трех тысяч католиков-французов, изгнанных после завоевания англичанами в Канаде области Акадия (ныне — канадская провинция Новая Шотландия). После того как англичане в 1755 году вытеснили франко-канадцев с заселенных мест, большинство из них, продвигаясь на юг Северной Америки, обрели свою вторую родину в штате Луизиана на болотистых берегах в дельте реки Миссисипи. Кэйджуны, менее образованные и жившие материально более скромно, чем креолы, но стремившиеся, как и креолы, сохранить свою этническую (французскую) самобытность, пытались выжить за счет своего умения заниматься рыболовством, земледелием, животноводством, не брезгуя при этом работой по найму в хозяйстве у состоятельных креолов.
В некоторых романах героями произведений Чопин являются афро-американцы. За это творчество писательницы неоднократно подвергалось критике со стороны некоторых американских коллег по перу. Это объясняется тем, что К. Чопин была уроженкой Юга и жила в то время, когда распространение идей расизма не преследовалось в Америке по закону. Известно, что, когда в детстве Кэйт жила в Сент-Луисе, ее семье принадлежало некоторое количество рабов. Кроме того, ее муж был членом печально известной «Белой Лиги» (White League), вооруженного, расистски настроенного подразделения южан-демократов, которые в 1874 году с такой ожесточенностью сражались с ради- калами-республиканцами в Нью-Орлеане, что президент США
284
У. Грант был вынужден направить туда правительственные войска. Вопреки всему этому, К. Чопин с чувством сострадания к нуждам простых американцев описывает отчаянное положение афро-американских поселенцев на Юге до и после Гражданской войны, акцентируя внимание своих читателей на трагических последствиях политики расовой сегрегации в Америке. Более того, можно предположить, что и сейчас изображение судеб отдельных афро-американских героев может вызвать тревогу в душе неравнодушного читателя, ранее не задумывавшегося о проблемах в сфере этнокультурной дифференциации и размышлявшего лишь о своей личной свободе.
Творчество Кэйт Чопин как результат синтеза нескольких этнических культурных традиций в своем содержании раскрывает и показывает на конкретных примерах сущность идей расизма, господствовавших в то время в сознании отдельных членов американского общества. Являясь по сути носительницей двух этнокультурных традиций, К. Чопин, сквозь призму доминирующего в ее сознании компонента французской культуры, пыталась сбалансировать различные этнокультурные элементы в собственной системе социальных ценностей. Это стремление нашло отражение в нескольких ее романах. В некоторых из них она изображала жизнь такой, как она есть, а в других — пыталась задуматься над тем, какой она могла бы быть. Не придавая особого значения использованию данного приема литературнопрогностического моделирования, Чопин тем не менее достигла в своем творчестве определенного совершенства и может по праву считаться мастером психологической прозы.
Периодически в мучительных поисках правды она то обращала внимание на анализ проблемы социальной дискриминации женщин, то изучала вопрос культурной неоднородности американского общества, то фокусировала внимание читателей на проблемах расовой сегрегации в США. Творческая заслуга Чопин состоит в том, что в своих произведениях, героями которых являются афро-американцы, она, раскрыв социальные установки представителей различных слоев американского общества, не побоялась высказать свои симпатии в адрес этой социально гонимой части населения Луизианы. В романах Чопин наиболее ярко показан мир социальных ценностей представителей различных слоев американского Юга конца XIX века.
285
В содержании других своих произведений — «Neg Creol», «Desiree’s Baby», по праву считающихся образцами лучшей американской прозы, — Чопин пошла дальше, попытавшись не только ярко изобразить боль человека, переживающего состояние крайнего безумства, но и сложность судеб отдельных своих героев — афро-американцев. В настоящее время эти произведения, несомненно, представляют интерес как для читателей, так и для ученых, серьезно интересующихся вопросами американской социальной истории конца XIX века.
Кэйт Чопин снискала любовь американских читателей после публикации в 1889 году своего романа «The Awakening» («Пробуждение»). Эта книга получила большой общественный резонанс и повлияла на мировоззрение части современных американских читателей, в особенности представительниц ее женской половины. В этом произведении Кэйт Чопин на примере судьбы своей главной героини с большим мастерством соединила свой творческий интерес к изучению состояния социальной полиэтнической среды, особенностей существования индивидов в ней с личным стремлением предложить части американских женщин задуматься о необходимости поиска путей для личностной самореализации.
В центре сюжета «Пробуждения» — Эдна Понтэлье, выросшая в холодной, угнетающей душу атмосфере протестантской семьи в местности неподалеку от реки Миссисипи и попавшая после замужества в дружественную обстановку семьи креолов- католиков в Нью-Орлеане. В отличие от других персонажей Чопин, у Эдны, на первый взгляд, есть все — состоятельный и респектабельный муж, двое здоровых детей, за которыми к тому же ухаживает няня, возможность проводить свободное время в Мексике, отдыхая на побережье Мексиканского залива, великолепный дом, наличие свободного времени для занятий живописью, возможность бывать в высшем свете Нью-Орлеана. Но от всего этого Эдна не испытывает удовлетворения. Она несчастна, поскольку муж воспринимает ее лишь как часть своей собственности. К тому же и ее креольское окружение считает, что она должна подчиняться мнению мужа и поддерживать его во всем. Но в силу особенностей своего характера героиня не способна на это. Изменение социально-ролевого подчинения Эдны — от подчинения отцу к послушанию мужу — помешало
286
ей в самом начале своей жизни осознать собственные индивидуальные потребности, смысл жизни и личностное предназначение. Лишь в 28 лет Эдна, отдыхая на побережье Мексиканского залива в компании своих друзей-креолов, впервые смогла освободиться от напускной протестантской щепетильности и стала прислушиваться к чувственным ритмическим циклам моря. Ее любовная связь с креольским юношей Робертом пробуждает в ней осознание своей сексуальной привлекательности. Став ослепительно красивой, непокорной и независимой женщиной, Эдна в то же время не в состоянии правильно соизмерить происходящее в своей душе, уходит в себя, пытаясь подавить в себе чувственность. С одной стороны, кажется, что Эдна, уравновесив в своем сознании духовные ценности англо-американской и франко-канадской культур, достигнув богатства и процветания, живет просто сказочной жизнью. Но на самом деле Эдна глубоко несчастна.
Эдна пытается открыть Роберту мир своих чувств. Ей кажется, что замужняя жизнь ее угнетает, как угнетают ее супружеские обязанности, социальные нормы, забота о детях, которых она страстно любит, но тем не менее передает на попечение няни. Ведь Эдна, в отличие от своего возлюбленного, не способна сопереживать, заботиться о ком-то. Она не принадлежит к числу тех женщин, которых К. Чопин называла не иначе как «мать-женщина» («mother-woman»), т. е. женщин, которые безраздельно посвящают себя исполнению супружеских обязанностей, с жертвенной радостью отказывающихся от своих личных притязаний на что-то во имя общих интересов своей семьи. В отличие от людей такого типа, Эдна не способна жертвовать собой ради интересов своих детей. Она объясняет Роберту, что «смогла бы пожертвовать чем-то неважным — отказаться от денег, отдать свою жизнь ради детей, но никогда не принесет на алтарь жертвенности свою душу, свое “я ”».
В 1990-е годы социальная позиция этой героини вызвала ожесточенную полемику в американском обществе. Острые дискуссии развернулись и в студенческой среде. По мнению некоторой части представителей американской общественности, основной психологической проблемой Эдны является ее неспособность, неумение совместить свои социальные обязанности, налагаемые материнством и супружеством на каждую из жен
287
щин, с собственным стремлением к независимости и личностной самореализации. Сходная проблема, по мнению многих участников дискуссии, существует сегодня у миллионов американских женщин.
Эта книга, которую многие сравнивают с романом Гюстава Флобера «Мадам Бовари», представляет собой изысканный по стилю образец англоамериканской прозы, простой и понятной, но в то же время и содержательной и полной поэтических настроений в духе Уолта Уитмена. Красота изложения, выверенность стиля помогают автору точно передать особенности своего сложного, многомерно чувственного поликуль- турного восприятия окружавшей ее в то время действительности. В содержании романа нашли свое тематическое единство три лейтмотива, наиболее характерные для творчества Кэйт Чопин: проблема человека, пресыщенного собственным богатством и страдающего от последствий своей материальной свободы, вопрос о наличии возможностей достижения в американском обществе этнокультурного баланса интересов и, наконец, проблема личностной самореализации индивида.
С творчеством других американских писателей прозу Чопин роднит ее стремление моделировать собственный воображаемый мир, не удаляясь при этом от насущных мирских проблем, попытка найти в творчестве авторов, исповедовавших другие культурные ценности, метод, помогающий писателю точно передавать истинность чувств и намерений своих героев. Содержательно повествуя о Луизиане, Чопин черпала вдохновение во французской культуре, ее литературных традициях. Чувствуя отчужденность собственных интересов от интересов общества, осознавая свою принадлежность к несколько иному, французскому культурному анклаву в англоязычной американской среде, автор зачастую населяла свои произведения героями с похожими на ее жизнь судьбами, носителями различных культурных традиций, духовных ценностей и идеалов, постоянно нарушавших сложившийся социальный статус-кво и вынуждающих других стремиться к чему-то новому в своей жизни.
Если Чопин и хотела что-то изменить в окружающем ее мире, то это особенность восприятия его. Она прекрасно понимала роль и значение в жизни каждого человека экономического, психологического, биологического и других факторов.
288
Она, как и многие ее современники в Европе и Америке, не отрицала постулаты классиков социологии, констатирующие существенное влияние указанных факторов на возникновение у человека стрессовых ситуаций или пограничных (девиантных) психологических состояний. Но также, кроме всего прочего, по мнению К. Чопин, люди определяют свои действия из глубины самих себя и своего «я». Правда, зачастую это «я» определяется тем социальным окружением и социальной средой, в которую помещен индивид. В отличие от мнения некоторых современных социологов, не общество, а личность, в понимании Чопин, живет в социальном окружении, осознание значения которого помещено внутри каждого человека.
Более того, автор романов полагает, что «бытием человека» («Human Existence») (это одно из любимых выражений Чопин) управляет стремление индивида к достижению того, что она называла «правами на существование (бытие)» («Rights of Existence»). Содержание этого понятия, по мнению американской писательницы, составляет стремление человека достичь в своей жизни гармонии и стабильности, реализовав при этом весь духовный потенциал и стремление заявить о своих личностных позициях. Несмотря на то, что ее творчество сложно для читательского восприятия и содержание многих ее произведений может восприниматься неоднозначно, она как автор занимает четко выраженную позицию по вопросу о сущности проблем индивидов, существовавших, как и она сама, в контексте двух культур, двух систем социального мировосприятия и ценностей. Завершая краткий обзор творчества Кэтрин Чопин, следует отметить, что ее писательский дар менее всего можно сравнивать с творчеством ряда американских прозаиков, наивно рассуждающих на страницах своих произведений о смысле жизни, поскольку более всего она принадлежит к числу тех художников, которые, сострадая судьбам своих героев, разделяют стремление каждого человека к достижению счастья и гармонии собственного бытия.
Обращаясь к читателям, заинтересовавшимся творчеством К. Чопин, могу сообщить, что несколько ее произведений, включая известный роман «Пробуждение», вместе с двумя своими монографиями о ней я передал в дар библиотеке Волгоградского государственного университета, где, собственно го
289
воря, и можно ознакомиться с работами этого классика американской прозы конца XIX века.
В данной статье были использованы отрывки из моей книги «К. Чопин: анализ творчества» (N. Y. : Twayne Publishers, 1996).
Перевод с английского Т.К. Коноплич
П РИ М ЕЧАН И Я ПЕРЕВОДЧИКА
1. Хоуллс, Уильям Дин (1837—1920) — американский писатель-моралист, эссеист, редактор, журналист, дипломат. Основоположник американской социальной прозы. В 1861—1865 годах— американский консул в Венеции. В 1890-х годах обратился к изучению социально-экономических проблем и социальных концепций. В конце 1890-х годов был главным редактором таких журналов, как “The Cosmopolitan” (1891—1892), “The Atlantic Monthly” (1871—1881), “The Harper's Magazine” (1886—1891). На страницах этих и других журналов сформулировал собственную концепцию литературного реализма, критиковал романтизм. Автор таких романов, как “Энни Килберн ”( “Annie Kilburn”, 1889), “Превратности погони за богатством ”( “A Hazard of New Fortunes ”, 1890), утопической дилогии “Путешественник из Альтрурии” ( “A Traveller from Altruria ”, 1894). Написал также множество новелл и пьес, активно участвовал в общественной жизни США начала 20 века, считал себя социалистом.
2. Байю ( “bayou”) — так в Луизиане называют рукав в дельте реки, отличающийся слабым течением, часто соединяющий друг с другом основные протоки. Байю характерен для дельты реки Миссисипи, испещренной множеством рукавов с островками соляного происхождения. В честь этого Луизиана получила название “страны Байю” ( “Bayou Country”). Возможно, как полагают составители словаря “Аmericana”, само слово “bayou”происходит от слияния местного варианта французского языка и языка индейцев чокто (сhoctaw )̂.
3. Кэйджуны — потомки франко-канадских переселенцев, проживавших до начала XVII века на востоке Канады, в провинции Акадия (ныне — Новая Шотландия,New Scotia в Канаде). В 1755
290
году после завоевания англичанами Акадии, франко-канадцы обосновались в США на юге Луизианы. Причинами столь странного решения явилось то, что, во-первых, на эти болотистые земли в дельте реки Миссисипи никто не претендовал; во-вторых, изгнанники прослышали, что там на законных основаниях уже обосновались их бывшие соотечественники — тоже французы. Переселившись в Луизиану, потомки франко-канадцев в США стали называть себя “acadiens” (т. е. жителями Акадии). Со временем в английском языке это слово трансформировалось в “cajuns”— кэйджуны. Сейчас потомки этих переселенцев в Луизиане говорят на акадийском диалекте французского языка — “каджуне”.
А.В. Млечко
ФИГУРА ТРИКСТЕРА В РОМАНАХ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «РУССКОГО»
И «АМЕРИКАНСКОГО» ПЕРИОДОВ
Один из основных вопросов набоковедения — вопрос статуса автора и героя (добавим — и читателя) набоковских романов. Более того, вопрос этот «вписан», на наш взгляд, в довольно широкий культурный контекст. При этом своеобразным «краеугольным камнем» стала проблема наличия или, точнее, кажущегося отсутствия гуманистического начала в творчестве Набокова1.
Надо не забывать, что к прозе Набокова нельзя подходить «традиционно», она требует учета таких условий, каких не требовала проза ни многих его предшественников, ни многих современников. Соединение в набоковском творчестве как «следов» классики, так и черт модернизма и постмодернизма уже говорит о многом. В частности, о крайней усложненности образной системы романов писателя, которая строится в большинстве случаев по вполне определенной схеме2.
Кроме того, мы надеемся, что предлагаемый нами взгляд на поэтику писателя позволит показать общие и различные черты романов Набокова «русского» и «американского» периодов;
291
возможно, это даст почву для их сравнительного анализа.Образная система романов Набокова необычна, и в том
смысле, в котором хотим интерпретировать ее мы, она схожа с образной системой Ф.М. Достоевского3. Полемика вокруг этой «необычности» началась давно, еще в пору расцвета эмигрантской культуры 1920—30-х годов, когда на страницах журнала «Числа» появился «...автор “Защиты Лужина”, заинтриговавший нас мнимой сложностью своей мнимой духовной жизни»4. Отголоски ее, впрочем, слышны и поныне5. Нам же, со своей стороны, хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями за принципами построения образной системы набоковских романов. Своеобразным ключом к этому может послужить, на наш взгляд, образ трикстера. Возможно, использование данного понятия для характеристики интересующего нас феномена более удачно, чем, скажем, такие определения, как «черт» или «пародийный двойник», ибо соотношение их, говоря образно, подобно соотношению родовых понятий с видовыми. Оно более емкое, обладает большей смысловой насыщенностью и определенностью, наконец, оно имеет достаточную теоретическую разработанность6 и семантическую подвижность. Черты, характерные для фигуры трикстера, — двойственность, непредсказуемость, стремление к обману, провокации, профанации, изменчивость, шутовство, плутовство и трюкачество, связь и параллели с фигурой дьявола и черта (Мефистофеля)и, наконец, пародийное переиначивание действий и функций героя — все эти черты в той или иной степени присущи некоторым героям романов Набокова. Причем (и это немаловажно) в романах «русского» периода в образе некоторых героев преобладают одни из этих трикстеровских черт характера, а в романах «американского» периода — другие. В романах «русского» периода фигура трикстера несет в себе более четко выраженный оттенок сакральности, ассоциируясь, скорее, с чертом и «мелким бесом». В этом смысле поэтика Набокова уже «вписывается» в европейскую фаустовскую традицию7. Уже первый рассказ Набокова называется «Нежить» (1921), вскоре после него он пишет рассказ «Удар крыла» (1924), где впервые появляется образ «трикстера-черта». Главного героя рассказа Керна «подталкивает» к самоубийству его приятель, Монфиори, обладатель «острых с рыжим пушком на кончиках» ушей, «козь
292
их глаз», «холодных волосатых ручек», которые Керну кажутся «мертвыми»8. Оригинально преломляются черты образа трикстера в романе 1933 года «Камера обскура». Главный герой Бруно Кречмар — состоятельный искусствовед, имеет отчетливо выделяемого пародийного двойника (трикстера) — карикатуриста Горна, своеобразного «пародиста от живописи», внешний вид которого вполне соответствует внутреннему. Горн, беззаветно влюбленный в обман, в профанацию и злую шутку, обладает весьма необычной и легко узнаваемой внешностью: «чернобровое, белое, как рисовая пудра, лицо, впалые щеки, воспаленные губы, копна мягких черных волос — урод уродом», «худой, но плечистый, в отличном костюме из клетчатой шерстяной материи, с лицом бритым, бровастым, несколько обезьяньего склада, с большими заостренными ушами и плотоядным ртом», его гладят «по длинной и мохнатой спине»9. Горн— это Кречмар «наоборот», он пародирует желания Кречмара, обманывает его, мистическим образом (одна из интерпретаций) убивает его дочь и, наконец, доводит Кречмара до слепоты. Здесь Горн как бы препровождает его в тот мир, откуда явился он сам — в мир тьмы и мрака10. В этой связи интересно заметить, что Набоков также отметил, что «Горн был тень Кречмара»11. Это перекликается с мыслью К. Юнга о существовании некоего единства и несомненного параллелизма между образом трикстера и архетипом тени.
Несколько иначе трансформируются черты образа трикстера в романе 1936 года «Приглашение на казнь». Здесь исчезает явная зооморфность, но усиливается сакральная символика. Палач м-сье Пьер не обладает наружностью черта в том виде, в каком была она у Горна, но Набоков наделяет его, с одной стороны, чертами главного героя «Мертвых душ»12, а с другой стороны, подчеркивает идею полного отсутствия у м-сье Пьера какой-либо духовной жизни, указывая на доминанту физиологического, животного начала в его образе: «Румяный толстячок М-сье Pierre Петрович Бреф (полное имя палача. — А. М.) является квинтэссенцией всего физического и физиологического существования»13. При этом Набоков подчеркивает «удивительно белую кожу» своего героя, округлость его фигуры: «Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижамкой»14. Интересно, что поз
293
же в своем эссе «Николай Гоголь» (1944) Набоков заострит внимание читателя именно на дьявольской природе Чичикова, и полнота последнего, по мнению писателя, лишний раз подчеркивает эту, как выразился Набоков, «жуткую природу данного персонажа»15: «...округлый Чичиков кажется мне тугим, кольчатым, телесного цвета червем»16. «Да и сам Чичиков, — продолжает Набоков, — всего лишь низкооплачиваемый агент дьявола, адский коммивояжер: “Наш господин Чичиков”, как могли бы называть в акционерном обществе “Сатана и К°” этого добродушного, упитанного, но внутренне дрожащего представителя»17. Кроме того, с фигурой трикстера м-сье Пьера сближает и тот факт, что он является отчетливо выделяемым пародийным двойником главного героя романа Цинцинната Ц. Это подчеркивается даже графически: первые буквы имен этих персонажей зеркально отражаются: «П» есть перевернутое «Ц». М-сье Пьер пародирует каждый шаг, каждое желание, каждую затаенную мысль Цинцинната: он устраивает шутовской побег из темницы, мысли Цинцинната о предстоящей смерти превращает в пошлый клишированный вздор, а из «крестного пути» узника он создает увеселительную прогулку18. В данном произведении символический подтекст скрыт в кукле Полишинеля, которой м-сье Пьер так и норовит позабавить Цинцинната. Сам м-сье Пьер при этом является в некотором роде «родственником» Полишинеля, выполняя роль Петрушки, персонажа русского народного театра (Пьер — Петрушка), куклы, которая наряду с Полишинелем и Пульчинеллой, как писал Юнг, «блестяще исполняет роль трикстера»19. Интересно заметить, что при такой интерпретации возможно прочтение «Приглашения на казнь» как темы противостояния Христа и Антихриста («обезьяны Христа», по меткому замечанию С.С. Аверинцева20). Именно с образом Цинцинната Ц. связаны в романе мотивы хождения по воде, тернового венца, крестного пути, распятия и др.
В романах же «американского» периода введение в поэтику фигуры трикстера носит несколько иную функцию. Ясно узнаваемый до этого сакрально-этический дуализм имплицируется и на первый план выступает собственно художественная, часто сюжетообразующая функция. Появление героя-трик- стера (или, как мы увидим, даже «автора»-трикстера) служит для читателя определенным знаком. Либо знаком полного про
294
явления авторской воли («Пнин», «Просвечивающие предметы»), либо знаком, свидетельствующим о существовании иных версий прочтения романа («Лолита», «Бледный огонь»)21. Скажем, что в романе «Лолита» (1955) появление фигуры трикстера — пародийного двойника Гумберта Клэра Куильти (обладателя легко различимых приапических черт) есть знак возможного помешательства главного героя, возможной «нереальности» происходящего. А в романе «Пнин» (1957) роль трикстера исполняет Сирин22. Его тень повсюду сопровождает главного героя романа, заставляя в конце концов «бедного Пнина» вскричать в свой адрес: «Вы не верьте ни одному его слову. Он все выдумывает. Он ужасный выдумщик»23.
С подобной ситуацией мы сталкиваемся и в романе «Просвечивающие предметы» (1972), главный герой которого Хью Персон «всю свою жизнь испытывал странное ощущение, что позади него, как бы за его плечом, стоит незнакомец. Это и был его “теневой спутник”, и не будь у него этой просвечивающей тени, мы не стали бы и заниматься нашим дорогим Персоном»24. Этим «теневым спутником» главного героя был некий барон R. (Эту английскую литеру можно прочесть как русскую «Я», т. е. Сирин). Он-то и взял судьбу «нашего дорогого Персона» в свои всесильные авторские руки.
Другими словами, в романах «американского» периода трикстером, по большому счету, выступает сам Сирин, играющий судьбой главного героя, испытывающий его как знак авторского всесилия, авторской воли, творческого диктата, как знак демиурга, создающего новую реальность, новые точки отсчета, новые миры.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Своего рода «апологетами» Набокова в свое время выступили, к примеру, Элен Пайфер («Набоков и роман»), Дэвид Рэмптон («Владимир Набоков: критический обзор романов») и Брайн Бойд («Владимир Набоков: Русские годы» и «Владимир Набоков: Американские годы»). Мы же, со своей стороны, попытаемся иначе интерпретировать проблему.
2. Безусловно, мы далеки от утверждения того, что образная
295
система набоковских романов подчинена этой схеме тотально, поскольку нельзя забывать о том, что трудно требовать от такого процесса, как художественное творчество, неукоснительного следования каким-то раз и навсегда установленным правилам. И все же думается, что некоторая общность решений при создании образов героев в творчестве Набокова имела место. Правда, они могут быть использованы писателем в своих целях в разных романах.
3. Парадоксально, но при желании можно было бы составить список психических отклонений и фобий, которым подвергнуты набоковские герои— такой же список,что составил сам Набоков, характеризуя героев Достоевского в своих «Лекциях по русской литературе». С Достоевским у Набокова очень много общего, больше, чем на первый взгляд кажется, несмотря на то, что сам он при всяком удобном случае старался подчеркнуть свое негативное отношение к классику.
4. Иванов Г.В. «Сирин»; «Машенька»; «Король, дама, валет»; «Защита Лужина»; «Возвращение Чорба» / / В.В. Набоков: pro et contra. СПб, 1997. С. 186.
5. См. : Урнов Д. Приглашение на суд / / Урнов Д. Пристрастия и принципы. М., 1991. С. 96—114; Ерофеев В.В. Набоков: затмение частичное / / Логос. 1996. № 8. С. 219—224.
6. К примеру, в структуралистской антропологии Клода Леви- Строса (Levi-Strauss C. Les mythologiques. Paris, 1964—1971. V. 1— 4); в аналитической психологии Карла Густава Юнга (Юнг К.Г. Психология образа трикстера / / Юнг К.Г. Душа и миф. М., 1997.С. 338—356). Последняя работа в свете нашей проблематики особенно важна.
7. Но, так сказать, в «русском варианте». Ср. беседу Ивана Карамазова с чертом или «бесенка» Ставрогина: «Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся» (Достоевский Ф.М. Полн. соб. соч.: В 3 0 т. Л., 1974. Т. 10. С. 231). Ср. также профанацию идей Раскольникова Свидригайловым и Порфирием Петровичем.
8. Набоков В.В. Удар Крыла / / Звезда. 1996. № 11. С.12, 17—18. Ср. горячее желание Монфиори присутствовать во время суицидального действа с аналогичным по характеру желанием Петра Степановича из «Бесов».
9. Набоков В.В. Романы; Рассказы; Эссе. СПб., 1993. С. 65,
296
98, 118. Сравните эти детали с описанием лица Свидригайлова из «Преступления и наказания»: «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице» (Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30т. Л., 1973. Т. 6. С. 357).
10. «Смех во тьме» («Laughter in the Dark»)— так называется англоязычная версия романа.
11. Набоков В.В. Романы; Рассказы; Эссе. С. 93.12. Павел Петрович Чичиков — один из первых героев-
трикстеров в русской литературе.13. Davydov S. «Teksty-matresk» Vladimira Nabokova. Munchen:
Verlag Otto Sagner, 1982. S. 118.14. Набоков В.В. Рассказы; Приглашение на казнь; Эссе,
интервью, рецензии. М., 1989. С. 266, 264.15. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1992.
С. 81.16. Там же. С. 80. Впервые этот действительно жутковатый
образ «кольчатого» червя встречается у Набокова в его раннем рассказе «Месть» (1924).
17. Набоков В.В. Лекции по русской литературе. С. 80.18. Возможно, дуализм Цинцинната и м-сье Пьера есть
вариант одного из важ нейших у Н абокова мотивов противопоставления души и тела, как, впрочем, и наличие у Цинцинната еще одного, но теперь «бестелесного» двойника: «в теме двойничества и соперничества двух Цинциннатов реализуется дуализм души и плоти» (Davydov S. Op. cit. Р. 116).
19. Юнг К.Г. Указ. соч. С. 342. Ср. со словами, брошенными Раскольниковым в лицо Порфирию Петровичу (выделено нами. — А. М.): «Лжешь, полишинель проклятый!» (Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 6. С. 269). Образ Порфирия (героя-трикстера в его «чистом» виде) стал, на наш взгляд, одним из прототипов образа м-сье Пьера).
20. Аверинцев С. С. Антихрист / / Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т. М., 1987. Т. 1. С. 85. В свою очередь, Юнг отмечает близость фигуры трикстера «средневековому описанию дьявола как “simia dei”» (обезьяны Бога). (См.: Юнг К.Г. Указ. соч. С. 338).
297
21. Как правило (это более справедливо, как мы думаем, в отношении англоязычных романов писателя), романы Набокова предполагают наличие нескольких, ничуть не противоречащих друг другу интерпретаций.
22. Мы вслед за С. Давыдовым пользуемся этим псевдонимом Набокова в тех случаях, когда присутствие автора в тексте выступает как творческий прием, т. е. в контексте его литературной функции.
23. Набоков В.В. Романы. М., 1991. С. 315. Корней Иванович Чуковский, кстати, переносил эту характеристику на самого Владимира Набокова, т. е. не как на автора, но как на человека. (См.: Чуковский К. Дневник (1930—1969). М.: Современный писатель, 1995. С. 298).
24. Набоков В.В. Романы. С. 396. Напомним, что Юнг был склонен отождествлять фигуру трикстера и архетип тени. При этом было бы интересно проследить семантические метаморфозы английского слова «shade» (тень) в романе Набокова «Бледный огонь» (1962).
О.А. Леонтович
КОНЦЕПЦИЯ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО СЛОВАРЯ США
Идея лингвострановедческого словаря «Жизнь и культура США» (авторы — О.А. Леонтович и Е.И. Шейгал) основана на необходимости достижения взаимопонимания в процессе меж- культурной коммуникации (МК). Эта проблема тесно связана с понятием культурной грамотности. Механизм межкультурно- го общения строится на взаимодействии объемов культурной грамотности коммуникантов, которая складывается из совокупности универсальных общечеловеческих и специфически национальных знаний. Совпадающая часть (универсальные знания), очевидно, будет понятна обеим сторонам; за пределами понимания окажутся культурно-специфические знания, на которые и должны быть направлены усилия по формированию модели МК. Мы поставили перед собой задачу отразить в сло
298
варе национально-специфические знания среднего американца, которые, в той или иной степени, могут быть сложны для понимания представителями русской культуры. Опыт преподавательской и переводческой работы позволяет прогнозировать трудности, которые потенциально могут возникнуть в процессе общения на следующих уровнях: 1) фонетическом; 2) грамматическом; 3) лексическом; 4) текстовом.
Именно из этого мы исходили при отборе словника, а также при определении структуры словарной статьи. Поэтому в словник вошли следующие категории языковых единиц: а) собственно американизмы, т. е. слова и словосочетания, зародившиеся в американском варианте английского языка (например, hippie, drugstore,bootlegging); б) слова, которые изначально существовали в британском варианте английского языка, но изменили свое значение в американском варианте (closet, corn, bathroom и др.); в) общеанглийские слова, которые, однако, имеют в американском варианте специфические ассоциации, коннотации и добавочные значения или связаны с релевантной в страноведческом плане информацией; г) топонимы и антропонимы, имеющие важное значение со страноведческой точки зрения; д) названия политических реалий, общественных организаций, государственных структур и т. д., являющихся неотъемлемой частью жизни американцев; е) названия известных книг, фильмов, картин и других произведений американских авторов; ж) торговые марки, наименования фирм, магазинов и т. д., составляющие часть кругозора среднего американца; з) цитаты, тесно связанные с понятием прецедентных текстов: слова из популярных песен, стихов, высказывания известных личностей и т. д.
В словарь не вошли термины, сленг, жаргонизмы и диалектизмы, в силу того что, во-первых, включение их непомерно увеличило бы объем словаря, а во-вторых, поскольку имеется достаточное количество словарей, содержащих такого рода единицы. По этой же причине словарь не содержит фразеологизмов, за исключением тех случаев, когда последние имеют в своем составе единицы, являющиеся заглавными словами в словарной статье, и несут важную лингвострановедческую информацию.
Известно, что в российских учебных заведениях традиционно преподается британский вариант английского языка. Как
299
это ни парадоксально, в определенных условиях он может создавать дополнительные помехи при коммуникации русских с американцами в результате смешения несовпадающих языковых единиц и стоящих за ними культурных пресуппозиций и фоновых знаний. Поэтому в словаре также отражены коммуникативно значимые различия британского и американского вариантов английского языка.
Эти обстоятельства обусловливают выбранную нами структуру словарной статьи, обязательными элементами которой являются заглавное слово (вокабула), транскрипция и дефиниция. Словарная статья также может содержать сведения о грамматических характеристиках определяемого слова или словосочетания, его этимологии, сочетаемости, стилистической окраске, коннотациях и ассоциациях, а также его соотношении с британским аналогом (если таковой имеется и может стать коммуникативной помехой).
Вокабула
В качестве вокабулы, выделенной в каждой словарной статье жирным шрифтом, могут выступать единицы различных уровней: части слов, отдельные слова, словосочетания, предлож ения. При передаче названий фильмов, книг, музыкальных групп и т. д., в соответствии с американской традицией, используется курсив: Gone with the Wind. Аффиксы отмечены дефисом в начале или в конце: -gate.
В словаре используется алфавитный принцип размещения вокабул. Если вокабулы отличаются друг от друга тем, что одна из них пишется со строчной, а другая — с заглавной буквы, то порядок их следования зависит от того, какое из значений является п рои зводящ им , а какое — прои зводны м . Орфографические варианты, не нарушающие алфавитного порядка, приводятся с использованием знака «/» (например, hippie / hippy). При разных написаниях, не соответствующих алфавитному порядку, дается перекрестная ссылка: coffee klatch / coffee klatsch = kaffee-klatsch (ш.). Многие сложные слова приводятся в одном написании, которое зафиксировано как приоритетное ведущими американскими словарями; однако следует иметь в виду, что они могут встречаться в слитном,
300
раздельном и дефисном написании: bestseller / best seller / bestseller. В персоналиях сначала приводится фамилия, затем имя (с учетом алф ави та), далее в кавы чках — прозвищ е. Числительные рассматриваются как если бы они были написаны буквами: так, вокабула 800 numbers помещена между eggs Benedict и Einstein, Albert.
Омонимы снабжены надстрочными арабскими цифрами (O1, O2) и разведены по разным словарным статьям.
Артикль помещается в конец вокабулы (Pill, the) и приводится только в тех случаях, когда его отсутствие меняет значение оборота или если это неотъемлемая часть названия или цитаты («date which will live in infamy, A»).
Менее употребительные слова и словосочетания, обычно близкие по написанию к заглавным, приводятся в конце словарной статьи жирным шрифтом. На синонимы дается перекрестная ссылка.
Звездочка «*» используется в тех случаях, когда словарь приводит лишь одно или несколько, но не все значения многозначного слова.
Если словосочетание существует в полной и сокращенной формах, дефиниция обычно дается на полную форму, за исключением тех случаев, когда более известной и употребительной является аббревиатура (например, SAT).
Транскрипция
В связи с тем что фонетика играет важную роль в коммуникации, словарные статьи содержат транскрипцию, отражающую особенности американского произношения. Из многочисленных способов передачи произношения в различных словарях мы выбрали международный фонетический алфавит (IPA), т. к. он хорошо знаком российским читателям, однако мы используем модификацию, которая, с нашей точки зрения, наилучшим образом передает специфику американского варианта английского языка.
Основные особенности, отраженные в транскрипции (в отличие от британского варианта): а) противопоставление гласных только по качеству, без учета долготы (необходимо иметь в виду то, что все американские гласные растянуты, но их до
301
лгота зависит от положения в слове): fill [fIl] — feel [fil]; full [fUl] — fool [ful]; б) произнесение ретрофлексного [r] везде, где оно пишется (самое яркое отличие американского произношения). Для обозначения ретрофлексных гласных используется верхний индекс, чтобы подчеркнуть, что ретрофлексия является качественной характеристикой гласных звуков (а не простой суммой гласного и [r]): [kAr], [fEr], [tur]; в) произнесение a как [Q] перед f, s, th, m, n + согласный, например, в словах class, path, after; г) звук [hw] в словах when, wheel, white и т. д.; в связи с тем что в ряде регионов допускается произношение [w], элемент [h] приводится в скобках: [(h)w]; д) звук [o] как закрытый вариант [К] в положении перед [r]; е) конечный гласный [i] в словах heavy, carry, ready и т. д; ж) звук [u] после согласных t, d, n в таких словах, как student, due, neutral и т. д.; з) звук [О] под ударением в таких словах, как hurry, worry, courage и т. д.; и) [- 3Eri] в словах secretary, commentary, extraordinary, February и т. д.; к) [-3ori] в словах lavatory, allegory, dormitory, territory, category и т. д.; л) [-3moUni] в словах ceremony, matrimony, testimony и т. д; м) [3eItIv] в словах authoritative, administrative, imitative, meditative и т.д.; н) [-An] в словах lexicon, Amazon, marathon и т. д.; о) [(-«)l] в словах missile, fertile, fragile, hostile и т. д.; п) [-S«n] в словах constitution, mission, solution и т. д.; р) [Z«n] в словах aversion, conversion, excursion и др.; с) [Iz«m] в словах feminism, plagiarism, sexism и т. д.; т) [-Z«]на конце слов amnesia, fantasia, Rhodesia и т. д.
Кроме того, транскрипция отражает различия в ударении и произношении ряда других слов. Варианты произношения даются через запятую: parking garage [ИрАгкВД g«3rAZ, g«3rAdZ]. Транскрипция не приводится в длинных фразах, в особенности тех, которые состоят более чем из одной синтагмы.
Грамматические пометы
Поскольку целью словаря не является исчерпывающая грамматическая характеристика американских слов и словосочетаний, он содержит минимальные грамматические сведения о вошедших в его состав языковых единицах. В тех случаях, когда речь идет об отдельной лексеме, не являющейся топонимом или персоналией, указывается частеречная принадлежность слова. С этой целью используются традиционные сокращения:
302
adj. — прилагательное, adv. — наречие, interj. — междометие, n. — существительное, v. — глагол.
Если главное слово приведено во множественном числе, дается помета жирным курсивом pl.: nachos [^nAtSoUz] n. pl.
Нестандартные способы образования множественного числа сопровождаются пометой pl.: Comanche n., pl. -ches или -che.
Стилистическая характеристика
В связи с тем что одним из основных условий адекватной коммуникации является уместность употребления языковых единиц, словарь содержит необходимые стилистические пометы, например: разг. (разговорный), ирон. (иронический), пренебр. (пренебрежительный), бран. (бранный), табу и т. д.
Этимология
Важным элементом лингвострановедческой информации являются данные о происхождении национально-специфических языковых единиц, приводимые в нашем словаре в фигурных скобках, например: fanzine |</an + (maga)zine}. Значок «<» показывает, от какой языковой единицы произошло данное слово. Если сведения о происхождении вызывают сомнение лексикографов, используется значок «<?». С помощью знака «+» и круглых скобок анализируется элементный состав языковой единицы.
Если буквальное значение переосмысленной единицы существенно с лингвострановедческой точки зрения, оно также приводится в фигурных скобках: hen party {букв. «вечеринка для курочек»}.
Дефиниция
Дефиниция является главной частью словарной статьи и содержит основную лингвострановедческую информацию. Первым элементом дефиниции является собственно перевод главного слова, словосочетания или предложения. Передача имен собственных, как правило, дается методом транскрипции, то есть выражения на письме русскими буквами американского произношения: Cohan, George M(ichael) — Коухэн, Джордж
303
М(айкл). Исключением являются имена, написание которых закреплено в русском языке традицией, например: Adams — Адамс; Maine — Мэн; Washington — Вашингтон. В некоторых случаях дается два и более вариантов перевода: Oppenheimer, J(ulius) Robert — Оппенхаймер / Оппенгеймер, Дж(улиус) Роберт. Написание географических названий приводится в соответствии с атласом мира 1997 г.
Далее в статьях, относящихся к персоналиям, указываются годы жизни.
Для разных лексических значений многозначной единицы используются жирные арабские цифры с точкой: 1. ... 2. ..., для подзначений — арабские цифры с круглыми скобками: 1) ... 2) ...
В отличие от обычного толкового словаря, лингвострановедческий словарь содержит развернутую дефиницию с культурологическими пояснениями и комментариями: bee* совместная работа, развлечение или соревнование & a knitting bee посиделки, на которых женщины вяжут приданое для будущего ребенка своей соседки; a spelling bee конкурс грамотеев (в школе) % Ассоциируется с совместной деятельностью соседей в период освоения новых земель на Западе США в XVIII в. (см. тж. quilting bee).
Знак «&» предваряет иллюстративный пример. Коннотации, ассоциации, дополнительная лингвострановедческая информация помечаются значком «%». Крупным курсивным шрифтом дается перекрестная ссылка: (см. тж. quilting bee).
Значком «>» в словарных статьях обозначаются культурно значимые производные от главных слов и словосочетаний: backpack — рюкзак, ранец > v.* участвовать в туристическом походе (с рюкзаком за плечами).
Значок «G», как правило, используется для предупреждения прогнозируемых коммуникативных ошибок. Так, приводимый ниже пример демонстрирует разницу между британским и американским значениями слова: suspenders [s«№pEnd«rz] n. pl.— подтяжки G Ср. брит. braces G Не смешивать с брит. suspenders— женские подвязки к поясу для чулок (= амер. garters).
Несмотря на то что в целом в словаре употребляется достаточно большое количество сокращений и условных знаков, мы полагаем, что они не будут представлять затруднений для читателей.
304
В словарь также включены четыре приложения: 1) общие сведения; 2) таблица штатов с указанием столиц, населения, прозвищ штатов, их девизов и символов; 3) список президентов с указанием сроков пребывания у власти, партийной принадлежности, а также некоторых других интересных фактов из их жизни; 4) таблица мер и весов, которые приводятся в соотношении с метрической системой.
Форзац книги содержит карту США с названиями всех штатов и делением на временные зоны.
Мы уже сейчас активно используем материалы словаря на занятиях по американскому варианту английского языка и американистике. Надеемся, что словарь будет полезен для учителей английского языка, вузовских преподавателей, школьников, студентов и всех тех, кто просто интересуется Соединенными Штатами Америки.
Е.И. Шейгал
ЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗ АМЕРИКАНСКОГО ПОЛИТИКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ)
Анализ американских словарей культурной грамотности1 дает представление о фоновых знаниях среднего образованного американца, входящих в его языковую картину мира. Одна из частей этой картины — сектор истории и политики — включает наименования политических институтов, программ, документов, концепций, движений, процессов, событий и, конечно же, политических деятелей. Имя политика нередко становится знаком эпохи, символом важнейших политических событий и процессов. В частности, имя А. Линкольна в сознании американцев ассоциируется с Гражданской войной и отменой рабства, имена Дж. Вашингтона и Т. Джефферсона — с Войной за независимость и основанием нации, имя Г. Трумэна — с окончанием второй мировой войны и началом «холодной войны».
На наш взгляд, имена крупных политических деятелей яв
305
ляются основными узлами в понятийной сетке, структурирующей данный фрагмент языковой картины мира. В эти узлы, как показывают перекрестные ссылки, сходятся нити от самых разных типов наименований. Так, например, в словаре Э. Хирша в статье, посвященной президенту Г. Трумэну, указываются сроки его президентства (1945—1953), партийная принадлежность (демократ), основные этапы предшествующей политической карьеры (сенатор от штата Миссури, вице-президент Ф.Д. Рузвельта), важнейшие события, ассоциирующиеся с его президентством (атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, план Маршалла, война в Корее, конфликт с генералом Д. Макартуром). Этой информацией, как правило, и исчерпывается содержание статьи в обычном энциклопедическом словаре.
Однако в словарях культурологического типа представлена также и ассоциативная зона имени, т. е. значимые для данного социума культурные ассоциации, достаточно устойчиво заф и ксированны е в язы ковом созн ани и больш инства образованных носителей языка. Так, в ассоциативной зоне статьи о Г. Трумэне дается характеристика его стиля руководства (открытый, прямой, «человек из народа») и грубоватопростоватой манеры общения, приводятся его излюбленные идиомы: «Если ты не выносишь жары, то тебе не место на кухне» («If you can’t stand the heat, get out of the kitchen») и «Я беру на себя всю полноту ответственности» («The buck stops here»), описывается известный многим американцам казус врем ен его и зби рательн ой кам п ан и и 1948 г., когда комментаторы предрекали его неминуемое поражение, и газета «Chicago Tribune» поспешила опубликовать материалы с крупным заголовком «Дьюи нанес поражение Трумэну», а на следующий день многие газеты опубликовали фотографию победившего Трумэна с этим экземпляром газеты в руках.
Какова природа всей этой разнообразной информации, стоящей за одним именем, — лингвистическая или экстралин- гвистическая? Большинство содержательных компонентов значения слова имеют отражательную, экстралингвистическую природу; лингвистическими же их делает устойчивая, закрепленная общественно-исторической практикой языкового коллектива связь с тем или иным звуковым комплексом. Думается, что единственное разграничение, которое можно провести
306
с известной долей определенности, — это разграничение компонентов, имеющих более устойчивый, ядерный, социально значимый характер, и компонентов, относящихся к более подвижной, периферийной ассоциативно-коннотативной зоне, глубина семантического наполнения которой варьируется в зависимости от уровня знаний говорящего индивида.
В процессе анализа словарного материала мы обратили внимание на тот факт, что представленные в словарных статьях фоновые знания включают в себя и некоторые продукты языковой деятельности политиков: новые термины, вошедшие в речевой обиход, расхожие словечки и фразы, ставшие популярными с легкой руки того или иного политика, афоризмы и пр.
Политическая деятельность, как известно, в значительной мере сводится к деятельности коммуникативной2. Эффективная словесная, вербальная деятельность во многом определяет успешность достижения политического результата. Именно благодаря вербальной деятельности политиков в итоге создается «иной чувственный и концептуальный мир — гипотетический образ реальности, который может ограничить умственные горизонты их аудитории и тем самым изменить ход истории»3. Поскольку для американской политической культуры в целом характерны значительное внимание и интерес к ораторскому мастерству публичных выступлений4, то неудивительно, что, в зависимости от популярности политика и степени его предрасположенности к языковому творчеству, сначала в речевой узус, а впоследствии и в языковую систему входят те или иные продукты их вербальной деятельности.
Таким образом, можно говорить о том, что каждая яркая историческая личность, будучи одновременно и престижной языковой личностью, оставляет свой след в языке. Эти следы, которые мы называем языковыми рефлексами политической коммуникации, и составляют предмет анализа в данной статье.
Смена государственного лидера, как правило, влечет за собой появление новых идей или теорий и соответственно изменение концептуального аппарата, а также, возможно, полную или частичную смену политического курса. Поэтому каждый новый президентский цикл связывается в языковом сознании американцев с определенным набором новых политических наименований (слов и словосочетаний), творцами или
307
«реставраторами» которых могут быть сами президенты, их окружение, политические противники или журналисты. Эти единицы, будучи высокочастотными и актуальными в политическом дискурсе определенной эпохи (то, что Т.В. Шмелева называет «ключевыми словами текущего момента»5), впоследствии становятся символами или знаками данной эпохи.
У. Сэфайер к числу наиболее ярких и популярных ключевых слов ХХ века относит следующие: New Deal (Новый курс), four freedoms (четыре свободы), day of infamy (день позора), fireside chat (беседа у камелька), ассоциирующиеся с эпохой Ф.Д. Рузвельта; domino theory (теория домино), massive retaliation (массированный ответный удар), связанные с эпохой Д. Эйзенхауэра; Great Society (Великое общество), war on poverty (война с бедностью), представляющие правление Л. Джонсона; silent majority (молчаливое большинство), Middle America («средняя Америка», средний класс), отражающие президентство Р. Никсона; evil empire (империя зла), star wars (звездные войны), ассоциирующиеся с эпохой Р. Рейгана, и т. д.
К числу ключевых слов, маркирующих период правления того или иного президента, относятся названия доктрин и политических программ. Однако, если названия доктрин по имени разрабатывавшего ее президента малоинформативны и ровным счетом ничего не говорят непосвященным, то есть практически носят дейктический, отсылочный характер (например, доктрина Монро, доктрина Эйзенхауэра, доктрина Трумэна, доктрина Никсона), то названия многих политических программ и направлений более информативны. Они либо раскрывают основное направление или принцип программы (выделим курсивом), например «Новый национализм» (New Nationalism) Т. Рузвельта, «Новый федерализм» (New Federalism) Р. Никсона, «Демократия по Джексону» (Jacksonian democracy) А. Джексона, «Демократия по Джефферсону» (Jeffersonian democracy) Т. Джефферсона, либо содержат оценочные слова, призванные привлечь симпатии народа или подчеркивающие благородство устремлений политиков, например «Честный курс» (Square Deal) Т. Рузвельта, «Справедливый курс» (Fair Deal) Г. Трумэна, «Великое общество» (Great Society) Л.Б. Джонсона, «Новые рубежи» (New Frontier) Дж.Ф. Кеннеди. Следует подчеркнуть особую популярность слова «new» («новый») в много
308
численных названиях политических доктрин и течений ХХ века. Исследователи отмечают, что это слово стоит на первом месте в списке наиболее частотных эпитетов в современной американской рекламе. Психологическая привлекательность всего нового для американцев связана с одной из характерных черт национального характера — динамичностью, стремлением к изменениям и новизне.
Время все расставляет по своим местам, и если высокие и благородные принципы, заявленные в названии программы, не выдержали испытания временем, то в общественном сознании происходит реверсия оценочного знака, как это случилось с выражением «благородный эксперимент» («noble experiment»), которым Г. Гувер характеризовал введение сухого закона. Выражение вскоре приобрело саркастическую коннотацию и в современном употреблении означает «безнадежно провалившееся начинание».
Нередко названия политических программ используются в качестве лозунгов предвыборных кампаний. Их связывает то, что и те и другие носят в большей или меньшей степени рекламный характер и рассчитаны на завоевание доверия избирателей. В своем предвыборном выступлении 1960 г. Дж.Ф. Кеннеди, противопоставляя лозунги демократической и республиканской партий, подчеркнул, что лозунги демократов («Новые рубежи», «Справедливый курс», «Новая свобода») полны глубокого смысла, что кандидаты демократов никогда не выставляли бездумных лозунгов типа «Возвращайтесь к нормальной жизни с Гардингом» («Return to Normalcy with Harding»), «Сохраняйте спокойствие с Кулиджем» («Keep Cool with Coolidge»), «Две курицы в каждой кастрюле с Гувером» («Two Chickens in Every Pot with Hoover»).
Предвыборные лозунги также относятся к языковым рефлексам политической коммуникации. Они являются знаками наступления очередного президентского четырехлетия и, в силу своей рекламной повторяемости, фиксируются в памяти языкового коллектива. По своей прагматической направленности лозунги подразделяются на следующие типы:
— обещающие, например: «Сорок акров и мул» («Forty Acres and a Mule»), «Каждый человек — король» («Every Man Is a King»), «Два доллара в день и ростбиф» («$2 a Day and Roast
309
Beef»), «Он может сделать больше для Массачусетса» («He Can Do More for Massachusetts»), «Мир и процветание» («Peace and Prosperity»);
— предупреждающие, например: «Кулидж или хаос» («Co- olidge or chaos»), «Гувер и благоденствие или Смит и бесплатные столовые для бедняков» («Hoover and Happiness, or Smith and Soup Houses»), «Спасите американский образ жизни» («Save the American Way of Life»), «Ваш дом — это ваша крепость: защитите его» («Your Home is Your Castle — Protect It»);
— призывающие к изменениям, например: «Гоните негодяев прочь» («Turn the Rascals Out»), «Время перемен» («Time for a Change»), «Сдвинем Америку с места» («Let’s Get America Moving Again»);
— бросающие вызов, например: «54-я параллель или война!» («Fifty Four Forty or Fight!»), «Свободу сейчас» («Freedom Now»), «Задай им жару, Гарри!» («Give’em hell, Harry!»);
— апеллирующие к благодарности, например: «Он уберег нас от войны» («He Kept Us Out of War»), «Если первый срок был хорош, то почему бы не избрать на второй?» («One Good Term Deserves Another»);
— пробуждающие теплые чувства и воспоминания, например: «Генерал Тейлор никогда не сдается» («General Taylor Never Surrenders»), «Страна, созданная для героев» («A Country Fit for Heroes»), «Голосуйте так, как вы стреляли» («Vote as You Shot»);
— апеллирующие к эмоциям, например: «Я люблю Айкаю» («I like Ike»), «Сердцем вы знаете, что он прав» («In Your Heart You Know He ‘s Right»).
К числу языковых рефлексов политической коммуникации относятся также политическая идиоматика и афористика. Это могут быть программные заявления политика, которые затем приобретают прочную ассоциативную связь с его именем, например высказывание В. Вильсона «Мы должны сделать мир безопасным для демократии» («The world must be made safe for democracy»), использованное им в качестве аргументации решения о вступлении США в первую мировую войну, или фраза из инаугурационной речи Ф.Д. Рузвельта «Единственное, чего нам следует бояться, так это самого страха» («The only thing we have to fear is fear itself»), содержащая призыв к
310
народу не поддаваться парализующей панике и сконцентрировать усилия на борьбе с депрессией.
Афоризмами становятся высказывания, выражающие представления политиков об этическим нормах политической борьбы. Так, в принадлежащем Элу Смиту афоризме «В Санта-Клауса не стреляют» («Nobody shoots at Santa Claus») критикуются попытки урезать правительственные программы социальной помощи. В. Вильсон считал, что «не следует добивать человека, совершающего политическое самоубийство» («Never murder a man who is committing suicide»). «Прощать, но никогда не забывать (“Forgive but never forget”)», — рекомендовал политикам Дж.Ф. Кеннеди. Приверженный идее политического консенсуса Л. Джожон любил цитировать библейскую фразу «Приди и давай поразмышляем вместе» («Come now, and let us reason together»). «Коней на переправе не меняют» («Don’t swap horses while crossing the river»), — советовал А. Линкольн соратникам по партии на съезде по выдвижению кандидата в президенты. «Государственная должность означает доверие народа» («Public office is public trust»), — был убежден Г. Кливленд.
Политическая афористика не сводится к единичным высказываниям. Наоборот, наиболее удачным из них уготована долгая жизнь в рамках непрерывно продолжающегося политического дискурса: они подхватываются другими политиками и, в зависимости от прагматических установок, цитируются, препарируются, перефразируются, пародируются, формируя, таким образом, своеобразный интертекстуальный диалог, «перекличку» политиков разных поколений. Рассмотрим примеры.
Г. Гувер в своей предвыборной кампании 1932 г. выражал угрозу разрухи, говоря, что в случае победы оппозиции и особенно снятия протекционистского тарифа «улицы зарастут травой» («Grass will grow in the streets»). Ф.Д. Рузвельт напомнил публике об этой угрозе в своем выступлении 1936 г.: «Я пытаюсь найти траву, которая должна была расти на улицах наших городов» («I look for the grass which was to grow on city streets»).
Л. Джонсон, вступив в должность президента через пять дней после убийства Дж.Ф. Кеннеди и цитируя в своей речи фразу Кеннеди «Давайте начнем» («Let us begin»), подчеркнул программную преемственность своего курса, сказав согражда
311
нам: «Давайте продолжим» («Let us continue»).Т. Джефферсон, формулируя концепцию изоляционистс
кой внешней политики США, выразил ее фразой «Не позволять вовлекать себя ни в какие союзы» («Entangling alliances with none»). Когда В. Вильсон пытался убедить соотечественников принять идею Лиги Наций, он подчеркивал, что не предлагает заключать союзы с иностранными государствами, которые вовлекут страну в конкурентную борьбу за власть. «Согласованное использование власти не есть союз, втягивающий страну в акции, в которых она не заинтересована» («There is no entangling alliance in a concert of power»).
Девиз Г. Трумэна «Беру всю ответственность на себя» («The buck stops here») неоднократно использовали в своих выступлениях Дж.Ф. Кеннеди, Л. Джонсон, Дж. Картер.
Библейская метафора «град на холме», означающая «блестящий пример, образец общественного устройства», в американской политической практике была впервые использована лидером пуритан Дж. Уинтропом. Впоследствии к ней не раз прибегали Дж.Ф. Кеннеди и Р. Рейган. Рейган, добавивший к этому выражению эпитет «сияющий», имел большой успех у аудитории, однако выступавший на съезде демократической партии губернатор Нью-Йорка обернул этот образ против него, подчеркнув, что «горькая правда заключается в том, что далеко не всем достается доля в блестящем великолепии этого города» («The hard truth is that not everyone is sharing in this city’s splendor and glory»).
Излюбленные выражения президентов, становясь благодаря средствам массовой информации достоянием общественности, начинают работать на имидж политика, формируя в сознании публики определенный стереотип восприятия его личности. Так, в частности, приведенные в начале статьи идиомы из речевого репертуара Г. Трумэна характеризуют его как чрезвычайно ответственного человека, очень серьезно относящегося с исполнению возложенных на него государственных обязанностей. Любимая поговорка Т. Рузвельта «Говори мягко, но всегда держи в руках большую дубину» («Speak softly and always carry a big stick»), ставшая воплощением его концепции политики с позиций силы, а также выражение «Я здоров как бык» («Fit as a bull moose»), которое впоследствии дало название возглавляемой им Прогрессивной партии (Bull Moose Party),
312
сыграли не последнюю роль в формировании образа этого президента как воплощения мужественной агрессивности — человека сильного, уверенного в себе, крепкого физически и морально, предпочитающего традиционно мужские занятия — войну, спорт и охоту.
Для современной американской речевой культуры, как известно, характерна демократизация межличностных отношений в коммуникации и высокая степень неформальности общения даже на публичной дистанции. Это, в частности, проявляется в том, что даже в деловом, институциональном общении нормой является употребление уменьшительного, «семейного» имени, независимо от статуса собеседника, а также в общепринятой практике использования прозвищ по отношению к известным личностям, в том числе и политикам самого высокого ранга. Прозвища политиков становятся официально закрепленными, вносятся в словари и справочники, используются в посвященных их жизни и деятельности газетных публикациях и литературных произведениях.
С точки зрения своего языкового статуса прозвище, будучи синонимом имени собственного, отличается от него тем, что выполняет не только номинативную, но прежде всего характеризующую функцию. Вынося на передний план значимое для языкового коллектива качество личности, прозвище становится одним из средств создания языкового портрета политика. Как показал анализ материала, прозвища американских президентов имеют либо оценочно-нейтральную, либо, значительно чаще, положительную коннотацию одобрения, уважения, восхищения. В прозвищах отмечаются заслуги политика перед страной: «отец своей страны» («Father of his country») — Дж. Вашингтон, «отец Конституции» («Father of the Constitution») — Дж. Мэдисон, «великий освободитель» («The Great Emancipator») — А. Линкольн; подчеркивается высокий интеллект: «мудрец из Монтичелло» («The sage of Monticello») — Т. Джефферсон; выделяются морально-волевые качества: «честный Эйб» («Honest Abe») — А. Линкольн, «старый вояка» («Old Rough and Ready») — З. Тейлор; оцениваются коммуникативные данные: «маленький волшебник» («The Little Magician») — М. Ван- Бюрен, «молчаливый Кэл» («Silent Cal») — К. Кулидж, «великий мастер общения» («The Great Communicator») — Р. Рейган.
313
Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что языковой образ политика создается за счет фиксации в языковом сознании говорящего коллектива тех или иных следов коммуникативной деятельности самого политика, его окружения и политических противников — новых политических терминов, названий политических программ и курсов, политических лозунгов, прозвищ, афоризмов и избирательно предпочтительных идиом.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Hirsch E.D.- Jr., Kett J.F., Trefil J. The Dictionary o/ Cultural Literacy. Boston & N. Y. : Houghton Mifflin Company, 1993; Tuleja T. The New York Public Library Book o f Popular Americana. N. Y. : Macmillan, 1994.
2. Safire’s New Political Dictionary. N. Y. : Random House, 1993; Graver D. Verbal Behavior and Politics. Chicago, 1976; Edelman M. The Symbolic Uses o f Politics. Illinois. Urbana, 1964; Ушакин С.А. Речь как политическое действие / / Полис. 1995. № 5. С. 142—153.
3. Graver D. Verbal Behavior and Politics. Chicago, 1976. P. 48.4. Бурстин Д. Американцы: Демократический опыт. М., 1993;
Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. М., 1992.5. Шмелева Т.В. Ключевые слова текущего момента / /
Collegium. Киев. 1993. № 1. С. 33—41.
314
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬ ТУРНЫХ КОМ М УНИКАЦИЙ
О.Ю. Скрябина
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ В США
Происходящий в настоящее время информационный взрыв, переход человечества от индустриального общества к информационному, требует коренного пересмотра содержания образования и методов обучения.
Новые информационные технологии обладают большими возможностями для совершенствования учебного процесса и системы образования в целом, поэтому интерес к их использованию в учебной деятельности растет. Однако в отечественном образовании влияние научно-технического прогресса на изменение его целей и содержания до сих пор ощущается опосредованно1. С точки зрения А.Ю. Уварова, «педагогическая общественность слабо осознает проблемы и опасности, которые несет широкое распространение информационных технологий, с которыми придется столкнуться сегодняшним школьникам и студентам». Более того, «задача подготовки учащихся к работе с информацией пока в явном виде не сформулирована»2.
Если суть информатизации образования состоит в том, что обучаемому становится доступным гигантский объем информации в базах данных, экспертных системах, компьютеризованных архивах, справочниках или энциклопедиях3, то соответственно каждый участник образовательного процесса должен: а) иметь возможность доступа к банку данных и средствам информационного обслуживания; б) знать о существовании общедоступных источников информации и уметь ими пользоваться; в) оценивать и обрабатывать имеющиеся у него данные с
315
различных точек зрения.К сожалению, в российской системе образования у боль
шинства обучаемых нет доступа к «электронной активной информации»4. Это ведет к появлению у индивида неготовности к использованию информационных технологий в сфере собственной учебной деятельности. В силу этого информационные технологии, в том числе и компьютерные, чаще всего используются в наших школах либо как объект изучения (информатики), либо в качестве средства обучения отдельным учебным дисциплинам.
Следовательно, существующая в настоящее время система образования в нашей стране не соответствует требованиям «постиндустриального»5 общества, поэтому необходимо, учитывая опыт мировой зарубежной школы по введению новых информационных технологий в образовательный процесс, начать создание новой модели системы образования в условиях «информационного общества»6.
Первенство в создании новых информационных технологий, как и в их применении в сфере образования, принадлежит США. Так, Р. Картером выделяются два этапа в истории внедрения информационных технологий в практику американского образования: «этап электромеханических и этап электронных (компьютерных) методов»7.
В 1926 г. американцем С. Прессеи была изобретена первая механическая машина для оптимизации процесса обучения. А позднее профессор Беррес Фредерик Скиннер, обосновав необходимость применения обучающих машин в образовательном процессе, разработал основные принципы включения информационных технологий в учебную деятельность.
В американском образовании на сегодняшний день различают три основных направления в использовании информационных технологий: 1) информационные технологии как объект изучения; 2) информационные технологии как инструменты познания; 3) информационные технологии как средство повышения эффективности научного исследования8.
Термин «информационная технология» является сравнительно новым понятием, которое появилось в научной практике лишь после второй мировой войны в связи с развитием компьютерных технологий. Наряду с понятием «информационная технология» в методической педагогической литературе
316
США использовался термин «учебная медиа», который трактовали как «совокупность всех технических средств, технологий и т. д., предназначенных для хранения, передачи или демонстрации каких-либо сообщений»9.
Увеличивающиеся возможности компьютера постепенно привели к вытеснению понятий «учебная медиа», «программированное обучение» термином «информационные технологии»10. В американской психолого-педагогической теории до сих пор нет унифицированного определения данной научной категории. В общем плане под информационной технологией понимается «система, включающая в себя такие коммуникационные сети, как спутниковые, двусторонние интерактивные, компьютерные, а также видеотехнологии»11.
Считая, что любое средство обучения является лишь средством реализации методической идеи, американский исследователь Ричард Элан Смит создал классификацию информационных технологий, основанную на их дидактических функциях12. Так, Р.Э. Смит выделяет три основных класса информационных технологий: а) рецептивные, т. е. рассчитанные только на восприятие и усвоение знаний учащимися; б) интерактивные (в которых происходит взаимодействие учащихся и обучающей системы в форме диалога человека и машины); в) технологии справочно-информационной поддержки обучения.
Применение информационных технологий в американской школе основывается на ряде дидактических концепций. Одна из них — теория программированного обучения Б.Ф. Скиннера, согласно которой оптимизация учебного процесса возможна за счет его алгоритмизации. Другой американский педагог Г.А. Краудер предлагает реализацию дидактических принципов индивидуализации и дифференциации в обучении через информационные технологии. Увеличивающиеся возможности технических средств способствуют появлению новых психологических и педагогических теорий, цель которых состоит в эффективности их использования в сфере образования. Одной из них является теория конструктивизма, касающаяся процесса построения знаний субъектами обучения. Профессор Д.Х. Джонассен считает, что конструктивистские модели обучения позволяют создать среды, в которых учащиеся активно действуют и сами конструируют свои собственные знания, а не воспринимают мир таким, каким его интерпре
317
тирует им учитель13. Таким образом, из «носителя истины» учитель превращается в соучастника продуктивной деятельности своего воспитанника. Происходит качественный сдвиг в существующих отношениях между педагогами и учащимися. Новые информационные технологии — третий партнер в учебном процессе. Они представляют новые возможности другим его участникам и требуют изменения сложившихся отношений между ними.
Учитель в американской школе перестает выступать перед учениками в качестве источника первичной информации. Он превращается в посредника, который лишь облегчает ее получение. Вопрос о том, где взять необходимые сведения, заменяется вопросом, сколько данных и в каком виде в состоянии воспринять и усвоить учащиеся.
В средней и в высшей школе США успешно используются следующие виды информационных технологий, которые представляют определенную ценность для российского образования: а) базы данных — компьютеризированные системы хранения документов и т. д.; б) электронные таблицы познания — компьютеризированные числовые записи; в) семантические сети — обеспечение визуальных и речевых средств для создания познавательных карт; г) экспертные системы — познавательные инструменты на базе компьютера, которые используются при принятии решений; д) мультимедиа — объединение нескольких средств предоставления информации в одной системе; е) гипермедиа — узлы информации, включающие в себя страницы текста, графику, звуковую информацию, видеоклипы и т. д.
В условиях информатизации общества каждый участник образовательного процесса должен владеть специальными умениями и навыками использования всех возможных источников информации. В России, к сожалению, в образовательной сфере педагоги не занимаются обучением учащихся умению организовывать хранение информации, анализировать и выбирать ее адекватные формы. Тем не менее мы полагаем, что включение в будущем в содержание профессиональной подготовки педагогов аспекта, направленного на более широкое знакомство с информационными технологиями, может способствовать созданию в России благоприятных условий для расширения информационного пространства всего общества.
318
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Уваров Л.Ю. Начальная школа и реформа образования / / Инфо. 1994. № 3. С. 2 -14 .
2. Там же. С. 5.3. Вильямс Р., Маклин К. Компьютеры в школе. М., 1988;
Джонассен Д. Компьютеры как инструменты познания / / Информатика и образование. 1996. № 4. С. 117—135; Saetler P. The Evolution of American Educational Technology. Englewood, 1990.
4. Уваров Л.Ю. Начальная школа и реформа образования / / Инфо. 1994. № 4.
5. Saetler P. Op. cit.6. Георгиева Т. С. Высшая школа США на современном этапе.
М., 1989.7. Saetler P. Op. cit.8. Ibid. P. 5.9. Ibid. P. 453.10. Вильямс Р., Маклин К. Указ. соч.11. Там же.12. Там же.13. Джонассен Д. Указ. соч. С. 117—135.
Л.В. Смирнова
МОНТЕССОРИ: ОБРАЗОВАНИЕ В ОПЫТЕ РУССКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУР
Благодаря глобальным социально-политическим, экономическим изменениям в мире вообще и в России 1980-х в частности, сфера образования, как и другие жизненно важные для человека сферы, на современном этапе характеризуется процессами интеграции, взаимопроникновения, взаимообогаще- ния и взаимовлияния культур, созданием единого экономического, образовательного пространства.
Анализ тенденций в области образования свидетельствует о восприимчивости разных культур и социальных систем к гуманистически ориентированным моделям образования. История распространения педагогики Монтессори в мире представ
319
ляет собой пример такой тенденции.Анализ литературы по проблеме интеграционных процес
сов в образовательном пространстве и наблюдения на практике показывают, что процесс адаптации зарубежных инновационных прогрессивных идей имеет: 1) общие для всех культур стадии знакомства, принятия, трансформации, внедрения и развития инновационной идеи; 2) национальные и культурные особенности ее распространения; 3) условия эффективности интеграции зарубежного новационного и национального традиционного педагогического опыта (от возникающей потребности в обновлении до научного регулирования этого процесса).
Для всех стран, включая Россию, общим является временной период проникновения информации о Марии Монтессо- ри, ее гуманистической образовательной системе и о распространении ее в общественных и педагогических кругах 1912—1913 гг. Именно тогда был осуществлен перевод ее книги на разные языки, прошел первый международный методический тренинг-семинар. Весть о нем облетела весь интернациональный педагогический мир, а опыт создания в Италии домов ребенка был подхвачен участниками первого слета единомышленников Монтессори (1913 г.).
Прежде чем приступить к анализу параллелей в опыте распространения Монтессори-образования в русской и американской культурах, раскроем вкратце философские основы ее педагогики.
Мария Монтессори (1870—1952)1 была первой женщиной в истории Италии, которая как врач получила степень доктора медицины в Римском университете. К педагогике она пришла через медицинскую практику, лечение и обучение детей с ограниченными возможностями, через получение второй ученой степени доктора антропологии. Вся система Монтессори-обра- зования строится на основе длительного, научно обоснованного наблюдения и тщательного отбора приемов и средств стимулирования самостоятельного поиска ребенком знаний.
В системе Марии Монтессори впервые в истории педагогики была сделана попытка увязать процессы восприятия и сохранения информации в памяти ребенка. Монтессори считала, что интеллект человека — это следствие уникальной цепи взаимодействий между наследственностью и средой, а не гене
320
тически предопределенные ограниченные возможности человеческого разума.
Познавательный процесс, по Монтессори, — это активное, спонтанное взаимодействие с окружающим миром, без которого невозможно любое развитие. Монтессори подчеркивала преимущество внутренней мотивации перед внешним контролем поведения: действие предшествует мысли, поскольку мысль — это внутреннее действие.
Философия Монтессори опирается прежде всего на свободу ребенка, как внешнюю, так и внутреннюю, в сочетании со сложной структурой материалов, используемых в классной комнате. Свобода, по Монтессори, означает независимость от других и возможность выбирать различные виды материалов в пределах класса. Мария Монтессори считала, что, выбирая свою работу, ребенок приучается к дисциплине учебного процесса и таким образом достигает автономии. Одна из характерных особенностей класса Монтессори — это большая сосредоточенность, которая отражается на лицах детей. Кажется, эту сосредоточенность не нарушит ничто, что происходит в классе. Она вызвана интересом ребенка к своим занятиям и тем удовольствием, которое он получает от работы.
Расписание в классе Монтессори разделено на 5 сфер (зон): практическая, сенсорная, языковая, математическая и культурная. Каждая из этих зон направлена на достижение своих конкретных целей в развитии личности ребенка.
Цель зоны практической жизни — помочь ребенку стать независимым, усовершенствовать его движения и научить быть полезным другим. В практической жизни ребенок выполняет обычные для взрослых ежедневные действия. Предлагая ребенку реальную работу в реальном мире, педагог подчеркивает, что понимает стремление ребенка иметь цель добиться успеха в окружающем мире. Упражнения этой зоны формируют базу для последующего обучения и устанавливают связь между домом и школой.
Материалы в этой зоне свои для каждой классной комнаты. Так как они изначально основаны на непосредственном окружении ребенка, уровне его развития, нельзя сказать определенно, каким именно должен быть список этих материалов или занятий. Зона практической жизни подразумевает простые и точные задания, за выполнением которых взрослыми ребенок
321
уже наблюдал. Кроме того, упражнения косвенно подготавливают ребенка к дальнейшим занятиям.
В классной комнате зона практической жизни, как правило, располагается рядом с источником воды. Характер предлагаемых действий здесь разнообразен. Это и пришивание пуговицы, и завязывание галстука, переливание жидкостей, приготовление пищи, уборка помещения, уход за животными. В каждом конкретном случае обязательно подчеркивается необходимость последовательного выполнения работы. В каждом действии есть начало, середина и конец. Движение слева направо, которое вводится этими действиями, впоследствии пригодится ребенку при обучении чтению, организации работы и самооценке своей деятельности. Кроме того, ребенок учится обходиться без помощи взрослого, обретает уверенность в себе.
Главной целью этой зоны стало создание гармонии в душе ребенка. Упражнения способствуют развитию как физическому, так и эмоциональному. Монтессори называет этот процесс нормализацией.
Нормализованный ребенок, по Монтессори, — это ребенок, который живет в мире со своим окружением, с внутренней мотивацией и самодисциплиной, открытый для знаний, сторонник порядка и тишины. Он развивает в себе концентрацию, повторяет упражнения по своему выбору снова и снова. Это сознательное повторение ребенком упражнений свидетельствует о том, что они удовлетворяют его внутреннюю потребность в развитии. Повторение совершенствует мастерство и координацию. Важно не выполнение задания, а процесс, который помогает приобрести сосредоточение и координацию для дальнейшего успеха в интеллектуальной деятельности.
Когда, наконец, внутренняя дисциплина, доверие, понимание процесса занятий воспитаны в ребенке через опыт практической жизни, он готов к занятиям по математике, языку, культуре.
Монтессори поясняла смысл, который она вкладывала в понятие «сензитивных периодов развития». Она считала необходимым соответствие окружающего мира меняющимся потребностям ребенка. В качестве руководства к действию Монтессори выделила восемь таких периодов:
1-й (2—4 года) — порядок: основан на жизненных потреб
322
ностях, потребности в точном и стабильном окружении; 2-й (0—1,5 года) — движение; 3-й (1—1,5 года) — интерес к мелким предметам; 4-й (2,5—8 лет) — социальное сознание: желание более активного контакта с окружающими; 5-й (2,5—6 лет)— развитие чувств, музыка; 6-й (3,5—4,5 года) — письмо; 7-й (4,5—5,5 года) — чтение; 8-й (0—6 лет) — язык.
Монтессори утверждала, что развитие чувств наиболее активно происходит в возрасте от 3 до 8 лет. В этом возрасте ребенка больше привлекают стимулы, чем причины. Поэтому необходимо их методично выбирать для дальнейшего рационального развития чувств.
Монтессори считала необходимым воспитание целостной личности и разработала систему, направленную на решение этой задачи. Эта система позволяет ребенку заниматься самообразованием. Дидактические материалы Монтессори направлены на развитие органов чувств. Повторяя упражнения многократно, ребенок методически совершенствует свое восприятие. Таким образом, образование основывается не на способностях учителя, а на дидактической системе, разработанной Монтессори.
С помощью органов чувств воспринимаются образы внешнего мира; как руки, так и чувства можно приспособить для выполнения более сложных заданий и в итоге — для служения духу. Процесс воспитания чувств Монтессори делила на 8 частей: развитие зрительных, цветовых, тактильных, температурных, весовых ощущений, осязание формы руками, ощущения звука, обоняния, вкуса. Очень важно осознавать, что, кроме новых впечатлений, сенсорный аппарат выполняет важную функцию упорядочения знаний, которые ребенок уже приобрел.
Одной из задач упражнений по воспитанию чувств является также подготовка к интеллектуальному развитию (развитию математического мышления) и тренировка моторики для письма в будущем.
Монтессори создала также и собственную программу обучения языку. В ее системе языковое развитие начинается не с приходом в школу, а с рождения. Поэтому она разработала непрямой способ помощи ребенку в открытии письменного общения. Монтессори считала задачей обучения не предоставление ребенку техники чтения, а его освобождение, раскрепощение для самовыражения и общения. По ее теории, ребенок
323
может научиться читать и писать так же естественно, как он учится ходить и говорить. Она считала неправильной процедуру обучения сначала чтению и лишь потом — письму. Монтессори писала о том, что в письме ребенок выражает свои мысли через символы; при чтении же он должен понимать мысли других. Поэтому письмо — это то, что ему известно, потому что он излагает все своим языком. Читая, ребенок имеет дело с неизвестным — чужими мыслями, это гораздо сложнее.
В этой зоне, как и в других, необходимо учитывать «сен- зитивные периоды развития» ребенка.
С момента, когда ребенок впервые входит в класс Монтессори, начинается и процесс его языкового развития. Через упражнения в зоне практической жизни ребенок учится контролировать координацию глаз и рук, что впоследствии поможет ему при обучении письму. При работе с материалами, развивающими его чувства, он учится более ясному и конкретному пониманию порядка и последовательности. Ребенок развивает в себе умение различать зрительно и на слух, сравнивать и классифицировать. Многие упражнения направлены на ухватывание предметов теми же тремя пальцами, которые держат карандаш.
Программа обучения языку разделена на 4 последовательных этапа: 1) говорение и слушание; процесс, продолжающийся в течение всей жизни: детям читают книги всех типов (фантастика, о животных, людях, отношениях между людьми). Через постоянное погружение в язык ребенок экспериментирует со словами и мыслями; 2) чтение с помощью магнитной азбуки, кассы букв и слогов (механический этап). Повторение упражнений закрепляет порядок написания каждой буквы в мускульной памяти ребенка; 3) продвижение к чтению слова — через начальные опыты в письме ребенок усваивает несколько гласных и согласных, начинает строить короткие слова; 4) логическое соединение слов в предложения; слова, чтение становятся естественными. Когда ребенок видит короткое слово, он пытается озвучить его, с помощью вспомогательных картинок начинает формировать собственные предложения.
Так как ребенок в классе Монтессори предварительно получил много информации, он может представлять свои сочинения на различные темы (по истории, географии, музыке).
324
Каждая зона развивает в ребенке чувства порядка, концентрации, координации и независимости. Ребенок уже выполнил множество задач, подготовивших его к более абстрактной работе с вычислениями и математическими операциями. Когда ребенок начинает изучать материалы по математике, он опирается на знания, приобретенные в других зонах.
Арифметические материалы Монтессори развивают понимание количества. Все материалы основаны на сенсорных материалах и поэтому конкретны, наглядны и тактильны. Математические материалы, как и любой другой дидактический материал Монтессори, эстетически привлекательны, упорядочены и помещены в определенной последовательности. Каждый материал направлен на отработку определенной концепции.
При работе с математическим материалом Монтессори существуют четыре этапа, на которые следует обратить внимание: представление, практика, точность, усовершенствование. Ребенку выделяют три часа на знакомство с материалом (количество представляется перед символом). Постоянно повторяя упражнения, ребенок развивает в себе точность и приходит к пониманию концепции.
География — наука о земле, на которой человек живет, а история — наука о человеке, который живет на земле. Эти науки неотделимы и преподаются в системе Марии Монтессори как одна. При этом дети в классе Монтессори получают представление о целом и лишь потом переходят к изучению отдельных частей света: континентам и океанам, горам, водоемам. Для ребенка легче узнать другую страну, если он сначала узнает себя и получит представление о близком его окружении (классной комнате, районе, городе и стране, где он живет).
Ребенок узнает о климате, как люди живут, одеваются, передвигаются и едят. Температура, погода, облака, времена года помогают ему осознать, как климат определяет и его жизнь. Получив первоначально знания о растениях, влиянии на них солнца и воды, ребенок лучше усвоит материал о бесплодных землях и тропических лесах.
Философия Монтессори основана на воспитании чувств (дальнейшем развитии образовательных навыков). Работая над развитием чувств ребенка с помощью упражнений на выработку умения различать форму, цвет, фактуру, материал, вес, тем
325
пературу и звук, Монтессори считала, что дети таким образом подготавливаются к выполнению мыслительных операций. Один из исследователей Монтессори Хейнстог замечает, что воспитание чувств состоит именно в постоянном повторении упражнений, цель которых не в том, чтобы ребенок знал цвета, форму и различные качества предметов, а в постоянном усовершенствовании чувств через тренировку внимания, сравнения, анализа. Красота заключена в гармонии, а не в контрасте, гармония — это усовершенствование. Этот процесс неизбежно приводит к упорядочению знаний ребенка, перехода от конкретного к абстрактному и от простого к сложному. У Монтессори каждый комплект материалов предназначен для упражнений одной концепции и, таким образом, одного правильного ответа. Монтессори считала, что, когда ребенок отрабатывает одно определенное умение, он становится свободным в этой конкретной ситуации, а процесс повторения «самоуправления» способствует дальнейшему приобретению знаний. Когда ошибки случаются при использовании материалов Монтессори, ребенок с помощью чувственного опыта увидит ошибку зрительно (в размещении материала) и исправит себя сам.
Оригинальным в системе Марии Монтессори является ее взгляд на роль желаний и необходимости, которые ребенок испытывает по отношению к работе. Она отвергала концепцию, или идею, игры, считая, что игра не может быть частью образования ребенка, потому что не имеет принципиального значения для развития знаний.
У Монтессори и ее последователей весьма твердые взгляды на использование игры в обучении. Вот смысл одного из высказываний Монтессори: «В жизни ребенка игра не имеет большого значения, это то, чем ребенок занимается, когда ему больше нечего делать. Реальная жизнь сама по себе достаточно интересна без притворства и фантазий. Воображаемые занятия лишь отвлекают, дезорганизуют личность. Богатое воображение занимает высокое место в иерархии умственных способностей человека. Настоящая изобретательность тем не менее приобретается не через опыт игры»2. Монтессори считала, что работа детей должна быть внутренне мотивированной. Она выступала против деятельности, которая включает фантазию, притворство, рисование (которое не воспроизводит реальность), загадки и игры.
326
Предполагается, что дети проводят время, совершенствуя навыки, которые помогут им в будущей взрослой жизни. Монтессори считала, что фантазии только замедляют развитие ребенка и его превращение во взрослого.
В системе Монтессори придается большое значение индивидуальной работе как средству достижения социальных и познавательных целей. Ребенок развивается социально через взаимодействие, понимание и узнавание общества. Дети работают вместе, чтобы достичь порядка в классной комнате. Поощряется, когда все вместе несут ответственность за содержание класса в чистоте и порядке, когда каждый имеет возможность работать в своем ограниченном пространстве. Через работу детям прививается вежливость, уважение к другим и их работе. Монтессори считала, что этот процесс, как и продвижение в работе, помогают подготовке ребенка к жизни в обществе. Кроме того, так как количество материалов ограниченно, дети учатся терпению и умению ждать, пока не освободится нужный им материал. Они изначально самостоятельно выбирают материалы и работают с ними. В классе Монтессори все работают вместе. Так как здесь учатся дети разных возрастов, между ними возникают отношения партнерства и взаимопомощи. Более старший и знающий ученик может помочь в овладении материалом младшему. Это обстоятельство позволяет взглянуть на деятельность с другой стороны. Старший ребенок при объяснении закрепляет знания, а младший приобретает навыки в языке, общении. Таким образом, этот процесс обогащает обоих.
Особое место в системе Марии Монтессори занимает фактор автономии ребенка. По Монтессори, автономия — часть развития воли человека, и, таким образом, развитие автономии неотделимо от развития дисциплины. Ее идея автономии лучше всего соотносится с общепринятым значением этого слова — правом принимать решения.
Монтессори утверждала, что сила воли — основа соблюдения моральных правил и самодисциплины, она отражена в способности подчиняться. Эта способность является заключительной стадией в развитии воли. Чтобы понять этот мыслительный процесс так, как его видела Монтессори, необходимо дать точное определение воли. Воля, как определено в 8-м издании нового словаря Уэбстера для колледжей, раньше выражала же
327
лание, выбор, готовность и согласие. Монтессори определяет волю как силу, которая приводит в движение деятельность, полную жизни. Например, природа возлагает на ребенка задачу вырасти, повзрослеть, и его воля заставляет его идти вперед и развиваться. Монтессори выделяет три стадии развития воли: 1. Ребенок начинает повторение деятельности. Повторение осуществляется при концентрации внимания и достижении определенной степени сосредоточенности в одном из упражнений. Это достижение приносит чувство власти и независимости ребенку. Достигнув его, ребенок переходит ко 2-й стадии. 2. Спонтанно он приходит к самодисциплине как образу жизни. Например, дети свободно выбирают работу и повторяют работу, которую они выбрали сами, это развивает у них осознанность действий. То, что началось как импульс, теперь перешло в намеренное действие. В таком состоянии ребенок начинает совершать поступки. Придя к самодисциплине, он переходит к 3-й стадии развития. 3. Появляется способность подчиняться. Ребенок развил способность действовать осмысленно, по своему желанию, и способность подчиняться начинает внедряться в его сознание. Данный процесс продолжается как результат постоянного опыта. Монтессори считает опыт не чем-то врожденным, а тем, что должно развиваться и по этой причине является частью природы. Это развитие может происходить только в соответствии с законами природы. Это медленный процесс, который осуществляется при постоянном взаимодействии с окружающей средой.
Когда достигнута последняя стадия развития, появляется подчинение законам жизни, и это подчинение позволяет развиваться человеческой жизни и обществу. Таким образом, согласно Монтессори, воля и подчинение идут рука об руку, притом что воля — более раннее образование в процессе развития и подчинение впоследствии основывается на ней. Слово «подчинение» приобретает новое, более широкое значение. Оно в то же время подразумевает превращение, изменение воли человека. Подчинение рассматривается как нечто, что развивается в ребенке почти в такой же степени, как другие стороны его характера. Сначала оно диктуется импульсом, потом поднимается до уровня сознательности, продолжает развитие ступень за ступенью до тех пор, пока не попадает под контроль сознательной воли. К концу этого процесса ребенок приходит
328
к самостоятельному функционированию, контролирует и управляет собой, то есть становится автономным.
Таковы вкратце основные положения философии Монтес- сори-образования, которые раскрывают суть ее гуманистического подхода к ребенку в системе его воспитания и обучения.
Каковы же этапы распространения и внедрения Монтес- сори-образования в опыте русской и американской культур?
Распространение и внедрение Монтессори-педагогики в России начала XX века связано с именами П.П. Блонского, И. Маннсенной, Е. Тихеевой, Ю. Фаусек, и успех этого процесса объясняется благоприятно сложившимися условиями — доминированием сенсорного подхода в отечественной педагогике.
Начало 1930-х характеризуется спадом интереса к Мон- тессори-педагогике в России и за рубежом. Но причины, объясняющие это явление в разных странах, неоднородны.
В американской культуре угасание интереса к Монтессо- ри-образованию объясняется противоречиями, возникшими между сформировавшимися в национальной педагогической теории и практике традициями прогрессивизма и противоположными им положениями системы Монтессори. В частности, Джозеф Хант в предисловии к изданию главного труда итальянского педагога «Монтессори-метод» писал, что ведущим аргументом критики теории Марии Монтессори было «столкновение ее идей с устоявшимися положениями американских психологов о врожденном интеллекте и игнорировании ими раннего периода обучения»3.
В России же спад интереса к педагогике Монтессори объяснялся социально-политическими причинами. После революции 1917 г. все то, что было враждебно пролетарской культуре, отчуждалось и в педагогике. Появившиеся в начале XX в. более десятка Монтессори-школ были закрыты, а переведенные на русский язык ее статьи и книги уничтожены, как не отвечавшие запросам воспитания и образования пролетарского ребенка.
Второй этап развития Монтессори-педагогики и возрождения интереса к ней в Европе и Америке приходится на 1950— 1960-е годы, поскольку многие из открытых ею педагогических принципов соответствовали новациям в теории познания, в развитии гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу
329
и др.). Распространению Монтессори-школ в Америке способствовало изучение феномена переноса зарубежной прогрессивной образовательной системы в американскую культуру профессором Н. Рэмбуш и создание ею Национального общества Монтессори. Третий этап в эволюции Монтессори-педагогики в Америке и Европе совпадает со вторым этапом ее возрождения в России. Эти этапы объединяет наличие общих факторов, определяющих глобальные социально-политические, экономические изменения в мире в целом и перестроечные процессы в России 1980-х.
Процесс распространения Монтессори-педагогики в России 1990-х во многом напоминает аналогичный процесс адаптации зарубежной инновационной системы к американской культуре 60-х гг. и характеризуется возникновением противоречий между требованиями Международной ассоциации Монтессори, с одной стороны, выступающей за неукоснительное следование ее принципам, и особенностями национальных и культурных образовательных традиций — с другой.
Как в Америке 60-х гг. возникло два течения в процессе адаптации Монтессори-педагогики под руководством АМ1 (Международной Монтессори-ассоциации) и АМБ (Национального общества Монтессори), так и в России сложилось два подхода к этому процессу — первый, возглавляемый Межрегиональной альтернативной М онтессори-ассоциацией «МАМА» (президент — канд. психол. наук Д. Сороков), и второй, адаптирующий зарубежную систему к национальным условиям, реализуемый журналисткой Е. Хилтунен и ее Домом ребенка (Москва).
Как видно, процесс адаптации Монтессори-педагогики в России повторяет аналогичный процесс в зарубежных системах образования и подтверждает существование открытых американским профессором Н. Рэмбуш трех его стадий: 1-я — проникновение зарубежной инновационной идеи в новое образовательное пространство (эта стадия для всех культур одинакова, но пути проникновения новаций могут быть различными); 2-я — положения уже известной теории интегрируются в новых условиях в соответствии с культурными и национальными традициями; 3-я — процесс нивелирования и согласования различий между зарубежной теорией (идеи, сис
330
темы) и сложившимися образовательными традициями и национальными особенностями.
Анализ зарубежной литературы и наблюдения за процессом адаптации Монтессори-образования к российскому и любому другому менталитету показывают, что в стране должны сложиться благоприятные социально-педагогические условия для восприятия и успешного распространения зарубежной инновационной идеи.
Одним из условий эффективности протекания процесса адаптации зарубежной образовательной системы к национальным условиям является и постижение ее основных положений, принятие учителями ведущих концептуальных идей, знакомство и вооружение молодого поколения педагогов философскими и технологическими основами Монтессори-образования, что в настоящее время успешно осуществляется в стенах Волгоградского государственного педагогического университета.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Fred A. Maria Montessori: А Biography / / Kramer R. Maria Montessori: Foreword. N. Y. , 1994.
2. Montessori in Contemporary American Culture / Edited by M.H. Loeffler. N. Y , 1992.
3. Rambush N. The American Montessori Experience / / The American Montessori Society Bulletin. 1977. Vol. 15. P. 42.
И.С. Бессарабова
РОЛЬ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ДЖЕРОМА БРУНЕРА
В РАЗВИТИИ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ
Имя Джерома Брунера — профессора Гарвардского и Оксфордского университетов, видного психолога и педагога, автора работ «Психология познания», «Процесс обучения», «О познании», «К теории обучения» и др. широко известно как в
331
Америке, так и в ряде других стран.Анализ психолого-педагогической литературы, посвящен
ной деятельности Дж. Брунера, позволяет утверждать, что расцвет его творческой активности приходится главным образом на 1960-е годы, когда в американской педагогической психологии происходит смена ведущего направления. Раньше господствующие позиции в ней занимал бихевиоризм, акцентирующий внимание на объективном изучении поведения посредством анализа системы отношений «стимул — реакция» («S— R»). Наиболее известные представители этого направления (Д. Уотсон, У. Джеймс, К. Лешли, А. Вейс, Э. Торндайк, Э. Тол- мен, Д. Мид и др.) утверждали, что всякое поведение можно рассматривать как ответные реакции на стимулы. Однако постепенно психологическое сообщество пришло к пониманию, что поведение человека — чрезвычайно сложное явление и его невозможно объяснить только на языке «S — R».
Изучение психолого-педагогической литературы показывает, что в 1960-е годы на передний план выдвигаются идеи когнитивной психологии познавательных процессов. «Главной проблемой когнитивной психологии, — пишет американский ученый Роберт Солсо, — является то, как люди получают информацию о мире, как эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение»1.
На становление идей когнитивной психологии большое влияние оказала научно-техническая революция. Р. Солсо называет несколько факторов, обусловивших появление данного направления в области компьютерной науки2. «Компьютерная наука и особенно один из ее разделов — искусственный интеллект — заставили пересмотреть основные постулаты, касающиеся обработки и хранения информации в памяти, а также научения языку»3.
Теорию когнитивного обучения в США развивают А.С. Питерсон, П. Бернс, У. Валленс, Р. Маккуин, Дж. Брукс и др. Выдвигая на передний план задачу развития умственных способностей учащихся, когнитивисты исходят из убеждения, что разработка содержания образования и построение учебного процесса должны максимально способствовать развитию мотивов, интересов, способов мыслительной деятельности учащихся.
332
Современные когнитивисты широко опираются на концепции Джерома Брунера, на протяжении многих лет исследующего проблемы познания. По мнению американских и отечественных (Сетлер, Малькова и др.) исследователей, Дж. Брунер является лидером движения за пересмотр школьных программ, за создание новой теории обучения. Среди его работ, посвященных данной проблеме, наибольшей популярностью в 60-е годы пользовалась книга «Процесс обучения» («Process of Education»), в которой им изложены результаты работы семинара в Вуд Холле (1959), где были разработаны ведущие принципы современного обучения, положенные в основу реформы программ средней школы.
Идеи Дж. Брунера о реформировании содержания среднего образования пользовались большой популярностью и влиянием не только в педагогике США, но и в других странах. Концепция Брунера подробно освещалась в работах отечественных исследователей В.В. Давыдова, Б.Л. Вульфсона, З.А. Мальковой, поэтому ограничимся лишь краткой характеристикой основных положений разработанной им теории обучения.
Анализ исследований показал, что в течение более полувека работа американской школы основывалась на принципах прагматической педагогики Д. Дьюи. В качестве главной выдвигалась цель — формирование личности, умеющей приспособиться к жизни. В школах, работавших по системе Дьюи, не было постоянной программы с последовательной системой изучаемых предметов, а отбирались лишь знания, необходимые для практической жизни. По мнению американского педагога П. Коппермана, внедрение принципов прагматизма в практику американской школы уменьшило научно-познавательную ценность учебных дисциплин, отрицательно сказалось на успеваемости учащихся по математике, чтению и письму4.
Выступая против идеи о приспособлении к жизни, Брунер указывает, что приспособление не может быть идеалом образования. В век научно-технических достижений, когда происходит быстрое обновление производства, увеличивается доля интеллектуального труда, возникает необходимость «заново определить, как мы должны обучать новое поколение»5. В связи с этим главную функцию школы Брунер видит не в «установлении простых контактов с повседневной жизнью общины», а в развитии
333
«мыслительных процессов личности», чтобы она была способна «создавать свою собственную, внутреннюю культуру6.
Проблеме целей также посвятили свои исследования американские психологи Р. Мейджор и Р. Ганье, ее касается в своих работах и западногерманский педагог Х. Тюткен.
Среди вопросов содержания обучения представляется целесообразным выделить идею построения структуры знания. В теории о структуре знания Брунера заложена попытка решения проблемы построения школьных программ. Знание понимается им как «модель, которую мы конструируем для того, чтобы придать смысл и структуру закономерностям опыта»7. А структура знания, в свою очередь, — это «организующие идеи всякой области знания ...имеющие целью сделать знания экономными и взаимосвязанными»8.
В связи с постоянным увеличением объема научной информации возникает противоречие между ростом знаний и способностью их усвоения человеком. Это противоречие разрешимо, если следовать рекомендациям Брунера. Независимо от сложности предмета, рассуждает Брунер, можно найти способ сокращения его объема путем сведения к ряду основных понятий. Как только найдена эта структура, учащиеся получают возможность ориентироваться в данной области. «Структура знания, его связи и следствия, в результате которых одна идея вытекает из другой, — пишет Брунер, — составляет главное содержание образования»9.
Брунер формулирует следующие четыре принципа совершенствования содержания образования: 1. Усвоение основных понятий делает изучаемый предмет более доступным. 2. До тех пор пока какой-либо частный факт не соотнесен со структурой, он быстро забывается. «Обучение общим или основным принципам способствует сохранению в памяти того, что позволяет восстановить детали, когда это необходимо. Хорошая теория — не только средство для понимания явления, но и для его запоминания»10. 3. Усвоение основных понятий обеспечивает адекватный «перенос упражнения». «Понять что-то как специфическое явление более общей закономерности, а именно это и имеется в виду, когда говорят о понимании общих принципов, — значит понять не только это конкретное явление, но и овладеть моделью для понимания других подобных явле
334
ний, когда они встретятся»11. 4. Посредством постоянного повторного прохождения основного материала, который изучается в начальной и средней школе, необходимо помочь учащимся уменьшить разрыв между «элементарными» и «повышенными» (научными) знаниями.
Американские педагоги Р. Бент и Э. Анру выделяют два подхода к составлению учебных программ: структурный и гуманистический. «Структурный подход, — пишут они, — это не что иное, как предметный подход, главное в нем не просто знание фактического материала, а овладение структурой предмета. Гуманистический подход призван обеспечить мотивацию учащихся, учитывая их интересы и потребности, и в то же время большое значение придает содержанию учебных дисциплин»12.
В работах Брунера прослеживается сочетание этих двух подходов к построению программ обучения. Интересным является мнение английского педагога П. Херста, который дает философско-педагогическое обоснование такого подхода. В качестве исходной точки он берет положение о разделении знаний на «ограниченное число логически различающихся между собой форм и дисциплин». К ним Херст относит семь таких форм: математику, естественные науки, общественные науки, литературу и изящные искусства, мораль, религию и философию. Различия между этими областями знаний определяются их разной логической основой: структура понятий одной области отлична от структуры понятий другой. Структура является именно тем элементом науки, которым важно овладеть при получении знания13.
Концепция сочетания в программах «гуманистического» и «структурного» подходов обнаруживается в предложенной Брунером идее о построении учебного плана по принципу спирали.
Исходным является положение о том, «что любой предмет в достаточно полноценной форме может эффективно преподаваться любому ребенку на любой стадии развития»14. Задачу обучения при этом Брунер видит в переводе основных идей и принципов на способ видения ребенка.
По мнению Брунера, усвоения круга основных понятий и принципов происходит на начальных ступенях образования. Развитие учащихся на последующих ступенях происходит путем
335
приложения этих начальных принципов к более сложному материалу. Это и обусловлено необходимостью введения «спиралевидной программы», при которой, познакомив учащихся в раннем возрасте с основными понятиями науки, школа вновь возвращается к ним на более высоком и усложненном уровне15. «Если понятия числа, меры и вероятности признаны основными для науки, — поясняет Брунер, — тогда их изучение следует начать по возможности раньше и в полноценной форме, но с учетом особенностей мышления ребенка. В старших классах изучаемые понятия будут развиваться и углубляться»16.
В своих работах Брунер рассматривает не только вопросы содержания обучения, но и организационных форм и методов обучения. Согласно Брунеру, «учение — это акт открытия». Поясняя эту мысль, он пишет: «Мы преподаем предмет ...для того чтобы научить ученика... мыслить математически, рассматривать проблемы так, как это делает история, принимать участие в добывании знаний. Познание — это процесс, а не продукт»17. Кроме того, знания, полученные путем собственного открытия, утверждает Брунер, являются более прочными, поэтому «метод обучения должен вести ребенка к собственному открытию»18.
Брунер выделяет следующие условия, способствующие открытиям учащихся: 1) сотрудничество учителя и учащихся; 2) участие школьников в формулировке выводов; 3) ознакомление учащихся с различными альтернативами и версиями; 4) предоставление им возможности высказать свое мнение по поводу приводимых данных.
Итак, обучение через открытие предлагает самостоятельное получение знаний учащимися. Об этом говорит в своих работах и американский психолог-когнитивист Д. П. Озбел, не являясь, однако, сторонником его применения. По его мнению, обучение через открытие не всегда приводит к осмысленному усвоению знаний. Кроме того, проблемные методы требуют больших затрат времени и сил учащихся по сравнению с рецептивными, что делает нецелесообразными их систематическое применение. Основным видом обучения, согласно Озбелу, должно быть рецептивное вербальное обучение, когда ребенок не должен открывать заново все то, что изобретено человечеством, его задача сводится к усвоению готовых знаний.
336
Среди теоретических вопросов проблемы «как учить» Брунер выдвинул проблему мотивации учения. Одна из центральных мест в его теории обучения посвящена вопросу о стимулах, о «желании учиться».
Всесторонне характеризуя «желание учиться», Брунер особо подчеркивает возможность его целенаправленного стимулирования. «Желание учиться — это внутренний мотив, источник и вознаграждение которого заключается в нем самом»19, но «...его внутренний толчок зависит от применения внешней стимуляции»20.
Подчеркивая особую роль стимулирования мышления ребенка, Брунер полагает, что при организации процесса обучения педагоги должны в первую очередь обращать внимание на стимулирование внутренних побудительных сил самого ребенка. Согласно Брунеру, «...почти все дети обладают внутренней мотивацией к учению. Внутренний мотив не зависит от внешнего вознаграждения, вознаграждение заключается в самой активности ребенка»21. Брунер выделяет четыре внутренних мотива:
1. Любопытство. Являясь в раннем детстве довольно примитивным, рассуждает Брунер, любопытство постепенно приобретает все более сложный характер. Этому должно способствовать обучение, обеспечивая переход от пассивных, эпизодических форм любопытства к новым формам, ведущим к длительным интеллектуальным поискам. Учащийся должен испытывать удовольствие не только от игры с предметами, но и с идеями и вопросами22.
2. Компетентность. Под компетентностью Брунер понимает стремление к достижению способности делать что-то, что помогает эффективному взаимодействию со средой23. Эффективной признается такая организация деятельности, при которой каждая последующая задача требует более высокого уровня знаний и навыков, чем на предыдущем этапе.
3. Мотив идентификации. В психологии понятие идентификации обычно связывается с сильными эмоциями, привязанностями. Расширяя это понятие, Брунер указывает, что существует более «мягкие» формы идентификации, выражаемые в стремлении ребенка достичь того уровня знаний и навыков, которым обладает «модель компетентности» (ею может быть, по Брунеру, не только отдельная личность, но и группа, и
337
общество в целом). Хорошо, если такой «моделью» для ребенка станет учитель, роль которого Брунер понимает следующим образом: «Чтобы стать эффективной моделью компетентности, учитель должен быть повсеместно работающей моделью, с которой ученик взаимодействует. Это не значит, что учитель является моделью для имитации. Скорее он — часть внутреннего диалога ученика, личность, уважения которой ученик желает, человек, уровня компетенции которого он стремится до- стичь»24.
4. Мотив взаимодействия. Брунер полагает, что наиболее эффективными являются групповые формы обучения (семинары, дискуссии...), когда оно осуществляется путем объединенных усилий членов группы. Но организация современной школы такова, считает Брунер, что она подавляет естественные силы, лежащие в основе «желания учиться»: любопытство, стремление к компетентности, к идентификации с моделью, к взаимодействию в группе.
Теория Брунера сыграла большую роль в развитии американской школы, так как в ней содержится немало интересных и прогрессивных идей по реорганизации обучения в средней школе. Их прогрессивность заключается прежде всего в признании важности развития умственных способностей ребенка, выдвижении на передний план теоретических знаний в учебных программах, выработки у учащихся сознательного подхода к полученным знаниям, формирования способности логически мыслить и, наконец, способности самостоятельно усваивать новые знания.
Прогрессивность теории Брунера, а также поддержка его идей известными учеными (У.К. Ричмонд, Р. Питерс, Х. Эн- твисл, П. Херст и др.) обеспечили ему большую популярность в 1960—70-е годы. Идеями Брунера были пронизаны многие проекты, в частности курсы физики, химии, биологии и математики, разработанные национальными комиссиями в 1958— 1962 гг. Они воплотили в себе мысль об учении как акте открытия, а также о вооружении учащихся основными приемами и методами научного исследования, о развитии интуитивного мышления, об учителях как модели компетентности и др.
Анализ научной литературы и интервью с исследователями деятельности Джерома Брунера показали, что его вклад в
338
развитие американской школы неоднозначно оценивается в разных штатах. Например, в штате Флорида интерес к творчеству Брунера невысок из-за дискредитации его знаменитой идеи о том, что любому предмету можно эффективно и в достаточно адекватной форме обучать любого ребенка. В штате Каролина, напротив, вышедшая недавно книга Брунера «Культура образования» («The Culture of Education», 1996) привлекла к себе внимание ученых, занимающихся проблемами современной школы.
Учитывая тот факт, что в отечественной педагогической науке идеи зарубежных исследователей долгое время рассматривались через призму идеологических канонов25, в настоящее время есть потребность по-новому оценить вклад Дж. Брунера в развитие образования.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М., 1996. С. 28.2. Там же. С. 41—42.3. Там же. С. 42.4. Вульфсон Б.Л. Буржуазные педагоги о проблемах
содержания школьного образования / / Советская педагогика. 1981. № 7. С. 111.
5. Bruner J. Toward a Theory of Instruction. Harvard, 1966.6. Bruner J. On Knowing. Essays for the Left Hand. N. Y , 1962.
P. 23.7. Ibid. P. 120.8. Ibidem.9. Ibidem.10. Bruner J. Process o f Education. Cambridge, 1961. P. 25.11. Ibidem.12. Bent U. A. Secondary School Curriculum. N. Y , 1969.13. Лапчинская В.П. Некоторые проблемы современной
буржуазной дидактики / / Советская педагогика. 1974. № 8. С. 128.
14. Bruner J. Process o f Education. Cambridge, 1961. P. 33.15. Ibidem.16. Ibid. P. 53—54.
339
17. Bruner J. Toward a Theory of Instruction. Harvard, 1966.18. Bruner J. On Knowing... N. Y., 1962. P. 123.19. Bruner J. Toward a Theory o f Instruction. Harvard, 1966. P.
127.20. Bruner J. Studies in Cognitive Growth. N. Y , 1967. P. 4.21. Bruner J. Toward a Theory o f Instruction. Harvard, 1966. P.
114.22. Ibidem.23. Ibidem.24. Bruner J. Toward a Theory o f Instruction. Harvard, 1966. P.
124.25. Брусенцова Т.Н. Теория осмысленного вербального обучения
/ / Советская педагогика. 1988. № 2.
Н.Д. Зайцева
ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦСЕМИНАРА «РУССКАЯ АМЕРИКА»
Спецсеминар «Русская Америка» читается в Мордовском государственном университете студентам пятого курса исторического отделения с 1994 года.
История русских владений в Америке охватывает период примерно в 100 лет. Данная тема привлекает значительное внимание отечественных и зарубежных исследователей. В последнее время опубликованы новые документальные материалы и интересные исторические исследования1. Изучение их позволяет воссоздать многомерную картину существования «Русской Америки».
Вводная лекция знакомит с целью и основными проблемами курса. Предлагается перечень докладов на выбор. Особое внимание уделяется персоналиям. Изучение жизни и деятельности российских купцов, промышленников, чиновников, моряков, священников вызывает неподдельный интерес у студентов. Непременным условием каждого выступления на спецсеминаре является свободное изложение материала, умение заинтересовать аудиторию.
340
Семинар начинается с краткого экскурса в историю великих географических открытий — экспедиций И. Федорова, М. Гвоздева, В. Беринга и А. Чирикова. Чрезвычайные обстоятельства, трудности, подчас драматические события не могут не вызвать сочувствия и в то же время гордости за самоотверженных и мужественных сынов Отечества нашего.
Далее прослеживается деятельность «Колумба Росского»— купца Григория Ивановича Шелихова.
Неизменный интерес вызывает незаурядная, к сожалению, почти забытая личность первого правителя Российско-американской компании (РАК) Александра Андреевича Баранова. По общему признанию, за почти 20-летний период правления А.А. Баранова РАК добилась наибольших результатов.
Основные направления деятельности РАК анализируются в следующем докладе. Также следует включить сюжет о деятельности декабристов в компании (К.Ф. Рылеев, Д.И. Завали- шин, О. Сомов и другие). Судьба, деятельность, первое русское кругосветное плавание, любовь камергера Николая Петровича Резанова привлекают особый интерес. Работы Н.Н. Болховитинова проливают свет на малоизвестные, спорные факты его биографии2. Заслуги Н.П. Резанова по обустройству русских владений в Америке неоспоримы.
Большую роль в истории Русской Америки сыграл Кирилл Тимофеевич Хлебников — приказчик в 1801—1813 годах, затем правитель с 1818 по 1832 год конторы РАК в Ново-Ар- хангельске. Его знаменитые «Записки об Америке», содержащие подробнейшее описание различных сторон деятельности РАК, по праву считают летописью Русской Америки3. Нельзя обойти вниманием и историю русской колонии в Калифорнии— форт Росс. Важно проследить деяния Русской Православной Церкви в северо-западной Америке. Особенно плодотворно на миссионерском поприще проявил себя Герман Аляскинский, проживший там 43 года. Многогранна была деятельность и Иннокентия Вениаминова. Далее подробно анализируются причины и условия продажи Аляски. В заключение прослеживается судьба Русской Америки.
Таковы основные сюжеты докладов, позволяющие изучить интересный период русского колониального опыта на Американском континенте. Увлеченность ряда студентов темой док
341
лада (о роли православной церкви, о К. Хлебникове) привела позднее к написанию дипломных работ, которые были успешно защищены.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Исследования русских на Тихом океане в X V III— первой половине X IX века / Под ред. Нарочницкого. М., 1984—1994; Россия и США: становление отношений, 1765—1815: Сб. документов. М., 1980; К истории Российско-американской компании: Сб. документальных материалов. Красноярск, 1957; Русская Тихоокеанская эпопея / Сост. В.А. Дивин. Хабаровск, 1979; Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки до конца XIX века. М., 1982; Болховитинов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски (1834— 1867). М., 1990; Марков С.Н. Летопись Аляски. М., 1991; ПетровB. Русские в истории Америки. М., 1991; Чистякова Е.В. Русские страницы Америки. М., 1993.
2. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку, 1732— 1799. М., 1991; Его же. Не командор, а действительно камергер / / США: экономика, политика, идеология. 1996. N 9; Его же. Н.П. Резанов и первое русское кругосветное плавание 1803—1806 годов / / Новая и новейшая история. 1997. N 3.
3. Русская Америка в неопубликованных записках К.Т. Хлебникова / Сост. введение и комментарий Р.Г. Ляпуновой иC.Г. Федоровой; Отв. ред. В.А. Александров. М., 1979.
И.А. Дудина
ОПЫТ МЕЖВУЗОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: ВОЛГОГРАД - КЕНТ - МЭНСФИЛД -
ИНДИАНАПОЛИС
Современный этап развития общества в России характеризуется активным проникновением рыночного механизма во все стороны жизни. Рынок завоевывает лидирующие позиции
342
не только в экономике, но и культуре, искусстве, образовании, науке. Он предполагает самостоятельность и независимость тех, кто производит и покупает, ориентированность индивида на расчетливость, предприимчивость, готовность рисковать и нести ответственность за свои действия. Интернационализация хозяйственной жизни вызывает объективную потребность обмена услугами, предоставляемыми университетами. Эта потребность реализуется на рынках образовательных услуг, рынках научных исследований и инноваций. Стремление интегрировать российскую национальную систему образования в соответствии с требованиями мирового рынка образовательных услуг обусловлена рядом причин: 1) усилением интеграционных процессов в экономике мирового сообщества; 2) недостаточностью базового централизованного финансирования, даже в рамках согласованной в установленном порядке плановой деятельности; 3) преодолением традиций структурно-организационного однообразия университетов; 4) формированием принципиально новой концепции материальной базы, академической и социальной структур университетов; 5) легализацией коммерческой деятельности вузов, закрепленной законом РФ «Об образовании»; 6) информатизацией общества; 7) резко сократившимся внутренним спросом на результаты НИОКР; 8) использованием возможностей поиска зарубежных заказчиков научной продукции, образовательных услуг, а также партнеров по научным и образовательным проектам; 9) привлечением зарубежного материального и интеллектуального потенциалов.
Контакты в области образования относятся к разряду наиболее устойчивых и в то же время интенсивных направлений в сфере международного сотрудничества. Они играют большую роль в сохранении и развитии научного и педагогического потенциала высшей школы, обеспечивают проведение совместных научных разработок, а самое главное — выход на зарубежные рынки научной продукции и образовательных услуг. Традиционно основными элементами мирового рынка образования являются иностранные студенты, получающие образование в зарубежных странах или повышающие его уровень, лица, заинтересованные в получении последипломного образования или повышении квалификации, преподаватели, выезжающие
343
на работу в зарубежные страны. Этими элементами являются также научные знания, учебно-методическое и техническое оснащение учебного процесса.
Управление международного сотрудничества Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации предпринимает определенные шаги для придания программируемого характера международной деятельности вузов. Это выражается прежде всего в разработке, подписании и продлении межведомственных договоров и соглашений с департаментами образования стран Европы и США, в создании научно-образовательных фондов в иностранных агентствах (USIA, USAID), которые бы выделяли средства для стажировок и научной работы профессорско-преподавательского состава. Важнейшим направлением международной деятельности министерства является также инициирование международных проектов и программ регионального сотрудничества, по линии которых привлекаются внебюджетные средства. Это давало и дает возможность весьма ограниченному количеству вузовских ученых и преподавателей пройти языковую и научную стажировку в США и странах Европы.
Волгоградский государственный университет был одним из немногих молодых региональных вузов России, который использовал межправительственные соглашения 1988 года для организации наиболее распространенной формы международных контактов — студенческих и преподавательских обменов. Первым американским университетом, с которым ВолГУ подписал договор о таких обменах и научном сотрудничестве, был Кентский университет штата Огайо. Договор предполагал установление всей совокупности связей между различными факультетами по вопросам преподавания, исследовательской работы, вузовского и послевузовского образования. На практике он оказался представлен разнообразными формами, которые напрямую зависели от создателей и участников этого проекта. Так, американские стажеры после одно-двухгодичной базовой подготовки по русскому языку у себя в университете приезжали в ВолГУ для совершенствования своих познаний в этой области, для работы над курсовыми проектами по российской истории. Преподаватели Кентского университета проводили занятия или выступали с презентациями по интересующим аудиторию воп
344
росам в сфере науки, экономики, политики и культуры. Формы обучения волгоградских студентов в Кентском университете варьировались от курсов английского языка для иностранцев до занятий по дисциплинам специализации в группах с американскими студентами.
Для ВолГУ, уже активно работавшего с немецкими вузами по приему стажеров на курсы русского языка и установившего научные контакты с учеными Кельнского университета, сотрудничество с американским университетом открывало возможности создания международной сети, т. е. организации международного взаимодействия в сфере образования с несколькими зарубежными партнерами. Работа на кафедре английской филологии профессора Кентского университета Ларри Эндрюса и преподавателя Каррен Эндрюс стала первой школой обмена научнометодическими знаниями, оценкой собственного научного и преподавательского потенциала, приобщением к иной деловой, вузовской, межличностной культуре.
С другой стороны, возвращавшиеся из Кентского университета после семестровых обменов преподаватели ВолГУ активно делились опытом приобретенной транснациональной квалификации со своими коллегами, разрабатывали специальные курсы на английском языке. Первым опытом стал курс Российской истории, получивший высокую оценку американских стажеров и сейчас уже имеющий прочную репутацию оригинального курса Российской истории, разработанного профессором А.И. Кубышкиным и старшим преподавателем И. И. Ку- риллой.
Другой формой сотрудничества стала финансовая помощь студентам ВолГУ, выделяемая им Кентским университетом для получения послевузовского образования. В настоящее время в аспирантуре Кентского университета обучается два наших выпускника.
Высокой оценкой научного потенциала ВолГУ стало приглашение в Кентский университет для чтения лекций и ведения научно-методической работы доцента кафедры истории русского языка и стилистики С.П. Кушнерука. На практике выявилось, сколь многоплановой может быть мотивация партнеров в привлечении специалистов для работы в их университетах: это оказалось полезным не только для реализации программы по обме
345
ну, но и для распределения и мобильности научных ресурсов, подготовки специальных курсов, получения финансовой помощи зарубежного университета. В последнем случае имеется в виду фактически первое достижение договоренности об оплате приглашенных преподавателей между администрациями вузов-парт- неров. Академический преподавательский обмен с Кентским университетом вылился в долгосрочное и продуктивное двустороннее, хотя и не всегда безоблачное, сотрудничество заинтересованных ученых, кафедр, факультетов, работников международных подразделений. С 1988 года на филологическом и экономическом факультетах ВолГУ проходили стажировку и работали одиннадцать профессоров и преподавателей Кентского университета, обучались тридцать восемь студентов. За этот же период в Кентском университете работали восемь доцентов и преподавателей и обучались шестнадцать студентов ВолГУ. Сферами совместных научных интересов стали русская и английская филология, методика преподавания русского и английского языков как иностранных, проблемы современной экономики двух стран, лингвострановедение.
Так как Кентский университет является лидером консорциума, в который входит также Акронский университет штата Огайо, его тесные контакты с ВолГУ не могли не привести к мультипликации партнерских связей. И начиная с 1993 года студенческий и преподавательский обмен осуществляется уже с двумя университетами консорциума. Он имел и имеет несколько задач. В их числе: 1) реализация концепции подготовки кадров международной квалификации, свободно владеющих английским языком; 2) объединение интеллектуальных усилий с целью усиления конкурентоспособности университе- тов-партнеров на мировой арене; 3) удовлетворение острой потребности в кооперации, вызванной политическими, экономическими и социальными реформами России, с одной стороны, и острым интересом к этим реформам — с другой; 4) поступательное движение двух культур навстречу друг другу. Понимание сложности этого процесса помогает сторонам преодолевать такие кризисные явления процесса интернационализации, как адаптация студентов и преподавателей к условиям стран пребывания (так называемый «культурный шок»), недостаточность бюджетного финансирования и межличностные
346
разногласия по отдельным вопросам совместных программ. Наконец, нельзя не поставить в один ряд с этими факторами желание партнеров повысить прибыль от капиталовложений в сферу человеческих ресурсов, оборудование и подготовку специалистов, предотвратить «утечку мозгов» или повысить шансы своих выпускников на получение престижной работы.
Структура международной сети, формируемая участниками обменов Кент—Акрон—Волгоград носила как формальный, так и неформальный характер. Тенденция к сочетанию этих двух форм усилилась в 1992 году, когда личные контакты преподавателей ВолГУ и Мэнсфилдского академического сообщества привели к образованию новой ячейки связи в международной сети — Договору о сотрудничестве между Волгоградским и Мэнсфилдским университетами. Это явилось наглядным примером того, как личные научные и культурные контакты были использованы в качестве наиболее предпочтительного средства для усиления влияния на ход событий в сфере международного сотрудничества.
Такие неформальные контакты всегда подвергаются определенному риску из-за отсутствия статуса. Формальным элементом здесь явилась поддержанная и возглавленная тогдашним ректором ВолГУ М.М. Загорулько и проректором Мэнсфилдского университета Дж. Малленом работа над Договором о межуниверситетском сотрудничестве. Он определял условия долгосрочных и краткосрочных учебных и научных обменов, предусматривая совместные научные исследования и публикации.
Программа обучения на курсах русского языка ВолГУ, предложенная американским студентам, не имеющим базовой языковой подготовки, была трансформирована в курсы русского языка для начинающих с чтением лекций по истории и культуре России на английском языке. Это существенно снизило проявления стрессовой ситуации от встречи с новой культурной и языковой средой.
Договор о межвузовском сотрудничестве между ВолГУ и Мэнсфилдским университетом 1992 года, возобновленный в 1995 году, уникален еще и тем, что предполагает гибкую многоуровневую систему отношений, детально оговаривая финансовые условия обмена. Он, как и договор с Кентским университетом, осуществляется на паритетной безвалютной основе,
347
предусматривая предоставление образовательных и культурных услуг для студентов с различным уровнем подготовки по русскому и английскому языкам. При этом традиционно обменные группы ВолГУ проходят обучение по той же программе и имеют те же формы отчетности по избранным дисциплинам, что и американские студенты.
В 1994 году, учитывая большой интерес к управлению малыми и средними предприятиями, стороны достигли договоренности об обмене бизнес-группами, о чем было принято дополнение к Договору о сотрудничестве. Это новая форма деловых и учебных контактов по специальной программе продолженного обучения «Управление малыми предприятиями» была одобрена 20 предпринимателями и студентами экономического факультета ВолГУ — участниками двух осенних бизнес-программ 1994 и 1995 годов.
Результатом научно-методического сотрудничества Волгоградского и Мэнсфилдского университетов стали разработка и чтение: лекционно-практических курсов по генеративно-трансформационной грамматике английского языка, русской и американской литературе начала XX века (кафедра английской филологии ВолГУ ), экономической реформе в России и российско-американским экономическим отношениям (кафедра мировой экономики и международных экономических отношений ВолГУ); коррективного курса русского языка и лингвостранове- дения (кафедра истории русского языка и стилистики Волгу); практических курсов по английскому и французскому языкам, страноведению Англии и США; спецкурсов по фонетике и языку средств массовой информации (отделение английского языка и литературы, отделение французского языка, отделение средств массовой информации Мэнсфилдского университета).
Развивается научное сотрудничество между кафедрой истории и стилистики русского языка ВолГУ и профессором Мэнсфилдского университета Говардом Трэвисом. Проводится совместное исследование в рамках проекта «Психолингвистический аспект языка средств массовой информации», запланированы совместные публикации.
Подойдя к точке маркетинг-ситуации, когда объем предложения образовательных услуг уравновесил преобладавший ранее спрос и даже стал превосходить его по размерам, участ
348
ники международной сети Волгоград—Кент—Мэнсфилд нашли ряд новых стратегических моментов в своем сотрудничестве. Так, например, был реализован ряд рекламных проектов, в результате которых через Мэнсфилдский университет ВолГУ получил в США свою рекламную страницу в сети Интернет. Кроме того, образовательные услуги стали предоставляться с учетом индивидуальных заказов, которые можно прогнозировать с помощью маркетинговых исследований в вузах-партнерах. Такой микс-маркетинг имеет целью выработать и реализовать гибкую, многомерную и динамичную деловую стратегию совместного сотрудничества, адекватную сложности и изменчивости рынка образовательных услуг.
В результате коммуникационных усилий (реклама, public relations и личные контакты), а также правильного определения и выбора сегмента рынка образовательных услуг стороны нашли новую форму для реализации договорных обязательств, поднятия интереса к культуре, истории и современным проблемам России, организовав летом 1997 года совместную археологическую экспедицию на территории Волгоградской области. На официальном уровне эта программа была поддержана администрациями университетов, поддержавшими инициативный научный труд профессора А.С. Скрипкина (ВолГУ) и профессора Энн Мэйб (Мэнсфилдский университет). Средства на этот проект были предоставлены Археологическим обществом штата Пенсильвания (США).
Сейчас выбор партнера по международному сотрудничеству для ВолГУ перестал быть интуитивным. Теперь здесь учитываются все стратегические цели участников, их сильные и слабые стороны, способность в координации собственных действий, финансовое положение, а также официальная и неофициальная информация, имеющаяся о них. Пришло понимание, что цели партнеров должны быть совместимыми, а деятельность сети полностью укладываться в рамки концепции каждого университета.
Но в общем поиск партнера нельзя назвать только рациональным процессом. Придирчивое изучение качеств кандидатов не всегда помогает выбрать достойного. Чрезвычайно важны личные качества, и главное из них — обоюдное доверие. Серьезная оценка партнеров включает политические, финан
349
совые, эмоциональные и гуманитарные аспекты, область и цель исследований и некоторые другие моменты.
Сотрудничество с университетом г. Индианаполиса начиналось с пилотного визита заместителя мэра города и декана по международным связям университета в рамках движения «Города-побратимы», с рутинной процедуры заключения Протокола о намерениях и с формирования группы готовых к конструктивному сотрудничеству людей.
За этим последовало изучение внутренних и внешних элементов в развитии стратегий интернационализации партнеров. К числу внутренних компонентов отнесем: 1) концепцию, традиции, имидж вуза; 2) оценку сильных и слабых сторон в разрабатываемой совместной программе кадрового потенциала и финансовой обеспеченности; 3) организационную и руководящую структуры.
К числу внешних элементов можно отнести: 1) идентичность внешнего восприятия образа вуза; 2) определение общих направлений и возможностей на международном рынке сбыта;3) оценку конкурентной ситуации.
Искушенность Индианаполиса и ВолГУ в развитии межвузовских контактов заставила партнеров тщательно исследовать обе группы факторов. Их анализ был использован как контрольный лист, так как неспособность правильно оценить каждый элемент могла привести как к созданию напряженной ситуации внутри ВолГУ, так и к невозможности совместных действий на международной арене.
Определение внутренних ресурсов и программа поиска средств на финансирование проекта в Индианаполисе заняли еще 3 месяца после подписания ректором О.В. Иншаковым и президентом Дж. Бепко Договора о сотрудничестве в его общем виде. Однако, учитывая взаимную заинтересованность в обмене методиками преподавания, преподавательский обмен начался непосредственно после подписания Договора между вузами за счет финансирования ВолГУ данного проекта.
Решение о финансировании было принято администрацией Волгоградского университета в результате разработки бизнес-плана, содержащего ответы на вопросы: 1. Какова стоимость создания новой программы по сравнению с ситуацией без программы? 2. Каковы будут вложения от каждой стороны?
350
3. Насколько сильны различия в культуре? 4. Как можно избежать кризисных столкновений?
В настоящее время продолжается работа по твердому распределению ролей и задач участников программы Волгоград— Ицдианаполис, а также ответственности (управленческой и научной) каждого из них. Для повышения эффективности использования результатов международного сотрудничества и персонификации международных связей в ВолГУ был создан институт координаторов международных научно-образовательных исследовательских проектов и обменных программ. Координаторы назначаются приказом ректора и в своей работе руководствуются Уставом университета и Положением о координаторе международных программ ВолГУ. В настоящее время в группу координаторов только американских программ ВолГУ, в том числе по программам фондов У. Фулбрайта, Э. Маски и др., входят одиннадцать профессоров, доцентов, преподавателей и работников отдела международных связей ВолГУ. Они активно работают над реализацией межуниверситетских проектов международной сети Волгоградский государственный университет— Кентский университет—Акронский университет—Мэнсфилдский университет—Индианаполисский университет как по отдельным дисциплинам, так и по целым отраслям знания. Эта работа предусматривает дальнейшую активизацию мобильности преподавателей и студентов в рамках уже имеющихся договоров о сотрудничестве и плановое расширение созданной международной сети. Так, контакт Мэнсфилдского университета с университетом Гуэлф в Канаде может быть использован для создания программы обмена ВолГУ—Гуэлф (Канада). Проводятся консультации по содержательной части возможной обменной программы, а также ее финансового обеспечения.
Опыт, приобретенный ВолГУ в рамках сотрудничества с американскими вузами, несомненно, приведет к росту профессионализма в реализации и налаживании международных контактов.
Перспективными формами профессионального подхода к международной межвузовской кооперации являются специальные консультативные подразделения координаторов международных программ, центры (курсы) по изучению иностранных языков, появление новой категории административных работ
351
ников — менеджеров по вопросам международного сотрудничества, более интенсивное использование электронных сетей и других средств коммуникации. Думается, что процесс рационализации и персонификации академической кооперации, повышения ее качества во всех сферах сотрудничества ВолГУ с американскими университетами является перспективным сценарием развития событий в будущем.
Ларри Аффельман
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И ОБМЕНА МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И АМЕРИКАНСКИМИ
УНИВЕРСИТЕТАМИ
То полезное, что мы приобрели от программы обмена между Мэнсфилдским и Волгоградским университетами, невозможно было предсказать в то время, когда представители наших университетов подписывали контракт. Минувший год дал наилучшие результаты. Так, во время 1995/96 учебного года доктор Джордж Маллен вызвал меня и Бернарда Колоски к себе в кабинет и попросил составить прошение на получение стипендии фонда Фулбрайта для одного из российских ученых. Престижная награда позволяет преподавателям из-за рубежа довольно часто приезжать в американские университеты. Мы с Берни проделали большую работу, в результате которой в течение 1996/97 учебного года в Мэнсфилдском университете преподавал Александр Иванович Кубышкин, являясь первым зарубежным стипендиатом этого фонда. Это способствовало укреплению отношений между двумя университетами. Я думаю, что заявка в фонд Фулбрайта была успешной в большей степени потому, что наш университет уже имел опыт установления связей с русскими университетами; отсюда мы довольно ясно понимали, что хотим получить от этого фонда. Кроме того, мы с Джорджем Малленом и Бернардом Колоски были лично знакомы с профессором Кубышкиным. Но самое главное заключалось в том, что программа образовательных обменов помогла
352
Мэнсфилдскому и Волгоградскому университетам определить взаимный интерес в российско-американских отношениях.
Я надеюсь, что наша программа обмена имела хорошее начало и реальную силу. Однако до сих пор наибольшее преимущество в программе обмена имеет русская сторона. Как я уже отмечал, ни один студент из Мэнсфилдского университета не обучается в Волгограде в этом семестре. Вообще, Мэнсфилд еще никогда не мог послать полный набор студентов для обучения в Волгограде. Придерживаясь программы в этом году, мы отправили летом группу преподавателей и студентов для участия в археологических раскопках на территории Волгоградской области. Наше участие в программе обмена остается пока минимальным по количеству участников и дорогим по стоимости, что создает трудности для ее существования. Но я хотел бы подчеркнуть, что это не размышление о том, может ли Волгоградский государственный университет принимать наших преподавателей и студентов. Это наша проблема, и мы ищем пути к ее разрешению.
Анализируя существующие проблемы в сфере реализации проекта сотрудничества двух университетов, следует заметить, что одной из них является проблема финансирования программы. Каждый студент, обучающийся в Мэнсфилдском университете, берет на себя ответственность за оплату своего образования, а также за проживание и питание. Часто студенты вынуждены занимать деньги, чтобы оплатить эти расходы. Понятно, что эти затраты являются обременительными для многих наших студентов, поскольку стоимость обучения в университете составляет значительную часть семейного бюджета. Многие из студентов подрабатывают, чтобы оплатить свои счета. Приезд в Волгоград для них означает необходимость оплатить свое обучение в Мэнсфилдском университете за весь семестр в дополнение к более чем двум тысячам долларов за авиабилет и другие непредвиденные расходы. Как видно, к их общим финансовым проблемам прибавляются расходы для участия в программе обмена.
Тем не менее необходимо отметить, что мы достигли некоторого прогресса в решении этой части проблемы. Мэнсфилдский университет имеет соглашения с различными университетами из Австралии, Англии, Канады и Коста-Рики; мы хо
353
тим всячески расширять знания наших студентов, посылая их на учебу за границу. Мы также хотели бы развивать отношения с другими странами. Для обучения студентов за границей президент Мэнсфилдского университета заложил в бюджет университета небольшую статью расходов на вознаграждение тех студентов, которые хотят участвовать в программах международных обменов и отвечают определенным требованиям. Мы надеемся, что в будущем координаторы программ международных обменов будут стремиться заручиться более солидной спонсорской поддержкой от частных лиц, компаний, крупных научных фондов с целью помочь одаренным студентам оплатить свое обучение по международным программам обмена. Во всяком случае, со своей стороны, американские партнеры Волгоградского университета активно стремятся найти решение возникших финансовых проблем.
Другой аспект проблемы — это содержание и уровень образовательных программ. Это обусловлено тем, что системы обучения в наших странах различны. Студентам Волгоградского государственного университета, способным участвовать в программе обмена, необходимо достаточно хорошо владеть английским языком, чтобы проживать в англоговорящем обществе и посещать лекции. Когда эти студенты приезжают в Мэнсфилдский университет, они записываются на посещение тех курсов, которые соответствуют их интересам. Так, студенты, специализирующиеся по бизнесу, часто записываются на бизнес-курсы или курсы по экономике, некоторые посещают курсы по журналистике, средствам массовой информации и т. д. Как я понимаю, эти курсы являются лишь дополнением к их программе обучения в Волгоградском государственном университете и не влияют на получение диплома.
В тесной связи с этим находится другой аспект проблемы— лингвистический. Волгоградские студенты, приезжающие в Мэнсфилд, достаточно бегло говорят по-английски; студенты Мэнсфилдского университета, приезжающие в Волгоград, никогда до этого не изучали русского языка. Эта ситуация создает проблему в плане обучения. Американские студенты должны пройти ряд курсов, разработанных специально для них, но не обязательно соответствующих их интересам. Более того, эти курсы должны «подгоняться» к их учебному плану в Мэнсфил
354
де, что соответственно влияет на стоимость их обучения. Именно здесь соединяются и финансовая проблема, и проблема учебного плана, и лингвистическая проблема: в финансовом отношении наши студенты не могут позволить себе посещать ряд курсов в Волгоградском государственном университете, которые не соответствуют требованиям, необходимым для получения дипломов в США. Поэтому до подписания контракта о сотрудничестве Волгоградский государственный университет разработал для американских студентов ряд курсов по русскому языку и культуре языкового общения. Данные курсы соответствуют американской программе в сфере общего образования как факультативные курсы на иностранном языке.
Теоретически такой план очень выгоден, и американские студенты, которые выбирают его, остаются им довольны. Так, например, моя жена, преподаватель французского языка в государственной школе, очень интересуется проблемами в сфере изучения языков. Во время нашего пребывания в Волгограде в 1993 году она посещала курсы русского языка и культуры речи вместе с нашими студентами. Занятия ей очень понравились, и к концу нашего пребывания в Волгограде она уже достаточно хорошо знала русский язык, для того чтобы, например, делать покупки на рынке. Я слышал, что такой уровень знания языка называют «русский язык начального уровня». И сейчас, находясь дома, она самостоятельно продолжает практиковаться в том, чему научилась на курсах в 1993 году.
Как я уже сказал, теоретически этот план очень выгоден, но не всегда хорошая теория рождает хорошую практику. Когда я учился в средней школе в середине 1950-х годов и готовился поступать в университет, мне посоветовали изучать иностранный язык, поскольку знание иностранного языка было необходимым условием для поступления во многие университетыи, конечно, в те из них, в которые я был заинтересован поступить. Однако многое изменилось. Уже к середине 1960-х годов только 34% американских колледжей и университетов требовали изучения второго языка в качестве предварительного условия для поступления. К середине 1980-х годов это количество снизилось до 8%. Одна лишь цифра: только 15% всех американских учащихся средних школ, включая англоговорящих учащихся, обучающихся по двуязычным образовательным програм
355
мам, изучают второй язык. Например, в Мэнсфилдском университете большинство студентов имеют право отказаться от изучения второго иностранного языка, просто не выбирать его, а изучать один язык по программе общего образования. Конечно, я и профессор Бернард Колоски считаем отсутствие у студентов интереса к другим языкам проявлением их недальновидности, и нам бы хотелось, чтобы все было наоборот. Но сейчас мы должны работать с тем, что имеем, а не с тем, что хотели бы иметь на самом деле.
В силу сказанного следует заметить, что те из нас, кто заинтересованы в продолжении программы обмена с Волгоградским государственным университетом, должны постараться убедить студентов, игнорирующих все другие языки, кроме английского, приезжать в Волгоград, чтобы изучать язык, о котором они ничего не знают, который они не будут применять и который, скорее всего, не подходит к их учебным программам. Безусловно, это создает определенные трудности в привлечении студентов к таким программам обмена. Я подчеркиваю, что все эти замечания не рассматриваются мной как критика программы Волгоградского государственного университета, предназначенной для американских студентов. Я только имею в виду то, что эти проблемы влияют на нашу возможность увеличивать количество участников программы, и мы должны находить пути решения этих вопросов в окружении, не заинтересованном в изучении иностранных языков или не осознавшем всю необходимость обучаться за границей. Конечно же, мы стремимся к тому, чтобы наши студенты учились в других странах, налаживая контакты и укрепляя свои личные связи с людьми из других стран и народов, ибо мы всегда должны помнить о том, что мы живем в едином мировом пространстве. Это предполагает, что мы должны знать друг друга лучше, чем мы знаем сейчас. Для этого нам необходимо найти возможности сделать программу обмена более привлекательной для обеих сторон, и для американской стороны, в частности. Продолжая свою мысль, я хочу подчеркнуть, что данные предложения являются лишь моим мнением, с которым я хотел поделиться со своими коллегами в Мэнсфилде и Волгограде.
Мэнсфилдский университет уже дважды за тридцать лет, с тех пор как я преподаю там, пытался предложить курсы на русском языке, в первый раз незадолго до того, как я приехал
356
в кампус, осенью 1969 года. Каждый раз эта попытка не удавалась, так как наши студенты не имели особых успехов при изучении этого курса. Спешу добавить, что эта проблема касается не только нашего университета. Как я уже заметил, американцы, как правило, не заинтересованы в изучении иностранного языка, и, как ни печально, в Соединенных Штатах все больше падает интерес к изучению русского языка. Если мы желаем привлечь внимание наших студентов к России, необходимо рассмотреть эту проблему с нелингвистической точки зрения.
Возможно, нам придется изменить некоторые курсы, которые изучают наши студенты в Волгограде, исключив русский язык, и обратиться только к культуре. Это означало бы, например, что история, философия, география или курсы по русской литературе, предложенные в английском переводе, могли бы снять существующие проблемы. Эти курсы соответствуют нашей образовательной программе и могли бы быть более привлекательными для наших студентов, хотя это, как я уже сказал, лишь предложение. Кроме того, наши студенты могут спросить, зачем им следует ехать в Россию, чтобы изучать то, что им могут предложить в Мэнсфилдском университете.
Другой аспект решения этой проблемы заключается в том, чтобы создать так называемый учебный минимум, т. е. ряд последовательно организованных курсов, которые могли бы заинтересовать студентов и составили бы основу для разработки курсов в Волгограде. Около двух лет назад я составил рабочий план для такой программы, назвав ее «Обучение в России». Одним из элементов этой программы было участие в волгоградской программе обмена. После обсуждения ее с профессором Бернардом Колоски я отдал копию этой программы доктору Джорджу Маллену; однако, как вы знаете, университет— это то место, где все всегда очень заняты, поэтому моя идея не нашла должного понимания и, возможно, с самого начала была не очень хорошей. Однако сейчас мы с профессором Колоски тщательно обдумываем вопрос о ее восстановлении. Мы хотим разработать программу под примерным названием «Восточноевропейское обучение», которая войдет в нашу программу международного обучения. Позже мы могли бы присоединить к этой программе и нашу программу обмена между Мэн-
357
сфилдским и Волгоградским университетами. Возможно, это помогло бы нам определить тех студентов, которые проявляют серьезный интерес к международным программам и хотели бы поучиться семестр за границей.
Другим важным моментом является разработка серии специальных программ, в одной из которых летом этого года принимал участие Мэнсфилдский университет. Так, профессор Энн Мэйб и небольшая группа студентов из Мэнсфилда вместе с профессором Анатолием Степановичем Скрипкиным и его коллегами участвовали летом 1997 года в археологической экспедиции на территории Волгоградской области. Мы полагаем, что в это время они не только приобрели полезный, с профессиональной точки зрения, опыт, но и наладили деловые контакты.
И еще один момент, на котором я хотел бы остановиться. Речь идет об установлении контактов между нашим университетом и университетом Гуэлф в Онтарио (Канада). Я говорю это, потому что Мэнсфилдский университет уже скоординировал свое сотрудничество в соответствии с требованиями канадской программы обучения. Мы надеемся начать программу обмена с университетом Гуэлф. Каковы могли бы быть эти отношения и как бы они могли повлиять на программу обмена между Мэнсфилдским и Волгоградским университетами, я не знаю. Вероятно, этот аспект более подробно необходимо рассмотреть в будущем.
Завершая анализ особенностей сотрудничества Волгоградского и Мэнсфилдского университетов, я хотел бы еще раз подчеркнуть основные моменты, с которых начал свой обзор. Программа обмена между нашими университетами явилась полезной для обеих сторон, даже несмотря на то, что участие М энсфилда в Волгограде было незначительным. Нам необходимо доработать ту часть программы, которая касается американской стороны, возможно, несколько изменив ее, сделав более привлекательной для наших студентов. Мы с профессором Колоски были бы рады обсудить это с нашими коллегами в Волгоградском университете, который я был очень рад посетить в сентябре 1997 года.
Перевод с английского Е.Ладониной
358
И.О. Тюменцев
НИИ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕКА
ПРИ ВОЛГОГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Институт создан Минвузом России при Волгоградском государственном университете два года назад как головная организация по изучению истории народного хозяйства России. Ему было поручено развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области экономической истории России XX века, координация работ по формированию и реализации научных программ и проектов в области экономической истории России; подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области экономики, внедрение в учебный процесс, хозяйственную и социальную практику результатов научных исследований, способствующих восстановлению истинной исторической эволюции народного хозяйства и совершенствованию современной хозяйственной политики и практики реформ, развитие научного сотрудничества в области историко-экономических исследований с зарубежными учеными.
Институт осуществляет свои научные проекты, используя дистантную модель организации научных исследований, которая позволяет сохранять и наращивать уже имеющиеся научный опыт и квалификацию специалистов. Дистантная модель организации научных исследователей предусматривает создание временных творческих коллективов для решения конкретных актуальных проблем экономической истории России в зависимости от их приоритетности и наличия кадрового потенциала. Эти коллективы возглавляет ведущий и авторитетный в этой области науки специалист, который объединяет вокруг себя ученых по этой или близким темам, независимо от места их проживания. В Волгограде имеется минимальный по численности коллектив для координации научно-исследовательской работы временных творческих коллективов, информационного, издательского и экспертного обслуживания ученых. Дистантная модель прове
359
дения научных исследований предполагает наличие современных коммуникационных систем, прежде всего компьютерных сетей, позволяющих поднять научное сотрудничество на новый, более качественный уровень. Знание уровня развития современных средств связи в России позволяет утверждать, что он не позволяет максимально эффективно использовать новые формы научного сотрудничества. Тем не менее состояние дел в сфере истории экономики не позволяет долго ожидать качественных технологических сдвигов. Надо начинать в расчете на то, что в скором времени, благодаря нынешнему динамичному развитию информационных сетей, в России удастся реализовать потенциал дистантной системы, решить стоящие перед нами задачи, достигнув поставленной цели.
Институт разработал и реализует четыре комплексные научно-исследовательские программы: 1) Актуальные проблемы экономической истории России XX века; 2) Геополитические и этнокультурные особенности хозяйственного развития Нижнего Поволжья в XIX—XX вв.; 3) Этнокультурные особенности хозяйственной истории казачества на Дону и Волге в XV—XX вв.;4) Сталинградская битва в истории Отечества.
Главная цель этих программ — активизировать весь спектр историко-экономических разработок как в России, так и в регионе, решив при этом задачи развития методологической базы отечественных историко-экономических исследований, формирования и развития новых научных школ на основе отдельных исследовательских групп, расширения научных связей в области историко-экономических исследований между отечественными и зарубежными учеными, обновления стандартов и программ подготовки специалистов по экономической истории, расширения подготовки кадров по истории народного хозяйства, оперативного внедрения в хозяйственную, социальную практику и учебный процесс результатов научных исследований, осуществления издания научных, архивных и учебно-методических материалов для исследователей, аспирантов, студентов и других заинтересованных лиц.
Особое значение институт придает изданию архивных материалов по истории народного хозяйства России, которые могут послужить основой для дальнейших перспективных исследований.
360
Институт заинтересован в развитии партнерских связей. Так, мы заключили и приступили к реализации договоров о сотрудничестве с Институтом изучения последствий второй мировой войны (Австрия), историческим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета, Центром хранения историко-документальных коллекций, Российским государственным архивом экономики, Государственным архивом Волгоградской области и Центром документальных коллекций по новейшей истории Волгоградской области.
В настоящее время институт готов к установлению тесного сотрудничества с американскими коллегами. Мы знаем, что исследовательские центры США, занимающиеся изучением экономического развития России, накопили значительный опыт в этой области, который нашему молодому институту просто необходим. Наша совместная работа могла бы вестись по следующим научным направлениям:
■ Роль и значение американского капитала в формировании промышленного потенциала на юге России в XIX—XX веках.
■ Роль американского капитала в деле формировании индустриально-промышленной базы Поволжья в 1920—1930-е годы.
■ Роль американской помощи в развитии тыловой экономики в СССР в период второй мировой войны.
■ Развитие ВПК в СССР и США в период «холодной войны»: сравнительный анализ экономических систем.
■ Экономика приграничных зон в условиях территориальной государственной экспансии (на примере освоения казачеством юга России и истории освоения земель Дикого Запада в США).
А.И. Кубышкин
ОБ ИЗУЧЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Предлагаемое вашему вниманию сообщение, разумеется, не претендует на комплексный или даже сколь-либо исчерпывающий анализ столь сложной проблемы, как состоя
361
ние изучения истории России в университетах США в наши дни. Скорее, это заметки, основанные на личных впечатлениях автора, которому предоставилась возможность в рамках стипендии У. Фулбрайта в течение академического года вести занятия в одном из обычных американских университетов. За это же время мне удалось посетить более 30 университетов США и Канады, провести дискуссии с десятками американцев, среди которых были администраторы (президенты и вицепрезиденты университетов и колледжей), ведущие профессора и начинающие преподаватели, аспиранты и студенты. Признавая ограниченность и неполный характер собранной информации, обобщение которой представляется весьма нелегкой задачей, ибо только в США насчитывается более 3000 университетов и колледжей, рискну все же поделиться некоторыми своими соображениями, в основу которых легли впечатления от встреч в университетах преимущественно северовосточной части Соединенных Штатов.
Говоря об уровне и масштабах преподавания российской истории в университетах США, необходимо учитывать следующие обстоятельства: во-первых, объективные факторы глобального характера, такие, например, как распад Советского Союза и появление новых независимых государств как объектов научного изучения; во-вторых, продолжающийся кризис исторического знания и, как следствие этого, получение все более значительных массивов исторической информации с помощью таких наук, как социология, политология, антропология, культурология, в результате чего довольно значительное число американцев именно в этих дисциплинах, а не в истории предпочитают утолять свой интерес к России1. Многие в Соединенных Штатах, да и в нашей стране, поговаривают о том, что Россия больше не вызывает страха и поэтому становится неинтересным и непривлекательным предметом исследования, не стоящим больших затрат. Так, по данным американской печати, количество желающих заниматься русским языком только в 1996 году сократилось среди американских студентов на 45 процентов, в то время как число желающих изучать арабский и китайский языки возросло соответственно на 15 и 20 процентов2. И хотя русский язык не является исключением, и указанная тенденция коснулась и других
362
европейских языков: количество изучающих французский сократилось на 25 процентов, а немецкий — на 20, все же резкое изменение ситуации именно с русским очевидно. Таким образом, в нынешней ситуации в изучении российской истории и культуры мы должны различать содержательную и формальную стороны этого процесса и, следовательно, думать о перспективах возможного сотрудничества в области исторических исследований с американцами.
Как известно, преподавание и изучение российской истории в американских университетах велось в нескольких планах. С одной стороны, история России была и остается довольно важной составной частью концепции общегуманитарного образования (Liberal Arts Education), с другой — наиболее значительные попытки рассмотреть важнейшие аспекты исторического прошлого России предпринимались в рамках обширного комплекса социально-общественных дисциплин, объединенных под названием «советология». Кризис Советского Союза и распад советской системы влияния в глобальных масштабах вызвал адекватный методологический и организационный кризис научно-исследовательских структур в крупнейших университетах и научных центрах США, которые во многом утратили перспективу дальнейших исследований исторических корней, характера и исторической практики системы, традиционно рассматривавшейся в США как враждебная и противоположная3.
Политические и экономические перемены на постсоветском пространстве вызвали у многих в Соединенных Штатах ощущение того, что с окончанием советской эпохи и, следовательно, эпохи противостояния интерес к России, с которой «все стало ясным», должен поддерживаться в исключительно умеренных дозах в силу утраты проблемой своей актуальности и конечной перспективы. Тем самым объективно подтверждалась глубокая взаимосвязь многих советологических концепций с общей системой стратегического противостояния, идеологической и политической конфронтации. Хорошо известно, что вплоть до 1970-х гг. доступ так называемых классических историков России на «поле советологии» был крайне ограниченным. Поэтому львиная доля исследований российской истории сосредотачивалась вокруг проблемы изучения тоталитарного
363
характера советской системы, ее исторических корней и выяснения уровня и масштабов так называемой общественной поддержки тоталитаризма со стороны народа, выявления взаимосвязи русской революции с генетически присущей русской исторической традиции антидемократической (авторитарной) тенденцией государственной жизни и т. д.
Только в середине 1970-х, с появлением в политологии так называемого ревизионистского течения, характер американской советологии существенно изменился в сторону более тщательного источниковедческого анализа и более сдержанного и взвешенного подхода к оценке основных этапов советской истории. Научные труды Роберта Такера, Барбары Такман, Стивена Коэна, Уолтера Лафибера, Шейлы Фицпатрик, Уолтера Лакера и многих других представителей этого направления стали хорошо известны и советской читающей публике, особенно после периода перестройки4.
Как ни парадоксально, нынешний спад интереса к истории России вызван процессами демократизации советского и постсоветского общества, большей открытостью российского общества и сменой идеологических парадигм — процессом, который поверг в немалое смущение и растерянность многих маститых американских советологов, привел к сокращению финансирования большого числа советологических исследовательских центров и их программ и, как следствие, к уходу значительного числа американских студентов из аудиторий, в которых читались курсы по русской истории. Мне самому пришлось выслушать сетования американских профессоров из престижных частных университетов в Лихае и Бакнелле (штат Пенсильвания) о нежелании студентов связывать свою научную карьеру с историей «страны, с которой все кончено». Но означает ли это, что сокращение исследовательских программ по истории России приняло необратимый характер и свидетельствует о полной утрате интереса американцев к данной проблеме? Мне представляется, что дело обстоит несколько иначе.
В середине 1980-х годов в период, когда советология, так же как и университетская история России, находилась на подъеме. Согласно данным В.А. Тишкова, на 295 исторических отделениях университетов США работало 6155 профессоров. Из них 277 специализировалось на советской истории, то есть
364
4,5 процента от общего числа преподавателей-историков. Эта цифра примерно соответствовала числу преподавателей по истории и культуре стран Латинской Америки (4,7 процента) и вдвое уступала числу специалистов по истории и культуре стран Азии (8,4 процента). Советская история преподавалась в 70 процентах исторических отделений университетов США5. В целом эти пропорции сохраняются и в настоящее время. И если крупнейшие исследовательские центры по славистике в Гарвардском, Колумбийском, Чикагском, Стэнфордском и Мичиганском университетах все большее внимание уделяют, следуя политической конъюнктуре, углубленному изучению истории Украины, Казахстана, Молдовы, Азербайджана и Грузии как новых независимых государств, то положение с изучением истории России в рамках университетского образования в целом остается сравнительно устойчивым. Этому способствуют и непрерывно пополняющиеся фонды источников и литературы, объем которой продолжает возрастать значительными темпами, и определенные традиции, накопленные американскими университетами за многие десятилетия преподавания самых различных аспектов русской истории и культуры. Так, широко известные в США и написанные с объективистских позиций университетские учебники по истории России Н. Рязановского, М. Дзевановского, Д. Маккинзи и М. Каррена выдержали несколько изданий6. Наконец, этому способствует активная научная и просветительская деятельность растущей российской диаспоры в США и сохраняющийся, несмотря ни на что, среди значительной части американцев большой интерес не только к перспективам российско-американского сотрудничества, к экономическим и политическим проблемам современной России, но и к ее историческому прошлому.
Даже беглый взгляд на каталоги учебных курсов, которые предлагают своим студентам как ведущие, так и региональные американские университеты, позволяет сделать вывод о том, что общее количество курсов по русской истории и культуре не только не уменьшилось, напротив, подбор курсов стал более диверсифицированным. Так, в одном из крупнейших государственных университетов США — университете Огайо (г. Коламбус) студенты слушают кроме общего двухсеместрового курса «История России с древнейших времен до начала первой мировой войны» специальные (селективные) курсы «Русская цивилизация» (рас
365
сматриваются проблемы географии и народонаселения, особенности развития национальной культуры, проблемы политической и религиозной жизни, значение влияния западной цивилизации на развитие русской культуры и т. д.). «Революционная Россия 1880—1914» (содержащий обстоятельный анализ революционных событий 1905 и 1917 гг., а также демократических движений XIX века), «История Советской России», «Русская интеллектуальная история» (социально-политическая мысль XIX столетия). Кроме этого, студентам университета Огайо предлагаются три специальных семинара по русской истории и два политологических семинара. Кстати, государственный университет Огайо известен давними традициями в области славистики, а выпускники этого университета, специализирующиеся на изучении русского исторического и культурного наследия, как правило, весьма прилично владеют русским языком, хорошо осведомлены о всех процессах, происходящих в нашей стране, и в целом весьма благожелательно настроены к новой демократической России. Такое впечатление у меня создалось после посещения Русского исследовательского центра, дискуссий с его сотрудниками, студентами и аспирантами. Тот факт, что после 45-минутной лекции о современной внешней политике России мне пришлось в течение почти часа вести весьма напряженную дискуссию с аудиторией из 40 человек, свидетельствует о немалом интересе американцев к проблемам исторической преемственности в нынешней российской действительности. Аналогичная ситуация с курсами по истории России сохраняется и в других государственных университетах США. В Кентском университете (Огайо) студенты слушают два общих курса и могут принять участие в коллоквиуме по проблемам истории России. В государственном университете Пенсильвании (Penn State University) — 4 курса и два спецсеминара. Некоторые университеты (в основном средние и малые) предлагают так называемые комбинированные курсы, позволяющие проводить сравнительный анализ не только различных политических систем, но и моделей исторического развития стран, типологически принадлежащих, по мнению американцев, к одному порядку. Так, в университете Дженесео (штат Нью-Йорк) наряду с объединенным курсом «Имперская и революционная Россия» студенты изучают курс «Историческая трансформация России и Китая», на который в
366
осеннем семестре 1996 записалось более 30 человек, что, по американским стандартам, весьма высокая цифра для университета, в котором предлагаются для выбора свыше 800 различных лекционных курсов (в том числе более 50 — по истории) и где общее число студентов едва превышает 4000 человек.
При более внимательном рассмотрении выясняется, что наибольшее сокращение желающих заниматься русской историей наблюдается в более дорогих и престижных частных университетах, напрямую зависящих от субсидий и пожертвований спонсоров на исследования, которые должны быть в максимальной степени прибыльны и приближены к жестким условиям интеллектуального рынка Запада. Безусловно, когда испаноговорящая часть американского общества стала второй по численности этнической общиной в стране (около 25 миллионов), а экономические интересы США в странах Азии непрерывно возрастают, углубленное изучение истории Мексики или Китая становится делом несравненно более привлекательным и перспективным, исходя из прагматических соображений американцев. Таким образом, происходит нормальная корректировка рынка образовательных услуг (в данном случае с изучением истории России) с учетом спроса и предложения — принципа, на котором в значительной степени выстроена высшая школа США. Тем не менее, несмотря на изменение конъюнктуры в худшую для русистов сторону, в одном из наиболее престижных частных университетов в стране — Джорджтаунском (Вашингтон), как и прежде, преподаются шесть курсов по истории России, в том числе и такие, как «Нация и империя в русской истории», «Народное искусство в Америке и России (сравнительный анализ)». Меньшие по размерам, но также достаточно известные частные университеты в Лихае и Бакнелле (Пенсильвания) по-прежнему предлагают по два курса гражданской истории России и курсы по истории средневековой и современной русской культуры. Разумеется, практически во всех американских университетах преподаются и чисто политологические курсы, посвященные анализу проблем демократизации российского общества. Их количество в несколько раз превышает число курсов по гражданской истории, но это тема для отдельного разговора.
Аналогичная картина наблюдается и в других частных университетах, причем не только в тех, где традиционно были
367
сильны славистские школы и исследовательские центры (Кор- неллский, Гарвардский университеты), но и там, где русистика отнюдь не являлась приоритетным направлением исследований. Так, мы можем отметить два курса по русской истории, которые читаются в небольшом гуманитарном колледже в Геттисберге (Пенсильвания), три — в университете Вашингтона и Ли (Вирджиния).
Следует напомнить, что в американском университете типичными являются исторические отделения, где занято от 10 до 20 преподавателей. Однако имеется немало университетов и колледжей, где историю преподают от 2 до 5 преподавателей, особенно на так называемом основном базисном уровне, включающем четырехлетний цикл гуманитарного обучения ( Undergraduate Stage), завершающийся присуждением степени бакалавра (BA). Поэтому работа каждого американского преподавателя-истори- ка в условиях профессиональной конкуренции и борьбы буквально за каждого студента носит чрезвычайно интенсивный характер и он должен (особенно это относится к так называемым общественным, то есть государственным, университетам, Public Universities) предложить своим студентам не менее четырех (иногда эта цифра достигает семи!) курсов в семестр, при норме 3 часа на каждый курс в неделю. Поэтому в средних и малых университетах и колледжах русскую историю преподают обычно 1—2 профессора. Так, в университете Вашингтона и Ли, на историческом отделении которого занято 13 преподавателей, оба учебных курса и семинар по истории России ведет проф. Р. Бидлэм, в Кентском, где количество историков вдвое больше, имеется также только один специалист по русской истории — проф. К. Воробек, читающая два курса и ведущая коллоквиум по русской истории. Но и в Мэнсфилдском университете (Пенсильвания), в котором я преподавал и где насчитывается всего два историка на полной ставке и один на полставки (ситуация экстраординарная даже для сравнительно небольшого университета в 3000 студентов), предлагающие в течение четырехлетнего цикла обучения 42 ( ! ) учебных исторических курса; общий двухсеместровый курс по истории России читается на протяжении многих лет, поскольку является необходимым условием для получения степени бакалавра по гуманитарным наукам.
Что можно сказать о содержательной стороне преподава
368
ния российской истории? Разумеется, нельзя забывать, что американские университеты бывают не только большие и маленькие, но и элитные и общедоступные. Главная отличительная черта заключается в функции того или иного университета, его миссии в системе высшего образования США. Университет может быть «исследовательским» (Research University) и представлять из себя группу колледжей в сочетании с научными институтами и лабораториями, где профессиональная карьера преподавателя (историка в том числе) напрямую зависит от его научных достижений и количества публикаций. В исключительно «обучающих» университетах (Teaching Universities) основное время уделяется исключительно общеобразовательной подготовке и преподаванию. Довольно часто в таких университетах и колледжах русскую историю преподают люди, не знающие русского языка и не опубликовавшие ни одной научной статьи по предмету своей преподавательской деятельности, зачастую не имеющие докторской степени. Еще 10—15 лет назад почти половина из преподававших историю России и советологию американских преподавателей занимала ставки лишь ассистентов и доцентов, в то время как количество ученых, имевших наиболее престижную и высокооплачиваемую позицию «полного профессора» (Full Professor), было в сравнении с коллегами, представлявшими другие разделы исторической науки, незначительным7. Вместе с тем общая высокая техническая оснащенность американских университетов, наличие хороших библиотек (в том числе и значительное количество научной литературы на русском языке в крупнейших университетах, включая журнальную историческую периодику), огромное количество вспомогательных материалов по русской и советской истории (исторические карты, кино- и видеофильмы, как художественные, так и документальные); наконец, повсеместная компьютеризация учебного процесса и всеобщий доступ в Интернет сейчас позволяют проводить занятия на самом высоком методическом уровне даже в скромных региональных 2-летних колледжах (Community Colleges). Конечно, главное здесь, как и везде, зависит от личности самого преподавателя, его отношения к предмету, его человеческого и научного авторитета. Меняется и качественный состав преподавателей российской истории. Наряду с новым поколением американских историков-русистов все чаще преподавательскую кафедру
369
в аудиториях ведущих университетов США занимают наши соотечественники, ибо приглашение российских историков, и в первую очередь молодых, по научно-исследовательским программам стало обычной практикой.
По свидетельствам многих моих американских собеседников, примечательным является то, что преподавание русской истории — ныне гораздо менее политизированный процесс, чем это было в годы «холодной войны» и сравнительно недавние времена. И дело не только в том, что американцы перестали считать Россию «империей зла» и сейчас стремятся преподавать историю нашей страны (как и историю вообще) в соответствии с требованиями политической корректности. Налицо стремление многих американских студентов изучить именно общецивилизационные аспекты истории России как составной и немаловажной участницы общемирового исторического процесса. Отсюда усиление внимания к историософским и философским вопросам исторического развития России, к выявлению демократических традиций, генезису элементов гражданского общества, к истории реформ и контрреформ с точки зрения объективизма, все более заменяющего политическую предвзятость и тенденциозность. Этим качественным изменениям способствует и значительно расширившийся в последние годы научный, преподавательский и студенческий обмен между российскими историками и их американскими коллегами, изменившиеся для американских исследователей в лучшую сторону возможности работы в российских архивах, осуществление совместных учебных и научно-исследовательских проектов.
Так, публикация статей российских историков на страницах ведущих исторических журналов США («American Historical Review», «The Russian Review», «The Slavic and East European Journal») стала нормой, и совместное обсуждение самых острых проблем далекого исторического прошлого России и событий недавнего прошлого в основном ведется в рамках научной корректности и без налета ангажированности и сенсационности времен «холодной войны». В свою очередь, статьи крупнейших американских исследователей регулярно публикуются в России на страницах «Американского ежегодника», научных сборников американистов МГУ, Института США и Канады РАН, а на книжных прилавках России все чаще стали
370
появляться работы американских историков-русистов, как, например, Р. Пайпса и Д. Ремника, в которых история нашей страны оценивается с прямо диаметральных позиций.
Наряду с традиционными темами (история крестьянства, рабочих и интеллигенции, военная история, история революционного и демократического движения), все большее внимание среди американских преподавателей и студентов вызывают исследования национальных отношений в дореволюционной и послереволюционной России, история молодежи и женщин, а также история и культура отдельных регионов, история внешней политики и развитие российско-американских отношений. Вместе с тем следует отметить, что американская студенческая аудитория хотя и имеет возможность работать с текстами таких классиков российской исторической мысли, как С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, она в гораздо меньшей степени знакома с лучшими исследованиями отечественной историографии 1960-х — первой половины 1990-х годов.
Несмотря на многочисленные попытки сократить научно-исследовательские программы, связанные с русистикой, которые были предприняты в последние годы, в большинстве университетов США удалось сохранить и кадры, и научные учреждения, изучающие историю и культуру России. Значительную роль в поддержании высокого уровня исторических исследований и преподавания сыграли как университетские профессора, так и сами студенты, активно выступившие в защиту центров славистики и русистики, как это произошло, например, в государственном университете Огайо, где со стороны администрации была предпринята попытка значительно урезать финансирование программ по славистике и где единодушный протест студентов, аспирантов и преподавателей заставил власти пойти на отмену своего решения.
Говоря о перспективах преподавания российской истории в университетах США, можно с уверенностью сказать, что, хотя кризис методологических основ советологии налицо и многие устоявшиеся стереотипы и концепции истолкования исторического прошлого Русского государства — Российской империи — СССР стали частью исторического мифотворчества времен конфронтации, идеологической и политической борьбы двух противоположных систем, интерес к историческим, философским
371
и культурологическим проблемам России по-прежнему высок и в целом стабилен. История Россия является необходимой и весьма существенной частью как общегуманитарного, так и специального исторического образования в США и продолжает вызывать интерес у значительной части американского студенчества. Некоторый же внешний спад интереса к проблемам России, отмечаемый американской прессой, носит временный, конъюнктурный характер и не сможет, на наш взгляд, в серьезной степени повлиять негативно на возможности американцев получить исторически достоверную, объективную и непредвзятую информацию об основных параметрах исторического развития России, ее значительном вкладе в европейскую и мировую культуру, лучше понять особенности и трудности современного этапа демократических преобразований в России.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. См.: Жук С.И. Заметки о современной американской историографии / / Вопросы истории. 1995. N 10. C. 162—166.
2. The New York Times. 1996. 10. 10.3. См.: Мартин М. Из-под глыб, но что?: Очерк истории
западной советологии / / Отечественная история. 1997. N 5. С. 93—109; Кодин Е. Междисциплинарные исследования как методология: переосмысливая историю американской советологии / / Роль ученых в построении гражданского общества / Информационное агентство США (USIA). М., 1997. С. 174—180.
4. См.: Эктон Э. Новый взгляд на русскую революцию / / Отечественная история. 1997. N 5. С. 68— 79.
5. Тишков В.А. История и историки в США. М., 1985. С. 43—44, 79—80.
6. Riasanovsky N. A History of Russia. Fifth Edition. N. Y.; Oxford, 1993; Dzievanovsky M.K. A History o f Soviet Russia. Fourth Edition. Englewood diffs, 1993; MacKenzie D , ^ rra n M. A History of Russia, the Soviet Union, and Beyond. Belmont (СА), 1993.
7. Тишков В.А. Указ. соч. С. 80.
372
Т.А. Анисимова
О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ИСТОРИИ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВА В АМЕРИКАНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Лекционный курс «История русской архитектуры», предварительно разработанный в Волгограде и включенный в программу стажировки в американском университете в Мэнсфилде, мне предстояло читать в весеннем семестре. Достаточно объемный по содержанию материала, хронологическим рамкам он, однако, был рассчитан в основном на подготовленных студентов, выбравших для себя архитектурную специальность, и оказался сложным для студентов других специальностей. Поэтому в расписании занятий курс предлагался лишь студентам четвертого года обучения.
Почувствовав уже в первые осенние месяцы пребывания в Мэнсфилде интерес нашего окружения к самобытной культуре и истории России и учитывая в целом направленность общеуниверситетской программы «Год России», я решила дополнить курс материалом по истории русского искусства. К тому же мною были привезены некоторые материалы по этому предмету, в том числе серия слайдов. Идея оказалась как нельзя кстати и вызвала одобрение руководителя отделения искусств доктора Г. Картера, который одновременно являлся и координатором моей стажировки в университете в Мэнсфилде.
Представленный новый вариант рабочей программы курса («Syllabus») «История русской архитектуры и искусства» был принят без изменений с единственным замечанием относительно требований, предъявляемых мною к студенческой курсовой исследовательской работе.
По сути своей «Syllabus» в американском университете не просто рабочая программа курса, как мы обычно понимаем, а своеобразный договор или контракт между профессором и студентом, где указывается регистрационный номер курса (в данном случае «ARH-455»), время и место проведения занятий, офисные часы лектора ( т. е. когда студент может прийти на
373
консультацию), номер его телефона, е-mail, цель и задачи курса, его краткое описание, характер проведения занятий, периодичность и порядок тестирования и экзаменов; где фиксируются требования лектора к студенту и условия оценки знаний («Grading»), то есть количество кредитных единиц, которые студент может получить за данный курс. Например, студент может получить оценку знаний по пятибалльной шкале, где «А» — наивысший результат, а «F» означает, что студент не аттестован по предмету, причем оценки могут дифференцироваться с помощью плюсов и минусов, в отличие от нашей системы, где оценка может быть только «целой».
Замечание д-ра Картера заключалось в том, что в США лектор не имеет права требовать от студентов публичного выступления по своей работе. Мне же хотелось, чтобы студенты сделали такие сообщения на университетской конференции. Будучи в должности приглашенного профессора, работа которого оплачивается этими же студентами, я была вынуждена подчиниться правилам, установленным для американской системы образования.
Не зная, что собой представляют студенты, выбравшие мой курс, насколько они осведомлены в данном предмете, я решила подготовить к первой встрече с ними небольшой анонимный тест, который, как мне казалось, должен был помочь мне сориентироваться. Надо сказать, студенты американских университетов регулярно заполняют разного рода тесты, делают это охотно, быстро и вполне искренне. Тест состоял из трех вопросов:
1. Приходилось ли Вам когда-либо изучать предметы, связанные с историей русской архитектуры и искусств ?
2. Напишите названия старых русских городов, о которых Вы когда-либо слышали.
3. Кого из великих русских художников и/или архитекторов Вы знаете ?
Смешанное чувство возникло у меня, когда я прочитала ответы. Вообще, университет в Мэнсфилде относится к числу средних по численности студентов среди университетов США, где на отделении искусств (^rt Department) обучалось 56 студентов. Поначалу на мой курс записалось восемь человек (это значительное для отделения число) и затем, когда время вы
374
бора студентами предметов для изучения в данном семестре закончилось, подошла еще одна студентка с просьбой подписать ее заявление на право посещения занятий. Таким образом, мне предстояло работать с девятью студентами, шестеро из которых специализировались в сфере «Art Education», двое — по «Art History» и одна студентка — по психологии. Меня удивило, что из восьми студентов, так или иначе связанных с миром искусства, лишь один написал, что изучал русскую историю, но никогда не изучал русское искусство в целом. В остальных тестах ответы на этот вопрос были отрицательными.
На второй вопрос в двух тестах ответов не было, в остальных ответах фигурировали в различных комбинациях только три города: Москва, Ленинград (или Санкт-Петербург) и Волгоград.
Ответы на третий вопрос были одинаковыми — студенты не вспомнили ни одного имени. Нет, я не ждала чуда, но рассчитывала увидеть хотя бы всемирно известные имена художников, такие, как Василий Кандинский, Марк Шагал или Казимир Малевич.
Действительно, даже такой небольшой тест открыл мне многое. Я поняла, что мне будет нелегко. В отличие от студентов, с которыми мы работаем у себя в российских вузах, в известной мере подготовленных к восприятию материала, так как они прослушивают определенный учебным планом набор дисциплин, американские студенты совсем не обязаны знать какие-либо азы по такому предмету, который я им предложила. И все же мне очень хотелось показать им, насколько интересна и своеобразна культура нашей страны, я стремилась оставить след в памяти студентов, пробудить у них интерес к дальнейшему изучению истории России или желание посетить нашу страну.
Чтобы хоть как-то облегчить начало нашей совместной работы, отправной точкой моих занятий стал обзорный курс по истории России вообще. Потратив две лекции на этот материал, я не считала это время потерянным зря. Наоборот, краткая хронология, отпечатанная для студентов, служила основанием, на которое шаг за шагом стали накладываться дальнейшие сведения и формироваться представления об исторических взаимосвязях, процессах, направлениях развития архитектуры и искусства России.
По уровню оснащения компьютерами, копировальной и
375
прочей офисной техникой библиотека университета г. Мэнсфилда признана одной из лучших среди библиотек в малых и средних по численности университетах страны. Возможность для любого студента через Интернет связаться с любым университетом страны позволила мне порекомендовать им значительно расширить предложенную хронологию русской истории, указав лишь адрес и последовательность поиска развернутой хронологии (с 860 г. до настоящего времени), разработанной сотрудниками университета Бакнелл и даже снабженной характерными символами или эмблемами для каждой эпохи.
Следует отметить, что меня несколько удивила четко организованная в университете система обеспечения студентов необходимой учебной литературой. Порекомендовав два учебника — «The Art and Architecture of Russia» и «Art of the Soviets (Painting, Sculpture and Architecture in a One-Party State, 1917— 1992)» (в университетской библиотеке был лишь один экземпляр первого из них, причем не самого последнего издания) — и представив выходные данные по этим учебникам в соответствующую службу, я надеялась, что другой учебник после запроса тоже поступит в библиотеку. Но результат превзошел мои ожидания: примерно через месяц после этого и недели за две до начала семестра оба учебника поступили в университетский книжный магазин, причем в последнем издании (допечатка тиража). Меня поразила эта завидная оперативность как результат технических возможностей и некоторых других отличительных особенностей американской системы образования.
После введения и краткого ознакомления с историческим фоном необходимо было поддержать у студентов интерес к предмету, и, конечно, преднамеренным было с моей стороны вынесение на первый план, то есть в качестве первого раздела, материала, посвященного русскому деревянному зодчеству. С одной стороны, в этом было нарушение хронологии, поскольку история русской архитектуры практически не располагает памятниками древних построек из дерева в силу недолговечности этого материала. С другой стороны, известно, что даже при значительном проценте территории США, покрытой лесами (более 60%), деревянное зодчество в этой стране не сформировалась в столь яркое и самобытное явление, как это было в России. К тому же авторы некоторых учебников по истории русской архитектуры
376
поступают аналогично. Эта методика оправдала мои ожидания: студенты с большим интересом восприняли материал, задавали много вопросов. Помимо использования многочисленных слайдов и учебных видеофильмов мне приходилось прибегать к изображению на доске различных схем, конструкций и деталей. Это способствовало лучшему пониманию и более углубленному усвоению материала. В свое время я подготовила большую коллекцию слайдов к курсу лекций «История архитектуры русских и национальных земледельческих поселений», который я читала студентам-архитекторам Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии в течение нескольких лет. Темой курсовой работы студентки Дж. Дарт был анализ особенностей русского деревянного зодчества. Для этого я предоставила ей 120 слайдов из своей подборки.
Древнерусская музыка настолько тесно связана с народным творчеством, что игнорировать это было бы с моей стороны просто неразумно. Поэтому использование музыкальных фрагментов (мелодичных и торжественных песнопений композиторов XVI—XVII вв. Федора Крестьянина и Н.П. Дилец- кого, русских народных песен), на мой взгляд, оживило и обогатило образное представление студентами особенностей русской культуры.
Приятным сюрпризом было для меня то, что по завершении этого раздела большинство студентов в течение субботы и воскресенья сделали из дерева (круглых зубочисток, по длине раза в два превышающих наши спички) небольшие макеты церквей, архитектура которых произвела на них наибольшее впечатление. Это были, конечно, не многоглавые, но достаточно интересные и выразительные по силуэту конструкции русских церквей. В последующие два-три занятия остальные студенты тоже принесли свои макеты, поскольку здоровый дух соперничества и уверенность в своих возможностях самовыражения есть естественное, как я заметила, проявление социальных установок в сознании большинства американцев. Должна отметить в этой связи, что макет студентки, специализировавшейся по психологии, был выполнен не хуже, а, наоборот, лучше некоторых работ других студентов, имеющих непосредственное отношение к творческой деятельности.
С переходом к следующему разделу — средневековью, пред
377
ставленному в большинстве своем памятниками каменного зодчества, для лучшего понимания студентами разницы в конструктивном строении деревянных и каменных церквей я сама изготовила в качестве наглядного пособия сборно-разборный макет купольно-крестовой церкви. Каждый студент сделал уже под моим руководством подобный макет. И если в первом случае они больше руководствовались своим эмоциональным восприятием, не всегда четко передавая пропорции, что придавало их работам более скульптурный, нежели архитектурный характер, то здесь я постаралась заострить их внимание на конструктивной схеме и открывающихся возможностях значительного увеличения внутреннего пространства церкви с использованием сводного покрытия, опирающегося на четыре колонны в центре здания. В результате на экзамене вопросы, связанные с этими двумя типами церквей, не вызывали у моих американских студентов затруднений. Все макеты были сфотографированы для выставки, а лучшие были впоследствии использованы как памятные сувениры организаторам программы «Год России».
В разделе, посвященном периоду становления централизованного Российского государства, особый интерес студенты проявили к истории формирования архитектурного ансамбля Московского Кремля. Это объясняется, скорее всего, эффектом узнаваемости, поскольку данная тема наиболее часто используется средствами массовой информации в США для моделирования образа России. То же самое можно отметить и по отношению к дворцовой архитектуре Санкт-Петербурга. Для этих разделов я также использовала слайды, учебные видеофильмы и музыкальные фрагменты (наибольшее впечатление производило использование слайдов с изображением какой- либо церкви или монастыря в сочетании с магнитофонной записью звона Кремлевских, Суздальских, Псково-Печорских или Ростовских курантов).
Интересно отметить, что среди множества исторических личностей, упомянутых мною, студенты особенно выделили Петра I и Екатерину Великую. Отмечая их вклад в историю русской культуры, Дж. Миллер (работа «St.Petersburg: A City and it’s Creator») и В. Биимэн (работа «Catherine the Great — Enlightened Autocracy») посвятили этой теме свои курсовые проекты.
В разделе, анализирующем формирование современной
378
русской архитектуры, студентами были особенно выделены периоды конструктивизма и триумфализма; архитектура Московского метро ими была охарактеризована скорее как вычурная, нежели функциональная. Поскольку в названии лекционного курса была указана именно история русской архитектуры и искусства, то материал по современному периоду носил чисто обзорный характер.
В разделе, посвященном истории русского искусства, были выделены три основные темы: 1) русская классическая иконопись и провинциальные школы; 2) обзор русской живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (дореволюционный период); 3) русское искусство XX века: основные направления и новые тенденции.
Мне казалось, что эволюция русской иконописи в силу своей самобытности может произвести на студентов столь же сильное впечатление, как и русское деревянное зодчество, но в действительности же их более заинтересовала скульптура (ей посвящены были две курсовые работы: В. Маккарти «Monumental Thoughts in St.Petersburg» u M. Васкалус «A Talk About Russian Sculpture») и искусство XX века (ему были посвящены три студенческие работы: M. Саллади «Wassily Kandinsky: Moving Towards Spirituality in Art», Э. Ваттс «Kazimir Malevich: Russian Suprematist» и A. Дереа «Marc Shagall — A Russian Artist»). Но самой интересной, серьезно разработанной и обширной по объему материала оказалась работа Л. Миллар, специализировавшейся по психологии, — «Wonder Worker, You Beware!» (Alexander Pushkin’s Response to the Works of Peter the Great)», в которую она удачно включила предоставленную мной большую подборку слайдов.
Одновременное использование двух проекторов для показа слайдов позволило мне проводить во время занятий сравнительный анализ архитектурных объектов, региональных школ иконографии и наиболее характерных художественных произведений. Такой прием дает более наглядное представление и способствует, на мой взгляд, лучшему усвоению студентами материала. Кроме того, студент, по той или иной причине пропустивший лекцию, имел право самостоятельно посмотреть отобранные по данной теме слайды.
Подбор и ксерокопирование иллюстративного материала
379
(помимо слайдов и видеофильмов) по теме очередного занятия также помогали мне. Так, в общей сложности каждый студент к концу семестра имел на руках, помимо рекомендованной литературы, и учебное пособие с более чем 170 иллюстрациями.
Следует отдельно остановиться на таком важном и нелегком процессе, как оценка знаний студентов. Преподаватель не имеет права менять количество указанных в «Syllabus» тестов и экзаменов. Заранее, недели за две до очередного экзамена (в моем случае — промежуточного и финального) необходимо дать студентам список вопросов к нему. В американских университетах наиболее распространена письменная форма экзамена, и чаще всего используются стандартные для всех студентов бланки с одними и теми же вопросами по типу «выбор ответа из нескольких» или «правда — ложь». В силу специфики предмета (использование визуальных вспомогательных средств) к этим, рекомендованным мне координатором, типам вопросов я решила добавить несколько иллюстраций, на которых нужно было дописать название отдельных конструктивных элементов, определить приблизительно время и место строительства памятника или выбрать его характеристики из числа представленных. Кроме того, на один из вопросов необходимо было написать небольшое (полстраницы) резюме, что мне было особенно интересно читать, так как в этом виде процент случайности крайне низкий.
В отличие от нашей системы, где нередко оценки студентов оглашаются в группе, это в США абсолютно непозволительно, ведь в случае получения низкой оценки могут быть задеты достоинство и самолюбие студента.
Учитывая замечание своего координатора, я исключила пункт об участии студентов в конференции, но это совсем не значит, что я отказалась от задуманного, ибо в результате индивидуальной работы со студентами (помощь в определении темы, подборе литературы и иллюстративного материала, обсуждение плана изложения, выявление ключевых моментов и так далее) каждый из них ( ! ) выступил с докладом на конференции «Культура, бизнес и политика в современной России», явившейся заключительным аккордом программы «Год России» университета г. Мэнсфилда (апрель 1997 года.)
380
Надо сказать, что отведенное оргкомитетом конференции время было недостаточным, чтобы дать возможность всем моим студентам выступить, поэтому мы решили продолжить заседание нашей секции «Русская архитектура и искусство» на одном из занятий, объявив его открытым для всех желающих. Студенты сами разработали программу с иллюстрациями, набрали ее на компьютере, размножили и разрекламировали по кампусу. Из всех выступлений наиболее яркими и интересными были признаны два — Л. Миллар и M. Саллади. Оргкомитет вручил им небольшие памятные сувениры, а я как руководитель занятий подготовила каждому выступавшему благодарственное письмо за подписью организаторов конференции и всех международных участников данного проекта.
В заключение хочется отметить, что ответы студентов на уже более сложный тест, как по завершению, так и во время финального экзамена, меня очень порадовали. Цель, поставленная мной в самом начале, была достигнута — практически все американские студенты изъявили свое желание в будущем обязательно посетить Россию, чтобы своими глазами увидеть все то, о чем они узнали из прослушанного курса лекций. Многие из них написали, что хотят более углубленно познакомиться с культурой России.
Для меня работа с американскими студентами принесла много полезного: это и практическое совершенствование в английском языке, и новый, я бы сказала, несколько отстраненный взгляд на столь знакомый предмет, и апробация в учебном процессе ранее не использованных технических средств, и богатый материал для размышления и публикации нескольких статей, и, наконец, мой скромный вклад в дело укрепления связей между нашими странами в сфере развития программ культурных и образовательных обменов.
381
С.П. Лопушанская, М.В. Косова, О.А. Горбань
ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТАЖЕРОВ ИЗ США КАК ФАКТОР МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
По словам известного языковеда В. фон Гумбольдта, «различные языки по своей сути, по своему влиянию на подсознание и на чувства являются различными мировидениями»1, и «в языке мы всегда находим сплав исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера нации»2. Данное емкое и лаконичное высказывание в определенной степени согласуется с историко-культурным аспектом изучения русского языка как опосредованного отражения совокупности духовных и материальных ценностей, созданных народом в процессе многовекового развития. Такой подход к изучению и преподаванию русского языка был провозглашен еще М.В. Ломоносовым и его последователями, сформулирован в XIX веке В.И. Далем, И.И. Срезневским, активно развивается в трудах современных отечественных и зарубежных языковедов.
1. В Волгоградском государственном университете стажеры из Кента, Мэнсфилда, Граца, Кельна, Брюсселя, Дижона, вузов Китая и Кореи проходят семестровое обучение русскому языку как иностранному при кафедре истории русского языка и стилистики. На базе кафедры проводятся научно-методические семинары Института русского языка Российской Академии наук им. В.В. Виноградова и Института русского языка им. А.С. Пушкина. В центре нашего внимания находятся вопросы историко-культурного аспекта изучения и преподавания русского языка, прежде всего лексики. Особое место занимает функционально-семантический анализ лексики, считавшейся долгое время устаревшей, вышедшей из активного использования даже в книжно-письменном литературном языке, но возрождающейся в связи с изменениями социальной и конфессиональной структуры общества в современной России. В связи с этим в качестве исходного принято положение В. Г. Костомарова о том, что «каждый новый взгляд на историческое соотношение старославянской книжности и исходной вос
382
точнославянской народно-речевой стихии существенно видоизменяет наши стилистические представления»3.
Формирование новой геополитической ситуации в последнее десятилетие, обращение к прошлому, к истокам национальной культуры вызвали широкий интерес к церковнославянскому языку как у самих носителей русского языка, так и у всех изучающих русский язык. Этот интерес двоякого рода: с одной стороны, наблюдается стремление к изучению церковнославянского языка, его грамматики в связи с необходимостью и желанием понимать церковную службу, тексты Священного писания и т. д.; с другой стороны, отмечается активное использование лексики русского литературного языка, генетически связанной с церковнославянским, обусловленное языковыми процессами современной эпохи. Это поставило новые задачи в преподавании русского языка как иностранного4.
Изучение церковнославянского языка в иноязычной аудитории, как правило, ограничено узкопрофессиональными интересами. Однако обращение к фрагментам церковнославянских текстов возможно и на занятиях с неспециалистами, например в контексте истории русской культуры, классической литературы. Кроме того, рассмотрение церковнославянской лексики обусловлено также новыми процессами в современном русском языке. В.Г. Костомаров в книге «Языковой вкус эпохи»5, отмечая широкую активизацию книжной лексики, церковнославянской по своему происхождению, называет и ряд причин, вызвавших это явление.
С изменением роли религии и церкви в российской общественной жизни отмечается актуализация в речи конфессиональной лексики и идиоматики, например: «аллилуйя», «амвон», «благовест», «Бог», «вера», «грех», «Господь», «Рождество,» «Спас», «храм» и др. (некоторые из подобных слов, общеславянские по происхождению, связаны с выражением христианских понятий и ценностей).
Возникновение новых явлений также способствует возрождению соответствующих понятий, таких как, например, «благотворительность». Активное употребление подобных лексем в современной речи вызвано идеологической переориентацией, изменением культурных и духовных ценностей: «православие», «милосердие», «покаяние». Это подтверждает слова Эдварда Се
383
пира о том, что «самый значимый аспект русской культуры состоит в изначальной человечности»6. В этом контексте возможно переосмысление некоторых возрождаемых понятий. Так, «слово соборность заменяет коллективизм, утрачивая свойственную людям советского воспитания ассоциацию со словом собор, с названием церкви... духовность успешно вытесняет былые партийность и народность, оказавшись вполне взаимозаменяемыми с ним в нынешней официальной риторике»7. Активное употребление церковнославянской лексики и фразеологии является также реакцией на хлынувший в литературную речь поток просторечных слов, диалектизмов, жаргонизмов. Все эти процессы в современной литературной речи наиболее ярко отражаются в печати и учитываются на занятиях по русскому языку как иностранному при изучении газетных текстов, содержащих важный культурный фон. Лингвистический анализ и отбор текстов помогает выявлению рассмотренных изменений и усвоению целого пласта лексики. Основную роль здесь играет работа со словарями. Стажеры не только определяют значение незнакомых слов, но и обращают внимание на имеющиеся стилистические пометы (многие из часто встречающихся в прессе книжных слов зафиксированы в словарях с пометами «устаревшее», «в церковном богослужении», «в христианской мифологии» и т.д.), на объем и содержание словарных статей, на наличие и отсутствие самих слов и т.д.
Многим лексемам посвящены разные словарные статьи, отличающиеся числом выделяемых значений и степенью подробности их толкования. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой отмечено больше значений, чем в предыдущих изданиях, у слов «Бог», «храм», «покаяние». Так, существительное «покаяние», кроме толкования «добровольное признание в совершенном проступке, в ошибке», объясняется также через синоним «исповедь» (в первом значении). В свою очередь, у слова «исповедь» значение «покаяние в грехах перед священником» представлено в словаре С.И. Ожегова как второе после значения «откровенное признание в чем-нибудь», тогда как в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой оно (с более подробной формулировкой) выдвигается в качестве первичного по отношению к переносному «откровенное признание»8.
Сопоставление словарей позволяет увидеть также измене
384
ние стилистических и иных помет. Например, слово «благовест», фиксировавшееся ранее как устаревшее, позднее такой пометы не имеет; «гордыня», характеризовавшееся как устаревшее, теперь определяется только как книжное и т. д. Это свидетельствует об активизации употребления рассматриваемых слов в современной речи, об актуализации обозначаемых ими понятий. Неслучайно лексика, связанная с темой «Религия», нашла отражение в предназначенном для иностранцев проекте «Пороговый уровень. Русский язык. Т. 1. Повседневное общение», подготовленном коллективом Института русского языка им. А.С. Пушкина под руководством Е.М. Степановой и вышедшем в свет в 1996 г. под редакцией О.Д. Митрофановой9.
В преподавании, помимо анализа словарей с целью выявления названных изменений в языке, используются такие традиционные формы работы над изучаемой лексикой, как подбор синонимов (в том числе стилистических) и антонимов, поиск производных слов и связанных с ними реалий («город Архангельск» и его житель, «архангелогородец», «Архангельский собор Московского Кремля»), установление сочетаемости слов «ангел-хранитель», «день ангела» и т. д.) и др10.
Лингвистический материал может быть включен в культурно-исторический контекст. С целью создания эмоционального настроя студентов им предлагается прослушивание фонозаписи «Литургии» П.И. Чайковского ^ p . 41), «Литургии Иоанна Златоуста» С.В. Рахманинова ^ p . 31) или других произведений духовной музыки.
Для лучшего ознакомления с предметной лексикой, наряду со словарями, используется иллюстративный материал (репродукции икон и фресок древнерусских храмов). При этом раскрывается значение общеславянского слова «плащаница» (кусок полотна, саван), таких греческих заимствований, как «хитон» (длинная или до колен рубаха, которая подпоясывалась с напуском), «гиматий» (широкий плащ, который надевался поверх хитона), «мафорий» (длинная накидка, которой женщина покрывала голову) и др. Объясняются также семантика и употребление слов с отвлеченным значением, например причастия «всемогущий». Возможности в привлечении культурологического материала расширяются с применением современных средств мульти-медиа.
385
2. В многообразии и общности человеческих языков находит отражение диалектика общего и особенного, являющаяся закономерностью функционирования и развития действительности11. Национально-культурное своеобразие языка обнаруживается на всех уровнях языковой системы. Грамматика менее специфична в этом отношении, чем лексика. В то же время языки различаются набором, объемом и характером морфологических категорий, организацией синтаксического строя, поэтому важно учитывать несовпадение языковых систем, обращать внимание на материал, вызывающий интерференцию, провоцирующую ошибки в русском языке12.
Так, для стажеров из США при изучении русского языка представляют определенные трудности категории рода и падежа существительных, глаголы движения, вид глагола и др. Категория вида глагола, являясь морфологическим ядром функционально-семантической категории аспектуальности, — одна из коммуникативно значимых в русском языке, в английском же, как известно, вид как морфологическая категория отсутствует, а многообразие аспектуальных значений передается системой временных форм. Сложность изучения категории вида в иноязычной аудитории объясняется не только широтой аспектуальных значений, но и многообразием средств их выражения, зависимостью употребления видовых форм от контекста или ситуации общения.
Систематизация ядерных и периферийных средств выражения аспектуальных значений оказывается важным приемом обучения грамматике. Определить главное значение, увидеть особенности частных употреблений, объединить видовые формы в блоки, имеющие общность грамматических, темпоральных и модальных функций, позволяет оппозиционное представление языковых единиц.
Оппозиция видовых пар глагола основывается прежде всего на значении, и в иностранной аудитории высветить дифференциальные семантические признаки помогает опора на лексику, «лексическая компетенция грамматических правил»13. В первую очередь, для демонстрации видовых различий используются глаголы, лексическое значение которых ярко обнаруживает идею процессуальной результативности действия14. Кроме этого, для понимания характера глагольных действий и их аспекту-
386
альной семантики привлекается контекст или ситуация. Некоторые видовые значения реализуются в минимальном контексте, на уровне словосочетания («начать», «продолжить», «кончить», «перестать» + НВ; «успеть», «спешить», «торопиться», «забыть» + СВ; «долго», «целый день», «два часа» + НВ; «сразу», «неожиданно», «вдруг» + СВ и т. п.). Однако в ряде случаев, где выбор вида определяется коммуникативной установкой говорящего (например, общефактическое/конкретно-фактическое значения), важна аспектуальная перспектива текста, так как восприятие и порождение высказывания идет путем соединения смысловых блоков, а не отдельных слов. В каждом блоке в смыслообразующей фразе заключен общий грамматический смысл, который на последующей фазе реализуется в комплексы глаголов совершенного и несовершенного вида в соответствии с аспекту- альной перспективой текста. Именно контекстуальный подход с ориентацией на отдельные предложения и речевая ситуация помогают определить выбор видовой формы15.
3. При изучении грамматики обращается внимание на терминологию, так как через систему терминов формируется представление об устройстве языка, механизме его действия. При этом учитываются различия между общелингвистическими терминами, характерными для понятийной системы отдельного языка, русского или английского. Функционирование отдельно взятого термина обусловлено структурными и семантическими качествами всей терминосистемы, поэтому важно не только определить значение термина, но и установить его отношения с другими лексическими единицами, как специальными, так и общеупотребительными.
Терминология составляет особую область системы языка, с одной стороны, она, ориентируясь на международные контакты специалистов, стремится быть интернациональной, с другой стороны, опирается на лексику родного языка. Специфика русских лингвистических терминов определяет своеобразие способов и приемов их семантизации.
В лингвистической терминологии достаточно широко представлена синонимия, и традиционно одним из способов семантизации терминов в иностранной аудитории является обращение к единицам иноязычного происхождения, выполняющим функцию синонима. Однако в терминологии синонимия имеет
387
свою специфику и является одной из серьезных проблем в переводческой и педагогической практике, так как объем понятия, обозначенного термином в одном языке, нередко не совпадает с объемом понятия в другом. К тому же, в силу конвенциональ- ности терминологического значения некоторые иноязычные термины, первоначально функционирующие в языке как синонимы, в концепциях отдельных исследователей приобретают неодинаковое содержание. Все это ограничивает использование данного способа толкования терминологического значения.
В содержательном плане исконная русская терминология восходит к предметно-номинативным пластам словарного фонда национального языка, и один из путей появления терминов — специализация значения общеупотребительных слов, семантический способ словообразования, или терминологизация. В результате этого процесса происходит сужение семантического объема лексемы, при этом у нового означающего сохраняется не только прежняя форма, но и некоторые компоненты плана содержания общеупотребительного слова. Образованная таким способом терминологическая лексика, как правило, не лишается своей живой внутренней формы, образности, не порывает с теми культурно-историческими ассоциациями, которые имеются у исходного слова16.
Прямая или опосредованная связь лингвистических терминов с общелитературным языком, их соотнесенность с определенными элементами общего фонда — свойство, которое может служить базой для их семантизации в иностранной аудитории.
4. Принцип коммуникативности, являющийся ведущим при обучении языкам, предполагает ориентацию на активные грамматические формы и речевые структуры в их естественном звучании, диалогическую форму речи, реальные, значимые для студента ситуации общения и определяет представление языковых явлений всех уровней не изолированно, а в рамках высказывания или текста. В связи с этим именно текст становится тем организующим стержнем, который позволяет синтезировать речевые навыки и отрабатывать их взаимодействие в речи, он становится главной единицей и материалом обучения.
В практике речевого общения важно владеть вариантами средств выражения одного содержания, поэтому коммуникативные потребности определяют выбор текстов, в которых
388
смысл обусловливает языковую форму, где текстообразующую роль играют грамматические единицы. Переход от чтения текста к его интерпретации дает возможность формировать трансформационные навыки в области употребления слов, грамматических форм и синтаксических конструкций, знакомить как с устойчивыми формулами общения, так и с вариативными. Опора на активные модели, их реализация в речи позволяют решить основные коммуникативные задачи: передать информацию, выразить запрос, личностное отношение и др., а также достаточно свободно использовать их в новых, в неучебных условиях общения.
Знакомство иностранных стажеров с литературными текстами всегда рассматривается в тесной связи с проблемой фоновых знаний. Художественный текст выполняет важнейшую функцию, связанную с передачей содержательной стороны явлений и процессов национальной истории и культуры, знакомит с особенностями быта и традициями народа — носителя изучаемого языка. При этом и сами произведения художественной литературы являются частью национальной культуры, раскрывая особенности национального характера, нравственноэстетический идеал народа, так или иначе связанный с общечеловеческой системой ценностей.
Язык не будет освоен в полной мере без погружения в мир духовных ценностей народа — носителя данного языка, без формирования способности иностранных стажеров к адекватному восприятию явлений, специфичных для каждой из соприкасающихся национальных культур. В текстах представлены фрагменты лингвистической картины, раскрывающиеся в словарном составе, системе образных средств и вербальных оценок, а также национально-культурный потенциал синтаксических единиц и конструкций, отражающий выработанный в истории национального языка стереотип структурирования мысли. На занятиях по РКИ используются тексты различной сложности и жанрово-стилистической отнесенности (художественные, публицистические, деловые), письменные и устные, звучащие (записи теле- и радиопередач), тексты, в которых выражены разные типы речи (монолог, диалог)17.
5. Современные подходы к обучению русскому языку как иностранному предполагают создание и практическое исполь
389
зование национальных текстов, соотнесенных с международной системой сертификации уровней владения иностранным языком. В ведущих российских вузах (Институте русского языка им. А.С. Пушкина, МГУ, СПбГУ, РУДН, МПГУ) разрабатываются критерии выделения уровней тестирования, принципы описания объема и содержания тестовых материалов, отвечающих европейским стандартам языковой сертификации, позволяющим оценить знания изучающих язык по видам речевой деятельности (чтению, аудированию, произношению, письму) и аспектам языка (грамматике, лексике, фонетике).
На базе Волгоградского государственного университета с 1997 года в соответствии с решением Научно-методического совета при Министерстве общего и профессионального образования РФ открыт Региональный центр тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. Вероятный контингент этого центра — стажеры из Австрии и Германии, приезжающие на краткосрочные курсы при ВолГУ, студенты американских университетов, изучающие русский язык в рамках программы по обмену, иностранные бизнесмены, имеющие деловые контакты с предприятиями Волгограда и области, стажеры из вузов Китая и других стран. Наряду с проведением экзаменов на сертификат «Русский язык как иностранный» по официальным материалам, представляемым головным Центром тестирования, секция РКИ при кафедре истории русского языка и стилистики ВолГУ планирует работу проблемных групп для проведения тематических консультаций с целью повышения языковой компетенции учащихся и их подготовки к последующему лингводидактическому тестированию.
Такая форма предварительного консультирования включает рассмотрение языкового материала в сочетании с его культурологической интерпретацией, что позволяет ориентировать граждан зарубежных стран не только на усвоение лексической и грамматической систем, но и на воспроизведение в речи менталитета, характерного для русской лингвокультурной общности.
Культурологический аспект преподавания русского языка в иностранной аудитории, используя традиционные методы и приемы, которые дополняются лингвистическим комментированием, расширением привлекаемого текстового и культурноисторического материала, обращением к языковой личности прошлых и современных эпох, способствует не только совре-
390
шенствованию знаний языка, но и глубокому пониманию как истории культуры, так и современных процессов, происходящих в российском обществе.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Гумбольдт В. фон. От антропологии к лингвистике / / Язык и философия культуры. М., 1985. С. 370.
2. Там же. С. 373.3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994. С. 23.4. Лопушанская С.П., Горбань О.А Культурологический аспект
в преподавании лингвистических дисциплин исторического цикла / / М атериалы X научной конференции профессорско- преподавательского состава / Волгоградский гос. ун-т. Волгоград, 1993. С. 111—119; Лопушанская С.П. Историко-культурный аспект изучения и преподавания русского языка / / Теория и практика русистики в мировом контексте: Международная конференция, посвященная 30-летию МАПРЯЛ. М.: Институт русского языка им. А.С. Пушкина. М., 1997. С. 123—124.
5. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994. С. 23, 58— 59, 110-111, 118—120.
6. Сепир Э. Культура истинная и мнимая / / Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 471.
7. Костомаров В.Г. Указ. соч. С. 110—111.8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984; Ожегов
С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993.9. См.: Пороговый уровень. Русский язык. Т. 1. Повседневное
общение / Под ред. Митрофановой О.Д. / Совет Европы: М.: Пресс, 1996. С. 92, 251, 252, 258.
10. Горбань О.А. История русской культуры на занятиях по развитию речи / / Современные подходы к формированию профессиональных качеств учителя-русиста зарубежной школы: Тезисы докладов и сообщений I I I Международной конференции / МАПРЯЛ. Волгоград, 1991. С. 145.
11. См. : Супрун А.Е. Лекции по лингвистике. Минск, 1980. С.129.
12. См.: Клобукова Л., Михалкина И., Солтановская Т., Хавронина С. Русский язык в деловом общении / Под ред. Дэна Дэвидсона. ACTR/ ACCELS. Washington, 1997.
391
13. Мустайоки А., Павлова Р., Супрун А.Е. Функционирование русского языка и его лингвистическое описание / / Русский язык и литература в общении народов мира: проблемы функционирования и преподавания. М., 1994. С. 6.
14. См.: Косова М.В. Практикум по морфологии русского языка (для иностранцев, начинающих изучать русский язык). Волгоград, 1997. С. 25—27.
15. См.: Косова М.В. Предметная и понятийная отнесенность термина «вид» в современном языкознании / / Термины в языке и речи. Горький, 1985. С. 97—106; Косова М.В. Роль временной определенности действия в процессе функционирования видовых форм русского глагола / / Межвуз. науч. конф. “Функциональная лингвистика ”. Ялта, 1995. С. 89.
16. См.: Косова М.В. Изменение семной структуры слова в процессе терминологизации / / Материалы XIнаучной конф. проф. - преп. сост. Волгоград, 1994. С. 275—280.
17. См.: Клобукова Л., Михалкина И., Солтановская Т., Хавронина С. Указ. соч.; Лопушанская С.П., Максимова Т.В., Иншакова Е.И. Беседы о мировой экономике (говорим по-русски / говорим по-английски). Волгоград, 1994; Косова М.В., Горбань О.А. Тексты и задания для работы по русскому языку с иностранными стажерами. Волгоград, 1994.
Н.Л. Шамне, М.В. Милованова
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ В ИНОЙ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Проблемам адаптации в последние годы отводится одно из главных мест в процессе обучения иностранных учащихся1. Непродолжительный период пребывания иностранных студентов в нашем университете (3—4 месяца), различный уровень их языковой и культурологической подготовки значительно осложняют адаптационный период и требуют комплексного подхода к решению этой задачи: 1) учета особенностей социальнокультурной адаптации зарубежных студентов в русскоязычной среде; создания минимального социокультурного опыта и нового социокультурного ожидания (добиться этого можно при
392
обучении русскому языку на материалах российской культуры, в частности, на занятиях по лингвострановедению и переводу); 2) учета психолого-педагогических аспектов адаптации. Известно, что чем больше культурные различия (культурная дис- танцированность), тем сложнее протекает процесс адаптации в иной культурной (иноязычной) среде. При этом можно наблюдать, что иностранцы, прибывающие в более развитую страну, могут казаться сами себе «ущербными» и наоборот, иностранцы, прибывающие в менее развитую страну, считаются «привилегированными». Первые в большей степени тяготеют к соответствию культуре страны пребывания, во втором случае представители принимающей страны в большей или меньшей степени стремятся сравняться по культуре с иностранцем.
При этом для студентов, которые уже дома научились приспосабливаться к быстрой смене социальных ролей, проблема адаптации в иной культуре проходит безболезненно2.
В научной литературе принято говорить о различных стратегиях решения проблемы адаптации3. Обобщая разные подходы к этой проблеме, можно выделить несколько видов культурологической адаптации.
Инструментальная адаптация характерна для тех студентов, которые ставят перед собой четкие образовательные цели и задачи и концентрируются на их выполнении. Эти люди прямо или через своих земляков поддерживают контакт со своей культурой; стресс или сложности в адаптации они испытывают преимущественно в отношении учебного процесса и своих академических успехов. Их минимальный контакт с представителями иной культуры в данном случае ограничен рамками делового общения, связанного с учебным процессом. На таких студентов пребывание в иной культурной среде не накладывает никакого отпечатка, и по возвращении домой у них нет проблем реадаптации.
От инструментальной значительно отличается идентифицирующая адаптация. При этом типе адаптации студенты полностью попадают под влияние иной культуры, академические цели обладают меньшей мотивационной силой, чем сам меж- культурный контакт. Поведение таких студентов в период адаптации нацелено на то, чтобы как можно быстрее вступить в интеракцию с культурой страны пребывания. По возвращении
393
на родину у таких студентов могут возникнуть проблемы с реадаптацией.
Возвратная адаптация начинается с того, что студент, как и при идентифицирующей адаптации, полностью принимает чужую культуру, вживается в нее. По значимости межкультур- ные контакты превалируют над академическими целями и задачами. Такой студент в начале своего пребывания стремится усвоить и шкалу ценностей иной культуры. Но в какой-то момент наступает полоса напряженности в межличностных отношениях, что мешает завершению процесса адаптации. Студент перемещает свой интерес на контакт с земляками и к концу пребывания заботится прежде всего о восстановлении (реконструировании) своей национальной идентификации, причем зачастую в утрированном виде.
И наконец, четвертый тип адаптации — так называемую резистантную адаптацию — мы наблюдаем в тех случаях, когда сходства и различия между культурами акцентируются студентом больше, чем сходства и различия между отдельными людьми. Отношение к культуре страны пребывания в значительной мере определяется представлениями и ценностями родной культуры. Как правило, в таких случаях адаптация — минимальная.
Тенденция поддерживать эмоционально важные и интимные связи с земляками свойственна как немецким, так и американским студентам, обучающимся за рубежом, она является важной предпосылкой успешной учебы и психологического комфорта.
Все сказанное выше необходимо учитывать, когда мы говорим и о собственно методических и лингвистических особенностях преподавания русского языка как иностранного (РКИ).
В научной литературе по вопросам методов преподавания иностранного языка принято говорить либо об иностранцах вообще, либо о конкретной национальной группе.
Поскольку в практике курсов РКИ в Волгоградском государственном университете группы студентов комплектуются по национальному признаку, в соответствии с межвузовскими соглашениями, то и подход в обучении должен учитывать национально-специфические особенности менталитета учащихся.
Различия в речевом поведении носителей разных культур, например, русской и американской, можно наблюдать, в час
394
тности, на примере языковой реакции по отношению к той или иной ситуации. Для усвоения правил адекватного речевого поведения наиболее важной является выработка правильной языковой реакции на ту или иную ситуацию, то есть усвоение тех речевых формул, которыми говорящий пользуется, того культурного компонента языковых единиц, под которым обычно понимается лексический фон и разного рода коннотации4.
Важным признаком многих моделей коммуникативного подхода в преподавании РКИ является то, что при помощи заданных языковых средств реализуются речевые действия по схеме «стимул—реакция». Решающим является не только сам факт того, что используются языковые средства или как они используются, но и то, какой контекст ими создается и почему, какая следует на него реакция. В этой связи большой интерес в процессе обучения русскому языку представляют прагматические клише (ПК), владение которыми может служить индикатором уровня адаптации иностранных студентов в русскоязычной среде.
Суть ПК состоит не в буквальном значении лексического состава, а в их прагматической функции в ситуации общения. Сфера употребления ПК так тесно связана с типизацией ситуативных рамок, что говорящий в каждом случае выражает только общепринятую интерпретацию и тем самым представляет себя членом данного языкового коллектива5. Напротив, неупотребление ожидаемого клише воспринимается как отказ от общения и даже демонстративное неуважение к собеседнику. Например, комплименты в английском языке более клишированы, чем в немецком или русском.
Акты извинения, то есть стереотипные реакции на собственные малоактивные действия, больше клишированы в английском языке и меньше — в немецком. В русском языке кли- шированность извинений еще слабее, что проявляется как в официальном, так и в неофициальном общении. Например, семантический компонент «вина» в русских формулах присутствует в большей степени, чем в немецких и английских. Следовательно, чувство вины скорее является условием извинения в русской культуре, чем в немецкой или американской, где степень десе- мантизации клишированности выше6.
Употребление ПК закреплено за определенными ситуациями, а степень предсказуемости ПК варьируется от культу
395
ры к культуре, от представителя одного социального слоя к представителю другого.
Для диалогических ПК существует разная степень обязательности реактивной реплики. Для формул приветствия она достаточно высока, для форм выражения благодарности — значительно ниже: в немецкой и англо-американской культурах минимизация повода для благодарности практически обязательна (keine Ursache!; not at all!), в русской же культуре реакции типа «не за что» более факультативны.
Практический интерес в процессе адаптации иностранных студентов представляет и изучение аспекта вежливости ПК. Категория вежливости определяется национальной культурой, характером ситуации (приватная, официальная, профессиональная) и социальными параметрами (статус и дистанция между партнерами по общению).
Присутствие или отсутствие ПК действует как индикатор вежливости только в рамках одной культуры и с учетом социальных параметров партнеров по коммуникации. Например, извинения сверху вниз по статусу в русской культуре не стереотип, а маркированная вежливость. Следовательно, иностранный студент должен усвоить, что отсутствие извинений сверху вниз в русской культуре нейтрально, немаркированно, а в немецкой и англо-американской культурах их присутствие — проявление нормальной, ожидаемой, нейтральной вежливости. Вопрос о вежливости ПК возникает у иностранных учащихся и в случаях, когда имеются синонимичные варианты. Например, в паре «извините — простите» (entschuldigen Sie — verzeihen Sie; I am sorry, Excuse me — Forgive me) — разная степень вежливости: «извините» означает просьбу учесть оправдательные причины и не считать очень виноватым данного человека; «простите» означает просьбу не сердиться несмотря на то, что этот человек виноват.
В русской культуре в такого рода клише семантика пусть редуцированно, но присутствует в большей степени, чем в приведенных эквивалентах из немецкого и английского языков. То есть, если русский извиняется, то он действительно признает свою вину, а не делает это из вежливости. Это приводит часто к тому, что иностранные студенты, не знакомые с особенностями речевого поведения, считают русских невежливыми, что и
396
способствует формированию определенных стереотипов7.Каждый зарубежный студент, знакомясь с новой для него
культурой, проходит через такие периоды, как «розовый» и период аккультурации. Романтические отношения с новой действительностью наблюдаются две-три недели, их сменяет ностальгия и психологический дискомфорт, которые могут длиться один- два месяца, пока студент не найдет свое место в непривычных условиях, а это значит, что может пройти половина срока его пребывания в иной культуре. Ускорить процесс аккультурации, предотвратить или смягчить культурный шок, направить процесс адаптации по оптимальному руслу можно, если в практике преподавания РКИ, с одной стороны, учитывать индивидуальные особенности адаптации, с другой — исходить из того, что овладение правилами речевого поведения в иной культуре не менее важно, чем овладение грамматикой, лексикой и фонетикой.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. См.: Медико-биологические, культурологические и педагогические аспекты адаптации зарубежных студентов: Тезисы докладов Всероссийской конференции. 15—18 сентября 1997 г. Волгоград, 1997; Brislin R.W. Cross-Cultural Encounters: Face-to- Face Interactions. N.Y.: Pergamon Press, 1981; Ellingsworth H.W. A Theory of Adaptation in Intercultural Dyads / / Kim Young Y , Gudykunst W.B. (Ed.) IICA. Vol. 12. Theories in Intercultural Communication. Newbury Park ( CA). Sage. 1988; Oberg K. Culture Chock: Adjustment to New Cultural Environments / / Practical Anthropology. 1960. № 7. P. 177—182; Torbiorn I. Culture Chock and the U-Shaped Adjustment Curve / / Torbiorn I. Living Abroad. Personal Adjustment and Personal Policy in the Overseas Setting. Chichester etc. Wiley. 1982. P. 90— 118.
2. Bachner S. The mediating man and cultural diversity / / Topics in Culture Learning. 1973. № 1. P. 23—37.
3. Pedersen P.B. Ist interkulturelle Kommunikation trainierbar? Die Psychologie der Anpassung und ihre Grenzen / / Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. 1981. № 7. S. 57—73.
4. Костомаров В.Г. Методика преподавания русского языка как иностранного. М., 1990. С. 130.
5. Coulmas Florian. Poison to your soul. Thanks and apologies
397
contrastively viewed / / Coulmas F. (Ed.) Conversational Routine: Explorations in Standartized Communication Situations and Prepattemеd Speech. The Haage. 1981. Monton. P. 69—91.
6. См.: Ратмайр P. Функциональные и культ урносопоставительные аспекты прагматических клише (на материале русского и немецкого языков) / / Вопросы языкознания. 1987. № 1.
7. Bausinger Hermann. Stereotypie und Wirklichkeit/ / Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. 1988. № 14. S. 157—169.
С.П. Кушнерук
ПРОБЛЕМА СТЕРЕОТИПА В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АМЕРИКАНСКИМ
СТУДЕНТАМ
Формирование барьеров, различных по сложности, глубине и степени преодолимости, возникающих у американских студентов как во время обучения в России, так и при взаимодействии с российскими Visiting-Professors в американских университетах, имеет сложную природу. В значительной мере проявление таких барьеров связано с различными по происхождению стереотипами, совершенно неизбежными, ибо они определяются всеми условиями существования в определенной среде со сложным взаимодействием социальных, экономических, этнических, политических и других факторов. Сразу необходимо подчеркнуть тот факт, что внутренние барьеры носят обоюдный характер, в отмеченных обстоятельствах они присущи как обучаемым, так и обучающим. Преодоление экстраакадемических, не связанных с внутренними особенностями учебных дисциплин, барьеров со стороны преподавателя является крайне желательным обстоятельством, это во многом повышает эффективность учебного процесса, устанавливает атмосферу психологической комфортности, большего доверия и взаимопонимания. Необходимо отметить большое значение в разрешении проблемы достаточно продолжительного «погружения» преподавателя в реалии страны, из которой прибыли обучаемые.
398
В процессе работы как в России, так и в США проявились некоторые проблемы, барьеры, базирующиеся на предустановке, определяемой системой стереотипов. Далеко не полный и обобщенный анализ барьерообразующих стереотипов, имеющих различные корни и степени устойчивости, дает основание на уровне гипотезы, по крайней мере, признать значимыми следующие внутренние предустановки без их иерархизации и системного описания.
Предустановка определяется общекультурным стереотипом, включающим систему частных составляющих. Здесь прежде всего необходимо отметить различия в понимании роли культурных институтов в США и России, различия в социальной и общей, ситуативной значимости разных проявлений культурной жизни. Кроме того, важны различия в акцентах, связанных с разной социальной оценкой тех или иных конкретных проявлений культурной жизни. Американский студент в возрасте 20— 22 лет в подавляющем большинстве случаев воспринимает как само собой разумеющееся, как естественное составляющее культурного существования соседство с его общежитием мощного спортивно-культурного комплекса. При этом сформирована внутренняя потребность активного пользования его возможностями. В студенческое общество внедрена доминанта: модно и полезно быть спортивным, модно и полезно если не с пониманием, то с уважением относиться к серьезной музыке. При этом модность и чувство внутренней необходимости активно подкрепляются комплексом мер, которые зачастую представляются противоречащими принципам американского прагматизма. В частности, немыслим студенческий городок, который представлял бы собой то явление, которое мы встречаем в подавляющем большинстве провинциальных вузов России, когда вуз является исключительно образовательным учреждением. Культурно-образовательная функция университета, независимо от того, осознается это или нет, реализуется установлением практически обязательных структуры и отношений, которые непосредственно в условиях студенческого городка обеспечивали (и приветствовали!) бы беспроблемное существование спортивного современного центра с бассейном, кино- и театральных залов, радио- или/и телестанции, университетского симфонического и духового оркестров, библиотеки очень высокого уров
399
ня. Кампусообразующая роль в большей мере принадлежит культурно-спортивным, а не образовательным учреждениям.
Таким образом, один из барьеров, который приходится преодолевать американским студентам в России, — различия в системе реализации культуры и сниженная статусная роль культурных учреждений в вузе. Различия предметного наполнения культурной жизни в двух странах являются естественными, если что-то вызывает повышенный интерес американцев (с неоднозначной оценкой явления), так это гипертрофия американской составляющей на российском телевидении, в музыке, в организации так называемого Life Style.
Автор далек от мысли позитивизировать американский фон, создающий барьеры при погружении в российскую действительность. Один из стереотипов, заключающийся в амери- каноцентризме, определяет легковесное, поверхностное отношение к анализу и пониманию неамериканских культурных ценностей. Показателен анализ творчества П.И. Чайковского: мелодика, выбор той или иной музыкальной формы произведения трактуются как проявление бисексуального начала в сознании автора, и эта трактовка является основой понимания музыкального творчества композитора.
Важно, что составляющей общекультурного стереотипа являются его компоненты, связанные с культурой поведения и потребления. Возможно, все, что связано с культурой потребления, требует отдельного рассмотрения за пределами общекультурного стереотипа, поскольку эта составляющая американской жизни испытывает наибольшее воздействие противоположных по сути факторов: национальной привычки, эмоциональной окрашенности выбора и, безусловно, финансово-экономического состояния. Однако в стереотипах поведения наиболее проявляющимися являются те, которые связаны с отношениями «мужчина—женщина» и межрасовыми отношениями. Межполовые отношения молодежи России, и студенчества в частности, т.е. те отношения, в которые неминуемо бывают вовлечены прибывающие из США стажеры, характеризуются отсутствием «демонстративного демократизма», сформированного в американском обществе морально-юридическими нормами. Формальный, юридический аспект, лежащий в основе поведения представителей различного пола относительно друг друга, формирует устойчивый внутренний барь
400
ер, проявляющийся в поведении стажеров, в особенности в первые недели пребывания в России. В этой связи интересным является восприятие американскими студентами стиля одежды российских студенток. С точки зрения сформированного в США стереотипа стиль одежды россиянок на первых порах представляется провоцирующим, совмещающим эротизм с официальностью, подобное восприятие естественно на фоне функционально оправданной американской «бесполой униформы»: джинсы, свитер, кроссовки. Юридический и историко-этнический компоненты формируют устойчивый стереотип межрасового поведения. Перенос принципов этого поведения на российскую действительность является сложной задачей, поскольку даже россиянам в последние годы не удается определить общие принципы межэтнических и межнациональных отношений, характеризующихся в России наибольшей неопределенностью и противоречиями. Выработка принципов корреляции между основами межэтнических отношений, разработка хотя бы объяснительно-описательной модели этих отношений в нашей стране помогли бы, по крайней мере, пониманию приезжающими стажерами различий в декларируемых и реальных положениях в указанной сфере. Тем более что явные противоречия между провозглашенными принципами, с одной стороны, и фактами бытового сознания и поступками, мнениями, личными взглядами на межэтнические отношения в США абсолютно очевидны. Достаточно отметить формирование относительно нового явления — внутреннего ожидания проявления «расизма наоборот».
Сложными и интересными с точки зрения своей природы являются стереотипы лингвистического характера. Один из барьеров, связанный с этими стереотипами, лежит в области осознания роли и сути языка. Анализ лингвистических стереотипов тем более важен, что основным объектом изучения американскими студентами является русский язык. Осознание и восприятие нормы, нормативных явлений в изучаемом языке происходят на фоне сформированного представления о норме в родном языке. Поскольку в американском варианте английского языка проблема нормирования появляется, судя по оживленному обсуждению в СМИ и в научных кругах, в двух типовых ситуациях: при анализе расхождений между «белым английским» и «афроамериканским английским» (т.е. нормирование на фоне этно
401
лингвистических расхождений) и, в меньшей мере, при изучении социолингвистической дифференциации языка, — существует некоторая внутренняя установка на подобные расхождения в русском языке. Однако для русского языка нормирование более актуально в связи с территориальным, диалектным разнообразием; учет различий между социолектами, при всей их значимости, на исходных этапах изучения русского языка носит формальный характер. Объяснение в расхождении при оценке нормативности речи косвенным образом снимает одну из чрезвычайно важных проблем, стоящих в первом ряду ценностных ориентаций американского гражданина. Иное содержание нормирующего процесса, при котором нормированию подвергаются системы единиц и отношений, отличных от тех, которые нормируются в родном языке, подсознательно, а на первых порах и вполне осознанно, могут восприниматься как посягательство на свободу индивидуального выбора того, что родная языковая среда не нормирует. При объяснении сути явления и осознании его изучающими отмечается смешанное отношение к новой, противоречащей стереотипу ситуации: с одной стороны, удовлетворен американский прагматизм (упрощается изучение, язык сводится к инвариантной форме), а с другой — составляющая стереотипа, связанная со свободой индивидуального выбора, инерционно противодействует нормирующим действиям, носящим в русском языке более жесткий характер.
На вопрос о том, что вызывало наибольшее чувство внутреннего протеста в обыденной жизни во время пребывания в России, одним из ответов, привлекших внимание, было рассуждение, связанное с несоответствием ролевой ситуации и эмоционально-поведенческими проявлениями со стороны россиян. Большая закрепленность речевых образцов за определенными социально-статусными и профессионально-ролевыми ситуациями в США формирует определенные стереотипы, конфликтующие с реалиями российской действительности. Со своей стороны, не желая попадать в ситуации, в которых поведение показалось бы окружающим неадекватным, американские студенты в течение длительного времени вынуждены вести себя более сдержанно, чем того требует ситуация. Так внутренние сдерживающие механизмы обеспечивают в конце концов накопление психологического напряжения, требующего выхода, становит
402
ся необходимой эмоциональная разрядка. Одной из наилучших форм такой разрядки оказалось посещение футбольных матчей, в процессе которых происходит эмоциональное раскрепощение. При этом интернациональный характер спортивного «боления», переживания, атмосфера единения обеспечивают положительный эффект при снятии накопленного напряжения; дополнительно решается задача внеязыковой, эмоционально-образной формы восприятия изучаемой действительности.
Множественный как по происхождению, так и по проявлению характер стереотипов, определяющих барьеры в обучении и восприятии непривычного окружения, требует комплексного анализа и может являться предметом изучения одновременно для психологов, методистов, лингвистов, этнографов, социологов. В учебной практике в связи с вышеозначенными проблемами возрастает значимость таких курсов, как «Лингвос- трановедение», «Страноведение» (в американской учебной практике автор предпринял достаточно обнадеживающую по результатам попытку решить в некоторой степени указанные проблемы в рамках семестрового учебного курса «Russian Experience).
О.А. Прохватилова
ЗНАКОМСТВО С ЯЗЫКОМ РЕГИОНА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ
В настоящее время русское речевое общение выступает не только в качестве средства приобщения к культуре страны изучаемого языка, но и выполняет роль посредника в осуществлении диалога культур.
Общеизвестно, что культура и язык являют собой две формы сознания, отображающие мировоззрение человека. Описание взаимодействия языка и культуры, отражения в национальном языке материальной культуры и менталитета, их проявления в живых языковых процессах обусловливает существование не только собственно лингвистической, но и культур
403
ной составляющей современных подходов к обучению русскому языку как иностранному (РКИ). Культурологический аспект в преподавании РКИ, в основе которого лежит изучение живых коммуникативных процессов и соотнесенности используемых единиц русского языка с определенным культурным кодом1, направлен на формирование у зарубежных студентов представления о специфике культурно-национальной «картины мира», понимаемой как система рецептивных, продуктивных и аксиологических стереотипов2.
Формирование лингвокультуроведческой компетенции иностранных учащихся в процессе изучения русского языка осуществляется на занятиях по фонетике для американских стажеров в условиях их краткосрочного обучения в Волгоградском государственном университете. Программа фонетического курса, разработанного на кафедре истории русского языка и стилистики ВолГУ, строится с учетом его главной задачи, которая заключается в отработке правильной артикуляции звуков и их сочетаний в той или иной позиции, овладении основными типами русской интонации.
Между тем мы исходим из того, что язык не просто обеспечивает коммуникацию, но является существенным элементом культуры, ее составной частью, а значит, должен быть усвоен не только как новый «коммуникативный код»3, но и как феномен культуры4. Такое понимание задач обучения РКИ приводит к расширению работы над русской фонетикой за счет экспликации культурологического потенциала единиц фонологического уровня, что дает возможность, с одной стороны, улучшить восприятие и усвоение представленного языкового материала, а с другой— обратить внимание иностранной аудитории на некоторые фонетические элементы русской речевой культуры.
Безусловно, в ряду языковых единиц наибольшей культурологической значимостью обладают слова, фразеологизмы и афоризмы, поскольку они прямо и непосредственно соотнесены с национальной культурой5. Однако в современной лингво- методике общепризнанным является положение о том, что и звуковые (сегментные и суперсегментные) единицы составляют национальную специфику русского языка и могут рассматриваться как явления русской национальной культуры, так как звуковая форма речи заключает в себе информацию о террито
404
риально-диалектной принадлежности, социальном положении, образовании, профессии, возрасте говорящего, стилистической или жанровой принадлежности речевого произведения6.
В наибольшей степени информативность звуковой стороны речи повышается в условиях, когда говорящий отклоняется от принятых в языковой общности норм. В связи с этим особый интерес на занятиях по фонетике вызывает материал, связанный с характерными для речи волгоградцев особенностями произношения тех или иных звуков или их сочетаний, рассмотрение которого позволяет не только исключить ситуацию коммуникативного сбоя, но и скорректировать складывающееся у американских стажеров восприятие русской языковой личности.
Как известно, изучение речи жителей крупных городов России обнаруживает отсутствие повсеместного произносительного стандарта: нормативное употребление и произношение гласных и согласных в отдельных случаях сопровождается нарушением общенациональной орфоэпической нормы7. По мнению Л.А. Вербицкой, «определенная совокупность отличительных черт сегментного уровня характеризует конкретный городской вариант произношения, специфика которой определяется своеобразием звукового строя окружающих говоров»8.
Исключением в этом смысле не является и Волгоград. Можно назвать целый ряд фонетических особенностей речи жителей нашего города, составляющих основу регионального произносительного варианта. Остановимся на некоторых из них, которые являются предметом рассмотрения на занятиях по фонетике с американскими стажерами.
К числу наиболее ярких черт произношения многих волгоградцев относится замена взрывного [г] на фрикативный [у] или в некоторых случаях на фарингальный [h], например: [у]ород или [h]ород вместо [г]ород; [у]оворить или [h]оворить вместо [г]оворить; [у]де или [h]де вместо [г]де; а также скрытая форма такой замены, когда на месте звука [к], нормативного варианта фонемы <г>, в позиции конца слова произносится звук [х], вариант фонемы <у>, например: сапо[х] вместо сапо[к], дру[х] вместо дру[к], но[х] вместо но[к]. Отклонения от нормы в данном случае связаны с наруш ением под влиянием южнорусских и украинских говоров важного для орфоэпической системы русского языка дифференциального признака —
405
смычности звонкого заднеязычного согласного [г], в результате которого в речи волгоградцев и появляется звон ки й фрикативный заднеязычный [у] либо фарингальный, или глоточный, звонкий щелевой согласный [h], а также их позиционный вариант [х].
Другая черта регионального произносительного варианта связана с деформацией ритмической структуры слова, возникающей в результате неправильной редукции звуков [а] и [о] в позиции первого предударного слога.
Как известно, безударные гласные в русском языке подвергаются количественной и качественной редукции. Под количественной редукцией понимается сокращение длительности гласного в определенных фонетических условиях, под качественной — изменение тех или иных признаков его тембра. Существует две степени редукции безударных гласных. Первая из них характерна для звуков в позиции первого предударного слога и абсолютного начала слова, которые подвергаются минимальным количественным и качественным трансформациям; вторая степень редукции встречается в остальных заударных и предударных слогах и сопровождается значительными изменениями длительности и тембра гласных.
Орфоэпические нормы устанавливают две степени редукции для безударных [а] и [о] в позиции после твердых согласных: 1) произношение [л], близкого по артикуляции к [а], в первом предударном слоге (например, вода — [влда], сады — [слд' ы]); 2) произношение [ъ], нелабилизованного гласного среднего подъема, в остальных безударных слогах (например, называла — [нъзыв'алъ], поливала — [пъл’ив'алъ]).
В речи жителей нашего города отступления от этих норм проявляются в отсутствии первой степени редукции [а] и [о] при произношении некоторых слов, таких как район, Волгоград, когда вместо [р л/oh] произносится [ръ/он] или вместо [вълглгр'ат] произносится [волгъгр'ат]. Названное отклонение от орфоэпической системы, вероятно, возникло под влиянием диалектного диссимилятивного аканья, которое наблюдается в части южнорусских говоров, расположенных на территории Волгоградской области. Как известно, при диссимилятивном аканье на месте [а] или [о] в первом предударном слоге произносится «не-[а]», то есть звуки [ъ], [э] или [ы], если под ударе
406
нием находится [а]; при наличии под ударением любого другого гласного в первом предударном слоге произносится [л], например: вод а — [въд а], но вод ы — [влд ы] 9.
Еще одним отличием регионального произносительного варианта можно назвать произношение [ч’н] на месте нормативного или допустимого как один из вариантов [шн] в словах яичница, скворечник, горчичник, копеечный, порядочный, собачник и некоторых других.
В русской орфоэпической системе нет общего правила, позволяющего определить, в каком слове орфоэпически правомерно [ч’н], а в каком — [шн]. Однако словари и справочники дают списки слов, в которых орфографическому сочетанию чн соответствует орфоэпическое [шн]10. Характерная для волгоградского произносительного варианта тенденция к сужению круга слов с вариативным произношением [шн] складывается, на наш взгляд, под влиянием письма, а также благодаря отсутствию в регионе говоров, в которых чн произносится как [шн].
Наличие устойчивых локальных фонетических особенностей в речи волгоградцев является результатом изменений как вокалической, так и консонантной систем русского литературного языка и объясняется рядом факторов лингвистического и экстралингвистического порядка: диалектной неоднородностью региона, объединяющего носителей нескольких южновеликорусских говоров и испытывающего языковое влияние территориально близких украинских говоров; невысоким в массе своей уровнем речевой культуры горожан, связанным с особенностями послевоенного заселения Волгограда, притоком большого количества сельских жителей, несущих диалектную речь и просторечие; ассимиляцией городом представителей разных социальных и социально-этнических групп, например, донского казачества, которое представляет собой некий социокультурный континуум, пытающийся сохранить свою автономность не только в экстралингвистическом, но и в собственно языковом плане.
Рассмотрение особенностей произношения, характерных для речи жителей Волгограда, формирует культуру звуковых ассоциаций иностранных учащихся, повышает их интерес к изучаемому языку как незамкнутой социальной системе, в которой звуки и интонация являются одним из средств формирования
407
«языковой картины мира», расширяет представление американских стажеров о русской языковой личности и позволяет языку стать посредником в осуществлении диалога двух культур.
П РИ М ЕЧАН И Я
1. Телия В.Н. Русская фразеология. М., 1996. С. 219.2. Фролова О. Движение в картине мира / / Теория и практика
русистики в мировом контексте: Международная конференция, посвященная 30-летию МАПРЯЛ. М., 1997. С. 207.
3. Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол / / Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 95—113.
4. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1990. С. 150—151.
5. Там же. С.146.6. См.: там же; Ковалев Ю.В. Фоносемантический аспект
лингвокультуроведческого содержания в преподавании русского языка как иностранного / / Итоги и перспективы развития методики: теория и практика преподавания русского языка и культуры России в иностранной аудитории: Тезисы докл. и сообщ. межд. научн. конф. М., 1995. С. 99.
7. См.: Панов М.В. История русского литературного произношения XVIII—XX вв. / Ин-т рус. языка АН СССР; Отв. ред. Д.Н. Шмелев. М., 1990. С. 54—55; Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. М., 1993. С. 89—102; Бондаренко Л.П., Пиотровская Л .А , Шестопалова В.И, Юркова Л.Н., Надибаидзе Е.Ш. К вопросу о вариативности русского литературного произношения в условиях диалект ного окруж ения / / Экспериментально-фонетический анализ речи: проблемы и методы / Отв. ред. Л.В. Бондарко. Л., 1989. Вып. 2. С. 170—181.
8. Вербицкая Л.А. Указ. соч. С. 102.9. См.: Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина.
М. 1989. С. 44—45.10. См. : Аванесов Р.И. Русское литературное произношение.
М., 1984; Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. Д.Э. Розенталя. М., 1985; Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. М., 1987.
408
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Алепко А.В.
Алленсворт, Джону
Анипкин М.А.
Анисимов А.Л.
Анисимова Т.А.
Аффельман., Ларри
Баранская Е.А.
Баркова Э.В.
Бессарабова И.С.
Болховитинов Н.Н.
Бузский М.П.
Голунов С.В.
аспирант Хабаровского военного института Федеральной пограничной службы.профессор Кентского университета (Огайо, США).кандидат философских наук, старший преподаватель Волгоградской государственной медицинской академии.кандидат исторических наук, доцент Хабаровского государственного педагогического университета. доцент Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии. профессор Мэнсфилдского университета (Пенсильвания, США). доцент Волгоградской государственной архитектурно-строительной академии. кандидат философских наук, доцент Волгоградского филиала Самарской академии искусств и культуры. аспирант Волгоградского государственного педагогического университета.доктор исторических наук, профессор, действительный член РАН, заместитель академика-секретаря Отделения истории РАН (Москва).кандидат философских наук, доцент Волгоградской академии государственной службы. аспирант Института востоковедения РАН (Москва).
409
Горбань О.А.
Дридзо А.Д.
Дудина И.А.
Зайцева Н.Д.
Зорин А.Н. Казанин И.Е.
Кибасова Г.П.
Кирьянов В.И.
Колоски, Бернард
Коноплич Т.К.
Косова М.В.
Кубышкин А.И.
Кушнерук С.П.
кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного университета.доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИАЭ РАН (Санкт-Петербург). начальник отдела международных связей Волгоградского государственного университета. кацдидат исторических наук, доцент Мордовского государственного университета (Саранск). кандидат исторических наук (Курск).кандидат исторических наук, старший преподаватель Волгоградского государственного университета. кандидат исторических наук, доцент Волгоградской государственной медицинской академии. доктор социологических наук, профессор Волгоградского государственного университета. профессор Мэнсфилдского университета (Пенсильвания, США). аспирант Волгоградского государственного университета; кандидат исторических наук, доцент Волгоградского государственного университета.доктор исторических наук, профессор Волгоградского государственного университета.кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного университета.
410
Леонтович О.А.
Лопушанская С.П
Милованова М.В.
Млечко А.В.
Московцев А.Ф.
Музраева Е.Ш.
Носков В.В.
Петрова И.А.
Пигалев А.И.
Прохватилова О.А.
Райан, Скотт Э.
Скрябина О.Ю.
кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного педагогического университета. доктор филологических наук, профессор Волгоградского государственного университета. кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного университета. аспирант Волгоградского государственного университета. доктор экономических наук, профессор Волгоградского юридического института.кандидат исторических наук, доцентКалмыцкого государственногоуниверситета (Элиста).доктор исторических наук, профессорРоссийского государственногопедагогического университетаим. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).кандидат исторических наук,доцент Волгоградской государственноймедицинской академии.доктор философских наук, профессорВолгоградского государственногоуниверситета.кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного университета. профессор Мэнсфилдского университета (Пенсильвания, США). аспирант Волгоградского государственного педагогического университета.
411
Смирнова Л.В.
Супоницкая И.М.
Тюменцев И.О.
Уилсон, Дэвид
Хейфец В.Л.
Хейфец Л.С.
Шамне Н.Л.
Шейгал Е.И.
Шумейкер, Кеннет Э
кандидат педагогических наук, доцент Волгоградского государственного педагогического университета. кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва).кандидат исторических наук, доцент Волгоградского государственного университета.профессор университета Южного Иллинойса в Карбондейле (США). аспирант Санкт-Петербургского государственного университета. кандидат исторических наук, доцент Института усовершенствования (Санкт-Петербург). кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного университета.кандидат филологических наук, доцент Волгоградского государственного педагогического университета. профессор Дартмутского колледжа (г.Хановер, Нью-Хэмпшир, США).
412
SUMMARIES OF THE ARTICLES
Alepko A.V. (Russia). American Railway Projects in the East Siberia Region and the Far East of Russia in the XlX-XXth Centuries.The article presents a study of the relationship between some American entrepreneurs and Russian offici-als involved in the construction of the transcontinental railroad New York — Yakutsk — Moscow — Paris. Analyzing the veiwpoint of the Amur Region General-Governor P.F. Utenberg, the author notes that the fear of the local functionaries to meet new challenges of socio-political life and their resistance to the West influence were the main reasons of the project failure. The author concludes by emphasizing that the realization of the project could be economically and morally beneficial even nowadays.
Allensworth J . (USA). The Hispanic Cultural Realm of the United States: Opportunities for Russians for Research, Business and Tourism. The author, professor of Kent University, Ohio, believes that the expansion of economic cooperation between USA and Russia will be more beneficial for those who are able to realize and take into consideration all the complexity of the bilateral relations. He dwells on the importance of understanding ethnic, cultural and socio-political peculiarities of each partner state development. Basing himself on concrete examples the author demonstrates how absolute and relative growth of Hispanic population in the USA creates new political and economic realities as well as new problems. Referring to tourism as one of the fastest growing of international businesses, he notes that it provides a proven mechanism for hard currency earnings. As Russia reaches out to market tourism to Europe, Asia and Americas it would make sense for tourism marketers to include the Spanish speaking market in the USA into their advertising compaigns. He concludes by saying that ignoring Hispanic culture in the USA would be to overlook a major component of Hispanic culture in the Americas.
Anipkin M.A. (Russia). P.Sorokin‘s Scientific Concept and American Theoretical Sociology. The author reflects on the integrative functions of Sorokin‘s ideas, and their impact on the formation of American theoretical sociology. He analyzes Sorokin’s role as a translator of the ideas of Russian Philosophic school into the language
413
of the American intellectual tradition. Special attention is paid to the study of Sorokin’s cooperation with the well-known American sociologist T.Parson It is known that Sorokin was a Harvard University professor for a long time and earned his popularity through his four- volume work “Social and Cultural Dynamics” . The author believes that Sorokin’s life and creative work can be viewed as an example of the successful penetration of foreign cultural and scientific school into the tradition of American socio-philosophical thought.
Anisimov A.L. (Russia). Russian Diplomacy Resists the Attempts of Great Britain and France to Inveigle the USA Into A n ti^ in g Union During the Second Opium War (1856-1859). The author attempts to show how Russia comes into a diplomatic conflict with Great Britain and France over the military clash of West European countries in China. Using an impressive amount of archive sources, Dr . Anisimov thinks that Russian diplomats did their utmost to help the USA retain its neutrality. To do so, Russian diplomacy had to withstand different diplomatic catches, such as bringing pressure on public opinion, commercial and industrial circles and press.
Anisimova T.A. (Russia). Teaching History of Russian Architecture and Art in American University. The author shares her unique experience as a visiting professor in Mansfield University. She compares the two educational systems and opportunities, students4 values and learning abilities. Expanding on professor-student relationship, criteriaof student assessment and the University resource base and facilities the author believes that her stay in the American University was mutually beneficial, for not only she collected unique material for her doctoral dissertation but also did her best to contribute to “The Year o f Russia“ in Mansfield (PA).
Anisimova T.A., Baranskaya E.A. (Russia). The American Campus and The Russian University Complex: Design Peculiarities. The article contrasts the traditional architectural solutions of American University campuses with Russian University complexes designs. The authors, professors of Volgograd Architectural Academy, reflect on functional and compositional similarities and differences. Tracing the history of different architectural traditions with regard to the construction of University complexes in Russia, Europe and the USA the authors compare the main data reflecting the quality of design culture in various countries. They conclude that effective organization of academic and research processes, favorable social
414
opinion, comfort and architectural unity of a complex are indicators of quality design and need to be taken into consideration while reconstructing the existing and designing new university complexes.
Barkova E.V. (Russia). The Typology of Russian and American Cultural Integrities. The author deals with the correlation between Russian and American cultures, that lack mutual genetic roots and sustainable historic interrelationship . She attempts to identify some invariant basis aiming at defining the scale of cultural relationship and specifying the indicators that could speak of the degree of the cultures’ similarities and differences. She believes that only cultural domain can establish a link between the original profound mission of culture and type of behavior, lifestyle and way of the environment assessment. Analyzing the USA history the author notes that the opening of vast territories and struggle for existence provided for the formation of the autonomous type of personality distinctive from Russian. The main values of the personality are individual freedom, pragmatism and independence as opposed to theoretical considerations. The researcher believes that comparisons may be incorrect, for Russian and American cultures have various dimensions even within the areas of their existence. She suggests a synthetic approach to the dimensions to form the humane and integral mentality which could serve as a new basis for the development of the informational community and forecast new prospects of its development on the threshold of the XXIst century.
Bessarabova I.S. (Russia). J.Bruner and the Role of His Teaching Methods in the History of the USA Educational System. Basing her analysis on the main methodological principles of Jerome Bruner, the famous American teacher and psychologist, the author speaks about his activity, teaching methods and contribution to pedagogical science emphasizing his role in the history of the USA education.
Bolkhovitinov N.N. (Russia). Formation and Development of Russian-American Relations (Investigation Results). The author, Professor of History, an acting member of the Russian academy of Sciences, Deputy Secretary of the History Department of the Russian academy of Sciences, reflects on his long-term study of the establishment and development of Russian-American relations in the XVII—XVIII th centuries. He shares his original view on the state and prospects of American studies in Russia and believes that historians of the past seldom evaluated the role of ordinary people in
415
the establishment and promotion of international relations. He assumes that the best representatives of people, such as prominent writers, scientists and journalists were underestimated in the history of international relations. Academician Bolkhovitinov believes that his research proves that the very history of Russian-American relations in the middle of the XVIII century was started by direct and indirect contacts of B. Franklin A Styles and other scientists with their Petersburg counterparts M. Lomonosov, F. Epinus and others. Analyzing the research trends of his own works the author notes his collaboration with American historians. He hopes that the Volgograd State University Center “Americana” will enhance the development of American Studies. The article is supplied with a detailed survey of the author’s books, monographs, articles and reviews.
Buzsky M .P. (Russia). American Pragmatism and Its Impact on Modern Russia. ‘ The author believes that Russia’s contemporary post-communist development resulting in the ideological frustration should be overcome by thoughtful use of international experience for the purpose of Russia’s socio-economic reconstruction. Developing a critical approach to American pragmatism as an ethic and philosophical regulator of individual behavior, he notes that the pragmatism philosophy was an adequate reflection of the young civil society’s consciousness and ideology. He treats pragmatism as an objective philosophical reflection of the civil society subjective nature and behavior types corresponding to it. The author believes that introduction of foreign experience with regard to Russian national traditions, cultural and other stereotypes will foster the formation of the civil society, the region’s sustainable interaction and the formation of national and regional markets.
Golunov S.V. (Russia). Islam in CIS and Problems of Russian- American Political Interaction. Understanding islam as a factor defining the new geopolitical situation in the post-soviet world, the author attempts to estimate the influence of Russian-American relations on the Muslim regions of the Commonwealth of Independent States (CIS). Both countries tend to pursue there active policies which may cause serious, though surpassable contradictions. The author focuses on the two countries’ commitment to maintaining peace in the Islamic region and believes in their role in securing stability by means of a genuine interaction.
Dridzo A.D. (Russia). The Mystery of “The Paraguayan
416
Muscovite” or R.A.Ritter in Asuncion (1902-1946). The article deals with the life and activity of the Russian professor and journalist R.A.Ritter who spent 44 years in Paraguay and contributed to the political, social and cultural life of the country. His biography before coming to Latin America is unknown. The author looks for the reasons that made Ritter conceal the fact of his life in Russia.
Dudina I.A. (Russia). Evaluating the Experience of the InterUniversity Cooperation: Volgograd — Kent (OH) — Mansfield (PA)— Indianapolis (IN). The author explores an impressive variety of matters stretching from the establishment of contacts between partner universities to international relations management, curriculum development, technology transfer and response to crisis. She considers the importance of exchange programs diversity and flexibility with regard to the crucial role of academic and cross-cultural faculty and student development. The success of the joint programs with the American Universities has resulted from a number of factors, including the joint determination of objectives and content; the University-to- University nature of planning; the breadth of the curriculum base; direct financial involvement of the parties; effective communication at all levels and commitment to multiculturalism. The author also touches upon the prospects of setting up an international network to share the experience and benefits of the four universities.
Heyfez L.S. , Heyfez V.L. (Russia). The article analyses the dual activity of Stanislav Pestkovsky as an ambassador of Soviet Russia to Mexico and a secret communist agent. He presented interests of both Soviet State and The Third Communist International.
Kazanin I.E . (Russia). Russia and the USA: Danger of Confrontation or Prospects of Cooperation? The author analyses the possible ways of the realization of Huntington theory and its influence on different models of civilizations. He attempts to give a prognosis on the prospects of global development.
Kirianov V.I., Moskovtsev A.F. (Russia). Democracy in the USA and Russia: Historical Parallels Obtained with the Help of A. de Tocqueville. The authors try to look at Russian Democracy from the point of view of the famous French historian and traveler Alexis Charles-Henri-Maurice Clerel de Tocqueville; he is known to have analyzed the main features of American Democracy in the XIX-th century.
Koloski B. (USA). Kate Chopin as a Historical Resource. The
417
article is devoted to the analysis of Kate Chopin’s works. The American author, who lived in the late of the XlXth century wrote novels that provide a valuable source for cultural historians and women’s historians seeking to understand social conditions in the South of the USA (especially in Louisiana) after The Civil War (1861-1865). Kate Chopin documents in her work the benefits and limitations of prosperity, the opportunities and problems of cultural differences, and the exhilarating but painful search for personal fulfillment. In his analysis of Chopin‘s works Professor Koloski pays special attention to the famous novel “The Awakening” that is known to have been compared with Flaubert‘s “Madam Bovary”.
Konoplich T. K. Some Features of Modernization Process of Liberal Ideology in the New Deal (Russia). The author, an instructor and post-graduate student of Volgograd State University, tries to analyse the structure of system of logical and philosophical connections between the Ideology, Political Practice and the real life of everybody in the USA who lived in the period of the Great Depression and the New Deal. To the author’s mind this crisis was the complex phenomenon. Researching the public papers, political addresses of F. D. Roosevelt (especially his famous “Fireside Chats”), the documents of the advisers from the Brain Trust, she formulates her own concept and scheme of modernization of liberal ideology in the USA. Analysing such fundamental components in liberal ideology of the USA as American Dream, American Supremacy, Individualism the author notes some changes in the sphere of so called Constitutional design appeared in America after the realization of the New Deal's reforms.
Kubyshkin A.I. (Russia). On the Study of Russian History in Contemporary American University. The author who visited the USA as a Fulbright grant-aided scholar in 1997, deals with the evaluation of teaching Russian History in the USA. Reduction of student quantity in Russian classes in American universities, curriculum changes and qualitative approaches are his main concerns.
Kushneruk S. P. (Russia). The Problem of Stereotype in Teaching Practice: American Classes. The article comments on some barriers in teaching that are formed by stereotypes. The stereotypes have different origins; the author suggests several approaches in the evaluation of barriers and ways of their overcoming.
Leontovich O.A. (Russia). Concept of Linguistic and Regional Study Dictionary. The structure of a linguistic and regional study
418
ictionary is presented in the article. The main goal of the dictionary is to combine both linguistic and cultural information.
Lopushanskaya S.P., Kosova M.V., Gorban O.A. (Russia). Teaching American Students Russian as a Foreign Language through Culture. This article analyzes the main problems of teaching American students Russian as a foreign language through culture. It includes linguistic interpretation of texts and cultural-historical sources, that lead to mastering Russian and better understanding different linguistic and cultural representatives.
Milovanova M.V., Shamne N.L. (Russia). Features of Students‘ Adaptation on non-native Culture. There are several types of adaptations in non-native cultures. The authors view pragmatic stereotype blocks as indications of the adaptation level.
Mlechko A.V. (Russia). T rickster‘s Image in Vladimir Nabokov‘s Novels of Russian and American Periods of His Life. Duality and contradistinction of Nabokov‘s system of characters is analyzed in the article. The author reflects on the general approaches to Gogol’s, Dostoevsky’s and Nabokov‘s creations and points out the difference in understanding Nabokov‘s system of characters in Russia and the USA.
Muzraeva E.Sh. (Russia). The Study of Kalmyk History in the USA. The author considers the main American institutions engaged in the study of Kalmyk History. She pays special attention to the activity of the famous American Kalmyk Arash Bormanshinov.
Noskov V.V. (Russia). American “Psychological School” in Sociology and Russian “Ethic-and-Sociological School”. The article reads about the comparative analysis of the terms, approaches and personal viewpoints of the famous American and Russian sociologists of the late XIXth century.
Petrova I.A., Kibasova G.P. (Russia). Formation of American Historiography Concept of The Soviet Foreign Policy before the Second World War. The article evaluates of the approaches, viewpoints of famous American historians, interpretations of information sources and the analysis of different historical schools in the USA.
Pigalev A.I. (Russia). American Culture and Historical Integrity (the Experience of the Problem Analysis). The author deals with some principle questions concerning the philosophy of history with regard to the historical mission of the USA. The main subject is the
419
peculiarity of the American culture and its role in the creation of the integrity of the historical time. The historical time is considered to be quite different from the natural physical time , since history is a part and product of culture. That is why the phenomenon of the world history and the belonging of any culture or state to the world history are not derived automatically, but created by human efforts that have to be constantly reproduced. The author argues in favor of the existence of the chosen people who has to translate into reality the unity of the humankind.Before the emancipation of the Jews by the Great French Revolution only the Jews had to introduce the baptized, but still partially pagan peoples into the unified time of the world history. When the Jews were declared the “natural people” the messianic function did not disappear, but became the property of all other peoples. The author shows that the outburst of the national messianism resulted in the transition of the unifying function to American culture. The origin, the specific character and the consequences of this function are treated both in the spheres of politics and mentality.
Prohvatilova O.A. (Russia). Teaching American Students Russian Regional Dialects. Dialectical Russian speech is an problem for American students studying Russian in Volgograd. The author tries to show the ways of resolving such problems in class.
Ryan E.S. (USA). Paradox of Freedom: To Be Unfree In One Freedom. The author, an American writer and Professor of Mansfield University (PA), presents the paradox of Americanized freedom. He utilizes aMarketism-Leninism description of the process of aprocessing American freedom.in the irony of taking freedom in taking freedom away. Dr. Ryan presents examples from America’s incorrect political correctness, hateful hate laws, unjust justice system a la O.J. Simpson, and unhealthful medical profession, among other ironies in America to illustrate his thesis. He refers favorably to the American Constitution of Freedom, along with the Soviet justice system, in distinguishing freedom and justice from the unfavorable constitutionals of the one- world processes of Americanized freedom in crime in the streets and crime in the suites. Dr. Ryan concludes that more unofficial American advice, such as his own, is needed to counter official American advice about freedom.
Shewmaker D.K. (USA). The Diplomatic Mission of Neill Smith Brown in Russia (1850-1853). Professor of History in Dartmouth
420
College analyses some unknown pages in the career of Neill Smith Brown, the American minister to Russian Empire (1850-1853). The author views Brown as an outstanding person, talented diplomat, honest and modest man, engaged in the profound analysis of Russian political and social life. American minister reflected on the totalitarian Russian government and the belief of Russians in their distinctive role in the world history. The author highlights some interesting facts in the history of Russian-American diplomatic relations and estimates the character of the Russian Emperor Nicholas I.
Sheygal E.I. (Russia). Linguistic Image of an American Politician (the Analysis of the Culture Dictionaries). The author deals with the correlation between linguistic and extra-linguistic phenom ena; the te rm “lingu istic re flec tio n o f po litica l communication” is a principal one; the focus is the most typical political situations, and the bond of the political activity of a person with his/her linguistic image.
Skryabina O.Yu. (Russia). The Informational Technologies and Education in the USA. The author evaluates positive and negative impacts of modern technologies such as multimedia programs on the American education.
Smirnova L.V. (Russia). M aria Montessori: Education in American and Russian Cultures. The article features the main pedagogical ideas and principles of the famous Italian teacher; it concentrates on the ways Montessori principles are realized in the USA and Russia.
Suponitskaya I.M . (Russia). Russia and America: Comparing the Social Systems. The author reflects on the original comparative analysis of material and cultural life in Russian and American history.
Tumentsev I.O. (Russia). Research Institute for Economic History of Russia in the XX-th Century at Volgograd State University: Prospects of the International Co-operation. The Research Institute is adapting a new distant-type model of scholar organization that results in high research effectiveness and personnel mobility. The Institute offers cooperation with American research and academic centers.
Wilson D. L. (USA). Jacob Gould Schurman and the American Perception of Bolshevism in China, 1921-1925. The author, Professor of History in Southern Illinois University at Carbondale, discusses problems faced by the American minister to China during the early
421
period of the Chinese Revolution. Schurman grew concerned about the impact of Soviet propaganda on the Chinese, though he argued that the Chinese people would never accept communism. By early 1925, Schurman warned the Chinese about taking a revolutionary path while cautioning the West that the unequal treaties had to be revised. Schurman and L.N.Karakhan, the Soviet ambassador, engaged in a newspaper war of words shortly before Schurman left China in April 1925.
Uffelman L. (USA). Some Issues of Russian-American University Cooperation. The author, a 1994 visiting professor to Volgograd State University, provides a general view on the teacher and student exchange between Volgograd and Mansfield Universities. He points out that the interuniversity relationship has helped Mansfield University and Volgograd State University build on the mutual interest in Russian-American connections. Exploring possibilities of improving academic, economic and cultural components of the exchange program expresses his concern that the Mansfield exchange professors who have visited Volgograd State University find it difficult to interest students ignorant of languages other than English in coming to Volgograd. Dr. Uffelman suggests a creative search for ways of making the exchange more appealing to Mansfield University: he reflects on his attempt to design a model for a “Russian Studies” program with the emphasis on culture rather than on language. He concludes by saying that he is delighted to be back in Volgograd and confirms his wish to strengthen the Mansfield side of the program by changing its certain elements.
Zaitseva N.D. (Russia). An Experience of Teaching the Seminar “History of Russian America" at Mordovian State University. The author, Assistant of Professor of Mordovian State University (Saransk, The Russian Federation) offers the principal propositions of the seminar (the pedagogical methods and practice).
Zorin A.V. (Russia). British-and-American Maritime Merchants and Mikhailovskaya Fortress‘ Loss on Sitka (Alaska) on June, 1802. The author presents his original point of view on the causes and results of the events of June, 1802 in Mikhailovskaya Fortress in Alaska. He also considers the role of American (W.Kannigham) and British merchants (H.Barber), and comments on the historic events of this period.
422
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ (PREFACE).......................................................... 5
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ.....................................6
Болховитинов Н.Н. (Москва)Становление и развитие русско-американских отношений, 1732—1867 гг. (некоторые итоги) ................................................... 6
Зорин А.В. (Курск)Англо-американские морские торговцы и гибель Михайловской крепости на Ситке в июне 1802 года............ 29
Шумейкер К.Э. (Хановер, США)Миссия Нейла Брауна в России (1850—1853).......................... 43
Анисимов А.Л. (Хабаровск)Борьба российской дипломатии против попыток Англии и Франции втянуть США в антицинский союз в период второй “опиумной” войны (1856—1860)....... 66
Уилсон Д.Л. (Карбондейл, США)Джейкоб Гоулд Шурман и американскоевосприятие большевизма в Китае (1921—1925) ....................... 82
Дридзо А.Д. (Санкт-Петербург)Загадка “парагвайского москвича”(Р.А. Риттер в Асунсьоне, 1902—1946) ..................................... 105
Алепко А.В. (Хабаровск)К вопросу об американских проектахжелезнодорожного строительствав Восточной Сибири и на Дальнем Востокево второй половине XIX — начале XX в.................................. 112
423
Хейфец В.Л., Хейфец Л.С. (Санкт-Петербург)Михаил Бородин в Новом Свете:дипломат или миссионер Коминтерна?................................... 118
Т.К. Коноплич (Волгоград)Особенности модернизации идеологии либерализма в период Нового курса(философский аспект проблемы).............................................. 132
Петрова И.А., Кибасова Т.П. (Волгоград)Формирование концепций американскойисториографии советской внешней политикикануна второй мировой войны .................................................. 162
Музраева Е.Ш. (Элиста)Изучение истории Калмыкии в С Ш А ..................................... 174
Голунов С.В. (Москва)Ислам в СНГ и проблемы российско-американского политического взаимодействия.................... 179
Аменсворт Дж. (Кент, США)Испаноязычная культурная общность в С Ш А ...................... 189
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ:ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА.................................................... 194
Райан С.Э. (Мэнсфилд, США)Парадокс свободы: тесные рамки всеобщей свободы......... 194
Пигалев А .И (Волгоград)Американская культура и целостность истории(опыт постановки проблемы.......................................................207
Супоницкая И.М. (Москва)Россия и Америка: опыт сравнения социальных систем.... 222
424
Баркова Э.В. (Волгоград)Некоторые типологические характеристикикультурного пространства США и России............................. 234
Кирьянов В.И., Московцев А.Ф. (Волгоград)Демократия в Америке и России: историческиепараллели, полученные при помощи А. де Токвиля............ 241
Бузский М.П. (Волгоград)Американский прагматизми его смысл для современной России .....................................248
Казанин И.Е. (Волгоград)Россия и США:перспективы конфронтации или сотрудничества.................256
Анисимова Т.А., Баранская Е.А. (Волгоград)Особенности проектной культурыамериканского кампуса и университетского комплекса в городах России ............................................................................261
Носков В.В. (Санкт-Петербург)Американская “психологическая школа” в социологии и русская “этико-социологическая школа” ............................269
Анипкин М.А. (Волгоград)Концепция П.А. Сорокина и американскаятеоретическая философия........................................................... 273
Колоски Б. (Мэнсфилд, США)Творчество Кэйт Чопин как историческийисточник.......... 278
Млечко А.В. (Волгоград)Фигура трикстера в романах В. Набокова“русского” и “американского” периодов............................... 291
Леонтович О.А. (Волгоград)Концепция лингвострановедческого словаря С Ш А ............ 298
425
Шейгал Е.И. (Волгоград)Языковой образ американского политика(по материалам культурологических словарей)..................... 305
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОРМЕЖКУЛЬ ТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ .............................. 315
Скрябина О.Ю. (Волгоград)Информационные технологии и образование в С Ш А ........315
Смирнова Л.В. (Волгоград)Монтессори — образование в опыте русской и американской культур...............................................................319
Бессарабова И.С. (Волгоград)Роль теории обучения Дж. Брунерав развитии американской ш колы ..............................................331
Зайцева Н.Д. (Саранск)Из опыта преподавания спецсеминара “Русская Америка . 340
Дудина И.А. (Волгоград)Опыт межвузовского сотрудничества:Волгоград — Кент — Мэнсфилд — Индианаполис............. 342
Аффельман Л. (Мэнсфилд, США)Некоторые проблемысотрудничества и обмена между российскими и американскими университетами............................................352
Тюменцев И.О. (Волгоград)НИИ проблем экономической истории России XX века при Волгоградском государственном университете: перспективы международного сотрудничества.......................359
Кубышкин А.И. (Волгоград)Об изучении российской истории в современном американском университете........................................................361
426
Анисимова Т.А. (Волгоград)О специфике преподавания курса истории русской архитектуры и искусствав американском университете.....................................................373
Лопушанская С.П., Косова М.В., Горбань О.А. (Волгоград)Обучение русскому языку стажеров из СШАкак фактор межкультурного взаимопонимания.................... 382
Шамне Н.Л., Милованова М.В. (Волгоград)Особенности адаптации студентовв иной культурной среде............................................................. 392
Кушнерук С.П. (Волгоград)Проблема стереотипа в практике преподавания американским студентам............................................................. 398
Прохватилова О.А. (Волгоград)Знакомство с языком региона на занятияхпо русскому языку как иностранному.....................................403
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ......................................................... 409
SUMMARIES OF THE ARTICLES............................................413
427
Научное издание
A M E R I C A N A
Выпуск 2
Материалы Международной научной конференции “Россия и страны Америки:
опыт исторического взаимодействия ”
г. Волгоград, 24—26 сентября 1997 года
Главный редактор А.В. Шестакова Редакторы: О.С. Кошук, Л.В. Ремнева, Т.Ю. Лященко
Технический редактор А.В. Черников Переводчики: И.И. Курилла, Т.К. Коноплич,
Е.Ю. Ладонина, Е.Ю. Мошкова
ЛР № 020406 от 12.02.97.
Подписано в печать 10.08.98. Формат 60х84/16. Бумага типографская №1. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 24,9.
Уч.-изд. л. 26,8. Тираж 200 экз. Заказ . «С» 36.
Издательство Волгоградского государственного универитета. 400062, Волгоград, ул. 2-я Продольная, 30.