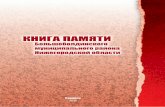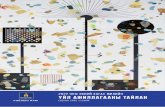Фелицынские чтения (XIII). Ч. II. Памяти Виталия Петровича...
-
Upload
independentscholar -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Фелицынские чтения (XIII). Ч. II. Памяти Виталия Петровича...
Департамент культуры Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
«Краснодарский государственный историко-археологический музей-
заповедник им. Е.Д. Фелицына»
«Фелицынские чтения (XIII)»
Ч. II. Памяти Виталия Петровича Бардадыма
Материалы межрегиональной научной конференции
(г. Краснодар, 23 ноября 2011 г.)
Краснодар, 2011
Фелицынские чтения (XIII). Ч. II. Памяти Виталия Петровича
Бардадыма. Материалы межрегиональной научной конференции (г.
Краснодар, 23 ноября 2011 г.). Краснодар: , 2011.
Редколлегия: А.Г. Еременко – кандидат культурологии, доцент,
генеральный директор КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына; Т.А. Павленко – к.и.н.,
заместитель генерального директора КГИАМЗ по науке; В.И. Колесов –
заведующий отделом истории и этнографии КГИАМЗ; Н.А. Осипенко –
учѐный секретарь КГИАМЗ.
Сборник содержит материалы ежегодных научных Фелицынских
чтений, проходящих в КГИАМЗ. В этом году научная конференция была
посвящена памяти видного кубанского краеведа Виталия Петровича
Бардадыма, внесшего заметный вклад в развитие исторической науке в
регионе.
СОДЕРЖАНИЕ
Н.А. Корсакова. Кубанский краевед В.П. Бардадым. Страницы
биографии и деятельности
А.В. Бабич. О документах кубанского писателя Виталия Петровича
Бардадыма, хранящихся в ГКУ Крайгосархив»
Л. Г. Орѐл. «Приезжайте, наговоримся вдоволь...»: из истории
взаимоотношений В. П. Бардадыма и В. Н. Орла
В.В. Винокуров. Бриньковская и казачий род Бардадымов
И.В. Наделяева. Дайджест-проект «Моя Роговская в творчестве В.П.
Бардадыма»
А.Г. Шеремет. Жизнь и творчество В.П. Бардадыма в истории
Брюховецкого района
П.В. Новиков. Редкий памятник античной глиптики из раскопок
Старокорсунского могильника
С.Л. Завьялов, А.В. Пьянков. О находке сребреника князя Владимира
на территории Таманского полуострова
Ю.В. Зеленский. Тмутороканский князь Мстислав Владимирович и
усобица после смерти Владимира Святославича
С. О. Жупанин. К истории Геленджикского укрепления в 30-е годы
XIX в.
Е.В. Хмара. Новое о Владимире Сергеевиче Толстом
Н.А. Корсакова. Кубанские иконы. К истории создания и бытования
в ХIХ – начале ХХ веков
С.С. Коваль. Специфика эволюции семейных отношений в казачьей
среде как фактор формирования статуса северокавказских и донских
казачек
М.В. Карпов. Страницы биографии участницы Первой мировой
войны Елены Чобы в краеведческих исследованиях и исторических
источниках
А.И. Карпова. Шейх Кунта – хаджи. Трагедия великого гуманиста
В.И. Колесов. Хозяйство, статистика, идентичность (на примере
населения аула Бжедуховского Кубанской области)
Е.И. Казе. Век храма
Н.Ю. Дуленко. Судьба храма Сошествия Святого Духа на апостолов
и Церковной площади станицы Каневской в Советское время
Л.М. Есипенко. Становление музейного дела на Кубани в 1920-е гг.
М.Р. Стругова. Краснодарский историко-краеведческий музей в
1943–45 годах
А.В. Кондрашев. О германских торпедных катерах, погибших в
Керченском проливе
М.К. Авдащенкова, О.Г. Садковская. Творчество композитора Г.Ф.
Пономаренко на Кубани (к 90-летию со дня рождения Г.Ф.
Пономаренко)
А.В. Бабич. Кубанский казачий хор. История и современность. К
200-летию со времени образования (по материалам фонда Р–1833 ГКУ
Крайгосархив»)
В.В. Селуянова. Личность в истории Кубани и личность историка:
«Три кита» Валентины Еланкиной
Л. Г. Орѐл. Василий Орел как популяризатор жизни и творчества
Коста Хетагурова
М.Ю. Смертина, О.В. Топчий. С чего начинается Родина:
образовательная деятельность музея на базе детских дошкольных
учреждений
К.В. Хараишвили. Этнографические исследования КГУКИ. Краткие
итоги полевого сезона (Тамань 2011 г.)
Е.А. Ягодкина. Устная история. Жизнь одной болгарки (по итогам
полевого сезона 2011 г.)
Н.А. Корсакова
Кубанский краевед В.П. Бардадым.
Страницы биографии и деятельности.
«Поучительные примеры сошедших
со сцены деятелей, должны
служить наследием для потомства»
Е.Д. Фелицын
Известный кубанский краевед Виталий Петрович Бардадым начал свои
поиски истины отечественной истории еще в 60-е годы прошлого столетия. В
своей книге «Открытки на память» он писал: «Я собирал старинные
открытки, фотографии и воспоминания старожилов, ради познания истории»
[1].
Родился Виталий Петрович 24 июля 1931 г. в семье потомственных
кубанских казаков, его прадед был священником в Черноморском казачьем
войске в первой половине ХIХ в. В 30-х гг. ХХ в. его семья подверглась
репрессиям. Трудное детство, четырехлетняя служба на флоте, стремление к
получению образование, воспитали в нем твердость духа, высокие
жизненные идеалы и уважительное отношение к людям и их судьбам.
Закончив Ленинградский электротехнический медицинский техникум, он
получил специальность врача-рентгенолога. Так начался его жизненный
путь, а завершился благодарным признанием, прежде всего старожилов
города, историков и всех кому дорога кубанская старина. В.П. Бардадым стал
членом Союза писателей России, Почетным членом Союза архитекторов
России, Почетным гражданином города Краснодара и автором более
тридцати книг и многочисленных очерков по истории края.
Первые краеведческие очерки Бардадыма стали выходить на страницах
газет «Советская Кубань» и «Комсомолец Кубани» в 60-е – 70-е годы [2]. В
своих очерках он впервые воскресил многие забытые и неизвестные
страницы истории г. Екатеринодара, имена выдающихся деятелей Кубани.
Популярность этих очерков была огромна, старожилы и любители истории
ждали выхода, спешили купить газеты, передавали эти страницы для
прочтения родным и знакомым. Особенно были благодарны ему старожилы
города – еще живые тогда гимназистки, мариинки, старая интеллигенция.
Мне часто приходилось видеть, как они хранили уже пожелтевшие
странички газет, приносили их в музей. Без преувеличения можно сказать,
что в эти годы Виталий Петрович стал не только известным краеведом, но и
кумиром для старой кубанской элиты. Не академические ученые, а он стал
первооткрывателем истинной исторической кубанской истории. В 1978 г.
вышла его первая книга «Этюды о прошлом и настоящем Краснодара» [3]. В
70-е годы Виталий Петрович пережил и непонимание, подозрительность
некоторых руководителей и «сильных мира сего», которые в его трудах
увидели «воспевание царизма» и «романтизацию старой России»,
«неклассовый подход». Не прощали ему и дружбу с опальным тогда
писателем В.И. Лихоносовым, особенно его стремление помочь ему в сборе
материалов для будущего романа «Ненаписанные воспоминания. Наш
маленький Париж». В одном из интервью Лихоносов напишет: «Все знания о
Екатеринодаре и его людях, приобрел я благодаря Виталию Петровичу.
Никто так не желал, чтобы я написал роман, как он. Спасибо ему. Наверное
сам Господь послал мне в доброжелатели и поклонники этого замечательного
человека, истинного патриота Кубани» [4].
Одной из главных заслуг Бардадыма в кубанском краеведении является
его колоссальный труд восстановления истории из уст еще тогда живых
старожилов, тех, кто пережил нелегкие времена и сохранил историю в своей
памяти такой, какая она была. Круг старожилов всегда был очень замкнутым,
люди боялись рассказывать свои родословные, свои судьбы даже родным,
потому что многие десятилетия, жизнь после 1917 г. проходила по законам
революционного трибунала. Бардадым защищал не только памятники, но и
помогал многим екатеринодарцам как врач материально и многих одиноких
провожал в последний путь. Судьбы екатеринодарцев описаны им во многих
его очерках [5].
Огромной заслугой В.П. Бардадыма были его плодотворные архивные
поиски документов, биографий, открытие по архивным источникам забытых
имен и открытие новых тем для исследования.
Кубанские ученные уже в 90-е годы продолжили эти поиски, и очерки
краеведа стали ценным источником для монографий и диссертаций.
Одним из главных достижений В.П. Бардадыма как исследователя и
гражданина, являлась его гражданская позиция и общественная значимость
его трудов. Он первым воспел Екатеринодар, от него мы узнали имена
старых улиц, кубанских благотворителей. Благодаря настойчивости
Бардадыма уже в 80-е годы появились мемориальные доски известным
деятелем, ставились на охрану старинные здания. Он первым предложил
восстановить разрушенные памятники истории и много положил своего
здоровья, пережив два инфаркта.
Доброжелательным и незаменимым помощником стал В.П. Бардадым и
для нашего музея-заповедника. Мне посчастливилось быть в кругу друзей
Виталия Петровича и его супруги Варвары Петровны. Мы познакомились в
1974 году, в этот период он много работал в библиотеке музея. Он первый от
кого я узнала о деятельности создателя музея Е.Д. Фелицына. Он принес его
фотографию и сказал: «Голубушка, поставьте ее на свой рабочий стол и
пусть образ этого достойного историка Вам всегда помогает». Многие годы
мне часто приходилось бывать на семейных «посиделках» в гостях у Виталия
Петровича. Меня всегда умиляли его теплые отношения с супругой. Варвара
Петровна родилась 14 декабря 1923 года в станице Рязанской, познакомились
они в Краснодаре. Варвара Петровна педагог дошкольного образования,
автор стихов и детских книг. Она на долгие годы стала его первой
помощницей, разделяя его взгляды на историю.
В их уютном семейном кругу всегда можно было послушать старинные
романсы в исполнении Петра Лещенко, Юрия Морфеси, Веры Паниной.
Таким остался в нашей памяти Виталий Петрович Бардадым. Вместе с
ним ушла целая эпоха в кубанском краеведении.
Примечания
1. Бардадым В.П. Открытки на память. Краснодар, 2005. С. 214.
2. Биографический энциклопедический словарь. Краснодар, 2005. С. 28.
3. Бардадым В.П. Этюды о прошлом и настоящем Краснодара. Краснодар, 1978
4. Вечерний Краснодар. 20 июля 2006.
5. Бардадым В.П. Я помню вечер. Краснодар, 1998; Он же. Серебряная ложка.
Краснодар, 1993; Он же. Замечательные кубанцы. Краснодар, 2002; Он же. На берегах
Кубани. Краснодар, 2009.
А.В. Бабич
О документах кубанского писателя
Виталия Петровича Бардадыма, хранящихся в ГКУ Крайгосархив»
Прошел год, с тех пор, как перестало биться сердце Виталия Петровича
Бардадыма, летописца земли Кубанской, краеведа, члена союза писателей
России, лауреата премии им. К.В. Россинского, почетного члена Союза
архитекторов России.
Вначале несколько слов о творчестве этого удивительного человека. В
1978 году первые публикации В.П. Бардадыма вошли в книгу «Этюды о
прошлом и настоящее Екатеринодара»; в 1984 г. вышла книга «Театральный
листок», в 1986, 1998 – «Радетели земли кубанской», в 1992 – «Этюды о
Екатеринодаре», в 1993 – «Ратная доблесть кубанцев», «Серебряная ложка»,
в 1995 г. «Зодчие Екатеринодара», в 1999 г. – «Кубанские портреты» и
многие другие.
В 2011 году, уже после смерти В.П. Бардадыма, в издательстве
«Советская Кубань», вышла книга «Под небом родным. Автобиографические
этюды». Книга посвящена старинному казачьему роду Бардадымов,
восходящему еще к XVII веку. Это историко-краеведческие и архивно-
исследовательские поиски и находки автора, итог 50-летнего творческого
труда краеведа, писателя и поэта.
Из-под пера В.П. Бардадыма вышли также поэтические сборники: в 1988
г. – «Лик земли», в 1992 г. – «Казачий курень», в 1993 г. – «Сонеты». В.П.
Бардадым является и автором книг о знаменитых певцах прошлых лет «Тот
самый Петр Лещенко (1993), «Александр Вертинский без грима» (1996),
«Юрий Морфесси. Баян русской песни» (1999).
Не следует забывать и то, что Виталий Петрович – составитель
сборников избранных произведений классиков кубанской литературы,
впервые изданный в Краснодаре: Н. Канивецкий «На вершок от счастья»
(1992), А Пивень. «Торба смеха и мешок хохота» (1995), Н. Вишневецкий
«Исторические воспоминания» (1995), Д. Аверкиев «Избранное» (1996). В
своих книгах Виталий Петрович впервые воскресил многие забытые
страницы истории нашего края, имена выдающихся деятелей кубанской
земли. За свою многогранную деятельность В.П. Бардадым был награжден
медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени.
Сюжеты для своих удивительных произведений, посвященных
краеведческой тематике, Бардадым В.П. черпал в хранилищах
Государственного архива Краснодарского края.
Виталий Петрович очень любил наш архив, и это не удивительно, ведь в
нем хранится память об ушедших поколениях кубанцев, которые строили и
созидали, защищали и украшали свою родную землю, поливая ее потом и
кровью. Трудно найти человека, который провел бы столько времени в
архиве, как Виталий Петрович! Его любовь к прошлому, к «Радетелям земли
Кубанской», как выдающимся, так и простым труженикам, была
безгранична, он мог часами рассказывать о городе Екатеринодаре, о храмах,
памятниках, выдающихся архитекторах, атаманах, и речь его всегда была
интересна и содержательна.
По словам самого Виталия Петровича, впервые он пришел в читальный
зал Госархива 6 сентября 1971 года. С этого времени, по его словам, рассказы
«милых бабушек» о незабвенной старине, отошли для него на второй план, и
он превратился в старательного историка-документалиста.
Вот как писал об архиве Виталий Петрович в книге «Под небом
родным»:
«Архив! для меня – это магическое слово, рождающее в душе сильные –
и грустные, и отрадные – чувства. Архив – это неоценимое культурно-
историческое сокровище, где … история жизни наших предков (их победы и
поражения), опрокинутая в прошлое. Он терпеливо ждет того
благословенного часа, когда любознательный потомок поднимет из
хранилищ древние бумаги – церковные указы, акты, военные реляции,
служебные рапорты – и оживут безмолвные листы своим живым и юным
дыханием, взволнованным биением своего сыновнего сердца, и коснется
желтых хрупких пергаментов, с потускневшими, выцветшими чернилами,
своими трепетными пальцами, и «кликнет на свет Божий» отгоревшую долю
своих отцов и дедов. Вот что такое архив!
В архиве я провел лучшие десятилетия своей жизни. И ныне, когда мои
жизненные сроки до предела урезались и сократились, я с нежным и
глубоким с чувством благоговения произношу это заветное слово –
«АРХИВ», благодаря которому я смог найти ценные документы и написать
свои книги…»
«Я низко кланяюсь и благодарю всех соучастников моих многолетних
изысканий. Мои историко-краеведческие труды – это одновременно весомая
доля их умственных усилий, яркая частица их души.
Могу сказать: без архива не стало бы меня, как писателя-краеведа.
Архив – это волшебная шкатулка, неразменный рубль, сколько бы ни
тратили, а он все цел и цел, обогащая поколение за поколением бесценными
знаниями, воодушевляя людей достойно жить, правдиво мыслить,
благородно действовать во имя процветания Великой России и ее родной
кровинки – богоспасаемой Кубани…».
Сколько бескорыстной любви и благодарности в этих словах, сколько
понимания и доброты. В своей статье об архиве Виталий Петрович,
вспоминая поименно работников архивной службы Кубани, «своих
бескорыстных помощников», приводит слова заведующей читальным залом
Надеждой Петровной Снаксаревой, которая в шутку как-то сказала: «Вы,
Виталий Петрович, так увлечены поисками. Может быть, мы поставим в
уголку раскладушку и вы здесь заночуете?». Эта фраза, оброненная
заведующим читального зала архива, как нельзя более точно подчеркивает
желание Виталия Петровича Бардадыма денно и нощно работать в архиве,
отыскивая все новые и новые алмазы, которые впоследствии украсили его
произведения и сделали столь ценными для нас, кубанцев…
Еще при жизни Виталия Петровича в Крайгосархиве начал
формироваться личный фонд этого удивительного человека. Собранные им
документы бережно хранятся на архивных полках, в составе фонда Р–1610.
Оп. 2 «Виталий Петрович Бардадым, писатель, краевед». Это: статьи, очерки,
заметки, зарисовки Виталия Петровича Бардадыма об историческом
прошлом Кубани и Краснодара, об известных деятелях науки и культуры,
побывавших на Кубани (рукописи с авторскими правками, газетные и
журнальные варианты). Рукописи отдельных глав из книги В.П. Бардадыма
«Этюды о прошлом и настоящем Краснодара» (первоначальное название
«Старые открытки»), предисловие к ней писателя В.И. Лихоносова и отзыв
журналиста В.Г. Филимонова. Книга В.П. Бардадыма «Театральный листок»
(первоначальный и издательский варианты), предисловие к ней народного
артиста СССР М.А. Куликовского.
Сборник стихов В.П. Бардадыма «Лик земли» (машинописные
экземпляры с авторскими правками), его стихи, опубликованные в сборниках
и в периодической печати. Детские стихи и рассказы Варвары Петровны
Бардадым (супруги В.П. Бардадыма). Письмо В.П. Бардадыма в отдел
культуры Краснодарского крайисполкома с предложением о возрождении
Пушкинской аллеи в парке им. М. Горького.
Письма В.П. Бардадыму от издательств, коллег по литературной и
краеведческой работе, друзей и знакомых, письмо из Краснодарского
краевого совета Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК). Приветственные адреса и почетные грамоты В.П.
Бардадыму от общественных организаций.
Пригласительные билеты и программы В.П. Бардадыму на творческие и
тематические вечера. Фотографии: учащихся 6-го класса Екатеринодарского
женского епархиального училища; 25-го выпуска учащихся 1-й
Екатеринодарской мужской гимназии им. городского головы В.С. Климова.
Автобиографические заметки В.П. Бардадыма (ответы на вопросы),
фотографии. Книги Виталия Бардадыма «Венок сонетов» и Варвары
Петровны Бардадым «Ванькины проблемы».
И сегодня, мы, архивисты, надеемся, что те духовные сокровища
народной памяти, которые всю жизнь собирал Виталий Петрович Бардадым,
будут переданы на вечное хранение в Крайгосархив, и в этом нам помогут
его близкие и родные: Варвара Петровна Бардадым и Наталья Семеновна
Шиян.
Примечания
1. Большая кубанская энциклопедия. Биографический энциклопедический
словарь. Краснодар, 2005. С. 28.
2. Бардадым В.П. Под небом Родным. Краснодар, 2011. С. 260–261.
Л. Г. Орѐл
«Приезжайте, наговоримся вдоволь...»:
из истории взаимоотношений В. П. Бардадыма и В. Н. Орла
Когда в 1987 году не стало моего супруга В. Н. Орла, Виталий Петрович
Бардадым, одним из первых написал мне в Украину, где последние годы мы
жили и где похоронен Василий Николаевич, следующие прочувствованные
слова:
«Уважаемая Лариса Гавриловна!
Вот теперь и я решил обратиться к Вам с просьбой, чтобы Вы помогли
создать в Краснодарском городском архиве «Фонд Василия Орла», человека,
который заслуживает и благодарности и доброй памяти. К сожалению,
последние годы – не по своей вине – я с В. Н. не переписывался, но вопрос
сейчас в другом –о создании в Краснодаре Фонда краеведа, который, можно
сказать без преувеличения, всю жизнь свою отдал прославлению родного
края, возрождению его богатой истории и ее забытых прекрасных деятелей, к
которым мы должны ныне причислить и Василия Николаевича... Возможно,
Вам сейчас не до этого, но следует подумать и о том, чтобы ценная работа
Вашего мужа продолжала жить и служить людям.
С ув. В. Бардадым» [1].
Я думаю, что оценка, которую он дал В. Н. Орлу, в полной мере
относится и к самому Виталию Петровичу, который также всю свою жизнь
отдал служению Кубани, ее людям, прославлению своего родного края,
возрождению его богатейшей истории. Он, как и Василий Николаевич,
постоянно был в поиске и еще при жизни сумел воплотить свои находки в
многочисленных статьях и книгах.
Их дружба, личное общение, переписка их носила деловой, творческий
характер. Они обменивались полезной информацией. Василий Николаевич
помогал Бардадыму советами, материалами, когда Виталий Петрович, по
существу, только начинал свою литературную деятельность. Особенно его
интересовала личность Я. Г. Кухаренко. Его творчеством Орел
заинтересовался еще с начала 1960-х годов и верен был этой теме до конца
жизни, сумел увлечь ею своего более молодого коллегу.
В одном из писем Орлу Бардадым писал: «Спасибо за сообщение о
семье Я.Г. Кухаренко. Еще вопрос: какое участие принимали дети его
(сыновья Александр, Степан и Николай) в издании произведений отца (Киев,
1880).
Посылаю Вам ответ на Ваш запрос о «Новой заре». Книга моя «Этюды о
прошлом и настоящем Краснодара» в наборе. Обещают в начале следующего
года издать...» [2].
В письме от 28 апреля 1979 года Бардадым делится с Орлом радостью,
что на Кубани начинают поворачиваться лицом к своей истории, к ее
культуре и нравственности.
«Дорогой друже, Василий Николаевич! Вашы листы до мене и листы
Кухаренко получил в целости. Жаль, что их я не имел под рукой прежде,
когда писал о дружбе Т. Г. Шевченко с нашим великим, сердечным и ученым
Черноморцем.
Радио хочет обменяться передачей с Киевом. Альманах обещает дать
очерк к 180-летнему юбилею Я. Г. Кухаренко и опубликовать «Вороного
коня». Словом, лед в отношении к этому великому военному и
литературному деятелю сдвинулся и подмял (охота, чтоб окончательно) всех
тех идолов, которые душили кубанскую культуру, историю и нравственность
кубанцев.
Я Вам писал, что начался хороший период в культурной жизни Кубани и
в этом немалая заслуга и Ваша, Василий Николаевич, ибо Вы первый
подставили свой горб и трудитесь, чтобы кубанцы-хлеборобы и воины имели
свою историю, свою неповторимую культуру (как часть общей культуры
России Великой).
Рад за Ваши успехи. Приезжайте, наговоримся вдоволь, поработаем в
архиве!.. Беда в том, что таких увлеченных в своей работе людей, как Вы,
мой добрый казак, раз-два и обчелся».
Далее, на предложение В. Н. Орла прислать «Шевченковский словарь»,
В. П. Бардадым пишет: «У меня есть, прислал мне мой любимый дружок
юности с Полтавщины. Он, добрая, милая душа, к маю нынешнему прислал
«Кобзаря» издания 1889 г. и изд. 1966 г., да еще и консервов рыбных и
сгущенки натолкал в посылку. Есть же прекрасные души на свете! А тут и от
вас пришли «лысты», столь нужные и интересные, дай Бог Вам здоровья и
Вашей семье, успехов в исследовательской работе и счастья <...> Сейчас я
читаю и заражаюсь поэзией и юмором дивных людей, живших некогда на
нашей земле. А какая талантливая вещь «Черноморский побит».
И в заключение письма В. П. Бардадым делится с коллегой, над чем он
сейчас трудится: «Закончил одну рукопись – «Ратная доблесть кубанцев» (от
Суворова до 1905 г.). Надеюсь, – пишет он с юмором, – кто-нибудь пожалеет
хлопца юного» [3].
Как-то Бардадым упрекнул Орла в том, что он уехал с Кубани, потому
что, находясь здесь, мог бы еще больше принести пользы своей родине.
Орел, горячо и страстно любивший свою Кубань, отвечал: «Где бы я ни жил
и где бы ни находился, я всегда стоял и стою на позиции огромной любви к
истории той земли, которая меня породила. И пока будет биться мое сердце,
а рука держать перо, я останусь кубанцем» [4]. И это не пустые слова. Орел
всю свою жизнь был верен Кубани – об этом говорит все его творчество.
1 сентября 1988 года в культурной жизни Краснодара произошло важное
событие – открытие Литературного музея Кубани в доме первого кубанского
писателя Я.Г. Кухаренко. К этому большому событию жители города шли
долгие десятилетия. Писатели, ученые, краеведы вели борьбу за сохранение
дома Якова Герасимовича Кухаренко как исторического памятника и
открытие в нем музея, в котором в то время жили люди. Одновременно были
собраны экспонаты для будущего музея, писались обращения в
соответствующие инстанции с просьбой ускорить передачу дома музею-
заповеднику им Е. Д. Фелицына. И конечно, ни В. Н. Орел, ни В. П.
Бардадым не остались в стороне.
Василий Николаевич еще в 1964 году, в канун 165-летия со дня
рождения Я.Г. Кухаренко, поднял вопрос об открытии музея в его доме и
увековечения памяти писателя. С этим предложением он обратился к
секретарю Краснодарского сельского производственного крайкома КПСС
тов. А.С. Дмитруку. «В Краснодаре в старом дворе пединститута сохранился
дом Кухаренко, – писал он. Почему бы там не открыть литературный музей?
Собрать там все, что относится не только к жизни и творчеству Кухаренко,
но и к кубанской старине, и к литературе от Кухаренко до наших дней» [5].
В. П. Бардадым впервые в 1975 году написал в кубанской прессе:
«Проходя мимо старинного рубленного дубового дома, я каждый раз думаю:
как хорошо было бы в нем устроить литературный музей, хотя бы на
общественных началах... И возможно, недалек тот день, когда старинный дом
гостеприимно распахнет двери как музей и обретет свою вторую жизнь –
жизнь полезную, вечную». Потом была большая переписка по этому вопросу,
споры, опасения, надежды.
История создания и открытия музея была изучена и освещена в
выступлениях Е.Н. Неподобы [6] и Л.Г. Орел [7] на IV Кухаренковских
чтениях, состоявшихся в стенах музея. Показана большая роль
общественности в этом вопросе, в том числе В.Н. Орла и В.П. Бардадыма.
Я знала Виталия Петровича еще в 60–70-е годы прошлого столетия,
встречались с ним в Краснодаре во время приездов Василия Николаевича, в
основном для работы в государственном архиве. Это был очень живой,
любознательный, доброжелательный человек.
После переезда в Краснодар из-за его болезни мне не удалось с ним
встретиться, но моему звонку он явно обрадовался – это чувствовалось по его
тону и заинтересованности в разговоре. Я сказала, что готовится научная
конференция, посвященная 80-летию со дня рождения Василия Николаевича,
и жаль, что он не сможет выступить с воспоминаниями.
Тогда он ответил: «Нет, я хочу сказать о Василии Николаевиче, а Вы,
если будете выступать, обязательно вставьте мои слова». Отрывок этой
беседы помещен в сборнике материалов конференции в раздел «Из
воспоминаний и высказываний о В.Н. Орле» [8]. Сборник я ему потом
подарила, как и книгу В. Орла «В поисках истины», в которой помещены два
адресованных ему письма [9].
Привожу его высказывание дословно: «Я очень любил Василия
Николаевича. Это был человек широкой большой души. Он много давал
информации, подсказывал темы. Он не копил для себя. Он жил для общества.
Он трудом своим прославил себя, не замыкался на одной теме, писал о
Шевченко, Кухаренко, Мове, Хетагурове и других. Много помогал мне в
работе. У вас есть моя первая книга ―Этюды о прошлом и настоящем
Краснодара‖. Я подарил ее Василию Николаевичу (надпись в книге:
«Кубанцу Василию Орлу с пожеланиями полета в жизни и в
литературоведческо-краеведческих разысканиях. В. Бардадым. 22 декабря
1978 года»). Как я тогда радовался ее выходу!
Я храню переписку с Василием Николаевичем. Часть сдал в краевой
госархив в свой фонд. Я помню наши встречи на улице Казачьей у его тещи и
тестя – прекрасной души человека. Помню их гостеприимство,
замечательные вареники, которые подавала ваша мама. Было хорошее,
доброе общение.
Очень хорошо, что вы перевезли архив Василия Николаевича на Кубань.
Он любил и много делал для Кубани и здесь – место его трудам.
15. 09. 2007 года».
Давайте сохраним память о Виталии Петровиче Бардадыме – писателе,
поэте, неутомимом исследователе, краеведе, гражданине и добром человеке.
Примечания
1. Письмо В.П. Барадыма В. Н. Орлу от 2 декабря 1987 г. (Личный архив В.Н. Орла)
2. Письмо В.П. Барадыма В.Н. Орлу от 8 октября 1977 г. (там же).
3. Письмо В.П. Барадыма В.Н. Орлу от 28 апреля 1979 (там же).
4. Письмо В.Н. Орла В.П. Бардадыму от 2 февраля 1979 г. (там же).
5. Письмо В.Н. Орла секретарю краснодарского сельского производственного
крайкома КПСС А.С. Дмитруку, 1964 г. (личный архив В.Н. Орла).
6. Неподоба Е. Н. «Литературный музей – затея добрая...» // Четвертые
Кухаренковские чтения. Сб. материалов. Краснодар, 2010. С. 53–61.
7. Орел Л.Г. «Помогите там славному наказному атаману Кухаренко...» (К истории
создания литературного музея Кубани) // Четвертые Кухаренковские чтения. Сб.
материалов. Краснодар, 2010. С. 61–67.
8. Историко-культурное наследие Кубани и научно-исследовательская деятельность
В. Н. Орла (К 80-летию со дня рождения). Сборник материалов краевой научной
конференции. Краснодар, 2008. С. 119–120.
9. Орел В. Н. В поисках истины / сост. Л. Г. Орел, под науч. ред. проф. В.К.
Чумаченко. Краснодар, 2006. С. 254–256.
В.В. Винокуров
Бриньковская и казачий род Бардадымов
Небольшая станица Бриньковская привольно раскинулась по берегам
реки Бейсуг и Бейсугского лимана. Станица была образована в 1855 г., путем
отделения от Новоджерелиевской, до которой напрямую около 33-х верст.
Связывавшая их дорога пересекала небольшую степную речку Сенгели, воды
которой в середине XIX в. поили скот в более сотне казачьих хуторов, один
из которых принадлежал предкам Виталия Петровича Бардадыма. Об этом
рассказал список хуторов станицы Новоджерелиевской за 1859 г., где среди
владельцев хуторов значился протоиерей Бардадымов [1].
Пробежала мысль, «А не Виталия ли Бардадыма это предки? Да не
может быть!» Однако казалось, что именно в Новоджерелиевской
находилось родовое гнездо священнослужителей Бардадымов. Однако я
забегаю вперед.
Для нас, работников музея станицы Бриньковской, заочное знакомство с
писателем состоялось в июле 2010 года, когда на главу администрации
станицы Бриньковской пришло от писателя письмо. Каково же было наше
удивление, когда мы ознакомились с его содержанием: «С 1874 по 1888 годы
мой прадед, священник Кассиан Бардадымов, служил в Георгиевской церкви,
преподавал Закон Божий в станичном училище» – сообщал он. «50 лет (в XX
веке) работала учительницей в школе, моя родная тетушка Елизавета
Афанасьевна Бардадымова (в замужестве Сипченко). В станице родился и
учился мой отец, Петр Афанасьевич Бардадым (р. в 1896 г.)».
Далее он просил сообщить ему, нет ли в музее каких-либо сведений о
его роде, а так же фотографий Георгиевской церкви и Бриньковского
училища».
Проведенное исследование поставленных перед нами вопросов, удивило
своими результатами. Фотоснимков Георгиевской церкви в музее и в станице
не нашлось, по всей видимости, найти их уже не представится возможным.
Эта деревянная церковь была построена к 1859 г., а в 1937 г. разрушена,
вместе с более новой, из белого камня, Покровской.
Прадед краеведа Касьян Георгиевич Бардадымов родился в 1826 г. в
станице Новоджерелиевской. В 1853–1874 гг. служил священником
Новодеревянковской станице, с 1874 по 1888 год, о. Касьян служил
священником Георгиевской церкви в станице Бриньковской. Это
подтверждают записи в метрических книгах. Почерк у него был мелкий,
каллиграфический. В 1888 г., есть запись о том, что 11 августа в возрасте 62
лет умер священник Касьян Георгиевич Бардадымов, а 13 августа погребен
[2].
В 80-х годах уже XX века при строительстве школьной котельной и
теплотрассы от нее, экскаватором было нарушено захоронение священника,
об этом говорило своеобразное одеяние, найденное при нем. Старожилы
припомнили тогда, что на этом месте стояла когда-то Георгиевская церковь,
а умерших священников по обычаю хоронили в церковной ограде. Может
быть, что обнаруженное при строительстве захоронение, есть захоронение О.
Касьяна?
Дед краеведа Афанасий Касьянович Бардадымов родился 5 июля 1858
или 1859 года в станице Новодеревянковской, где тогда служил его отец. В
1879 году он венчается с 16-ти летней дочерью купца Натальей
Александровной Якунинской. После смерти родителей она проживала в
Бриньковской. Известно о рождении, как минимум, семерых детей, которые
все родились в Бриньковской. Елизавета родилась 06.03 1882, умерла 22.06.
1971. В замужестве Сипченко. Длительное время работала учительницей в
станице Бриньковской. Старики еще помнят, то место, где находился ее дом.
Похоронена в ст. Бриньковской, где на кладбище сохранилась ее могила [3].
Вера родилась 20.09. 1885 умерла 03. 1973. Ее захоронили рядом с сестрой
Елизаветой [4]. Григорий – родился 23.01. 1888 г., умер 07.07. 1957,
Похоронен в Краснодаре. Зинаида – родилась в 1891 году, умерла в 1921 г.
Иван – родился в 1886 г. Умер в 3-х летнем возрасте. Петр, отец писателя –
родился в 04.05. 1896 так же в Бриньковской. Родители, урядник ст.
Новоджерелиевской Афанасий Касьянович Бардадымов и его законная жена
Наталья Александровна. Крестными (восприемниками) были: казак ст.
Бриньковской Игнат Иванович Авраменко и дочь пономаря ст.
Новоджерелиевской Елизавета Васильевна Бардадымова [5]. Таисия –
родилась 1899 году, умерла 09.01.1981. Похоронена в Краснодаре. Елизавета
Васильевна Бардадымова, родная тетя Афанасия Касьяновича, занимала
должность просфорени в Георгиевской церкви Бриньковской. Стефан
Георгиевич Бардадымов, родной брат Касьяна Бардадымова. Родился в 1840
году в ст. Новоджерелиевской, 1874–1877 гг., был священником
Трехсвятительской церкви станицы Новоджерелиевской. Виталий Петрович
рассказал по телефону, что после смерти жены Стефан оставил священство и
женился вторично. 23 апреля 1879 года у «добровольно оставившего
священство, окончившего курс среднего учебного заведения Стефана
Георгиевич Бардадымова и его молодой жены Феклы Андреевны родилась
дочь Александра. Еѐ восприемниками были: Священник Кассиан Георгиев
Бардадымов и станицы Новоджерелиевской пономаря дочь, девица,
Елизавета Васильева Бардадымова» [6].
В другой метрической книге Георгиевской церкви ст. Бриньковской за
1878 год рукой Касьяна сделана интересная запись. Восприемниками у
дочери отставного войскового старшины ст. Новоджерелиевской
Стояновского были записан «дворянин Стефан Георгиев Бардадымов» [7].
Ох, непростой был брат у Касьяна, скорее всего это бывший офицер,
выслуживший личное дворянство, который потом уходит в священство, а
после смерти первой жены легко его оставляет.
В моей личной краеведческой библиотеке есть 6 книг, написанных
писателем-краеведом (как себя называл) Виталием Петровичем Бардадым.
Последняя из них, «Ратная доблесть кубанцев». Краснодар: 2010» [8] для
меня вдвойне дорога, так как подарена лично писателем. К сожалению, мне с
ним не удалось познакомиться при жизни, да я об этом и не мечтал. Он был
для меня как небожитель, сиял где-то там, в заоблачных высях, читал его
произведения, использовал в своих статьях, восхищаясь глубочайшим
знанием истории Кубани, языком, манерой изложения. Сам Виталий
Петрович, рождается в Приморско-Ахтарске 24 июля 1931 года, куда
отправили его отца с семьей в командировку, о чем сообщает В.Н. Ратушняк
[9].
Примечания
1. Государственный архив (ГАКК). Ф. 249. Оп. 1. Д. 2285. Л. 206–209
2. Архивный отдел Администрации Приморско-Ахтарского района (АОАПА). Отдел
записи актов гражданского состояния. Ф. 158. Оп. 1. Д. 22.
3. Там же. Д. 20.
4. Там же. Д. 21.
5. Там же. Д. 25.
6. Там же. Д.19.
7. Там же. Д.19
8. Бардадым В.П. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар. 2010.
9. Ратушняк В. Рентгенолог и… поэт./Служитель истории Виталий Бардадым /
Архив / Газета «Краснодарские известия». http://www.ki-
gaseta/ru/rubrics/arxiv/2011/7/22/36919/html/ C. 1.
И.В. Наделяева
Дайджест-проект «Моя Роговская в творчестве В.П. Бардадыма».
Волонтеры школьного музея МБОУ СОШ № 15 разработали дайджест –
проект «Моя Роговская в творчестве В.П. Бардадыма». Ребята исследовали
более 20 книг кубанского писателя, выбрали материал по истории станицы
Роговской, а также о людях, деятельность которых множила славу родной
станицы.
Дайджест-проект – это историческое путешествие в прошлое станицы
Роговской, в котором даются выдержки из очерков В.П. Бардадыма,
дополнительная историческая справка о том или ином событии. Проект
дополняет библиографический указатель (название источника, страница, год
издания). Свой проект школьники оформили в виде буклета, распространив
среди библиотек Роговского сельского поселения. Волонтеры школьного
музея «Светоч» справедливо считают, что их проект поможет любому
желающему более углубленно узнать историю родной станицы через
знакомство с творчеством замечательного писателя Виталия Бардадыма.
Предлагаю выдержки дайджест-проекта «Моя Роговская в творчестве
В.П. Бардадыма».
Древняя история станицы Роговской.
«5 июля 1895 года газета «Кубанские областные ведомости» дала
информацию о том, что Императорская археологическая комиссия
заинтересовалась курганами Кубанской области и для их раскопок
командировала профессора Петербургского университета Николая
Ивановича Веселовского. В 1912 году профессор исследует курганы станиц
Роговской, Марьянской и в юрте станицы Тульской» [1].
Работая в станице Роговской, Николай Иванович произвел раскопки
древнего захоронения эпохи бронзы. Были найдены останки человека,
лежащего на боку и обсыпанного порошкообразной охрой красного цвета.
Данный курган расположен в районе школы № 21, где до сих пор можно
увидеть последствия деятельности археолога – разрез в центре кургана.
Начало переселения на Кубань.
«Началось переселение казаков из-за Буга на дарованную землю –
Кубань. Кавалерию, пехоту и войсковой обоз возглавил Захарий Чепега.
Ранняя дождливая осень того года заставила переселенцев остановиться на
зимовку на Ейской косе, где был хороший подножный корм для лошадей,
камыши для обогрева хижин и рыба для пищи» [2].
Вместе с З.А. Чепегой на Ейской косе остановились и казаки Рогивского
куреня. Первоначально, согласно жеребьевке в 1794 году, выпало нашим
дедам поселиться на берегу реки Кубани, в районе Черкесского кута. Время
было неспокойное. Из-за постоянных набегов горцев Рогивский курень так и
не успел обжиться: многие были убиты или взяты в плен. И тогда наши
предки обратились с просьбой к войсковому атаману разрешить им
переселиться на новое место – по левому берегу реки Кирпили, что и
произошло в 1807 году.
История станицы Роговской первой половины XIX века.
«За несколько лет Кирилл Васильевич Россинский насобирал десятки
тысяч рублей. В 1812 году он открыл церковноприходские училища в
станицах Таманской, Щербиновской и Брюховецкой, в 1815-м – в
Гривенской, в 1817-м – в Роговской и Темрюкской» [3].
Кирилл Васильевич Россинский – первый кубанский просветитель,
стоял у истоков школьного образования в станице Роговской.
Местонахождение первой школы неизвестно, а история средней школы
насчитывает 113 лет (год основания 1898)! Сначала это было церковно-
приходское Николаевское училище, затем школа была в первой половине ХХ
века преобразована в школу 2-ой ступени имени Герцена. В 1937 наша школа
стала средней и носила номер 1, т.к. станица Роговская была районным
центром. Впоследствии реорганизаций школа получила новый номер 15,
который и сохраняется за ней до сих пор.
11 декабря 1848 года Государь Император Николай I подписал Указ об
учреждении женской обители при Черноморском казачьем Войске. И в
следующем году, 21 сентября, в день Св. Димитрия, митрополита
Ростовского, эта монашеская пустынь, размещенная на 300 десятинах
удобной земли на левом берегу реки Кирпили (между станицами Роговской и
Тимашевской), была открыта. Названа она Марие-Магдалиновской (или
Мариинской) в честь Государыни Императрицы Марии Александровны,
супруги Государя [4].
«Велика заслуга Григория Антоновича Рашпиля в создании Марие-
Магдалиновской женской пустыни, где находили себе последнее пристанище
одинокие вдовы и престарелые казачки. А случилось это так. Однажды в
большой престольный праздник явилась к нему депутация во главе с его
супругой Каролиной Адамовной и монахинями, и всем миром стали просить
о помощи. И атаман сказал: «Быть монастырю!». И, действительно, вскоре,
21 сентября 1849 года, была открыта на левом берегу Кирпилей, между
станицами Роговской и Тимашевской, Черноморская женская пустынь с ее
златоверхими храмами и богатой ризницей» [5].
История Православной Церкви в станице Роговской неразрывно связана
с историей женского монастыря, основанного в 1849 году. Монастырь играл
большую роль в духовной, экономической и политической жизни станицы.
Насельницами монастыря становились роговские казачки. Роговчане
получали здесь работу, монастырские благотворительные обеды славились
на всю округу. До сих пор на местном кладбище сохранились могилы
монахинь, похороненных сто лет назад, за которыми ухаживают
родственники, а так же монахини возрожденного монастыря Святой Марии
Магдалины.
История станицы Роговской в первой половине ХХ века.
«В июле 1902 года место архивариуса в Войсковом архиве занял
подъесаул Иван Иванович Кияшко. Этот человек замечателен своим
страстным увлечением историей родного края, где родился, вырос и служил
ему до последнего дня жизни. И.И.Кияшко тщательно изучал документы и
копил сведения по различным вопросам кубанской жизни. В 1911 году
вышел в печать его труд «Именной список генералам, штаб- и обер-
офицерам, старшинам, нижним чинам и жителям Кубанского казачьего
войска (бывшего Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск),
убитым, умершим от ран и без вести пропавшим в сражениях, стычках и
перестрелках с 1788 по 1908 г.»» [6].
В своем замечательном труде Иван Иванович Кияшко указывает чин,
имя, фамилию роговских казаков, погибших в войнах с 1788 по 1908 гг, к
какой строевой части принадлежали погибшие, когда и в каком деле были
убиты. Благодаря И.И. Кияшко мы можем узнать 126 фамилий роговчан,
погибших за свою Родину.
«Кирилл Трофимович Живило – неугомонный общественный деятель.
Он понимает, что родная земля его бесценна, но нет на ней настоящего,
разумного хозяина: люди живут бедно, сельское хозяйство отсталое, нет
хороших дорог, нет путей сообщения и связи с внешним миром, с большой
Россией. И кубанский патриот берется за сложнейшую техническую и
практическую задачу – за постройку Черноморско-Кубанской железной
дороги, которая должна была соединить 50 крупных поселений и районы
края с населением в 500 тысяч человек.
В 1910 году было основано общество Черноморско-Кубанской железной
дороги, которое сразу же начало строить ветку Екатеринодар – Тимашевская
– Ахтари [7].
Весной 1913 года был введен в строй первый участок железно-
дорожного пути – Екатеринодар – Тимашевская» [8].
В народе железную дорогу называли не иначе как «царская», так как
считалось, что строительство началось благодаря роговским (и не только им)
казакам, служивших в Его Величества Конвое в Санкт-Петербурге. Казаки
рассказывали Государю об азовских лиманах, хороших для охоты на
водоплавающую дичь. Строительство дороги началось, но Государю не было
суждено побывать в наших местах, так как началась Первая мировая война, и
стало не до охоты.
Поисковиками школы №15 в 2007 г. на х. Некрасова Роговского
сельского поселения, мимо которого проходит железнодорожная ветка, был
найден рельс, датированный 1912 г. Чудом сохранилось немое свидетельство
начала промышленной индустриализации Кубани двадцатого столетия.
«В доме архитектора Александра Андреевича Козлова на
Посполитакинской частым гостем был художник Р.И. Колесников,
основатель картинной галереи Ф.А. Коваленко. «После 1920 года Александр
Андреевич строил элеваторы в станицах, – рассказывала жена А.А. Козлова
Екатерина Николаевна. – Помню, около станицы Роговской» [9].
Судьба элеватора, построенного знаменитым архитектором, оказалась
трагичной, как и судьба самой Кубани в период Великой Отечественной
войны. Перед началом немецко-фашистской оккупации в августе 1942 г.
станицы Роговской, местным руководством было принято решение элеватор
и железнодорожный вокзал сжечь. Старожилы до сих пор помнят запах
горелого зерна, распространившегося над округой. Эти строения
впоследствии не были восстановлены, сохранились лишь остатки
фундамента зданий.
Целый очерк посвятил В. Бардадым роговской казачке Елене Чобе,
судьба которой нам известна только из его творчества [10]. Знаменитая
кубанская кавалерист-девица покрыла себя славой на полях сражений в годы
Первой мировой войны, получив два георгиевских креста и четыре медали.
Мои ученики – это маленькие Колумбы родного края, которые еще
откроют малоизвестные страницы истории малой Родины. Самое главное они
понимают, что вся история великой державы состоит из историй маленьких
неповторимых уголков, таких как родная станица Роговская. А мы – учителя,
краеведы, писатели должны стать для юных Колумбов путеводной звездой,
указывающей путь в мир захватывающей дух героического прошлого родной
Кубани.
Примечания
1. Бардадым В.П. Николай Иванович Веселовский // Бардадым В.П.
Радетели земли кубанской. Краснодар, 1998. С. 65.
2. Бардадым В.П. Захарий Алексеевич Чепега // Бардадым В.П.
Радетели земли кубанской. Краснодар, 1998. С. 79.
3. Бардадым В.П. Просветитель Кубани // Бардадым В.П. Этюды о
Екатеринодаре. Краснодар, 1992. С. 82.
4. Бардадым В.П. Монастырское подворье в Екатеринодаре // Бардадым
В.П. Архитектура Екатеринодара. Краснодар, 2009. С. 270.
5. Бардадым В.П. Григорий Антонович Рашпиль // Бардадым В.П.
Атаманы. Краснодар, 2009. С. 134.
6. Бардадым В.П. Архивариус Иван Кияшко // Бардадым В.П.
Кубанские портреты. Краснодар, 1999. С. 211, 1999.
7. Бардадым В.П. Мосты и виадуки // Бардадым В.П. Этюды о прошлом
и настоящем Краснодара. Краснодар, 1978. С. 52.
8. Бардадым В.П. Сын земли своей // Бардадым В.П. Этюды о
Екатеринодаре. Краснодар, 1992. С. 90–92.
9. Бардадым В.П. Дом с розой // Бардадым В.П. . Этюды о
Екатеринодаре. Краснодар, 1992. С. 109.
10. Бардадым В.П. Кубанская кавалерист-девица // Бардадым В.П.
Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1993. С. 129–134.
А.Г. Шеремет
Жизнь и творчество В.П. Бардадыма
в истории Брюховецкого района
Исследовательская деятельность В.П. Бардадыма для краеведов,
преподавателей дисциплины «Кубановедение» и всех, кто интересуется
историей родного края, кладезь знаний. Его имя заслуженно ставят в один
ряд с такими известными кубанскими историками, как Ф.А. Щербина, Е.Д.
Фелицын, И.Д. Попка.
Интересно, что дальние родственники Виталия Петровича Бардадыма,
проживали в станице Новоджерелиевской. Один из них служил священником
в станичной Трех-Святительской церкви. Его отец [1] был уроженцем
станицы Бриньковской, но числился казаком станицы Новоджерелиевской.
В многочисленных его произведениях (краеведческих и исторических
очерках, стихах и художественных произведениях) встречаются
интереснейшие сведения по истории населенных пунктов Брюховецкого
района.
Из сборников: краеведческие очерки «Радетели земли кубанской» [2] и
исторические очерки «Священные камни», [3] – мы узнаем, что школу для
иногородних в станице Брюховецкой строил екатеринодарский архитектор
Иван Климентьевич Мальгерб. Деньги, в сумме 25 тысяч рублей, на
строительство завещал купец ейской гильдии, проживавший в станице
Брюховецкой, Иван Васильевич Игнатов [4]. Жена И.В. Игнатова и его дети
волю купца исполнили и в 1904 году было выстроено прекрасное
одноэтажное здание школы. На постройку было расходовано всего 10900
рублей. На остальные деньги были приобретены – школьная обстановка и
учебные пособия. Остались деньги и на содержание учителя. Здание школы
сохранилось и сегодня в нѐм размещается детское отделение больницы.
Среди купцов-благотворителей в Кубанской области был и
екатеринославской 2-й гильдии купец Василий Михайлович Викторов.
Много лет он был почетным блюстителем двухклассного министерского
училища в станице Брюховецкой. В это время он жертвовал много денежных
средств на содержание учебного заведения, а также материально помогал
малоимущим ученикам. В.М. Викторов по завещанию оставил на постройку
в станице двухэтажного кирпичного здания ремесленного училища 70 тысяч
рублей. Здание было построено в 1909–1910 годах и носило до революции
его имя. Сегодня это корпус №1 аграрного колледжа.
В своих исторических очерках «Здание мещанской управы» и «Казак
Кочевский – борец за Свободу» [5] В.П. Бардадым рассказывает о Никифоре
Григорьевиче Кочевском, который оставил о себе добрую память не только в
станице Брюховецкой, но и в станице Новокорсунской, где родился, в
станице Старощербиновской, где учительствовал, а также в Екатеринодаре,
где работал в Кубанском областном правлении, в Думе и в Городской
Управе. В станице Брюховецкой Н.Г. Кочевский не только учительствовал,
но и дважды избирался станичным атаманом на трехлетие (1894–1900 годы).
В 1906 году в Екатеринодаре Н.Г. Кочевский был избран депутатом в 1-ю
Государственную Думу.
Из краеведческого очерка «Первые врачеватели» [6] мы узнаем, что
после посещения в 1847 году Николаем Ивановичем Пироговым кавказских
и кубанских госпиталей Черноморская врачебная управа возбудила перед
исправляющим должность Наказного Атамана Черноморского казачьего
войска генерал-майором Г.А. Рашпилем ходатайство о местной подготовке
среднего медицинского персонала и об открытии фельдшерской школы при
Екатеринодарском госпитале. В трех округах было выбрано по два
«грамотных мальчика» и они были зачислены в фельдшерские ученики. Из
станицы Брюховецкой в этой школе учились Савва Шевель и Поликарп
Деденко. Занятия продолжались более трех лет и в мае 1851 года ученики
приступили к самостоятельной работе.
Писал В.П. Бардадым и о художниках [7]. Так мы узнаем, что в
Екатеринодаре в начале 50-х годов XIX века жил и работал войсковым
художником 43-летний Яков Федорович Вовк, казак Новоджерелиевского
куреня.
В книге В.П. Бардадыма «Этюды о Екатеринодаре» [8] мы может
почерпнуть сведения о начале строительства первого мужского монастыря на
Лебяжьем лимане, о талантливом, образованном человеке – Кирилле
Васильевиче Россинском. Он, войсковой протоиерей, имевший
священнический сан, всю недолгую жизнь посвятил благородному делу –
просвещению казачества. Благодаря К.В. Россинскому в 1812 году в станице
Брюховецкой было открыто первое церковноприходское училище.
Красочно, основываясь на архивных документах, проведено В.П.
Бардадымом исследование жизненного пути Кирилла Трофимовича Живило,
который родился 30 января 1854 года в семье рядового казака станицы
Переясловской. Оставшись сиротой, К.Т. Живило рано начал свою трудовую
деятельность. После окончания церковноприходской школы, поступил на
действительную военную службу в войсковой певчий хор и дослужился до
чина урядника в пятнадцать лет. Окончив Кубанскую учительскую
семинарию (в станице Ладожской), работал учителем. Затем обнаружил
интерес к садоводству и сельскому хозяйству и в степной, голой станице
Расшеватской у него появился прекрасный сад. Он обучал старших
школьников землемерному искусству, организовывал ученические
библиотеки, вечерние занятия, чтения с волшебным фонарем. В 1889 году
его педагогическая деятельность получает признание и К.Т. Живило
награждается серебряной медалью за усердие. Однако он жаждал широкой
общественной деятельности и поэтому переехал в Екатеринодар. Какими
только общественными делами не занимался К.Т. Живило: работал в
войсковой канцелярии, в областном правлении, в статистическом комитете.
Был секретарем Кубанского экономического общества и первым
заведующим Кубанским войсковым этнографическим и естественно-
историческим музеем. С 1910 года К.Т. Живило был издателем и редактором
еженедельного журнала «Сельское хозяйство на Кубани» и он же основал
опытно-показательное хозяйство. Неугомонный общественный деятель
берется за постройку Черноморско-Кубанской железной дороги, которая
должна была соединить богатые хлеборобные станицы Кубани с портами
Азовского и Черного морей. Это по инициативе К.Т. Живило 29 июня 1909
года в станице Брюховецкой собрались представители станиц, и приняли
решение о строительстве железной дороги, которая должна была соединить
50 крупных населенных пунктов.
Вот краткий перечень исторических фактов и сведений о выдающихся
деятелях, уроженцев Брюховецкого района, которые мы можем почерпнуть в
книгах В.П. Бардадыма, краеведа, члена Союза писателей России, лауреата
премии имени К.В. Россинского.
Примечания
1. Письмо В.П. Бардадыма директору Новоджерелиевского историко-
археологического музея Д.Г. Дворникову от 3 сентября 1993 года. Архив музея.
2. Бардадым В.П. Радетели земли кубанской: Краеведческие очерки. Краснодар,
1986. С. 144.
3. Бардадым В.П. Священные камни: исторические очерки. Краснодар, 2007. С. 41–
44.
4. Игнатов И.В. умер в 1900 году. В его доме, построенном в 1897/1898 годах, в
настоящее время размещается историко-краеведческий музей Брюховецкого сельского
поселения. Сотрудники музея приходят к выводу, что этот жилой дом также вероятно
был построен И.К. Мальгербом.
5. Бардадым В.П. Священные камни: исторические очерки. Краснодар, 2007. С. 58–
67.
6. Бардадым В.П. Кубанские арабески: краеведческие очерки. Краснодар, 2000. С.
61–63.
7. Бардадым В.П. Кисть и резец. Художники на Кубани. Краснодар, 2003. С. 3–6.
8. Бардадым В.П. Этюды о Екатеринодаре. Краснодар, 1992. С. 36, 81–82, 88–92.
П.В. Новиков
Редкий памятник античной глиптики
из раскопок Старокорсунского могильника
В течение нескольких лет, начиная с 1986 года, экспедиция КГИАМЗ
им. Е.Д. Фелицына под руководством А.В. Кондрашева проводила раскопки
крупного меотского грунтового могильника в р-не станицы Старокорсунской
(автор благодарит А.В. Кондрашева за разрешение использовать материалы
для статьи). В результате было обнаружено и исследовано более пятисот
погребений. В 1990 году в могиле под номером 396 был найден предмет,
которому и посвящена данная статья.
Само погребение представляло собой захоронение ребенка на глубине
1,5 м от поверхности, совершенное на спине, головой на запад (Рис. 1, 2).
Инвентарь состоял из сильно фрагментированной сероглиняной кружальной
чашечки, фрагмента железного предмета неправильной формы и неясного
назначения, а также различных бус, найденных в районе шеи [1]. Среди бус
находились две пронизи. Одна из них, уплощенная, округлая в плане,
диаметром 1 см, из глухого светло-зеленого стекла; в центре – двустороннее
изображение личины глухого желтого стекла, окаймленное красной нитью.
По этой пронизи, относящейся к широко известной продукции
александрийских мастерских, погребение можно датировать I–II вв. н.э. [2].
Вторая пронизь гораздо более раннего времени представляла собой гемму –
инталию из полупрозрачного камня, предположительно халцедона, светло-
коричневого цвета скарабеоидной формы (КМ – 9700/13), которая возможно
была ранее вставкой в перстень с подвижной дужкой (Рис. 3–5). Одна
сторона выпуклая, другая – плоская с резным изображение сцены схватки
человека с нападающим хищником. Размер 2,2 х 1,6 х 1,0 см [3].
Некоторые приемы – фасовое изображения верхней части тела мужчины
и профильной нижней, а также традиционно полусогнутые ноги для
обозначения быстрого движения, говорят о том , что инталия могла быть
изготовлена во времена архаики. Движение лап, изогнутого хвоста хищника
и даже условное изображение его морды – все также подчинено законам
«эвритмии», обязательным в ту эпоху и для строителя храма, и для ваятеля
куроса, и для скромного резчика гемм. Кроме того, характерным признаком
раннего происхождения данной печати, может служить ободок или
обрамление, замыкающее изображение, а также крайняя миниатюрность
самой инталии, что соответствует определенному тяготению мастеров –
виртуозов VI в. до н. э. к мельчайшим , едва уловимым деталям [4].
Первые мастерские архаической эпохи, являющейся одним из
интереснейших этапов в развитии античной глиптики, появляются, по всей
видимости, на островах Эгейского моря. Этому предшествовало время
бурного роста греческих полисов, активной колонизации греков, чьи колонии
– эмпории распространяются на огромной территории от Северной Африки
до берегов Черного моря. Знакомство с древними центрами восточных
культур, непосредственное соседство греков с египтянами, финикийцами,
мидийцами, персами , их способность ассимилировать чужие влияния,
придали архаическому искусству то богатство , полихромность и мажорность
, которые уходят корнями еще в «ориентализирующий стиль» VII в. до н. э.
Но только в рассматриваемый период в античной глиптике начинает
формироваться привычный для восприятия репертуар тематики, основные
стилистические особенности и тот жизнеутверждающий дух, который
присущ и другим видам искусства архаической Греции. В эпической поэзии
и легендах о богах и героях черпали мастера свои сюжеты, изображая Афину,
покровительницу одного из центров Эллады, Геракла, популярного героя
греческих мифов , кентавров, силенов. Порой угловаты и скованы движения
персонажей, условны позы, подобные схеме «коленопреклоненного бега», но
все это искупается виртуозной компоновкой фигур и групп в крошечном
овале геммы.
Композиционно эти изображения были безупречны, так как, у
архаического мастера на первый план выступают важнейшие черты стиля,
придающие логическую ясность изображениям: ритм, симметрия,
равновесие. Художник того времени, избегал всяких ракурсов, отдельные
части фигуры изображались им в простейшем виде: ноги и лицо в профиль, а
грудь спереди, что объясняется условно – отвлеченным характером рисунка,
цель которого – не подражать жизни, а только дать художественный символ
человеческого образа. Очертания имеют ярко выраженную особенность: в
отличие от классического «округления» фигур, контуры состоят из острых,
резко выступающих линий. Как профиль лица выдается остро, так и руки
образуют угловатые линии, а каждый поворот обозначается немногими
точными штрихами. Это настроение сохраняется до конца стиля, условного и
аристократического.
Искусство глиптики в эпоху архаики помимо островов Эгейского моря,
процветало и на территории материковой Греции, а также на Кипре и в
ионийских городах западного побережья Малой Азии. Конечно, очень
многим греки были обязаны своим соседям, но все заимствования
неузнаваемо преображались под резцом эллинских художников. Присущие
им пытливая внимательность к явлениям динамично меняющегося мира и
элементы наивного реализма – это приметы эпохи далекой от консерватизма
и застойности, эпохи , совпавшей с научным освоением мира и экспансией
архаической культуры, охватывающей ойкумену значительно большего
размера, чем доисторическая Греция.
Восток, очарование которого ощутимо в греческом искусстве этого
периода , оказал свое влияние и на форму печатей, характерную для эпохи
архаики. Это скарабей – священный жук египтян, имеющий продольное
отверстие и вращающуюся дужку. Носили его, скорее всего, на запястье, на
шее или у пояса, а также на пальце, когда выполненный из цветного камня,
рельефный жук на золотом кольце служил и практическим целям. Станок для
резьбы, изобретенный по преданию, ионийскими мастерами, позволил
перейти к обработке более твердых пород камней, но не смотря на это,
резчики архаической глиптики употребляли для своих работ довольно
ограниченный набор минералов: это чаще всего темно-зеленая яшма,
характерная для греко-финикийских поселений на Кипре и Пиренейском
полуострове, гематит, а также некоторые разновидности халцедона [5].
Очень скоро заимствованная у египтян и финикийцев форма печати в виде
жука-скарабея перестала удовлетворять греческих мастеров, тем более что в
Элладе восточный священный символ потерял свой религиозный смысл.
Появились псевдоскарабеи и скарабеоиды , печати , у которых выпуклая
спинка оставлена вовсе без резьбы , как и в случае с нашей инталией.
Что касается ее сюжета, то если исходить из того, что религиозные
«табу» того времени, запрещали на перстнях, также, как и на монетах
изображения смертных людей, вероятнее всего на гемме вырезана сцена
первого из двенадцати подвигов Геракла. Как известно, могучий герой,
задушил Немейского или Клеонского льва, наводившего ужас на жителей
города Клеон и всей Немейской долины.
Надо заметить, что в начале устроителями Немейских игр были клеонцы
– с 573 г. до н.э. именно они проводили этот праздник, и лишь с 460 г. до н.э.
честь проведения состязаний перешла к аргосцам [6]. В программе
соревнований главное место отводилось борцовским видам, в чем,
безусловно, отразилось особое почитание культа Геракла. В некоторых
местах, например, на острове Кос, а также в Фивах и Сикионе в его честь
устраивались отдельные праздники – «гераклеи», с его именем связывали и
посвящали ему горячие источники, ветви оливы, плюща и серебристого
тополя, веря в его покровительства здоровью, победоносной силе и
торжествующей справедливости [7].
Ставя вопрос о происхождении столь редкого артефакта, нужно
учитывать то, из чего сделана инталия (а это, скорее всего одна из
разновидностей халцедона), а также ее некоторые стилистические
особенности, указывающие на малоазийское влияние, и исходя из этого,
можно предположить, что изготовлена она была в одном из ионийских
центров или на каком-либо из близлежащих островов Эгеиды [8].
Само появление такого рода вещей в пределах Азиатского и
Европейского Боспора, а также на прилегающей территории заселенной
варварами, связано с началом эллинизации, так как обычай употребления
личной печати был принесен туда греками-колонистами. Это одна из сторон
жизни античного полиса, но если в некрополях Ольвии, Херсонеса и
боспорских городов – Пантикапея, Фанагории, Нимфея, Мирмекия, геммы
являются типом массового археологического материала, то в скифских и
синдских курганах, а также в меотских грунтовых могильниках – это находки
спорадические. Среди варваров гемма и перстень – печать носили чисто
декоративный характер, как и рассматриваемая инталия, которая обрела
вторую жизнь в виде крупной бусины – пронизи на шее меотского ребенка,
через почти семьсот лет после того, как была изготовлена неизвестным
резчиком эпохи архаики.
Рис. 1.Погребение 396. Вид с юго-востока.
(Фото из отчета А.В. Кондрашева)
Рис. 2. Погребение 396 (Илл . Из отчета А.В. Кондрашева )
Рис. 3. Геракл и Немейский лев. VI в. до н. э. Инталия, халцедон.
(Илл. из отчета А.В. Кондрашева)
Рис. 4. Геракл и Немейский лев. VI в. до н. э. Инталия, халцедон.
Увеличено (Илл. из отчета А.В. Кондрашева)
Рис. 5. Геракл и Немейский лев. VI в. до н. э. Инталия, халцедон.
Увеличено (Фото из отчета А.В. Кондрашева)
Примечания
1. Кондрашев А.В. Отчет о проведении раскопок грунтового могильника в ст.
Старокорсунской (Советский район г. Краснодара) в 1990 году. Краснодар, 1991. НА
КГИАМЗ – 494 . С. 8
2. Алексеева Е. М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология
СССР. Свод археологических памятников. Выпуск Г 1–12. М.: Наука, 1982. С. 37, 40–41.
3. Кондрашев А.В. Указ. соч. С. 9.
4. Неверов О. Я. Античные перстни (VI в. до н. э. – IV в. н. э.). Л.,1978. С. 35.
5. Захаров А. А. Геммы и античные перстни Государственного Исторического
музея // Труды Секции археологии Российской академии. Т. III. М., 1928. С. 27.
6. Игры и спорт в античной Греции: Проспект выставки. СПб.,
Государственный Эрмитаж, 1994. С. 15.
7. Там же. С. 18.
8. Максимова М. И. Резные камни. Античные города Северного
Причерноморья // Очерки истории и культуры. Т. I. М.–Л., 1955. С. 438-440 Павлов В.Д. К
вопросу о малоазиатской школе глиптики //Древний мир. М.: Изд-во АН СССР, 1962 . С.
327.
С.Л. Завьялов, А.В. Пьянков
О находке сребреника князя Владимира на территории Таманского
полуострова
В 2007 г. на Таманском полуострове была найдена сребреник Великого
князя Владимира. Монета была приобретена краснодарским
коллекционером, который любезно разрешил изучить и опубликовать этот
интересный экземпляр. У специалистов-нумизматов пока не сложилось
единого мнения о подлинности сребреника [1]. Но у авторов, прежде всего по
состоянию металла подлинность монеты не вызвала сомнений. Ниже дано
описание сребреника.
Монета имеет следы патины светло-серого и светло зеленого цвета.
Кружок пробит в двух местах у края, отверстия расположены друг против
друга. Заметны следы изгибания. Имеется небольшая утрата края и частично
кружка монеты (возможно, в этом месте находилось еще одно отверстие).
Апробирование не проводилось, но по внешним признакам содержание
серебра высокое. Соотношение осей 12 часов. Размеры сребреника – 25х26
мм, вес – 2,47 г. (рис. 1; 2).
Аверс: изображение князя на престоле; в правой руке – крест, левая рука
– на груди. Изображение обрамлено двойным рельефным точечным ободком.
Легенда: «[ВЛАДИМИ]Р НА СТ[О]ЛЕ».
Реверс: рельефное изображение княжеского трезубца: боковые зубцы
широкие, средний тонкий, нижний выступ в виде лепестка. Знак выполнен в
стиле древнерусской вязи. Изображение обрамлено двойным рельефным
точечным ободком. Легенда: «[А СЕ ЕГ]О СРЕБРО».
Публикуемый сребреник, близок отдельными чертами к III-му типу
сребреников Владимира по М.П. Сотниковой [2]. Однако штемпельная пара,
которыми отчеканен данный сребреник, ранее не встречалась. То есть, перед
нами интересный вариант III-го типа сребреников Владимира, вероятно,
выпущенный в начале XI в.
Авторами ранее был опубликован сребреник Святополка также из
находок на Таманском полуострове [3]. Интересно, что монета Святополка
имела два отверстия, как и публикуемый сребреник Владимира. Обе монеты
были использованы как детали какого-то украшения вроде монисто. Это
обстоятельство, а так же то, что находок сребреников на территории
Таманского полуострова зафиксировано только два экземпляра,
напрашивается вывод, что в Тмутаракани древнерусские сребреники не
обращались как деньги. Эта серебряная монета поступала из Киевской Руси в
небольшом количестве, вероятно вместе с русскими людьми, по разным
причинам перемещавшимися между древнерусскими городами и
Тмутараканью. Совершенно очевидно, что сребреники использовались как
материал для изготовления украшений. Вероятно, эти украшения
принадлежали женской части русской общины, обосновавшейся в конце X –
начале XI вв. в городе Тмутаракани или в пределах земель,
контролировавшихся тмутараканским князем.
По непроверенным сведениям на Таманском полуострове были и другие
находки древнерусских сребреников, как целых экземпляров, так и
фрагментов монет, но они остались не зафиксированными.
Примечания
1. Монета была изучена сотрудником Отдела нумизматики ГИМ И.В. Волковым,
признавшим ее подлинной, о чем было выдано «Экспертное заключение» от 2 июня 2008
г. Авторы располагают копией этого документа. В то же время, специалисты Отдела
нумизматики Эрмитажа до ознакомления с оригиналом монеты отнесли ее к категории
«спорная монета» (Электронное письмо Н.С. Моисеенко к А.В. Пьянкову от 03.10.2011
г.).
2. Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X–XI вв. Каталог и исследование.
М., 1995. C. 82–83. Кат. №№ 140–142.
3.Завьялов С.Л, Пьянков А.В. О находках древнерусских монет на территории
Таманского полуострова // Двенадцатая Всероссийская нумизматическая конференция.
Тезисы докладов. М., 2004. С. 132. Рис. 1.
Рисунок 2. Рис. 2. Сребреник Владимира. Таманская находка 2007 г.
Прорисовка.
Зеленский Ю.В.
Тмутороканский князь Мстислав Владимирович и усобица после
смерти Владимира Святославича
Летописный рассказ об усобице после смерти Владимира Святославича
распадается на две части. Сначала повествуется о борьбе за киевский престол
между Святополком и Ярославом Владимировичем, который княжил в
Новгороде. События этой усобицы разворачиваются в 1015–1019 гг. В 1016 г.
Ярослав одержал победу над Святополком у Любеча и занял Киев. На
следующий год Святополк с печенежской помощью попытался захватить
Киев, но не добился успеха. Он бежал в Польшу и с помощью польского
короля Болеслава Храброго в 1018 г. всѐ-таки добился киевского стола.
Ярослав бежал в Новгород, а затем с новогородской ратью вновь победил
Святополка на р. Альте в Переяславской земле.
После того как Ярослав Владимирович в 1019 г. окончательно
вокняжился в Киеве усобица затухает возобновляется в 1023 г. и длится до
1026 г. В этой усобице активно участвовал тмутороканский князь Мстислав
Владимирович.
В 1023 г. Мстислав выступил против Ярослава во главе дружины из
хазар и касогов. В 1024 г. он подошѐл к Киеву, но киевляне его не приняли,
он занял Чернигов, Ярослав в это время был в Суздальской земле, где
подавлял восстание, возглавляемое волхвами. По мнению В.Н. Татищева
Мстислав просил у Ярослава уделы, которыми киевский князь завладел.
Ярослав выделил Мстиславу Муром, но тот остался этим недоволен [1]. В.Я.
Петрухин считает, что Мстислав выступал наследником правителей
хазарского каганата и претендовал на земли, которые в IX – X вв. платили
Хазарскому каганату дань [2]. Н.Ф. Котляр полагает, что Мстислав
претендовал на Киев, так как был старшим сыном Владимира от полоцкой
княжны Рогнеды и старшим братом Ярослава.
Иногда Мстислава называют союзником или преемником Святополка
[3]. Н.Ф. Котляр вообще считает, что на первом этапе борьбы за Киев в 1016
г. у Любеча сражались не Святополк и Ярослав, а Мстислав и Борис. После
этой битвы Борис погиб и в 1017 г. Мстислав боролся уже против Ярослава
[4]. Д.А. Боровков утверждает, что Мстислав не участвовал в усобице 1015–
1019 гг., а был союзником Святополка в 1019–1022 гг. [5]. Д.А. Боровков
вообще считает, что Святополк умер не в 1019 г. как писала «Повесть
временных лет», а в 1022 г. Чернигов, где закрепился Мстислав, в это время
занимал равноправное положение по отношению к Киеву и вместе с Киевом
и Переяславлем являлся одним из политических центров «Русской земли».
Собственно говоря, под «Русской землѐй» летописец имел в виду
совокупность Киевской, Черниговской и Переяславской земель. Момент для
выступления был выбран Мстиславом удачно, так как Ярослав был занят
подавлением мятежа под предводительством волхвов в Суздале. В 1024 г.
произошла битва при Листвене в Черниговской земле. Варяжская дружина
Ярослава Владимировича, которую возглавлял Якун, потерпела полное
поражение. В этом сражении кроме дружины у Мстислава в войске были
черниговцы. Ярослав по традиции, сложившейся ещѐ с времѐн первой
усобицы бежал в Новгород. Л.Н. Гумилѐв считал, что Мстислава подвела
циничная фраза после сражения: «Кто же этому не порадуется? Вот лежит
северянин (черниговец), вот варяг моя же дружина цела». Однако даже если
эту фразу произнѐс Мстислав, а не придумал летописец, ничего циничного в
ней нет. Естественно, что князь больше ценил профессиональных воинов
(дружинников, чем рядовых ополченцев).
Скорее всего, после победы над дружиной Ярослава при Листвене
Мстислав просто проявил благоразумие. Он понимал, что в Киеве ему
удержаться не получится (во-первых, он его ещѐ не занял, а во-вторых,
напомним, что Святополк дважды изгонялся Ярославом из Киева) и
предложил его Ярославу, признав его «старшим братом». Однако Ярослав не
доверяя Мстиславу, не сразу согласился на это предложение и оставался в
Новгороде. Лишь в 1026 г. князья съехались в Городце (непонятно в Городце
у Киева или в Городце Остѐрском) и заключили мир. «Русская земля» была
разделена по Днепру. Мстислав остался княжить в Чернигове, а Ярослав
вернулся в Киев. Кроме «Русской земли» Ярослав закрепил за собой
Новгород.
П.П. Толочко считает, что этот раздел привѐл к началу коллективного
правления («дуумвирату») [6]. Позже историки будут говорить о
складывании «триумвирата» старших Ярославичей Изяслава, Святослава и
Всеволода. В XII в. соправителями в Киеве будут Святослав Всеволодович и
Рюрик Ростиславич, а позже Роман Мстиславич и Рюрик Ростиславич. А.С.
Щавелев предположил, что переговоры Ярослава и Мстислава в Городце
привели к складыванию традиции княжеских снемов (съездов). Наиболее
известными снемами были Любечский 1097 г. и Витичевский 1000 г. С этого
времени укрепляются связи Чернигова с Тмутороканью.
Как уже говорилось власть «дуумвирата» распространялась не только на
Среднее Поднепровье, но и на всю территорию древнерусского государства.
Новгородские посадники носили на шее подвеску со знаками обеих
соправителей [7].
Существует гипотеза о том, что Мстислав учредил в Чернигове
самостоятельную епископию [8] или даже митрополию [9]. Никоновская
летопись писала, что в 1029 г. Ярослав совершил поход против ясов. Если
под ясами понимать северокавказских алан, то с ними должен был
враждовать Мстислав. Л.Н. Гумилѐв даже утверждал, что поход был
совершѐн совместно Ярославом и Мстиславом. Однако этот поход
зафиксирован только в летописных списках XVI в. «Повесть временных лет»
о нѐм молчит. Кроме того ясами могли называть и донских алан. А вот поход
против поляков 1031 г. во время, которого были возвращены Червенские
города, соправители совершили совместно.
Таким образом, мы видим, что Мстислав Владимирович активно
участвовал в политической жизни древнерусского государства во время
междоусобицы после смерти Владимира Святославича, а именно на втором
этапе этой междоусобицы в 1023-1024 гг. А.В. Гадло даже утверждал, что
события 1023-1024 гг. имели место раньше в 1015-1016 гг. [10]
Примечания
1. Татищев В.Н. История Российская. М., 2003. Т. 2. C. 72.
2. Петрухин В.Я. Начало христианства на Руси во второй половине X – первой
половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной
Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002. С. 114
3. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: герменевтические основы
источниковедения летописных текстов. М., 2004. C. 176.
4. Котляр Н.Ф. Князь окаянный? Был ли Святополк убийцей своих братьев
Бориса и Глеба // Родина. №12. 2000. С. 35–39.
5. Боровков Д.А. Тайна гибели Бориса и Глеба. М., 2009. С. 115.
6. Толочко П.П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории.
Киев, 1987. С. 79.
7. Щавелев А.С. К вопросу о первом съезде князей Рюриковичей // Ярослав
Мудрый и его эпоха. М., 2008. С.76–77.
8. Щапов Я.Н. Государство и церковь Древней Руси X–XIII вв. М., 1989. С. 38.
9. Петрухин В.Я. Указ. соч. С.115–116.
10. Гадло А.В. Тмутороканские этюды. III. (Мстислав) // Вестник ЛГУ. Сер. 2.
1990. Вып. 2 (№9). С. 25
С. О. Жупанин
К истории Геленджикского укрепления в 30-е годы XIX в.
Первые русские укрепления на восточном берегу Черного моря
появились задолго до 1839 г. – даты формального основания Черноморской
береговой линии. В 1830 г. десантом с моря были заняты Гагры, а в 1831 г. –
Геленджикская бухта, укрепление в которой по замыслу командования,
должно было стать важным опорным пунктом для контроля побережья
вплоть до границ Абхазии.
Согласно Высочайшему повелению, командующий войсками на
Кавказской линии и в Черномории генерал Емануель, в рапорте от 22 июня
1831 г., предписывал генерал-майору Берхману, начальнику правого фланга
Кавказской линии, возвести укрепление при Геленджикской бухте. Для этого
следовало принять расположенные в Тамани войска, и идти к Анапе, где
погрузить отряд, а также заготовленные там заранее строительные
материалы, на суда для отправления к Геленджику. Необходимо отметить,
что выбор места для новой крепости на берегу моря и ее планировку,
предлагалось провести после высадки десанта «смотря по местоположению и
удобству». Для этих целей к отряду были прикреплены инженер-
подполковник Данилов и топограф Мануйлов [1].
О недостаточной организации данной экспедиции и отсутствии
предварительной топографической съемки местности у предполагаемого
укрепления, свидетельствует и следующее замечание Емануеля отрядному
инженеру Данилову от 22 июня 1831 г.: «…Не получив до сих пор никаких
сведений касательно сего числа гарнизона, чтоб не затруднить Вас, она
[крепость] должна включать в себя не менее тысячи человек пехоты и
восемнадцать орудий и иметь 6-бастионный фронт» [2].
Из внутренних построек предположены были казармы и лазарет.
Отметим, что русское командование предавало вновь возводимой крепости
большое значение – в Геленджикской бухте предполагалось учредить
крупный порт для торговли Черномории с Турцией. Сообщение берегового
укрепления с Черноморией предусматривалось осуществлять посредством
создаваемой тогда же Геленджикской кордонной линии. Ввиду этого, само
укрепление должно было стать мощным военным оплотом. Против
пушечных выстрелов профиль его предписывалось усилить каменной
одеждой, само укрепление разместить на высотах командующих местностью,
а при возможности построить небольшие передовые крепости и водяной ров
со шлюзами [3].
Описанные выше грандиозные планы в указанном году осуществлены
не были, и к началу следующего 1832 г. существовал лишь укрепленный
лагерь десантного отряда, причем располагался он в крайне невыгодном
месте, окруженном высотами. В феврале 1832 г. вновь последовало
Высочайшее повеление об устройстве прочного укрепления в Геленджике, а
также были посланы рабочие для организации каменоломен в бухте и группа
офицеров во главе с полевым инженером Кохом. Последний, по осмотре
местности, нашел наиболее удобной для возведения крепости южную часть
залива [4].
Вероятно, что в 1832 г. дело также не пошло далее разведки местности.
В пользу этого свидетельствует характеристика Геленджикского
«укрепления» Н. Раевским в январе 1840 г.: «Геленджик это не крепость, а
лагерь бригады, которая там расположена на несколько лет. При занятии
Геленджика в 1831 г. лагерь был окружен канавою, вдоль которой сперва
поставлена была засека, потом черновая стенка, в аршин ширины и в 2
аршина высоты. Делая сию ограду, не полагали строить крепость, даже не
было общего предположения лагеря укрепленного, каждый ротный командир
строил стенку по усмотрению напротив своей роты…» [5]. Строения в этом
временном лагере возводились без фундамента, из плохого леса,
располагались без всякого порядка и вскоре пришли в негодность [6].
Положение усугублялось еще и тем, что после 1832 г. стали уменьшать число
войск расположенных в Геленджике, и вместо бригады довели до двух рот,
которым поручили защиту огромной ограды, названной уже крепостью. Это,
в конечном счете, негативно сказалось на и так незначительной
обороноспособности укрепления – люди были утомлены постоянными
караулами и починкой строений и валов.
Начиная с 1836 г., вопрос о Геленджике вновь приобрел прежнюю
остроту. Связано это было, вероятно, с устройством в 1834–1836 гг.
промежуточных укреплений Геленджикской кордонной линии, и планами
командования на создание «прочного заведения» при бухте, что нашло
отражение в ряде проектов 1836–1838 гг., авторами которых являлись
инженер-полковник Баумер, командующий войсками на Кавказской линии и
в Черномории генерал-лейтенант Вельяминов, и генерал-лейтенант Раевский
[7].
Предложения первого из них, произведшего, по поручению корпусного
командира барона Розена, съемку местности у Геленджика, не были
одобрены императором. Инженер-полковник предлагал устроить
оборонительные башни на обеих оконечностях бухты для защиты от
нападения неприятельского флота. Кроме того, место для самой крепости
также было выбрано неудачно – окружено высотами и удалено от источника
воды более чем на ружейный выстрел, снабжение которой гарнизона, в
случае атаки крепости, стало бы затруднительным.
В связи с этим, Николай I повелел произвести обзор местности для
выяснения возможности расположить новую крепость на Северо-Западном
мысе Геленджикской бухты, что позволило бы иметь крепость Геленджик в
одной линии с другими укреплениями, предположенными возвести на
побережье между данным пунктом и Анапой [8].
Вслед за Баумером, в 1836 г., разведку местности провел генерал-
лейтенант Вельяминов, результаты которой представил в записке на имя
Николая I. Разобрав предложения императора касательно северо-западного
мыса, автор записки нашел это место невыгодным из-за болот и отсутствия
чистой воды, кроме того, новое укрепление оказалось бы в стороне от
берегового сообщения с Анапой, т.к. дорога от Суджукской бухты проходила
в 8 верстах от оконечности Северо-Западного мыса. В связи с этим,
Вельяминов, в качестве места для построения новой крепости, предложил
южный мыс геленджикской бухты, как место представляющим наименьшие
затруднения в строительстве и дефилировании крепости, а также
обладающим здоровым климатом (что подтверждало предложения инженера
Коха от 1832 г.). По замыслу автора записки, протяженность нового
укрепления составила бы около версты, ведь оно должно было быть
достаточно обширным, чтоб на случай экспедиции в горы служить складом
боеприпасов и продовольствия, и, кроме того, иметь небольшую
судоремонтную базу. При этом Вельяминов полагал все строения в новом
укреплении, в том числе и казармы, возвести из сырцового кирпича, что, по
его мнению, сделало бы ненужным насыпку земляного вала для их обороны.
Помимо самой крепости, генерал-лейтенант считал необходимым устроить в
ее окрестностях укрепленную линию из 5 редутов и 20 орудий. При этом в
записке императору он отметил, что для выполнения всех работ требовался
значительный отряд войск на 1 или 2 года [9].
Николай I, с некоторыми изменениями, одобрил мнение Вельяминова и
поручил разработать подробный проект, но из-за смерти последнего, это
выполнено не было. Поэтому весною 1838 г. задача разработки проекта
Геленджикской линии на южном мысе была возложена на генерал-
лейтенанта Раевского. Основные положения данного документа,
представленного императору в конце лета, сводились к тому, что
окрестности Геленджика представляют значительные затруднения для
создания там обширного укрепления и порта. Кроме того, местных
строительных материалов там не было, а их подвоз морем обошелся бы
слишком дорого. Раевский указывал и на недостаток сил для строительства –
закончить его в лето 1838 г. посредством одного лишь действующего отряда
было невозможно, а укрепленный лагерь, называвшийся «крепостью», был
неспособен принять войска на зиму. В завершение, автор проекта, указав на
затрудненность сухопутных коммуникаций к Геленджику и проведя
сравнение Суджукской и Геленджикской бухт, сделал вывод, что последняя
имеет лишь второстепенное значение, в то время как Суджук наиболее
выгоден в военном и торговом отношениях, чему в немалой степени
способствовало и наличие хороших путей сообщения [10].
Уже 20 августа 1838 г. проект Раевского был Высочайше утвержден, и
ему предписывалось с действующим отрядом, по окончании работ при
Шапсухо, отправиться в Суджукскую бухту для занятия устья р. Цемес [11].
Таким образом, с основанием Новороссийской крепости, ставшей
важнейшим военным и торговым пунктом, Геленджик, как береговое
укрепление утратил свое прежнее значение, и просуществовал в почти
неизменном виде (временный лагерь 1831 г.) вплоть до первой половины 40-
х гг. XIX в.
Примечания
1. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 261. Оп. 1. Д. 310. Л.
265–265 об.
2. Там же. Л. 266.
3. Там же. Л. 266 об. – 267.
4. ГАКК. Ф. 261. Оп. 1. Д. 330. Л. 1 – 1об.
5. ГАКК Ф. 260. Оп. 1. Д. 58. Л. 13
6. ГАКК Ф. 260. Оп. 1. Д. 62. Л. 16 об.
7. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 58. Л. 13 об.
8. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 15. Л. 4 об.
9. Там же. Л. 5 – 5 об.
10. Там же. Л. 9 – 12 об.
11. ГАКК. Ф. 260. Оп. 1. Д. 17. Л. 15 об.
Е.В. Хмара
Новое о Владимире Сергеевиче Толстом
Движение декабристов продолжает интересовать профессионалов и
любителей истории. Постоянно уточняются биографии участников. Имена
одних известны всем, их имена звучат с киноэкранов, в телевизионных
программах. Другие, к сожалению, находятся как бы в тени, известны только
ограниченному кругу специалистов. К этой группе относится Владимир
Сергеевич Толстой.
Это был человек, причастный к декабристскому движению, член
Общества, но какого? Так в справочнике «Декабристы» сказано: «Член
Южного общества (1824) [1]. Однако в «Алфавите» Боровкова, сказано иное:
«Членом Северного общества с 1824 года [2]. Первую версию поддерживает
Б.А. Трѐхбратов в статье «Толстой Владимир Сергеевич» [3], Серова М.И.,
Трѐхбратов Б.А. «Своей судьбой гордимся мы» - Краснодар, 2008 [4]. О
подтверждении второй точки зрения будет сообщено ниже.
Как и все его товарищи был судим, отправлен в Сибирь, затем рядовым
на Кавказ. И с 29 августа 1829 года по 17 января 1843 служил в Линейных
батальонах №1 и №2, Навагинском пехотном полку, Кавказском линейном
казачьем полку. Уволен по болезни, пытался обосноваться в Одессе, но
получил отказ.
В 1845 году просит вышестоящее начальство вернуть его в военную
службу. И вот переписка о восстановлении в Кавказском линейном казачьем
полку и подтверждает вторую версию принадлежности Толстого к
декабристскому движению.
В фонде 318, оп. 1 есть дело 268. Оно называется «Об определении на
службу отставного поручика Толстого в Кавказское казачье войско».
Определить, что это именно Владимир Сергеевич Толстой, не вчитываясь в
документы, достаточно сложно. Ни в одном из официальных документов
этого дела нет ни имени, ни инициалов Толстого. Только в личном письме
некоему Павлу Ефимовичу стоит подпись – Владимир Толстой[5].
Наиболее интересным в этом деле является выписка из секретного дела
о Толстом, являющаяся приложением к уведомлению Военного Министра
Чернышѐва главнокомандующему Отдельным Кавказским корпусом. В нѐм
сказано: «Государь Император по докладу отношения Вашего Сиятельства
№515, Высочайшим приказом 8-го сего мая соизволил: уволенного из
состоявших по кавалерии поручика Толстого, определить по кавалерии же, с
состоянием при Кавказском линейном казачьем войске»[6].
Ниже приводится это приложение.
Копия
Секретная
Толстой, состоя прапорщиком в Московском пехотном полку, был
членом Северного Общества, с 1824 г.; знал цель введения конституции;
слышал, что общество может быть принуждено будет ускорить кончину
некоторых священных особ царствующей фамилии; но на совещаниях нигде
не был, и о замыслах возмущения 14 декабря не знал.
По приговору Верховного Уголовного Суда 10-го июля 1826 года,
осуждѐн к лишению чинов и дворянства и ссылке в каторжную работу на два
года. Высочайшим указом 22-го августа того года, повелено оставить его в
каторжной работе один год и потом обратить на поселение в Сибирь, но по
Монаршему милосердию, он отправлен прямо на поселение.
По Высочайшему повелению, определѐн рядовым в бывший 43-й
Егерский полк, 1829, августа 29-го.
За отличие в экспедиции противу горцев, произведѐн в унтер-офицеры с
переводом в Линейный Кавказский № 2 батальон, в октябре 1832 года.
За отличие по службе, произведѐн в прапорщики 1835, июня 19-го.
На вакансию в подпоручики, 1837, ноября 13-го.
Переведѐн в Навагинский пехотный полк 1839, января 9-го.
За отличие противу горцев в 1838 году; в десантном войске при
укреплениях на Восточном берегу Чѐрного л. 4 моря, произведѐн в
поручики, 1839, августа 20-го.
В сентябре месяце того же года, командовавший войсками на
Кавказской линии и в Черномории, генерал-адъютант Граббе ходатайствовал,
о назначении поручика Толстого, как особенно отличающегося по службе и
скромным поведением, в должность адъютанта к нему генерал-адъютанту
Граббе; по всеподданнейшему докладу Государю Императору о таковом
ходатайстве, Его Величество не соизволил изъявить на сие соизволения.
Переведѐн в Кавказский линейный казачий полк, с состоянием по
кавалерии, 1840 марта 11-го.
Высочайшим приказом 9-го октября 1842 года уволен был в 4-х
месячный отпуск и в след за тем, именно 17-го января 1843 года, по
ходатайству бывшего командира Отдельного Кавказского корпуса, уволен, за
болезнью от службы, без преимуществ, с дозволением жить, где пожелает,
исключая обеих столиц и г. Одессы и с учреждением за поведением его
секретного надзора.
Был в походах и сражениях в 1829, 1831, 1832, 1834, 1836, 1836 и 1839
годах, противу турок и горцев. (Л. 4 об.)
За отличие в сражениях награждѐн орденами: Св. Анны и Св. Станислав
4 (что ныне 3-й ст.) и сверх того имеет золотую медаль, за спасение
погибавших.
В штрафах, кроме вышеозначенного не бывал.
В феврале месяце 1843 года генерал-адъютант Нейдгарт, в следстствие
письма к нему родной тѐтки поручика Толстого, Римской-Корсаковой,
урождѐнной княжны Долгоруковой, ходатайствовал, о дозволении сему
офицеру приехать в Москву, для свидания с тѐткою, которая не виделась с
ним 17 лет; но на сие Высочайшего соизволения не последовало.
В марте месяце того же 1843 года, покойный генерал-адъютант граф
Бенкендорф, принимая во внимание ходатайство особ, заслуживающих
особого уважения, сообщал на усмотрение просьбу поручика Толстого,
испрашивавших дозволение приехать сему офицеру на время в Москву, для
свидания с родственниками и служить в Одессе, где климат по сходству с
кавказским, будет ему полезен, потому что он, 13-ть лет служил на Кавказе.
На сие ответствовано графу Бенкендорфу, что как Государь Император,
двукратно не изволил изъявить Монаршего соизволения на дозволение
поручику Толстому жить в Одессе и л. 5 приехать в Москву на свидание с
родственниками; то за силою Величайшего повеления, объявленного в
приказе по военному ведомству, 14 июля 1842 года № 87-й, невозможно
войти с новым докладом к Его Величеству.
Верно: Дежурный Генерал Главного Штаба
Его Императорского Величества
Генерал-адъютант подпись
17 апреля 1845 г. [7]
Если сравнить со статьѐй в «Алфавите» Боровкова, то обнаружится
почти полное сходство текстов. А это значит, что Владимир Сергеевич
Толстой принадлежал не к Южному, а к Северному обществу.
В 1847 году он был освобождѐн от секретного надзора. В 1849 – 1850
годах – асессор Тифлисской губернской строительной и дорожной комиссии.
В 1851–1855 годах – чиновник по особым поручениям при
главнокомандующем Отдельного Кавказского корпуса князе М.С.
Воронцове. После отставки Воронцова продолжал службу при его преемнике
Н.Н. Муравьѐве-Карском. В 1856 году по амнистии декабристам уходит в
отставку, селится в Подольском уезде Московской губернии, где и умирает
27 февраля 1888 года [8].
Примечания
1. Декабристы. Биографический справочник / под ред. М.В. Нечкиной.
М., 1988. С. 75.
2. Там же. С 324.
3. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших
времѐн до октября 1917 года. Краснодар, 1997. С. 473–474.
4. Серова М.И., Трѐхбратов Б.А. Своей судьбой гордимся мы.
Краснодар, 2008. С. 28–29.
5. ГАКК. Ф. 318. Оп. 1. Д. 268. Л. 7.
6. Там же. Л. 3.
7. Там же. Л. 4–5 об.
8. Серова М.И., Трѐхбратов БА. Указ. соч. С. 29.
Н.А. Корсакова
Кубанские иконы.
К истории создания и бытования в ХIХ – начале ХХ веков.
В жизни православного человека огромное значение имеет почитание
икон или образа святых. Икона освящала не только помещение церкви,
собора, монастыря, но и играла значительную роль в общественной и
культурной жизни славянского населения Кубани. Икона освящала и
оберегала жилище, семью, станицы и города. С иконой устраивались
молебны в неурожайные годы, годы болезней и эпидемий, провожали на
воинскую службу и ратные подвиги, благословляли молодых к венцу, дарили
к знаменательным событиям. В кубанских станицах икона называлась –
«викона» или «виконка», «образ». В исторической и краеведческой
литературе тема кубанской иконописи, истории икон в церквях и соборах,
мало изучена. Интересные материалы по данной теме дают историко-
этнографические экспедиции, проводимые краевым музеем-заповедником в
70–80-е гг. ХХ века. В эти годы в станицах еще были старожилы, которые
хранили иконы у себя в жилище, хорошо помнили традиции своих
родителей, историю создания и разрушения церквей. Данная статья основана
на воспоминаниях старожилов, материалах этнографических экспедиций,
документах Государственного архива Краснодарского края и коллекции
кубанских икон, хранящихся в фондах КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына. В
коллекции музея находится более 50 кубанских икон. В основном они
датируются второй половиной ХIХ – началом ХХ века, хотя имеются иконы
и более раннего периода – конца ХVIII – первой половины ХIХ века. В
состав коллекции входят иконы, как местного производства, так и
привезенные переселенцами из южных губерний России или купленные в
церковных лавках и торговых заведениях. Интересно отметить, что
наибольшее количество икон – 30 единиц, относятся к написанным на
Кубани. По материалу и способу изготовления кубанские иконы можно
разделить на следующие виды: иконы, написанные красками на дереве или
холсте; литографии; комбинированные – металл, дерево, бумага.
В истории создания и бытования кубанской иконы необходимо отметить
следующее: первые кубанские иконы; возникновение местных иконописных
мастерских; известные имена кубанских иконописцев; своеобразие выбора
традиционных сюжетов и художественные особенности, сохранение икон в
период разрушения церквей в 20–30-е гг. ХХ века.
Первые иконы появились на Кубани вместе с переселением казаков
черноморского казачьего войска и других переселенцев в конце ХVIII –
первой половине ХIХ века. Так, например, одной из первых икон можно
считать икону «Св. Николай Чудотворец», которую подарил войсковой судья
Черноморского казачьего войска Антон Головатый (1744–1797) гребней
флотилии черноморских казаков в 1794 году. Сохранился только оклад этой
иконы, выполненный из серебра, позолота в технике художественной
чеканки [1]. К этому времени относится одна из интересных икон – «Св.
Великомученица Екатерина» [2]. Ее отличают большие размеры – 60 х 130
см. Икона написана в лучших традициях русской иконографии на доске,
темперой. В образе святой Екатерины Великомученицы изображена
императрица Екатерина II. Екатерина изображена в рост в богатых,
расписанных позолотой, одеждах. В левой руке она держит меч, правая
приподнята с крестом и веткой пальмы. На голове корона, в нижней части
иконы помещены изображения ангела десяти херувимов. Платье Екатерины
выполнено красками бирюзового цвета, поверх накинута золоченая мантия с
горностаем. Согласно музейной легенде эту икону написал придворный
художник императрицы Екатерины II. Боровиковский, и она была подарена
черноморским казакам. Помещалась она сначала в походной Свято-Троицкой
церкви, затем – в Свято Екатерининской. К ранним иконам относится и образ
«Св. Великомученика Пантелеймона» [3]. Икона написана на деревянной
доске темперой. По легенде принадлежала супруге одного из первых
черноморских атаманов Т. Котляревского (1738–1800). Фигура святого
целителя в ярко зеленой тунике и коричневой мантии, в рост, написана на
нежно-синем фоне. Размер иконы 40х60 см. На лицевой стороне, внизу
белыми красками сделана надпись: «От войсковой старшинши
Котляревской». Данная икона хранилась в Войсковом Воскресенском соборе.
Первые кубанские школы иконописи и мастерские создавались в
монастырях Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни близ станицы
Брюховецкой, Михаило-Афонской Закубанской пустыни близ станицы
Новосвободной (Царской) и некоторых церквях. Иконы в Кубанские станицы
также привозили паломники из святых мест – Старого Афона, Нового Афона,
Иерусалима и др. Обследованные в экспедициях музея станицы
Мостовского, Отрадненского и Лабинского районов – Губская, Надежная,
Спокойная, Отважная, Каладжинская, Ахметовская, дают сведения о
кубанских иконописных мастерских [4]. В станице Каладжинской удалось
найти семью иконописца, крестьянина Артема Марковича Грицай (1830–
1910). Он обучался написанию икон сначала в монастыре Нового Афона,
затем служил в художественной мастерской Михаило-Афонской Закубанской
пустыни. В этом монастыре обучался иконописи и его сын. Его внучка
подарила музею три иконы, написанные Артемом Марковичем: одна из икон
«Св. семейство» [5] написана на деревянной доске маслом, была
предназначена для освящения нового дома. Лик Св. Екатерины был написан
с его внучки Екатерины. Православные Святые стоят в три ряда, фигуры в
рост, фон нежно-зеленый. Вверху на желтом фоне, в белом облаке лик
Иисуса Христа. В первом ряду: Св. Великомученица Екатерина, Св. царица
Елена, Св. арх. Кирилл, Св. Александр Невский; во втором ряду: Св. княгиня
Людмила, Св. князь Владимир; в первом ряду: Св. апостол Павел и Св. Иоанн
Креститель. Размер иконы 45х95 см.
Старожилы многих станиц указывали на то, что иконы приобретались в
станице Царской. Иконы, поступившие в коллекцию в результате работы
экспедиций в станицах – Пластуновской, Старомышаставской, Брюховецкой,
Роговской, по воспоминаниям старожилов приобретены в мастерской
Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни. Среди этих икон яркостью
красок, богатством, изяществом оформления окладов, выделяются образы
Иисуса Христа, Богоматери и святых. Приобретались иконы в церковных
лавках, которые были не только в монастырях, но и в больших станицах и
городах. В конце ХIХ – начале ХХ в. большую торговлю церковной утварью,
в том числе и иконами, проводило известное на Кубани «Товарищество
придворных поставщиков Двора Его Императорского Величества П.И.
Оловянишникова и сыновья». Председателем товарищества в начале ХХ в.
был протоиерей о. Созонт Мищенко. Склад находился в городе
Екатеринодаре при Александро-Невском братстве, по ул. Красной 83 [6]. При
церкви ст. Пашковской также была мастерская по написанию икон. В
коллекции музея есть несколько икон, написанных пашковскими мастерами.
Одна из них «Богоматерь Троеручница» [7]. Она написана масляными
красками на доске, с обратной стороны есть надпись: «Производство икон.
Роман Александрович Волошин». На ярком зелено-голубом фоне, образ
Богоматери в мантии красного цвета с золоченым венцом. Посредине иконы
находится изображение третьей руки. Оклад украшен изящным растительно-
цветочным орнаментом из золоченой фольги.
Состоятельной казачьей семьей Ротай станицы Пашковской были
подарены музею такие иконы пашковских мастеров – «Иисус Христос»,
«Неополимая Купина Пресвятой Богородицы», «Богоматерь утоли моя
печали» [8].
В начале ХХ в. на заказ иконы писал известный кубанский художник
Роман Колесников. Он имел мастерскую в собственном доме в городе
Екатеринодаре по улице Кирпичной 105. В газете «Кубанские областные
ведомости» он часто размещал объявления: «Иконы и церковную живопись
дешево и хорошо исполняет художник Р.И. Колесников» [9]. К написанным
местными художниками иконам следует отнести уникальную икону,
единственно встречающуюся по оригинальному оформлению «Св.
Великомученик Георгий Победоносец» [10]. Икона написана масляными
красками на доске. По краям она обрамлена изображениями георгиевского
креста на георгиевской ленте. В нижней части иконы расположены два
георгиевских креста, справа и слева – по пять. В верхней части иконы возле
георгиевских крестов написаны два полковых знамени на древках. Образ
юноши – святого Георгия, коня и врага – змия, выписаны в какой-то
сказочной форме. Конь похож на изображение сказочного конька-горбунка.
Не менее живописен и темно-зеленый змий с красной пастью, огромными
зубами, глазами и когтями. Фигурка святого очень реальна, с тонким и четко
выписанным лицом, полна решимости георгиевского самопожертвования.
Эта икона, как и большинство кубанских икон похожа на яркую картинку.
Икона была написана в станице Поповической, ею благословляли казаков,
уходящих на фронт осенью 1914 года.
Во время работы экспедиций были просмотрены, описаны оформления
святых углов с иконами, их называли – «божий угол», «красный угол»,
«покуть». Воспоминания старожилов позволяют определить наиболее
почитаемые и любимые иконы. Это: образы Богородицы – «Утоли моя
печали», «Троеручица», «Неопалимая Купина», «Покрова Пресвятой
Богородицы», «Казанская Богородица». Хранительницы семейного очага и
православных традиций – женщины и казачки и крестьянки обращались к
этим иконам с просьбами о помощи в семейных делах, с молитвами
сохранить жизнь воинам, о здоровье. И не случайно на Дону, Кубани в 1914
году было создано благотворительное «Общество во имя иконы Божьей
матери «Утоли моя печали» под покровительством императрицы Александры
Федоровны. Главной задачей этого общества была материальная помощь
вдовам и семьям погибших воинов.
Кубанская икона по манере письма, яркости красок имеет одну главную
особенность, которая отличает ее от икон других регионов России. Она
похожа на теплую и добрую картину. Образы на иконах праздничные,
радостные, лики святых часто содержат реальные черты. К такой иконе
хочется обратиться, прикоснуться, поведать свои горести, радости и тайны.
Кубанская икона содержит какой-то поэтический образ – герой, воин
Георгий Победоносец, строгий и мудрый Иисус Христос, готовый прийти на
помощь Николай Чудотворец, нежные и печальные Богоматери,
прижимающие к груди младенца и готовые защитить других. Каждой иконе в
кубанских станицах приписывались какие-то особые функции. Так образ
«Неопалимой Купины Пресвятой Богородицы» охранял дом, имущество от
пожара, нечистых сил, выступал как символ нерушимости и сохранности.
Икона «Богоматерь-Троеручница» была помощницей во всех делах. Образ
«Святого Пантелеймона» исцелял от болезней. К иконе «Святого Николая
Чудотворца» обращались в сложных ситуациях. Краски кубанской иконы
яркие – красные, оранжевые, ярко-зеленые, голубые. Обращает на себя
внимание и четкая вырисовка лиц. Часто иконы оформляются окладом и
помещаются в деревянный киот. Необходимо также отметить красочность
оформления окладов, которые изготавливались из ажурной, золоченой или
серебряной фольги, украшались изображением голубей, подсвечниками со
свечами, яркими бумажными или восковыми цветами. Для украшения
окладов употреблялись и сухие полевые цветы или травы. Существовали и
мастерские по изготовлению резных деревянных окладов со сложным
растительным, цветочным орнаментом или изображением гроздьев
винограда. Объемная резьба покрывалась позолотой. Многие иконы,
бытовавшие на Кубани в конце ХIХ – начале ХХ века были привозными, в
серебряных окладах, выполненных в ювелирных мастерских Москвы и
Санкт-Петербурга. Очень часто лики и кисти рук писались на доске или же
художественное письмо заменялось бумажной литографией [11]. Бытовали
на Кубани и небольшие нательные иконы. Их украшали серебряными
окладами, или они писались на металлической пластинке. Такие иконы
предпочитали брать с собой на военные сражения и сборы.
Почему мы так мало знаем о кубанской иконописи? Потому, что она
была разрушена еще не сформировавшись, в процессе уничтожения
казачества, народных, православных традиций и церквей в первой четверти
ХХ в. В период разрушения церквей и закрытия монастырей жители станиц
прятали иконы в семьях, и благодаря им, мы сейчас можем, хотя бы,
частично восстановить историю. Большую положительную роль в
сохранении церковной утвари, икон, книг в 20-30-е годы ХХ в. сыграли
местные краеведческие музеи. Краснодарский историко-краеведческий
музей, выросший из войскового музея в период реквизиции церковного
имущества в 1920-е годы, смог убедить передать на хранение многие
памятники истории православия. Особенно большая роль в этом
принадлежит бывшему заведующему Войскового музея, старосте
Александра-Невского собора Ивану Ефимовичу Гладкому (1862–1930). В
первых музейных экспедициях в 70-х годах ХХ века нас часто спрашивали
старожилы: «А что наши «виконы» будите по циркам возить?». Тогда этот
вопрос нам казался не понятным.
В музейных коллекциях появились фотографии 20-30-х годов, где были
сняты на церковных площадях, у храмов размещенные передвижные цирки
«шапито». В том числе такой цирк находился и у стен Екатерининского
собора в городе Краснодаре. В цирковых представлениях этих лет
устраивали атеистические спектакли, где глумились над православными
традициями, священниками, иконами.
Иконы, написанные в мастерских кубанских монастырей и церквей,
представляют художественную, культурную, историческую ценность. Краски
кубанских икон как бы поднимают в молящемся нравственные силы, веру и
душевную гармонию.
Примечания
1. Православная церковь на Кубани. Конец ХVIII – начало ХХ в. Сборник
документов. Краснодар. 2001. С. 48.
2. Фонды Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника (КГИАМЗ). КМ–6338/5.
3. Фонды КГИАМЗ. КМ–10203/1.
4. Фонды КГИАМЗ. Дневники экспедиций. НА–2, л. 13-14.
5. Фонды КГИАМЗ. КГИАМЗ 4633/3.
6. Кубанские областные ведомости. №157. 23 июля 1911 г. Л. 4.
7. Фонды КГИАМЗ. КМ–4923/3.
8. Фонды КГИАМЗ. КМ–5198, КМ–4923/3, КМ–3322/3, КМ–3322/2.
9. Кубанские областные ведомости. №144. 7 июля 1911 г. Л. 4.
10. Православная церковь на Кубани. Конец ХVIII – начало ХХ в. Сборник
документов. Краснодар. 2001. С. 49.
11. Фонды КГИАМЗ. КМ–4318/11, КМ–4650/2, КМ–4880/12, КМ–4318/12, КМ–
4367/8, КМ–5405/7.
С.С. Коваль
Специфика эволюции семейных отношений в казачьей среде как
фактор формирования статуса северокавказских и донских казачек
Социализация казачек как процесс оформления их статуса в казачьем
обществе, формирования определенного мировоззрения и системы поведения
протекал под влиянием различных факторов: участия казачек в военных
столкновениях в период отсутствия дома казака, деятельности казачек в быту
(воспитании детей, работы на кухне и в поле, обустройстве жилища и
интерьера), участия в религиозно-обрядовой жизни, а также специфики
эволюции семейных отношений в казачьих субэтносах.
Таким образом, одним из факторов формирования социального статуса
казачек является специфика социально-исторического развития семьи. Этого
аспекта мы коснемся в данной статье.
Формирование казачьей семьи связано с особенностями заселения и
освоения региона (Кубани, Черноморья, Дона, Терека); влияния русского,
украинского, горских и азиатских народов; спецификой социально-
экономического, внутри- и внешнеэкономического развития. У каждой
группы этно-исторического казачьего сообщества (донского, линейного,
черноморского, терского и других групп), кроме прочего, были свои
особенные черты и характеристики семейно-бытовых отношений.
Так, у донского казачества, сформированного на рубеже XV–XVI вв. в
основном из русских беглых крепостных крестьян, органически влившихся в
этот состав поляков, литовцев, турок, а также выходцев из других народов,
на первых порах отношение к женщине и браку было негативным. Во
времена возникновения казачества на Дону женщин в казацких поселениях
было крайне мало, а женатые люди в то время среди казаков не пользовались
почетом. Сожительство казака с женщиной, как правило, не носило характер
брачного союза. Так, например, у первых поселенцев Верхне-Курмоярской
станицы была на всех одна женщина, которую называли Чебачихой [16, с.
72]. Евлампий Котельников, один из казаков этой станицы, отмечал
следующее: «… Старуха, по прозванию Карпушиха, … жившая 95 лет и
умершая за 50 лет до сего, была достата из России и находилась в стану
третьею только женщиною. А вторая была Чебачиха. Кто была такая первая
женщина, - неизвестно, с которою живший казак, в особенной избе прижил
сына. Сего младенца всей станицей нянчили…» [8, с. 7]. Впоследствии
женщины в войско проникали в основном в результате взятия их в плен. Это
были горянки.
Таким образом, с начала своего пребывания на Дону казаки «не имели
жен и терпеть их не могли; но как стали за добычею отходить, то в
промыслах своих доставали от турок, кумыков, крымцев, кубанцев, черкес,
от разных горских татар и из прочих мест всякую пажить и людей, в том
числе и женский пол, оных стали брать за себя и сожительствовать с ними,
через что стало их умножаться…» [13, с. 9]. Кроме того, в описываемое
время казак имел право по своему разумению жестоко, а иногда изощренно
жестоко, наказать жену: за малые проступки – брань, побои, которые нередко
заканчивались гибелью женщины; за большие – «зимнее купание на аркане в
проруби» [16, с. 164].
Подобное низкое положение в XVI – XVIII вв. занимала терская казачка.
Отчасти это объясняется связями терцев с традициями своей прародины и
транзитным центром – Доном. Долгое время на Тереке, как и на Дону, откуда
пришла большая часть казаков, основавших терское войско, основной
формой брака оставался брак, заключенный на майдане.
Такое низкое общественное положение женщины на Тереке и Дону,
когда она являлась вещью, предметом купли-продажи и объектом для
излияния дикого гнева казака, имело место вплоть до воцарения Петра I в
XVIII в., то есть на протяжении более чем двух веков.
Сначала на Тереке основным принципом был отказ от семейных
отношений, затем пришла очередь малых семей, которые образовывались на
майдане - обрядовый обычай, продолжавшийся вплоть до XVIII в. Под
влиянием переселенцев из Войска Донского и южнорусских земель, а также в
результате ряда правительственных указов, направленных на укрепление и
укрупнение казачьих семей [2, л. 2], в начале XIX вв. на Тереке происходило
их укрупнение [7, с. 297–299]. Стала ощущаться нехватка женщин.
Участились случаи их умыкания, т.к. женщин, по словам стариков-
старожилов, по словам известного исследователя терского казачества Л.Б.
Заседателевой «было мало, да и тех стерегли», а казаков «все больше
становилось» [7, с. 295].
И.Д. Попка подметил характерные черты семейно-бытового уклада
гребенской части терского казачества в XVIII-XIX вв.: «в гребенском быту
все домашние работы возлагались на женщину… Казак знал только
служебные наряды.… При обыкновенном течении домашней жизни казак
ходил «в гульбу», на звериную охоту и рыбную ловлю, поправлял плетень,
чистил оружие, вязал уздечку, плел нагайку, строгал шомпол, играл с гостем
в зернь». [10, с.117]. Помимо изготовления одежды, сельскохозяйственных и
домашних работ, гребенская казачка седлала коня для казака, а если было
необходимо, могла сама поехать на нем по-казацки [10, с. 118]. Но не только
в этом факте автор усматривал двусторонность характера казачки, который
представлял собой «генетический сплав увесистости и силы русского мужика
и легкую грациозность, живые черты южного аборигена» [10, с. 118]. «При
возвращении из похода, принимая коня от казака, с поклоном рабыни,
снимала седло». После, как бы случайно, автор проговаривается о другой
стороне характера казачки, из которой мы можем сделать вывод о силе
характера казачки: «но горе было господину, когда саквы за седлом
оказывались пусты…» [10, с. 117].
Во второй половине XIX в. в связи с приходом в деревню капитализма и
укреплением товарно-денежных отношений, большие семьи стали
распадаться на малые, что привело к повышению женского положения в них
и в обществе. Таким образом, на формирование более высокого, чем в среде
великорусских крестьян, статуса женщины-казачки на Тереке, как и на Дону,
повлияло отсутствие казака дома вследствие несения им военной службы и
передача всех прав и обязанностей по ведению хозяйства казачке, которая в
условиях малой семьи становилась полновластной хозяйкой.
Однако до начала ХХ века в среде терского казачества сохранялись
большесемейные коллективы [7, с. 306], и патриархальное давление старшего
поколения на молодежь в некоторых районах было довольно сильным.
Характерными для конца XIX в. были различия между порядками и нравами
в различных гребенских станицах. Так, И.Д. Попко отмечает, что среди
жителей станицы Червленной женщины пользуются широкой свободой, а в
станице Старогладковской, напротив, нравы суровые настолько, что
девушкам и молодым женщинам там запрещалось петь плясовые песни,
шутить на улице с ребятами, и, тем более, дарить ласковым словом солдат
[10, с. 117].
Тем не менее, эволюция женского статуса в истории терского казачества
претерпела значительные метаморфозы. На формирование статуса терской
казачки, как и донской, большое влияние оказала военная ситуация, в
которой находилась Кавказская линия в период русско-турецких войн второй
половины XVIII в. Легендарное мужество и чудеса храбрости проявляли
гребенские казачки уже в период русско-турецкой войны 1769–1774 гг.,
когда, обороняя Моздокскую крепость Наур, «казачки надевали мужскую
одежду и становились в ряды казаков, заменяя собой убитых и раненых» [12,
с. 286]. После этого кабардинцы еще долго «старались не встречаться с
Моздокскими казаками, боясь насмешек по поводу того, «как Кабарда пошла
воевать, да не управилась с казацкими бабами» [12, с. 266].
Кроме того, на формирование культурного типа терской казачки оказали
особое влияние смешанные браки и тесные взаимосвязи казачества с
«соседями»: карачаевцами, кабардинцами, кумыками, чеченцами. По словам
Л.Н. Толстого, «красота гребенской женщины особенно поразительна
соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим
сложением северной женщины» [14, с. 159]. Горское влияние
обнаруживается и при изучении обрядовой стороны жизни терского
казачества: обычай оставлять часть приданого в семье девушки, в качестве
гарантии материального благополучия ее и ее будущих детей [7, с. 303], в
случае несостоятельности мужа; традиция отдавать в приданое дочери тазик
и зеркало (встречалась у ингушей, чеченцев, осетин, черкесов) [7, с. 331].
Приведенные факты свидетельствуют о бытовании в период заселения
Терека не только браков на пленницах-горянках по принуждению, но и
добровольных браков между казаками и местными жительницами.
Сравнивая терскую казачку с донской, отметим, что на Дону женский
менталитет и характер формировались также в условиях синкретизации
разнообразных культур. При этом в данном случае азиатское влияние, как
верно подметил М. Харузин, «коснулось скорее внешней стороны: татарские
слова, например, служат для обозначения большей части предметов женской
одежды, пищи и других вещей (кубилеки, бизилики, чуреки; пилов, дулма,
каймак). Это отчасти было обусловлено горским происхождением донских
казачек» [16, с. 76]. Однако, «отношения… внутри самой семьи сложились по
типу этих же отношений в среде русского крестьянства» [16, с. 76].
В период от XVI до конца XIX вв., по словам М. Харузина, быт донского
казачества, также как и терского, претерпел существенные изменения. К XIX
в на Дону «положение женщины в современной казацкой семье, вообще
говоря, было не только не тягостно, но даже много сноснее и свободнее, чем,
например, среди великорусских крестьян» [16, с. 169]. Этому
способствовали, помимо прочего, характерные для казачьего уклада свобода
и самостоятельность женщин во время длительных походов казаков, когда
на плечи первых ложились все тяготы домашних дел и полевые работы, а
вторые возвращались, зачастую, с приобретенной «склонностью к
бражничеству и ничегонеделанию». Теперь «семейная жизнь… и старинным
казакам до такой степени нравилась, что, например, детей у женатого
нянчили все его станичники» [16, с. 76].
Интересен статус женщины в вопросе родства у донских казаков. Во
многих местностях говорили о большей степени близости родственников со
стороны мужа, чем со стороны жены. Такого мнения, к примеру,
придерживались жители станицы Мариинской Донской области. Местный
священник утверждал, что по вышеуказанной причине во время расчетов при
вступлении в брак по мужскому полу принимается более дальнее родство
[16, с. 95].
Незначительная патриархальность, относительно свободная
религиозность, практический склад ума, характерные для казачества,
определили специфическое восприятие женщины в обществе донского
казачества. Так, рождение дочери, например, во многих областях было
предпочтительнее, чем рождение сына, ибо за девушку можно взять во двор
работящего зятя или получить щедрую «кладку» [16, с. 116]. Представляет
интерес замечание М. Забылина, собирателя сведений об этнических
особенностях народов России: «У донских казаков за невестою не бывает
никакого приданого, напротив, жених обязан одеть невесту с головы до ног»
[14, с. 170] – обычай, заимствованный, по-видимому, у азиатов. Женя же
сына, казак вынужден был тратиться. А молодые мужчины-зятья, которые
после свадьбы были взяты в дом отца невесты, находились в очень
незавидном положении. Этот казак становился так называемым «примаком».
Зато жена «примака» после свадьбы считалась «старше» сестер-девушек и
снох, и больше почиталась, ибо «у нее с братьями равная часть».
С середины XIX в. на Дону начинают преобладать малые семьи, статус
казачек в которых по объективным причинам был выше статуса женщин в
больших семейных союзах. Большие семейные союзы остались только в
северных округах Войска Донского – в верховых станицах Дона среди
некрасовских казаков, известных кастовой замкнутостью и верностью
великорусским традициям [14, с. 217].
Однако даже в конце XIX в., как отмечалось в газете «Донские
областные ведомости», на Дону были известны факты избиения и жестокого
обращения казаков со своими женами. Часто «муж пьянствует,
развратничает, тиранит бедную женщину, подвергает всевозможным
истязаниям, пока не приводит ее в могилу или, истощивши все силы
развратной жизнью, сам туда же не отправится» [5, с. 5]. За избиения муж в
самом лучшем случае, что бывает очень редко, может поплатиться месячным
или двухмесячным арестом, так как «сам закон об истязании очень
растяжим» [6, с.2].
Итак, положение женщин на Дону в период формирования и
существования там казачества претерпело резкие изменения. Но, тем не
менее, даже в XIX в. оно оставалось очень противоречивым. И, хотя своею
деятельностью и опытностью в хозяйственных делах казачка невольно
заставляла уважать себя, положение, в котором она находилась на
протяжении более чем двух веков (была для казака невольницей, вещью,
предметом купли-продажи, объектом для излияния своего дикого гнева) не
могло способствовать образованию более гуманного отношения к женщинам
даже в среде казаков XVIII–XIX вв.
А вот процесс социализации казачек на Кубани осуществлялся по-
другому. По свидетельству Ф. А. Щербины, в отличие от донских казаков,
«черноморцы, занимая новый край, шли сюда с заранее намеченной целью
переустройства казачества на началах «семейственного бытия»,
долженствовавшего внести полноту человеческих отношений в их
бобыльскую и одностороннюю до тех пор жизнь» [17, с. 829]. Эти цели им
ставило правительство. Но так как в конце XVIII в. большинство
черноморских казаков отправлялось одинокими на новые земли
количественное соотношение в войске, по данным Ф.А. Щербины, было в
пользу мужчин: при заселении черноморцами Кубани в 1792 г., число
женщин составляло 45% [17, с. 55]. С одной стороны, это затрудняло
возможность обзаводится хозяйством и устраивать семейный быт, с другой –
делая женщину более ценной, меняло к ней отношение казаков.
Что же определяло отношение к черноморской казачке в обществе и
семье? Ф.А. Щербина дает ответ на этот вопрос: «Черноморка, по народным
понятиям, представляет собой властную защитницу семейного очага…
выпавшая на ее долю исключительная роль в строительстве семейной и
бытовой обстановки делала ее решительной и самостоятельной» [17, с.830].
Так как для черноморских казаков очень актуальной являлась проблема
нехватки на новых землях женщин брачного возраста, правительство
принимало меры, которые содействовали брачной активности в среде
казачества. Так, по распоряжению императора в начале XIX в. каждый
женившийся казак получал от войскового правительства пособие в сумме 100
рублей на обзаведение хозяйством [4]. Кроме того, велась активная
административно-педагогическая политика, сопровождавшаяся
целенаправленным переселением молодых девиц и вдов из российских
губерний для выдачи замуж за казаков в кратчайшие сроки. Так как
формирование Черноморского и Линейного казачьих войск относится к
концу XVIII в., когда донское и терское казачества были уже сформированы,
а их обычай «добывать жен в походах» «канул в лету», браки черноморцев и
горянок были единичными и являлись исключениями.
Небольшое количество семейных черноморских казаков переселялось на
Кубань малыми семьями, согласно доминированию украинской традиции
отделения сыновей в обособленные хозяйства. Преобладанию малых семей
не помешало планомерное переселение в Черноморию больших семейных
союзов из среды российского крестьянства, которое в 1801 г. составило 21
тыс. человек.[16, с. 186] Так, к 1826 г. естественное соотношение женщин и
мужчин изменилось: 53% – мужских душ и 47% – женских душ [17, с. 65].
Несмотря на государственную политику, нехватка в казачьем быту
черноморца женщины делала ее предметом особой ценности вплоть до
начала шестидесятых годов XIX в., когда Черноморское и Линейное войска
объединились в Кубанское казачье войско и естественное соотношение
мужчин и женщин стабилизировалось и достигло 50,9 % – мужских душ и
49,1 % –женских душ [16, с. 73].
Благодаря правительственным мерам и стремлению самих черноморских
казаков к семейственности, к 1860г. соотношение полов у черноморских
казаков выровнялось [3, л. 378]. Но, несмотря на усилия администрации, в
Черномории продолжали формироваться в основном традиционные малые
семьи [8, с. 189], чему, помимо прочего, способствовало, начиная с середины
XIX в., селящееся здесь малыми семьями иногороднее население.
Преобладание малой семьи, а также нехватка женщин в войске в первое
время, сформировали особый тип черноморской женщины-казачки: она
обладала большой физической выносливостью, хозяйственными навыками и
высокой психологической приспособляемостью. Характер казачки закалялся
в столкновениях с горцами и в борьбе с ограниченным патриархальным
сознанием привыкших к традициям безбрачия черноморцев. Так же, как на
Дону и Тереке, в Черномории на женщину-казачку помимо воспитания
детей, ложились все хозяйственные работы по дому, в то время как казак,
отдавая долг Родине, выполнял военную службу, а этот период мог
продолжаться не одно десятилетие. По сведениям, приведенным Ф.А.
Щербиной в его труде «История кубанского казачьего войска»,
приблизительно треть мужского населения в самом цветущем возрасте была
занята на военной службе и отсутствовала [17, с. 667]. Его заменяла
женщина, которая в хозяйстве рядового казака выполняла роль «драбанта»
(крепостного крестьянина), но «фактически была главою семьи», - как писал
Ф.А. Щербина. Ибо она «держала в своих руках экономическую жизнь края,
особенно в первые годы его заселения… Ей обязаны были существованием
казачий дом и казачья семья… когда казак уходил на линию, казачка
становилась казаком» [17, 676]. Казачки выращивали пшеницу, рожь, просо,
гречиху, овес, ячмень, горох, лен, коноплю. Занимались скотоводством,
разводили сады, выращивали овощи, бахчевые культуры. Как пишет Ф.А.
Щербина, «не один женский труд, но и ум, и энергия необходимы были для
того, чтобы поддерживать слагавшуюся экономическую жизнь и обстановку.
Это сделала женщина-казачка, и в этом заключается важнейшая ее заслуга»
[17, с.667]. По мнению И.Д. Попка, «если в Риме воздвигнут храм женскому
счастью, то на Черноморье, бесспорно, заслуживало этой почести женское
трудолюбие» [11, с. 52].
Линейные казаки шли на Кубань малыми семьями. Молодые семьи
пользовались возможностью выделиться из большой патриархальной семьи
на переселение в новые земли. У линейцев, пришедших на Кубань в
основном из Дона в 1794 г. [1, с. 17], не было сильного недостатка в
женщинах, они не представляли такой ценности, как в Черномории, и
занимали соответствующий этому статус. Так, на Линии и в Черномории
сложились разные типы женщин-казачек. Ведь различия в их положении
было исторически и социально обосновано. «Семья у линейцев была
носительницей патриархальных отношений и былых форм казачьей
жизни»[17, с. 831]. Поэтому на Линии формировались большие семьи, что
способствовало укреплению подчиненного положения молодых женщин
мужчинам и старшим женщинам в семье. В общине линейного казачества
женщина-казачка не обладала большой самостоятельностью. Это было
обусловлено тем, что казак нес военную службу, находясь рядом с
хозяйством, благодаря присутствию на Кавказской Линии регулярных войск.
Иначе обстояли дела в среде черноморского казачества. Зачастую, при
отсутствии в доме мужчины, женщинам Черноморской области приходилось
отражать нападения черкесов на себя и свою семью. Известен случай, когда
казачка из ст. Пашковской, застрелившая горца, который пытался взять ее в
плен, получила военный награду за отвагу [17, с. 667–677]. Ф.А. Щербина
дает объективную характеристику роли казачки в военной жизни края: «Не
редки были случаи, когда высокая грудь казачки украшалась Георгием за
военный подвиг» [17, с. 676]. И, как следствие, это дает повод судить об
относительном свободомыслии и свобододействии среди женщин данного
региона.
Таким образом, одним из факторов, определивших особый путь
социализации казачек изучаемого региона, является специфика социально-
исторического развития региона.
Примечания
1. Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы [Текст] / А.К. Басханов, М.К.
Басханов, Н.Д. Егоров. Никосия, 1996. С. 17.
2. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 162. Оп. 1. Д. 28.
3. ГАКК. Ф. 252. Оп. 2. Д. 1760.
4. ГАКК. Ф. 249. оп. 1. Д. 431
5. Донские областные ведомости. 1875. №17.
6. Донские областные ведомости. 1880. № 69.
7. Заседателева Л.Б. Терские казаки (сер. XVI – нач. ХХ вв.) [Текст] / Л.Б.
Заседателева. М, 1974. С. 306.
8. Котельников Е.Н. Исторические сведения войска донского о Верхне-Курмоярской
станице [Текст] / Котельников Евлампий Никифорович. Новочеркасск: Областного войска
Донского типография, 1886.
9. Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани
[Текст] / Отв. ред. К.В. Чистов. М., 1967.
10. Попка И.Д. Терские казаки с стародавних времен. Исторический очерк [Текст] /
Иван Диомидович Попка // Гребенское войско. СПб, 1880. Вып. 1.
11. Попка И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту [Текст] /
Иван Диомидович Попка. СПб., 1898.
12. Потто В.А. Два века терского казачества (1577–1801) [Текст] / Василий
Александрович Потто. Владикавказ, 1912.
13. Ригельман А. И. История или повествование о донских казаках [Текст] /
Александр Иванович Ригельман. М., 1846.
14. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия [Текст] / Собр.
М. Забылиным. М., 1880. С. 170.
15 Л.Н. Повести и рассказы [Текст] / Лев Николаевич Толстой. М., 1985. С. 159.
16 Харузин М.Н. Сведения о казацких общинах на Дону. Материалы для обычного
права [Текст] / М.Н. Харузин. М., 1885.
17. Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска [Текст] / Федор Андреевич
Щербина. Екатеринодар, 1913. Т. 2.
М.В. Карпов
Страницы биографии участницы Первой мировой войны Елены
Чобы в краеведческих исследованиях и исторических источниках.
Виталий Петрович Бардадым (1931–2010) – знаменитый кубанский
краевед, один из первых исследовал биографию и судьбу кубанской казачки
Елены Чобы. Благодаря его поискам и публикациям из небытия вернулись
многие дореволюционные деятели Кубани. Он заново открыл для нас тех,
чьи имена, когда-то, были у всех на слуху, кем восхищались, кого уважали
наши предки.
На страницах своей книги «Ратная доблесть кубанцев» Виталий
Петрович пишет о Елене Чобе [1]. Он сделал попытку открыть источники о
ее жизни и судьбе, что, частично, ему удалось (Кубанский курьер. 1914.
№1764. 12 октября; Кубанский край. 1915. №176. 12 августа). Виталий
Петрович пытался собрать воспоминания родственников, станичников о
Чобе, ее семье, судьбе. Он провел большую исследовательскую работу, но
эти сведения фрагментарны, не дают четкого представления о боевом пути,
ее участии в Первой мировой и Гражданской войнах. Дальнейшие изыскания,
к сожалению, не дали новых результатов и в 2010 году в переизданной книге
«Ратная доблесть кубанцев» снова публикует этот же очерк [2].
В 1986 году в ходе работы историко-этнографической экспедиции
Краснодарского музея-заповедника сотрудникам музея удалось найти
единственную сохранившуюся фотографию Елены, сделанную в станице
Роговской в 1916 году. На групповой фотографии справа изображена Елена
Чоба в светлой черкеске и белой папахе, слева стоит однополчанин Федор
Рябчун, между ними сидят сестра и племянник Федора Рябчуна. Фотография
хранилась у родственников Елены Чобы под большим секретом, и долгие
годы была никому не известна.
Первое упоминание о Чобе появляется в газете «Кубанские областные
ведомости» от 11 октября 1914 года. В разделе «Областная жизнь» была
помещена небольшая заметка «Доброволец-казачка», в которой сообщалась:
«Служившая в роговском приемном покое в качестве сиделки казачка Елена
Чоба, снарядивши за свой счет полное казачье обмундирование, отправилась
добровольцем в действующую армию» [3].
Но наибольшую известность Чоба получила в 1915 году, когда в
результате ранения, все узнали, что она – женщина. Во многих изданиях
Кубани о ней писались статьи, авторы которых восхищались ее мужеством и
отвагой. В «Кубанском казачьем вестнике» от 16 августа 1915 года также
была опубликована статья под заголовком – «Елена Чоба – казак герой»:
«Как только ушел на войну казак ст. Роговской – Чоба, жена его Елена
Чоба стала принимать все меры, чтобы попасть в ряды армии казачьего
войска. После долгих стараний ей удалось, наконец, зачислится в один из
кубанских полков и отправиться в действующую армию добровольцем
рядовым под именем Михаила Чоба. В пылу огня, под несмолкаемый грохот
пушек, под беспрерывным дождем пулеметных и ружейных пуль, по
свидетельству товарищей, Михайло наш без страха и упрека делал свое дело.
Переезжая с фронта на фронт, с тыла на передовые позиции, из армии в
армию Михайло смело и бодро смотрел в глаза противнику, с которым
зачастую приходилось быть на расстоянии штыкового удара. Снежные бури,
лютая зима карпатских гор, бесконечные переходы, ночные атаки и
постоянные бои – будто составляли ее родную стихию. Елена – Михайло
Чоба показной славы избегая, выделялась своею лихостью. Глядя на
молодую безусую и неустрашимую фигуру своего храброго соратника,
неутомимо шли на врагов вперед за Михайлом его товарищи, нисколько не
подозревая, что под черкеской казака кроется роговская казачка Елена Чоба.
Во время нашего отхода, когда враг тесным кольцом пытался сковать
одну нашу часть и батареи, Чоба удалось прорваться через кольцо
неприятелей и спасти от гибели две наши батареи, совершенно не
предполагавших о близости немцев и вывести из смыкавшегося немецкого
кольца без всякого урона с нашей стороны. За этот геройский подвиг Чоба
получил Георгиевский крест 4 ст. Целый год беспрерывно Михайло провел в
боях и стычках с неприятелем и только недавно в последних майских боях
шальная пуля ранила в ключицу руки и вывела из строя.
За бои Чоба имеет 4 и 3 ст. Георг. Медали и Георгиевский крест 4 ст. От
последних, как женщина, она отказалась, оставив их при полковом знамени.
Теперь наш герой живет в станице на поправке и снова мечтает вернуться в
бой» [4].
Эти сведения являются своего рода зацепкой для поиска. В документах
фонда 396 Государственного архива Краснодарского края удалось узнать, что
был казак Михаил Чеба. Автор предполагает, раз в печатном варианте
приказов отсутствует буква «ѐ», то и писаться фамилия могла как Чѐба, что
при произношении слышится, как «о». Казак Чеба Михаил числился в
списках 3-й сотни 1-го Екатеринодарского кошевого атамана Чепеги полка. В
приказе по полку от 4 мая 1916 года написано «3 сот. прик. Михаил Чеба за
отлично-усердную службу и хорошее поведение переименовывается мною в
младшие урядники…» [5].
Кроме перечисленных боевых наград в приказе от 19 января 1917 года за
№19 сказано «По Высочайше представленной мне власти, награждаю
нижепоименованных нижних чинов 1-го Екатеринодарского кошевого
Атамана Чепеги полка – медалями с надписью «за усердие» за отлично-
усердную службу и особо-ревностную службу и труды, понесенные на театре
военных действий, со старшинством с 1-го января 1916 года… серебряную
медаль для ношения на шее на Станиславской ленте: … Мл. ур. Михаила
Чебу…» [6]. Видимо, это была последняя награда Первой мировой войны,
которой была отмечена легендарная казачка.
Когда же в действующей армии вводятся отличия за ранения в приказе
по полку от 2 февраля 1917 года указан «Список офицеров и нижн. чинов
раненых и контуженых и возвратившихся в строй после ранений и контузий
…Мл. ур. Чеба Михаил – один раз…. Имеют право ношения отличия
ранений» [7].
К сожалению, точных данных о Елене Чобе в годы гражданской войны
найти не удалось. Бардадым писал: «Порубали ее саблей на мосту
Славянском…» [8]. Однако есть и другая версия, что Елена могла
эмигрировать вместе с белой армией за границу. По полученной из США
фотографии, сделанной в конце 20-х годов, на которой изображена
театрализованная группа кубанских джигитов, « в верхнем ряду стоит Федор
Рябчун, а в первом ряду в серой черкеске и белой папахе сидит казак, в лице
которого есть очень похожие черты от той, двадцатилетней Елены Чобы»[9].
Возможно, когда-то и удастся получить более достоверную информацию о ее
дальнейшей судьбе.
Примечания
1. Бардадым В.П. Кубанская кавалерист-девица // Бардадым В. Ратная
доблесть кубанцев. Краснодар. 1993. С. 129–135.
2. Бардадым В.П. Кубанская кавалерист-девица Елена Чоба // Бардадым
В. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар. 2010. С. 124–129.
3. Кубанские областные ведомости. Екатеринодар. 1914. 14 октября.
С.2.
4. Елена Чоба – казак герой // Кубанский казачий вестник.
Екатеринодар. 1915. 16 августа. №33.
5. Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. 396.
Оп. 1.Д. 11111. Л.-4.
6. Там же. Оп. 5. Д. 27. Л. 26.
7. Там же. Л. 62, 66.
8. Бардадым В.П. Кубанская кавалерист-девица Елена Чоба // Бардадым
В.П. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар. 2010. С. 129.
9. Корсакова Н.А. Казак-девица из станицы Роговской // Станица. 2004.
Январь. №1 (41). С. 25.
А.И. Карпова
Шейх Кунта-Хаджи. Трагедия великого гуманиста
Вспомним Библейскую легенду о Вавилонской башне. Когда-то мы
были едины, не разделены на народы и жили Единой душой, следуя заповеди
любви к ближнему как к самому себе. Но случилось то, чего не было в
Божественном замысле – мы стали не просто разными, мы стали чужими
друг другу.
Библейские времена уходят от нас всѐ дальше, а заповедь любви к
ближнему, становится просто словами. Но история преподаѐт уроки всем,
даже тем, кто не хочет или неспособен учиться. Только для этих
неспособных (с обеих сторон) повторение бывает весьма жестоким.
Давным-давно более 1 000 лет назад положено начало совместной жизни
христиан и мусульман на одной территории, которая была Русью, потом
стала Российской империей, затем – СССР, а теперь называется просто
Россией.
Одним из самых серьѐзных испытаний в истории отношений России с
иноверцами стала Кавказская война (1817–1864 гг.). Если говорить об уроках
той далѐкой войны, то они, конечно же, не в рабской покорности любым
действиям центральной власти, любому еѐ силовому давлению, а в
необходимости отстаивать свои интересы, сохранять свою религию и
культуру в составе великой многонациональной державы, не разрывать, а
совершенствовать веками складывающиеся материальные и духовные связи
и ставить их на службу интересам своего народа.
Кунта-Хаджи почитают на Северном Кавказе, его образ опровергает
традицию газавата. Благодаря его учению, его наставлениям воинствующий
ислам не стал здесь господствующей традицией.
Вся деятельность шейха Кунта-Хаджи отмечена величайшим
гуманизмом. И тем более трагично то обстоятельство, что его учение не было
осознано народом накануне новой страшной национальной беды – войны в
Чечне 1994-96 гг. Братство, именующее себя кунта-хаджинцами, зикр, были
использованы местными политиками не в реализации их главной миссии –
миротворческой, гуманистической, а для обслуживания собственных
политических позиций, своего не всегда оправданного радикализма.
В свете событий последних лет, происходящих на Кавказе и во всѐм
исламском мире, учение Кунта-Хаджи Кишиева обретает особую
актуальность.
Чеченец из аула Илсхан-Юрт, оставшийся в истории под именем шейх
Кунта-Хаджи, основатель зикризма, появился на политической арене, когда
затянувшееся кровопролитие грозило чеченцам полным уничтожением.
Проповедуя идеи гуманизма и пацифизма, Кунта-Хаджи был услышан своим
народом, жаждавшим мирной жизни. Идеология зикризма противоречила
идеологии газавата, требующей продолжения борьбы с противником до
победного конца. Вождю газавата Шамилю, противостоял Кунта-Хаджи.
Хорошо известно, чем завершился исторический спор имама Шамиля с
Кунта-Хаджи. Шамиль, породивший газават, стал почѐтным гостем русского
царя, а конец жизни провѐл в священной для мусульман Мекке. Кунта-
Хаджи, всю жизнь проповедовавший смирение, мир, доброту и
справедливость, был арестован зимой 1864 года и в тюрьмах Новочеркасска
и Устюжино сполна испытал судьбу заурядного уголовника.
Для любой власти самое страшное – проповедь внутренней свободы,
Российская империя не стала исключением. Власти понятен тот, кто
стремится к Власти. Сильный, влиятельный враг, каким был Шамиль,
понятен – его можно победить в открытом бою. А как быть с добрым
проповедником, который сеет в душах людей зѐрна свободы, из которых
потом неизвестно что вырастет? Кунта-Хаджи с его обращением к
внутреннему миру человека предложил идею Истинной Свободы. А для
власти нет ничего страшнее человека, «убившего Дракона в себе»…
Кунта проповедовал идеи, глубоко отличные от того понимания ислама,
которое насаждалось имамом Шамилем. Легко заметить, что идеи Кунта-
Хаджи созвучны Евангелию и буддизму:
«…Любите друг друга, поддерживайте друг друга, будьте по-
настоящему братьями друг другу. Только любя веру в душах каждого из нас,
вы любите веру подлинную, а не мифическую. Никто и ничто: ни холодное
звѐздное небо, ни животные, не наделѐнные разумом, не способны
воспринять и осмыслить святое чувство веры, кроме людей, таких как и вы.
Ищите Всевышнего в себе». [1] Вместо газавата Кунта-Хаджи проповедовал
идею духовной независимости.
Кунта-Хаджи отрицал не только эту, а любую войну, говорил, что нельзя
отвечать злом на зло, просил прощать своих врагов – идя против глубоких
установок горского и исламского сознания. При этом он обращался к
отдельному, одинокому человеку – а не семье, роду или тейпу. Принять
несправедливую реальность и остаться собой может только сам человек. Он
говорил, что спасение человека только в духовном росте. Для мира, где
царили коллективная ответственность и уважение к силе, это было
ценностной революцией.
Пацифизм Кунта-Хаджи происходил из любви, которую он исповедовал,
- ко всякому человеку, его душе, ко всем живым существам. Кунта говорил,
что мюрид должен жить простой жизнью, стараться делать маленькие
добрые дела, любить и уважать всѐ живое – а также землю и воду, весь мир,
созданный Всевышним. Познать Бога можно, лишь «глазами сердца».
«Не делите людей на князей и рабов, на местных и пришлых…
Уважайте всех устазов, все учения, не враждуя и не пренебрегая мнением
каждого. К истине ведут много дорог, лишь бы в главном они сходились». [2]
Кунта-Хаджи впервые апеллировал не к правилам, а к душе, чувствам
человека. С адатом и шариатом Кунта нисколько не спорил, наоборот,
всячески призывал их соблюдать. Но, в отличие от шариата, насаждавшегося
Шамилем, взгляды Кунта-Хаджи не противоречили чеченским традициям.
Идея высшего божественного начала в средневековых языческих
культах чеченцев была абсолютно абстрактной. В этом отношении она была
гораздо ближе к раннему христианству, чем к другим монотеистическим
религиям. Иоанн Антон (Антонович) Гюльденштедт (1745–1781) – один из
первых исследователей быта и культуры северо-кавказских народов отмечал,
что чеченцы, веруя в единого Бога (Декла) гораздо ближе к христианству,
чем другие народы. Древние предания сохранили память о существовании в
горах Чечни христианских храмов и монастырей, и о деятельности
миссионеров, которые, вероятнее всего, были византийскими, а позже
генуэзскими монахами.
В Позднем Средневековье (16-17вв.) складывается культ «достойного
человека» - «къонаха» и принимает окончательную форму «къонахалла» -
«кодекс чести», который определяет главной целью жизни человека
бескорыстное служение своему народу. Главным смыслом жизни къонаха (в
переводе с чеченского – «сын народа») было служение своей родине,
служение не ради славы, денег или сана. И хотя постулаты «Къонахалла»
опираются на ислам, в них прослеживается влияние народных традиций,
которые формировались не без влияния раннего христианства. Из кодекса
«Къонахалла»:
- Истинная вера и справедливость являются высшей духовной целью
къонаха.
- Къонах с состраданием относится ко всему живому. Никогда без
необходимости не срубит дерева, не причинит вреда ни одному живому
существу.
- Къонах в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием
своего духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной
пользой.
- Къонах должен постоянно оттачивать свой ум, постигать мудрость и
опыт мудрейших, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как
только через знание можно прийти к истинной вере и постижению
справедливости.
- Къонах должен быть милосердным к слабым и немощным. Он должен
относиться с состраданием не только к людям, но и к животным, которые не
имеют разума и не могут оградить себя от человеческой жестокости. [3]
В «Къонахалла» мы находим много общего с учением Кунта-Хаджи. Его
мировоззрение выросло из традиционного миропонимания, было местным.
Это и привлекало чеченцев, для которых исламский фундаментализм
Шамиля был несколько чужим. Но, даже говоря вещи совсем привычные,
Кунта-Хаджи переворачивал весь мир, потому что обращал внимание на
человека, а не на общественные правила:
«Уважайте старшего по возрасту, ибо он многое пережил. Уважайте
младшего, ибо он, возможно, не успел ещѐ много согрешить. Мюрид должен
уважать каждого человека, ибо только таким образом его душа будет
оставаться спокойной…» [4].
Однако его проповедь продолжалась недолго. Российская власть
испугалась растущего влияния святого, усмотрев в объединении суфиев
зѐрна сопротивления, хотя судя по донесению русского офицера
А.П.Ипполитова, движение было не только безвредным, но и весьма
нравственным. Тем не менее, 3 января 1864 года по доносу ортодоксальных
мулл и личному распоряжению Великого князя Михаила Романова, Кунта-
Хаджи вместе с ближайшими мюридами был арестован. Из тюрьмы он сразу
написал письмо последователям с просьбой не предпринимать никаких
насильственных действий. На этапе Кунта-Хаджи был разлучѐн со своими
мюридами и один направлен на вечную ссылку в город Устюжна
Новгородской губернии. Оттуда Кунта-Хаджи писал своей семье полные
смирения письма, которые не дошли до адресатов, но сохранились в
новгородских архивах. Из них известно, что шейх сильно болел и голодал,
так как не знал русского языка и не мог заработать себе на жизнь. Через три
года, 19 мая 1867, он умер.
Арест духовного пастыря вызвал у людей панику. Будь это другой шейх,
чеченцы подняли бы восстание и отомстили властям, но Кунта-Хаджи учил
их отказаться от насилия. Несколько тысяч мюридов, в том числе женщины,
собравшись в Шали, потребовали его освобождения, а затем, побросав
оружие, с одними кинжалами направились на позиции царских войск. Пошѐл
слух, что оружие русских не выстрелит, поскольку устаз-чудотворец
наполнил его водой. Когда толпа подошла к шеренгам на расстояние 30
сажень, она была расстреляна ружейными залпами и картечью, погибло
около 400 человек.
После Шалинской трагедии движение зикристов было запрещено и
ушло в подполье, где стало бурно расширяться. При этом в нѐм
действительно стала нарастать политическая, антироссийская
направленность. К секте примкнули многие абреки, использовавшие
зикристское подполье для своей борьбы. А мистицизм, ненасилие и любовь
ко всему живому постепенно выхолостились. В результате вскоре, по иронии
судьбы, кунта-хаджинцы превратились в самый воинственный чеченский
вирд. Просуществовав в подполье до новейшего времени, он, в частности,
играл большую роль в приходе к власти Дудаева и первой чеченской войне.
Таким образом, трагически подтвердился исторический урок – насилие
может породить только насилие.
Существует мнение, что учение Кунта-Хаджи о ненасилии оказало
влияние на философию служившего в Чечне Льва Толстого, а через него на
Махатму Ганди. А некоторые чеченцы и сегодня верят, что Кунта-Хаджи
явится вместе с Иисусом во Втором Пришествии.
Сегодня наш мир раздирают проблемы экологические, политические,
религиозные, экономические…Сколько ещѐ должно пройти времени и
произойти трагедий, чтобы изменилась цивилизационная шкала ценностей, и
вместо, грозящего ему полным уничтожением, обустройства внешнего мира,
мы обратились бы к миру внутреннему?..
Примечания.
1. Акаев В.Х. Шейх Кунта-Хаджи. Жизнь и учение. Грозный, 1994.
2. Акаев В.Х. Суфизм в контексте арабо-мусульманской культуры. Ростов н/Д, 2004
3. Зелев А., Знаменитые чеченцы и ингуши. Энциклопедия. www.proza.ru
4. Ильясов Л., Тени вечности. Чеченцы: архитектура, история, духовные традиции.
М., 2004
5. Сборник сведений о кавказских горцах. Выпуск II. Тифлис, 1869.
В.И. Колесов
Хозяйство, статистика, идентичность
(на примере населения аула Бжедуховского Кубанской области)
Во второй половине XIX в. Российское государство уделяет все более
пристальное внимание населению, как объекту политики. Популярной научной
дисциплиной стала статистика, призванная не просто описать население, но и
стать орудием воздействия на общество. Распределение населения на группы,
считалось, может привести к созданию полной картины жизни, и тем самым
способствовать улучшению еѐ [1].
Статистические данные документальных описаний, статотчетов,
переписей позволяют увидеть модели конституирования и типизирования не
только групп населения, таких как жители аула Бжедуховского, но и дать
небольшую характеристику самому аулу (селу) как населенному пункту. Аул
Бжедугхабль (или Бжедуховский), согласно сложившимся представлениям,
образован в 1871 году [2]. В тоже время в «Памятной книжке Кубанской
области на 1874 год» указана другая дата основания аула – 1868 г. [3] Время
появления в этом населенном пункте христианского населения пока точно не
установлено, но 29 июля 1872 года «Кубанские областные ведомости»
сообщали о том, что «житель Бжедуховского аула Майкопского уезда поручик
милиции Петр Парсеюв Асланов… признаны в потомственном дворянском
достоинстве… указом Правительствующего Сената, от 15 марта 1872 г., за №
1004» [4]. Петр Асланов, по-видимому, был одним из первопоселенцев аула
Жители занимались сельским хозяйствам: к «традиционным» культурам
выращивания зерновых во второй половине XIX в. добавился табак. Из тех
немногочисленных обнаруженных документов следует, например, что уже в
1873 г. в юрте аула выращивали «турецкий» табак, и было собрано 725 пудов в
названном юрте, на земле полковника Дукмасова и арендаторами на земле
Султана-Крым-Гирея [5]. Табаководство как отрасль сельского хозяйства
появилась в Кубанской области, во многом, благодаря анатолийским
переселенцам – понтийским грекам [6]. Вероятно, контакты между греческими
сообществами способствовали освоению горскими греками данного вида
хозяйствования. Генерал-лейтенант Павел Григорьевич Дукмасов скупил
несколько участков в юрте аула Бжедуховского. Как следует из «Списка
почетных горцев Майкопского отдела, коим Всемилостивейше пожалованы
земельные участки» (1899 г.), участки поручика Караулана Абадзе, ротмистра
Крым-Гирея Болюка Кодрокова и подпоручика Воздзема Вотыха были
приобретены по купчей Дукмасовым. Несколько земельных участков юрта
Бжедуховского купил купец Иван Павлович Богарсуков: у подпрапорщика
Султана Инат-Гирея, у Аслан Гирея Иванукова, у подполковника Бахта Гирея
Адыгее, у майора Георгия Улагая [7]. Сын Ивана Павловича Павел Иванович
Богарсуков получил в наследство в 1890 г. от известного нам Петра Асланова
владельческий участок земли в юрте с. Темиргоевского, а, кроме того, участки
купленные Аслановым: полковника Мышеуста Догужиева и Хаджи Измаила
Хакуя (Хакуева) в том же юрте. П.И. Богарсуков владел еще двумя участками
(сыновей штабс-капитана Ботокова в юрте аула Темиргоевского и капитана
Владислава Керканова в юрте Хатукаевского), по документам неясно, как
второй ему достался. Первый же участок сыновей Ботокова в 18690-е гг. был
куплен П.Б. Асланов, и, видимо, Богарсукову достался по наследству, как
некоторые другие вышеуказанные земельные наделы. В Екатеринодарском
отделе в подобном списке фигурирует купец Богарсуков, но отсутствие
инициалов не позволяет нам идентифицировать этого человека среди
представителей многочисленного «клана». Он купил земельные участки
прапорщика Альхаса Бжегакова, подпоручика Султан Инат Черия и Султан
Селим-Черия (Бжегокаевское общество), поручика Карбеча Гатагу,
прапорщика Салим Черия Гатагу (Лакшукаевское общество) [8]. При
составлении этих списков наблюдалась та же путаница Петра и Борока
Асланова, что и в случае возведения его офицерский чин прапорщика. Если в
Майкопском отделе, где были участки подпоручика Петра Асланова с
сыновьями, доставшиеся в наследство Павлу Богарсукову, в том же списке
указан участок «Беслинеевского племени» Султан Хан-Чирея (юрт Ульского),
находящийся на момент составления «у наследников умершего Капитана
Борока Асланова, села Бжедуховского» [9], то авторы списка не
отождествляли Петра и Борока. И это несмотря на то, что оба эти человека
проживали в селе Бжедуховском и оба к тому моменту уже умерли. В список
по Екатеринодарскому отделу внесен купец Барок Асланов, владеющий через
покупку участками прапорщика Магомет Черия Берзегова и юнкера Айтеча
Эльбуздокова (Джиджихабльского общества) [10] и не указано, что он умер.
По-видимому, при составлении списков авторы пользовались устаревшими
документами. Кроме того, в интересующем нас юрте села Бжедуховского
участок Муссы Ахметова был куплен в 1878 г. крестьянином Полтавской
губернии Роменского уезда Курмановской волости Кондратом Бродовым
(Ахметов в 1899 г. жил в ст. Дондуковской). В том же 1878 г. житель с.
Бжедуховского Калистрат Николаевич Серафимов купил участок у Эфенди
Ахмета Шагимова с пасынками его Ислам Чиреем и Аслан Чиреем. Еще
раньше в 1874 г. поручик Пше Таталюстен Ахеджаков с братом Чемуем
продали свой участок жителям сел. Филипповского, а Эль-мурза Джанкетов с
сыном и родственниками – жителя сел. Леонтьевского [11].
Таким образом, вся земля юрта Бжедуховского аула (села) состояла из
совокупности общиной части и частновладельческих участков. Постепенно
происходила смена владельцев частных земельных участков, причем
«черкесы» продавали свои наделы, что, конечно же, связано с эмиграцией
(мухаджирством) мусульманского населения а. Бжедуховского. В начале XX в.
(в середине 1907 г.) в руках «иногородних» уже было множество участков
земли. Самым крупным землевладельцев оставались черкесогаи, так Иван
Павлович Богарсуков, имел 2347 десятин земли. Но, кроме него владели
земельными наделами: Бродовой Степан Кондратович (87 дес.) и Бродовой
Корней Никитич (60 дес.); Путыня Захар Ильич (200 дес.); Сидоров Иван
Павлович, Апостоловы Кондрат (0,5 дес.) и Афанасий (1 дес.) Логвиновичи;
Бурлай Семен Иванович (1 дес.) и Иван Семенович (10 дес.); Верба Спиридон
и Степан Степановичи (по 5 дес.); Гунькины Сидор (3 дес.), Иван (3 дес.) и
Никита (5 дес.) Максимовичи; Гаврилец Лука Матвеевич (40 дес.); Гайдаенко
Иосиф Тимофеевич (25 дес.), Жадан Иван Павлович (25 дес.), Карасюк Евграф
Степанович (7 дес.), Кажевники Лука (2 дес.), Иван (1 дес.) Евдокимовичи и
Исаак Иванович (0,5 дес.), Лукин Семен Степанович (12 дес.), Лотаревы Семен
Тихонович (25 дес.) и Исидор Тимофеевич (6 дес.), Лисецкий Иван Артемович
(10 дес.), Мединские Иов (35 дес.) и Николай (36 дес.) Ивановичи, Марюха
Антон Филиппович (30 дес.), Никольские Павел и Давид Петровичи (по 10
дес.), Остапенко Савелий Яковлевич (10 дес.), Подлесный Федот Прокофьевич
(7 дес.), Полюхов Давид Филиппович (7 дес.), Пригода Иван Федорович (16
дес.), Павлюк Емельян Степанович (8 дес.), Клементий (3 дес.) и Алексей (3
дес.) Емельяновичи, Пожитько Сафрон Исаевич (5 дес.), Солтановский Федор
Васильевич (3 дес.), Терновский Яков Васильевич (1 дес.), Трилис Владимир
Даниилович (30 дес.), Дмитрий Владимирович (10 дес.) и Прокофий Иванович
(25 дес.), Федин Матвей Петрович (25 дес.), Чупейда Еремей Пантелеймонович
(45 дес.) и Шеремет Сила Илларионович (25 дес.) [12]. Эти структурные
изменения населения привели к постепенному преобладанию русскоязычного
населения, что отразилось и в статистических материалах о состоянии аула
(села) Бжедуховского. Кроме того, образовавшиеся на земельных участках
хутора в будущем превратились в равные с Бжедугхаблем по численности
населения (например, хх. Большой и Малый Сидоров, Богорсуков). На 1909–
1911 гг. И.П. Сидоров и И.П. Богарсуков входили в число наиболее крупных
землевладельцев региона [13]. В юрте аула в начале XX в. образовалось
Терпуговское крестьянское поземельное товарищество, призванное
содействовать развитию хозяйств мелких сельских производителей [14].
Статистические данные о населении Бжедуховского аула (села)
немногочисленны, но имеющиеся в нашем распоряжении мы приводим, не
только как определенные цифры, демонстрирующие численность, но и как
отражение процессов фиксации/описания или переписи.
Самые ранние данные о численности населения аула датируются 1873
годом. В Бжедуховском было 153 двора, 463 мужчины и 450 женщин [15]. В
1876 г. в ауле было 506 мужчин [16].
В материалах о состоянии уездов Кубанской области за 1883 г. приведены
данные по Бжедуховскому аулу Майкопского уезда, причем год делился на
трети. В нашем распоряжении находятся цифры за январскую, майскую и
сентябрьскую трети, позволяющие говорить о поступательном росте
населения. Если по итогам первой январской трети в ауле проживало
«иногородцев» 767 мужчин и 725 женщин, а «инородцев» 610 мужчин и 585
женщин, то после майской трети при том же количестве «инородцев»,
наблюдался рост «иногородцев» – 836 мужчин и 784 женщины, а в
сентябрьской трети увеличилась численность обеих категорий населения –
«иногородцев» 997 мужчин и 798 женщин, «инородцев» 671 мужчина и 631
женщина. Кроме того, в ауле проживали лица, относившиеся к духовному
званию 7 мужчин и 3 женщины (к сожалению, без указания конфессиональной
принадлежности). Из построек в населенном пункте находились две
церковные постройки (опять без определенной религиозной
маркированности), 3 общественных дома, 465 частных, 2 хлебных магазина, 5
лавок, 7 кузниц и 1 училище, где занимались 10 мальчиков и 3 девочки [17].
Можно констатировать смешение в статистических данных гетерогенных
номинаций: «иногородцы» (иногородние) и «инородцы». Первая категория
выступала оппозицией местному, «коренному» населению, к которому
относили кубанских казаков и «горцев» (представителей различных адыгских
этнических групп. Иногородние массово переселявшиеся на Северный Кавказ
после отмены крепостного права в 1861 г. и введением положения о заселении
Кавказа оказывались в определенной мере бесправным населением, не
имеющим возможности участвовать в аульном/станичном/сельском
управлении и в выборах местной администрации. Категория «инородцы»
маркировала чуждость «русскому», отсталость и особую форму управления. В
тоже время в данном случае понятие «инородцы» выступало как синоним
коренному, местному и в одной из таблиц (за майскую треть) было заменено
понятием «казачье сословие» [18]. Видимо, применялись для составления
статистических данных стандартные схемы, поэтому подобное замещение не
выглядело казусом. В более ранних по времени собирания материалах за 1881
год, иногородние вообще не указывались и приводились цифры только по
«инородцам», видимо, как обладавшему правами населению. Так, за
январскую треть 1881 г. их проживало в Бжедуховском ауле 582 мужчины и
546 женщин, а по итогам сентябрьской трети уже соответственно 587 и 549. в
этих же данных были приведение важные сведения, характеризующие занятия
населения. Хлеба в запасном магазине хранилось ярового 214 четвертей,
скотоводство было представлено лошадьми (440 шт.), волами (476), коровами
и гулевым скотом (2609), овцами и козами (2674). Также в распоряжении
жителей аула находилось 4 пасеки, 140 ульев и 1 водяная мельница [19].
В сравнительной ведомости данных «числительности» горского населения
Кубанской области по сведениям 1885 года и по «новым» посемейным
спискам, составленным в августе и сентябре 1886 г. в ауле Бжедуховском
Майкопского уезда было [20]:
Численность по сведениям к
1.01. 1886 г.
По посемейным
спискам августа –
сентября 1886 г.
разность
Число
семейс
тв
Числ
о
душ
М.п.
Числ
о
душ
Ж.п.
Число
податн
ых
дымов
Число
семейс
тв
Числ
о
душ
М.п.
Числ
о
душ
Ж.п.
Число
семейс
тв
Числ
о
душ
М.п.
Числ
о
душ
Ж.п.
153 489 462 184 159 507 477 6 18 15
На 1890 год аул Бжедуховский находился в Лабинском отделе (в
Майкопский отдел вернули решением Военного Совета 7.02. 1891 г.). В юрте
аула насчитывалось 5483 десятины земли, 557 дворовых мест, 639 жилых
дома, 4 хутора, коренных житедей 1323 (680 муж. и 643 жен.), иногородних
имеющих оседлость 2307 (1205 и 1102), иногородних не имеющих оседлость
97 (60 и 37), лошадей 665, рабочего рогатого скота 687, гулевого рогатого
скота 4174, овец 3920, 3 лавки (магазина), 3 питейных заведения, 1 паровая
мельница, 1 маслобойня и 2 тройки обывательской почты [21].
В начале 1890-х гг. в структуре народонаселения Бжедуховского аула
произошли кардинальные изменения. После волнений и возмущений 1890 г.
горцы, ничего не добившись, приняли решение эмигрировать в пределы
Османской империи. По ведомости «о числе горцев, переселившихся в 1890 г.
в Турцию из аулов Лабинского отдела» Бжедуховский аул покинуло 1028 чел.,
еще 18 не были переселены до окончания следственных дел над ними и,
наконец, 88 чел. (12 семей) отказались от эмиграции [22]. С тех пор среди
«коренного» населения аула (села) преобладали греки и армяне.
В 1893 г. 26 октября старшим помощником Атамана Майкопского отдела
была проведена ревизия Бжедуховского сельского (аульного) правления,
выявившая массу организационных и делопроизводственных недостатков. «1.
По входящему журналу поступило бумаг с 1 января по день ревизии 1586. из
них неисполненных 101, в том числе денежных по разным взысканиям, как за
прошлые годы, так и за настоящий окло 1 т. руб. 2. По книге экономической
состоит на приходе 1741 р. 40 к., в расходе 2433 р. 34 к., перерасходовано 691
р. 94 к. Деньги эти перерасходованы из собственности казначея, как он
показал. На вопрос, Старшина объяснил, что о такой громадной передержке он
не знал, а казначей на оборот объяснил, что Старшине было доложено, что
денег нет. Ежемесячной поверки денежных сумм не бывает. Доверенных нет.
Деньги, когда они бывают храняться на руках казначея. Он ими и ведает, да
писарь. 3. Общественного хлеба на лицо: озимого 104 час. 5 чек., недоимки:
озимого 216, ярового 108. Следует принять меры к пополнению. Под озимый
посеяно 15 десятин. 4. Опек нет. 5. Пригульного скота имеется три штуки,
записаны в книге под №1 еще в Мае месяце 1891 года, и до сего времени не
проданы. Кроме того, ревизией обнаружено, что у Ивана Дехтярева находится
приблудных пара быков около семи лет, а у крестьянина, который живет на
Бродовом хуторе, но фамилии его Старшина не знает, находится приблудная
кабылица темногнедая около 6 лет со времени как приблудилась и как быки,
так и эта кабылица в книгу не записаны и до сего времени не проданы. 5.
Замечено – архивные дела помещаются не в шкафе и не в архиве, потому что
нет помещения, а просто лежит на потолке шкафа. Требуется отдельное
помещение. 6. Книги на записку замечаний ревизующими не заведено. 7.
Производные дела хотя и в порядке, но нет в них частных описей, а они по
закону требуются. 8. Пожарного инструмента нет. 9. Помещение сельского
правления хорошее. 10. Школа строиться и довольно просторное, под желтой
крышею. Теперь же школа в частном доме и учитель заявил, что недостает
двух парт. Следует немедленно сделать парты и передать учителю. 11.
Признаю, для пользы службы писаря Макаусова переместить в другое место, а
в аул Бжедуховский назначить другого для приведения денежной отчетности в
порядок» [23].
Решение об учреждении одноклассного сельского училища Министерства
Народного Просвещения на 50 учащихся в ауле Бжедуховском было принято в
1880 г. [24] В 1902–1903 г. почетным блюстителем этого одноклассного
сельского нормального училища был Степан Пантелеймонович Девтерев,
заведующим – Косьма Федорович Шелегеда, законоучителем православным –
Евгений Иванович Тихов-Александровский, а место мусульманского
законоучителя было вакантно [25]. С.П. Девтерев занимал эту почетную
должность с 1898 г., Тихов-Александровский был священником
Ставропольской духовной семинарии, кроме них к 1 января 1902 г. в училище
работали Степан Тимофеевич Метлин – учителем и Даниил Александрович
Соболев – помощником учителя [26]. Е.И. Тихов-Александровский оставался
законоучителем в Бжедуховском сельском училище долгие годы, он упомянут
в качестве такового в 1908–1911 гг. Заведующим же в эти годы был Георгий
Андреевич Свистунов [27], ранее занимавший должность писаря сельского
правления. В 1909–1911 гг. почетным блюстителем училища находился
Василий Дмитриевич Серафимов [28].
Лучшие выпускники училища могли продолжить обучение. Например, в
июле открылись две вакансии в Майкопской горской школе и одну из них
занял сын Якова Костанова Михаил [29]. Впоследствии он стал школьным
учителем, женился на русской и по-видимому, все меньше и меньше
поддерживал отношения с бжедугхабльцами. М.Я. Костанов в 1903 г. был
учителем в Гатлукаевском одноклассном сельском нормальном училище [30],
в 1909–1911 гг. заведовал Шенджиевским сельским нормальным училищем
[31], в 1914–1915 гг. заведовал Опочиновским хуторским одноклассным
училищем [32].
Получив образование за пределами аульного училища индивид вырывался
из привычной обстановки, «цивилизировался», и зачастую, никак не
демонстрировал свое родство с горскими греками. Занятия торговлей тоже
способствовали расширению социальных сетей и, таким образом,
приобретению новых идентификаций сословного и профессионального типа.
Например, Илларион Яковлевич Костанов в 1909 г. был членом Правления
Общества взаимного вспоможения приказчиков и служащих в частных
коммерческих учреждениях Екатеринодара [33]. Эту же должность, но позже,
в 1913 году занимал Дмитрий Егорович Девтеров.
По данным I Всеобщей Переписи населения Российской империи 1897 г. в
селе Бжедуховском Майкопского отдела Кубанской области проживало:
«Православных 395, Армяно-григориан 110, Магометан 101», таким образом,
общее количество составляло 611 человек (323 мужчины и 288 женщин) [35].
Первая Всеобщая перепись населения, проведенная в один день, 28 января
1897 г., и разработанная по модели Международного статистического
общества, уделяла внимание родному языку и вероисповеданию, пытаясь
через эти концепты («чувство принадлежности к языку») определить
количество «народностей» и «племен» империи [36]. Можно предположить,
что указанные 395 человек православного исповедания в селе Бжедуховском –
греки, но нет никакой уверенности, что в это число не попали русские
переселенцы, так как совокупное количество населения села получилось 606
чел., а в 1900 г. коренных насчитывали только 465 (см. ниже). Еще более
запутанной выглядит ситуация, если анализировать данные этой переписи,
выбирая материалы по категории «Распределение населения по
вероисповеданиям и родному языку». Всего по Кубанской области
православных с родным черкесским языком учли 59 чел. (41 муж. и 18 жен.).
но в Майкопском отделе всего 11 чел. (7 муж. и 4 жен.). К то время как
армяно-григориан с родным черкесским языком в том же Майкопском отделе
119 чел. (59 муж. и 60 жен.), что вполне коррелируется с черкесогайским
населением исследуемого аула. Скорее всего, горские греки указали себя как
православных с родным греческим, число которых в Майкопском отделе было
1398 чел. (801 муж. и 597 жен.) [37].
В «Военно-статистическом обозрении Кубанской Области»,
опубликованном в Тифлисе в 1900 г. исследуемый нами населенный пункт
фигурировал как село Бжедуховское, и соответственно не входил ни в число
горских селений, ни в число станиц, а был указан отдельно в Приложении 5
«Список остальных населенных пунктов Кубанской области». Количество
дворов в селе было 665, всех жителей – 4230 человек, а коренных только 465.
В графе «Народность коренных жителей» было указано: «Армяне, греки,
черкесы» [38]. Таким образом, складывалась ситуация характерная для многих
населенных пунктов области того времени вне зависимости от статуса
(станица, аул) – преобладание иногороднего населения над так называемым
коренным.
Статистические данные из года в год появлялись, будучи зачастую,
парадигмально разными. Так, в 1906 г. указали население села Бжедуховского,
посчитав всех жителей, обитающих в юрте (даче) селения. Получилось 780
дворов и 4457 душ обоего пола. При этом обозначили «национальность
коренного населения» – армяне и греки [39]. В 1908 г. другой составитель
«Кубанского календаря» привел совершенно другие цифры населения
изучаемого села: 71 двор, 549 душ обоего пола. Видимо учитывались
проживающие собственно в селении, а не на хуторах юртовой земли, или даже
только «коренные», «национальность» которых опять подчеркнута – греки и
армяне [40]. Кстати, в этих двух случаях впервые не упоминаются горцы в
качестве «коренного населения» и статус населенного пункта четко определен
как «село». С 1909 г. система учета стабилизировалась: фиксировали
коренных, «иногородних» и «временных» жителей. В перечне «коренных
национальностей» к армянам и грекам опять добавились горцы [41]. На 1
января 1912 г. в ауле Бжедуховском насчитывалось 582 чел. «коренного
населения» [42] Кроме национальности, было указано вероисповедание
коренного населения – соответственно православные, армяно-григориане и
«магометане» [43]. В 1913 г. населенный пункт опять фиксировался аулом.
Динамика численности представлена в нижеследующей таблице.
Категория
населения
год
Коренное население Иногородние, имеющие
оседлость
Временно
проживающие
двор
Все
го
чел
.
му
ж
жен
двор
все
го
му
ж
жен
все
го
му
ж
жен
1909 [44] 74 548 291 257 3719 1940 1779 267 91 176
1910 [45] 74 565 303 262 3234 1907 1327 158 76 82
1911[46] 83 582 314 268 2956 1578 1378 161 77 84
1913[47] 89 606 326 280 184 1285 677 608 149 81 68
1914[48] 88 618 331 287 188 1442 761 681 155 77 78
1915[49] 88 571 303 268 188 1272 674 598 80 48 32
В годы I мировой воины российское правительство осознало
необходимость проведения переписи для регулирования процессов в стране, в
том числе получения продовольствия. Потребность в переписных данных была
обусловлена устареванием материалов, которыми располагало статистическое
управление. Проведение переписи состоялось в 1916 г. Но уже в 1917 г.
оказалось, что данные переписи 1916 г. устарели, и не могут быть основой для
организации продовольственного регулирования в стране. Надвигающаяся
продовольственная катастрофа заставила Временное правительство провести
летом 1917 г. новую сельскохозяйственную перепись. Поуездные итоги ее по
57 губерниям и областям были изданы в 1923 г. [50] Сельскохозяйственная
специфика переписи не дает возможности полностью охарактеризовать
народонаселение изучаемого аула, но полученные данные существенно
дополняют имеющиеся сведения о статистических характеристиках
Бжедуховского аула (села). Во-первых, необходимо отметить особую
дифференциацию населения по этой переписи. Выделялись «приписные»,
«посторонние» и «нетрудовые» хозяйства. Приписные жители – особая
юридическая категория населения, каким-либо образом формально
закрепленная за конкретным населенным пунктом. В данном случае
«приписное» население синонимично «коренному» населению, а
«посторонние» соотносятся с иногородними. В ауле Бжедуховском
зафиксировано 335 домохозяйств, из них 71 приписное, 257 посторонних и 7
нетрудовых. 71 домохозяйство коренных (приписных) жителей по
национальности распределились следующим образом: 14 – горцы, 12 – армяне
и 45 – греки. Из иногородних (посторонних) 5 армянских домохозяйств, 109 –
великороссы, 128 – малороссы, 1 – греки, 4 – поляки, 8 – русские, 1 – турки, 1
– прочие национальности. Нетрудовые хозяйства представлены 1
великоросским и 6 малоросскими [51]. Кроме национального состава были
собраны сведения, в основном, о сельскохозяйственных характеристиках
общины, в чем, собственно, и заключалась цель переписи. Так, было
определено количество разных категорий земельных владений. «Приписные»
жители владели надельной (юртовой) землей. На 71 домохозяйство
приходилось 205,5 паев (надельных единиц), усадебной земли – 24,9 десятин,
пашни 1071,1 десятина. «Посторонние» обладали собственной (купчей)
землей: число домохозяйств 110, усадебной земли – 67,8 дес., пашни – 1156,7
дес., под покосы – 24 дес. Так же категорией «собственные (купчие) земли»
располагала третья часть населения аула – «нетрудовые» жители. У них на 7
хозяйств приходилось усадебной земли 16,1 дес., пашни – 395,5 дес., под
покосы 207 дес. и еще 40 десятин леса [52]. Таким образом, если сравнивать
категории населения, то земли под пашню было больше у «приписных» – в
среднем 15 дес. на домохозяйство против 10,5 у «посторонних», в свою
очередь у последних больше приходилось усадебной земли 0,6 дес. на
хозяйство (у «приписных» – около 0,35). К тому же «посторонние» владели
еще 24 дес. (т.е. в среднем более 0,2 дес. на хозяйство) под покосы, чего у
«приписных» не было вовсе. В тоже время статистика землепользования
демонстрировала другую тенденцию. «Приписные» использовали под пашню
всего 741,7 дес. (под посевами – 556, под перелогом 185), в то время как
«посторонние» обрабатывали пашенной земли 2992,2 дес. (т.е. более чем в 2
раза больше того количества, которым владели), в том числе под посевами –
2468,5, под паром – 113,8, под перелогами – 409,9, под покосами – 32,1 дес.
Также больше под пашню земли, чем владели, использовали «нетрудовые»
жители – 486,5 дес. (под посевами – 322, под паром – 12,5, под перелогами –
152) [53]. Таким образом, доля частновладельческого землевладения в общем
земельном фонде аула доходила до 70% [54]. Подобные данные
свидетельствуют о большей экономико-производственной деятельности
иногороднего пришлого населения, названного в переписи «посторонним», по
отношению к местному коренному «приписному» населению, отдающему
часть своих земельных владений в арендное содержание. Общинники сдавали
в аренду по данным на 1917 г. около 460 дес. земли [55].
Основной юртовый надел составлял 27,25% всей земли, входящей в «дачу
аула Бжедуховского», дополнительный надел – 4,52%, единоличные
владельцы – 43,48% и прочие владения 24,75% [56].
Население, на 1917 год жившее в даче аула Бжедуховского, составляло
6727 душ обоего пола (из них 3427 мужчин и 3300 женщин), приходившиеся
на 1136 хозяйств. В дачу входили следующие населенные пункты –
Бжедуховский аул с хуторами (335 хозяйств – 2402 души обоего пола: 1256
мужчин и 1146 женщин), село Филипповское (639 хозяйств – 3386 душ обоего
пола: 1696 муж. и 1690 жен.) и село Архиповское (162 хозяйства – 939 душ
обоего пола: 475 муж. и 464 жен.). В самом ауле насчитали 105 хозяйств, в х.
Дукмасов – 15, х. Богарсуков – 11, х. Сосновый – 19, х. Саратовский – 7, х.
Богомолов – 30, х. Орехов – 33, х. Гуниковский – 115, а всего – 335 [57]. Таким
образом, цифра 335 хозяйств «приписных», «посторонних» и «нетрудовых»
(см. выше) распространялась не только собтвенно на аул Бжедуховский, но и
на хутора, находившиеся неподалеку, в юрте аула.
В 1918 г. в эпоху революционных потрясений краевое правительство,
пытаясь контролировать положение дел, составляет список населенных
пунктов. К Майкопскому отделу относился аул Бжедуховский с хуторами
Богомоловым, Богарсуковым, Нижним Назаровым, Сидоровым,
Черногоркиным, экономией Богарсукова [58].
Таким образом, процессы описания населения аула (села)
Бжедуховского зафиксировали категоризацию греков и армян как коренных
жителей, что повлияло на трансформацию идентичностей этих
адыгоязычных христиан.
Примечания
1. Холквист П. Вычислить, изъять и истребить: Статистика и политика
населения в последние годы царской империи и в Советской России // Государство наций:
Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина / Под ред. Р.Г. Суни, Т.
Мартина; [пер. с англ. В.И. Матузовой]. М., 2011. С. 139–141.
2. Основные административно-территориальные преобразования на Кубани
(1793–1985 гг.) / Государственный архив Краснодарского края. Сост.: А.С. Азаренкова,
И.Ю. Бондарь, Н.С. Вертышева. Краснодар, 1986. С. 243; Список населенных Адыгейской
автономной области по состоянию на 1-е января 1927 г. (составлен по сборным
материалам статотдела АЧАО). Краснодар, 1927. С. 18.
3. Памятная книжка Кубанской области на 1874 год. Екатеринодар, 1873. С. 227.
4. Кубанские областные ведомости, 1872, 29 июля, суббота, № 1004. Л.1.
5. Кубанские областные ведомости (КОВ). 1873 год. №12. Суббота, 24 марта. Часть
неофициальная. Л. 3.
6. Современное положение табаководства в Кубанской области // КОВ. 1880 год.
№3. Суббота, 19 января. С. 3..
7. ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 2139. Л. 103–104 об.
8. Там же. Л. 58–62.
9. ГАКК. Ф. 454. Оп. 7. Д. 2139. Л. 87 об.
10. Там же. Л. 64 об.
11. Там же. Л. 104 об.–105.
12. ГАКК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25. Л. 18–22 об.
13. Джимов Б.М. Социально-экономическое положение и революционная борьба
трудящихся Адыгеи в 1901–1917 годах // Сборник статей по истории Адыгеи /
Адыгейский научно-исследовательский институт экономики, языка, литературы и
истории. Майкоп, 1976. С. 219
14. Там же. С. 244.
15. Памятная книжка Кубанской Области на 1874 год. Екатеринодар, 1873. С. 227.
16. Памятная книжка Кубанской Области на 1877 год. Екатеринодар, 1877. С. 136.
17. ГАКК. Ф. 460. Оп. 1. Д. 162. Л. 15 об., 35 об., 71 об.
18. ГАКК. Ф. 460. Оп. 1. Д. 162. Л. 35 об.
19. ГАКК. Ф. 460. Оп. 1. Д. 119. Л. Л. 9 об., 45 об.
20. ГАКК. Ф. 460. Оп. 1. Д. 209. Л. 7–8. Опубликовано в: Трагические последствия
Кавказской войны для адыгов (вторая половина XIX– начало XX века). Сборник
документов и материалов. Составители: Р.Х. Гугов, Х.И. Касумов, Д.В. Шабаев. Нальчик:
Издательский центр «Эль-фа», 2000 (Серия «Кавказский литературно-исторический
«Олимп»». Раздел «Архив». Выпуск 7). С. 255.
21. Кубанская справочная книга 1891 год. Составил Е.Д. Фелицын. Екатеринодар,
1891. С. 182–183.
22. ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 791. Л. 2. Опубликовано в: Трагические последствия
Кавказской войны для адыгов (вторая половина XIX– начало XX века). Сборник
документов и материалов. С. 305.
23. ГАКК. Ф. 449. Оп. 2. Д. 171. Л. 2 об. – 3 об.
24. КОВ. 1880. №9. Суббота, 1 марта. Часть неофициальная. С. 3.
25. Кубанский календарь на 1903 год. Екатеринодар, 1902. С. 75; Кубанский
календарь на 1904 год. Екатеринодар, 1903. С. 54.
26. Личный Состав Кавказского Учебного Округа к 1 января 1902 года. Часть II. /
Издание Управления Кавказского Учебного Округа. Тифлис, 1902. С. 47–48.
27. Кубанский календарь на 1909 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1909. С.
237; Кубанский календарь на 1910 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1910. С. 238;
Кубанский календарь на 1912 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1912. С. 242.
28. Кубанский календарь на 1910 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1910. С.
238; Кубанский календарь на 1912 год / сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1912. С. 242.
29. ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 682. Л. 35– 35 об., 37.
30. Кубанский календарь на 1904 год. Екатеринодар, 1903. С. 54.
31. Кубанская справочная книга на 1909 год. Екатеринодар, 1909. С. 199; Кубанский
календарь на 1910 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1910. С. 207; Кубанский
календарь на 1912 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1912. С. 218.
32. Кубанский календарь на 1915 год. Екатеринодар, 1915. С. 356; Кубанский
календарь на 1916 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1916. С. 230.
33. Кубанский календарь на 1909 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1909. С.
267.
34. Кубанский календарь на 1914 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1914. С.
292.
35. Населенныя места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего
наличнаго в них населения и числа жителей преобладающий вероисповеданий, по данным
Первой всеобщей переписи населения 1897 г. СПб., 1905. С. 34.
36. Кадио Ж. Как упорядочивали разнообразие: списки и классификации
национальностей в Российской империи и в Советском Союзе (1897–1939 гг.) // Ab
Imperio. 2002. №4. С. 177–206; она же. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940 /
Пер. с фр. Э. Кустовой. М., 2010. С. 70–71.
37. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / Издание
Центрального статистического комитета МВД / Под ред. Н.А. Тройницкого. Т. LXV.
Кубанская область. СПб., 1905. С. 64, 78–80.
38. Корольков Г. Военно-статистическое обозрение Кубанской области. Составил
Генерального Штаба Подполковник Корольков. Тифлис, 1900. С. 261.
39. Кубанский календарь на 1907 год / Сост. С.В. Руденко. Екатеринодар, 1906. С.
160.
40. Кубанский календарь на 1909 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1909. С.
278.
41. Кубанский календарь на 1910 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1910. С.
292.
42. ГАКК. Ф. 460. Оп. 2. Д. 41. Л. 20 об.
43. Кубанский календарь на 1912 год / сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1912. С.
298.
44. Кубанский календарь на 1910 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1910. С.
292.
45. Кубанский календарь на 1911 год / Сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1911. С.
290.
46. Кубанский календарь на 1912 год / сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1912. С.
298.
47. Кубанский календарь на 1914 год / сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1914. С.
609.
48. Кубанский календарь на 1915 год. Екатеринодар, 1915. С. 442.
49. Кубанский календарь на 1916 год / сост. Л.Т. Соколов. Екатеринодар, 1916. С.
450.
50. Полин Н.В. Материалы сельскохозяйственной переписи 1917 г. как исторический
источник // Историография и источники по аграрной истории Среднего Поволжья.
Саранск, 1981. С. 184–188
51. ГАКК. Ф. Р–234. Оп. 1. Д. 83. Л. 18; ГАКК. Ф. Р–234. Оп. 1. Д. 85. Л. 1.
52. ГАКК. Ф. Р–234. Оп. 1. Д. 22. Л. 22.
53. ГАКК. Ф. Р–234. Оп. 1. Д. 21. Л. 18.
54. Джимов Б.М. Социально-экономическое положение и революционная борьба
трудящихся Адыгеи в 1901–1917 годах. С. 227–228.
55. Джимов Б.М. Социально-экономическое положение и революционная борьба
трудящихся Адыгеи в 1901–1917 годах. С. 226.
56. ГАКК. Ф. Р–234. Оп. 1. Д. 36. Л. 2 об.
57. Алфавитный список дач и населенных пунктов Кубанской области по данным
переписи 1917 года. [Б.м., Б.г.]. С. 70.
58. ГАКК. Ф. Р.–7. Оп. 1. Д. 526. Л. 64 об.
Е.И. Казе
Век храма
В 1874 году по тихорецкой земле пролегла Владикавказская железная
дорога, при которой возникла небольшая станция Тихорецкая, названная по
имени близлежащей уездной станицы и очень скоро выросшая в главный
экономический центр местной жизни. Вскоре на арендной земле вблизи
станции образовался одноимѐнный хутор (1895 г), который облюбовали
хлебные ссыпщики, торговцы, ремесленники и крестьяне-земледельцы.
Как следует из переписки Ставропольской Духовной Консистории 1910
года о выделении субсидии на постройку Успенского храма, поселение по
степени благоустройства было резко разделено на две части: примыкающую
к самой станции и более отдаленную от неѐ. Первая преимущественно
населена железнодорожными служащими людьми, торговцами и частью
казаками, успевшими своевременно занять здесь удобное и выгодное место.
Эта часть имела внешний благоустроенный, культурный вид: правильные
улицы, сносные мостовые, отличные постройки... Другая часть тоже
многочисленная (до 4000 душ), во всем противоположна первой: здесь все на
вид не только скромно, но зачастую бедно и убого [1].
Большинство
населения этой части люди пришлые, иногородние, добывающие дневное
пропитание тяжелым трудом, особо сетовавшие на то, что у них нет даже
церкви.
Начиная с 1886 года вплоть до открытия в сентябре 1894 года на
станции Тихорецкой самостоятельного прихода, жители станции для
молитвы собирались в здании вокзала, приглашая священников из
близлежащей станицы.
30 августа 1896 года на станции была освящена первая деревянная
церквушка святителя Николая, которая очень скоро стала тесной для
местных прихожан. В 1905–1908 годах рядом с нею производилось
строительство нового каменного Николаевского храма на полторы тысячи
душ.
Незадолго до его завершения, в августе 1907 года, в хуторе Тихорецком
прошел общий сход жителей, на котором жители приняли решение о
постройке церкви во имя Успения Божией Матери, и с этой целью 22 августа
подали на имя Архиепископа Ставропольского и Екатеринодарского
Агафодора прошение: «…Покорнейше просим Ваше Высокопреосвященство
разрешения на постройку храма в нашем хуторе; для каковой цели мы
решили купить старую церковь, находящуюся на территории
Владикавказской железной дороги при станции Тихорецкая и подлежащую
слому в 1908 году по окончанию строящейся церкви…»
Духовная Консистория указом №21727 от 24 августа 1907 года
постановила: «Разрешить жителям хутора Тихорецкого купить и перенести
старую церковь, находящуюся на территории Владикавказской ж.д., и
поставить таковую на приличном и удобном месте под наблюдением
архитектора без изменений плана и фасада ….» [2]..Уже 8 сентября
выбранное под строительство храма место было осмотрено благочинным о.
Петром (Рудольфовым) совместно с членами причта Николаевского храма,
инженером Б.Н. Акимовым, представителями от прихожан и членами
строительного комитета. Территория оказалась удобной и приличной для
постановки на ней храма, находящейся на обширной площади окруженной со
всех сторон жилыми приличными помещениями.
30 июня 1908 года в своем рапорте благочинный сообщал в Духовную
Консисторию, что место для строительства церкви освящено, построен дом с
колодцем и все обнесено оградой [3]. На строительство самой церкви ушло
чуть больше года: 5 апреля 1909 года была совершена закладка нового храма,
к середине июля выложен фундамент, 2 августа была завершена кладка стен.
Трудно сказать, что было использовано из материалов старого
Николаевского храма, поскольку только по льготным талонам за время
строительства на хутор было завезено: 9 вагонов извести, 9 вагонов лесного
материала, 35 вагонов песку, 32 вагона красного кирпича, 2 вагона алебастра,
50 пудов оцинкованного железа [4]. Судя по всему, старый храм послужил
лишь закваской нового большого строительства.
Руководил строительством Иван Иванович Соломко – потомственный
дворянин, усердный молитвенник и церковный труженик. За бедностью
жителей хутора строительство было тяжелым и требовало от руководства
усердия, терпения и предприимчивости. Уже в день издания указа о
разрешении строительства храма на хуторе Тихорецком Соломко получил на
свое имя сборную книгу и приступил к сбору пожертвований. К июню 1908
года поступило 3315 руб. 76 коп. пожертвований, из них 1700 собрано
Соломко. Но этого было очень мало. Недостаток средств вынудил
попечительство обратиться к Начальнику области Наказному Атаману
Кубанского казачьего войска с просьбой о пожертвовании находящегося в
хуторе Тихорецком старого этапного здания, оцененного в 1019 руб. 95 коп.,
в результате чего старая тюрьма была пожертвована, разобрана, кирпич
пущен с торгов, а вырученные средства переданы на строительство.
Архивные данные сохранили имена частных жертвователей: крестьян
Иллариона Липитова, Андрея Шумилина, Владимира Житенева, Тихона
Курыгина, Ивана Короткова и некоторых служащих станции. 21 декабря
1910 года о. Пѐтр Рудольфов осмотрел и признал храм достаточно готовым к
освящению. 23 декабря церковь осмотрел областной архитектор и признал
его отстроенным прочно и согласно планам. Так с 27 декабря 1910 года
хутор Тихорецкий обрѐл свою церковь.
В «Клировых ведомостях» за 1912 год сообщалось, что церковь зданием
кирпичная, на каменном фундаменте, восьмерик и купол деревянные. Храм
внутри оштукатурен, пол деревянный. Иконостас дубовый, двухъярусный.
Колокольня кирпичная на каменном фундаменте была достроена к 1913 году
[5]. Иконостас был куплен из старой Николаевской церкви, в нѐм вместо
положенной по уставу храмовой иконы Успенья Божьей Матери стояла
икона Святителя Николая.
9 января 1910 года был избран церковный староста – И.Соломко,
которому по словам благочинного в рапорте от 1910года принадлежала
большая заслуга в деле строительства, так как «… если бы не находилось
таких преданных делу построения храма лиц, как г. Соломко, то храма этого
Тихорецкое хуторское общество никогда бы не построило…» [6].
Первым настоятелем стал иерей Александр Рождественский, выпускник
Новгородской духовной семинарии, до этого служивший вторым
священником в Николаевском храме. К привычным пастырским и
учительским обязанностям его добавились хлопоты настоятеля. 26 мая 1917
года Епископом Ейским Иоанном о. Александр (Рождественский) был
утвержден в должности благочинного 6 округа Кубанской области.
Как
проходило его служение в нелегкое для церкви время неизвестно. Документы
умалчивают об истории храма периода 1920–30-х гг., но, безусловно, драма
целого народа не обошла стороной и церковь, и священнослужителей.
В материалах 1937 года в исторической канве тихорецкой жизни Свято-
Успенский храм упоминается лишь вскользь в деле обвинения священника
Кудрина в контрреволюционной агитации, в частности – в увещевании об
освобождении Успенской церкви от засыпанного зерна.
Тогда всѐ
духовенство Успенского храма было арестовано по подозрению в
контрреволюционной деятельности, а сам храм был закрыт и в его здании
устроено зернохранилище.
С 1942 года богослужения в храме возобновились. Настоятель
протоиерей Михаил Миноранский, помимо духовной, проводил активную
патриотическую работу, в результате которой с 1943 по 1945 годы было
собрано более 100 тысяч рублей в фонд обороны страны и оказания помощи
инвалидам и семьям погибших на фронте. С 1945 по 1970 годы сменилось
более десяти настоятелей. Храм неоднократно пытались закрыть, но его
удалось отстоять. К моменту назначения настоятелем протоиерея Пѐтра
Дашевского в июне 1970 года, храм окормлялся командировочными
священниками, находился в предаварийном состоянии. За 33 года
пастырского служения в Тихорецком приходе о. Петра, человека волевого и
эрудированного, была расширена территория прихода, построен
хозяйственный корпус, в котором разместились крестильня, церковная
библиотека, созданы новые росписи внутри церкви. С 1 января 2003 года
настоятель Свято-Успенского храма – протоиерей Андрей Дашевский,
выпускник Ленинградской духовной академии, кандидат богословия. Свой
второй век храм встретил обновлѐнным: юбилейным празднованиям
предшествовали капитальные ремонтно-реставрационные работы, шедшие с
2008 по 2010 год. Жизнь храма перешагнула через столетие. И новый век
Свято-Успенской церкви – повод вспомнить о начале истории храма.
Примечания
1. О. Иоанн (Воронов). Свято-Успенский храм города Тихорецка – прошлое и
настоящее // http: // www. hram. tih. ru.
2. Там же.
3. Ярош И.М. Да будет храм! // Тихорецкие вести. 1999. 5 мая.
4. О. Иоанн (Воронов). Свято-Успенский храм города Тихорецка – прошлое и
настоящее // http: // www. hram. tih. ru.
5. Ярош И.М. Да будет храм! // Тихорецкие вести. 1999. 5 мая.
6. О. Иоанн (Воронов). Свято-Успенский храм города Тихорецка – прошлое и
настоящее // http: // www. hram. tih. ru.
Н.Ю. Дуленко
Судьба храма Сошествия Святого Духа на апостолов и Церковной
площади станицы Каневской в Советское время.
10 марта 1918 года в Каневской была установлена советская власть.
Последний атаман станицы Владимир Коваленко был избран первым
председателем ревкома. В июле в Каневскую вошла Добровольческая армия.
На Церковной площади генералом Покровским были казнены 13 активистов
и членов ревкома во главе с председателем. В 1922 году на площади были
перезахоронены останки погибших во время Гражданской войны. Была
сооружена общая братская могила жертвам революции и Гражданской войны
и установлен памятник погибшим. Началось преобразование Церковной
площади, которое приведет к полному разрушению ее первоначального
облика и назначения.
В 1924 году станичная власть принимает решение видоизменить
Церковную площадь. Начались работы по насаждению станичного парка. К
этой работе привлекается молодежь, высаживается большое количество
деревьев и кустарников. В 1925 году постановлением президиума станичного
совета было решено переименовать Церковную площадь в площадь
Революции. На ней, вокруг храма, каневскими комсомольцами был заложен
Летний сад имени 1 Мая.
Торжественно, с благодарственными молебнами, бесплатным обедом и
раздачей сладостей для детей было отпраздновано столетие храма. «В
станицу прибыло много духовенства, - свидетельствует очевидец, - Было
проведено при большом стечении народа торжественное богослужение и
потому, как из двух станичных церквей Духосошественская считалась
главной, ей было присвоено звание собора…». Более ста лет возвышалась на
главной площади Каневской Духосошественская церковь, являясь самым
грандиозным сооружением станицы, раздражающим безбожников.
Тридцатые годы ХХ века можно смело назвать временем
«широкомасштабного атеистического наступления». К 1939 году вся
церковная структура подверглась жесточайшему разгрому. От 37 тысяч
храмов, действовавших в 1930 году, к 1938 году осталось формально
действовавших 8302. Однако в большинстве из них богослужения не
совершались по причине отсутствия духовенства. В 1938 году было принято
решение разрушить главный православный храм каневчан -
Духосошественскую церковь. Для этой цели были созданы специальные
отряды из числа активистов. Осмелев после насильственной
коллективизации и голодомора 1933 года, сломившего сопротивление людей,
активисты новой власти сначала закрыли храм, превратив его в хранилище
для ссыпки зерна, а затем и разрушили. Момент разрушения храма был
запечатлѐн на любительском фотоснимке, который в настоящее время
хранится в фондах Каневского районного историко-краеведческого музея.
Раиса Хрисановна Швыдко свидетельствует: «Мой дедушка Швыдко
был в этой церкви ктитором [церковным старостой], а когда из неѐ сделали
зернохранилище, то меня определили сюда подгортать зерно, подметать. Это
был где-то 1934-1935 год. Потом зерно вывезли и объявили, что церковь
будут разбирать, чтоб она не мешала нам лучше жить и строить рай на земле.
Так вот, тот день, когда ломая карнизы, рухнул с двадцатиметровой высоты
самый большой «звон» я точно никогда не забуду. Колокол загудел и,
накреняясь, глубоко вошѐл в землю, разбив каменные плиты у главного
входа».
Самый большой колокол, который весил 196 пудов, при ударе о землю с
20-метровой высоты дал трещину, но не разбился, и в течение нескольких
дней на колокольню затаскивали двухпудовые гири и бросали их вниз на
колокол.
«Он был так огромен, - продолжает Яскив Е.П. – что, стоя на земле,
нельзя было достать его верх. Малые колокола увезли сразу, а этот даже не
могли вытащить и почти до начала войны он лежал у разрушенного храма.
То время, весна 1935 года, мне почему-то особенно запомнились. Мы, дети,
жили недалеко от церкви и часто там играли, бегали вокруг неѐ, рвали цветы
– там было целое море незабудок, дарили их друг другу. Потом разрушение
пошло полным ходом и наш сверстник, Коля Коменский – сын священника (а
жили они в доме, где сейчас музей) - повѐл нас в алтарь. Там мы снимали со
стен всѐ, что нам нравилось и несли сдавать в школу. Многие станичники
разбирали иконы по домам».
Колокола с церкви увезли на переплавку на заводы.
Святной В.С. вспоминал: «Церковь не взрывали, а разбирали кирпичную
кладку изнутри, подставляя подпорки. Кладка легко разбиралась, так как
была на извести. Подпорки сожгли. Рухнула половина церкви. Одноклассник
залез на купол и привязал верѐвку за крест, потом другой конец привязал к
дереву. Дерево раскачивали и уронили купол.». Разрушение храма и
церковной площади продолжалось долго: трудно было разбить добротную
монолитную кладку, и большая ее часть была превращена в щебень.
Старожилы Каневской с негодованием и болью вспоминают об осквернениях
захоронений священнослужителей, совершенных вандалами.
Моя прабабушка Мищан Пелагея Антоновна 1901 года рождения была
очевидцем разрушения храма Сошествия Святого Духа. Моя мама – краевед
Сизова Зоя Алексеевна вспоминает: «…бабушка рассказывала, как раскрыли
верх, сняли кресты, сбросили колокол, ломали и топтали утварь, иконы.
Хотели сломать церковь билом (железный шар), но ничего не вышло.
Вызвали сапѐров, заложили взрывчатку – храм только дал трещину. Тогда
нашли людей, которые в подвале разбирали несущие стены и ставили
подпорки из деревянных столбов (6 или 8 штук). Когда работу закончили –
подпорки сожгли и храм рухнул под собственной тяжестью, поднимая вокруг
себя пыль (не было взрывов) и мусор, битый щебень, стекло…»
Разрушение храма растянулось на последующие годы, а осенью 1938
года церковь была разрушена. 7 ноября у его развалин состоялся
грандиозный многолюдный митинг в честь 21-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции. «Активисты проводили митинг,
пели песни, - вспоминает Сизова З.А. рассказы своей бабушки Мищан П.А. –
а простые люди стояли, как на похоронах. Очень тяжело было на душе.
Одним словом – пир во время чумы».
На фотографии, хранящейся в Каневском районном историко-
краеведческом музее, запечатлено и это событие. За церковной оградой,
фрагмент которой хорошо просматривается на переднем плане, люди со
знамѐнами, флагами, транспарантами, портретами Сталина И.В… А дальше –
огромный человеческий «муравейник», беснующийся на руинах
поверженного храма.
В предвоенные годы станичная власть, желая скрыть место разрушения
храма, начала работы по застройке площади. Строится летний кинотеатр,
проводятся электрическая и водопроводная линии, а вся территория парка
обносится изгородью. С 1939 года Летний сад потихоньку расширялся:
сначала он заканчивался у фонтана, а затем стали засаживать и находящийся
за ним стадион. В 1939 году на месте разрушенного храма был установлен
памятник В.И. Ленину, изготовленный из цемента в Новороссийске и
установленный новороссийскими рабочими.
На месте алтаря Духосошественского храма в настоящее время стоит
фонтан центрального Парка Культуры и отдыха 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
11 июня 2006 года, в православный праздник Святой Троицы в станице
Каневская прошѐл крестный ход от Свято-Покровского храма до парка имени
30-летия Победы. Здесь в торжественной обстановке настоятель храма отец
Сергей отслужил молебен и освятил камень, установленный на месте, где
некогда стоял храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Каневчане
возложили цветы к новому памятнику.
25 апреля 2009 года в Парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы
в Каневской, в день открытия 85-го летнего сезона парка, открыта
мраморная Книга Памяти. Посвящена она людям, обустраивавшим бывшую
Церковную площадь в центре станицы. Предприниматель Сергей Овчаренко
решил отдать дань памяти четырнадцати заслуженным землякам, в свое
время похороненным в ограде церкви. На его средства местный художник
Андрей Шайморданов вытесал из мрамора скульптуру в виде раскрытой
книги с именами каневчан.
Старинное подземное сооружение отрыли рабочие в июне 2010 года при
реконструкции системы водоснабжения фонтана в центральном парке
Каневской. Находку сразу же закопали, а водопроводную линию проложили
чуть в стороне. 28 июня таинственный объект раскопали снова – для его
изучения.
Максимальный диаметр – около пяти, глубина – в пределах
четырѐх метров. Тщательно обследовали изнутри, внимательно осмотрели
каждый предмет, найденный в заполнявшей подземное помещение земле.
Кроме работников «Водопровода», прессы и любопытствующих жителей, у
фонтана собрались представители каневского духовенства, историки,
краеведы, поисковики и другие компетентные лица. Выдвигалось немало
версий. Самая первая из них – колодец. Причѐм, возможно, когда-то в нѐм
была святая вода. Однако эту версию опровергает одно наблюдение. В
куполе, выполненном из так называемой «черепашки» (мелкая ракушка)
нашли отверстия, которые наталкивают на мысль о том, что помещение
вентилировалось. А значит это не колодец. Настоятель Свято-Покровского
храма протоиерей Сергий Брижан предположил, что это подвальное
помещение храма Сошествия Святого Духа на апостолов, разрушенного в
1937 – 1938 годах. По словам специалиста архивного отдела администрации
МО Каневской район Валерия Павловича Кострова, наиболее вероятно, что
найдена ѐмкость для сбора дождевой воды, сделанная в те времена, когда
парк был церковной площадью. Котлован куполообразной формы изнутри
выложен кирпичом и оштукатурен – так говорят рабочие, осмотревшие его.
А сотрудник Каневского РДК Геннадий Шуть помнит, что это сооружение
использовали в 60-е годы прошлого столетия, сбрасывая листву во время
уборки парка, и тогда его называли «бассейном». Словно в подтверждение
этих слов только что освобождѐнная от земли яма стала наполняться водой.
В тот же день «бассейн» снова зарыли – для безопасности каневчан. Но
прежде связались с департаментом архитектуры, где заявили, что загадочный
артефакт архитектурной ценности не представляет. Но, не смотря на то, что в
60-е годы ХХ века данное сооружение использовали как вышеуказанный
«бассейн», смею предположить, что строение имеет ещѐ более глубокую
историю, и действительно могло быть частью подвальных помещений храма
Сошествия Святого Духа. Безусловно, необходим детальный осмотр объекта
специалистами по храмовой архитектуре и церковным строениям.
Местные жители надеются, что это не последняя находка в районном
парке. Очень вероятно, что недра священной земли, на которой стояла
церковь, хранят и другие тайны.
Церковь Сошествия Святого Духа на апостолов (Свято-Троицкая) ст.
Каневской была ярким представителем архитектурного зодчества своего
времени. Общественно-просветительская деятельность церковно-приходских
школ носила созидательный характер и способствовала дальнейшему
развитию общества по пути прогресса. Священно- и церковнослужители
Святодухосошественского храма внесли большой вклад в становление
культурной и общественной жизни куреня Каневкого Кубанской области
ХIХ - начала ХХ века.
События двадцатого века стали тяжким испытанием для Русской
Православной Церкви: религиозные убеждения преследовались, роль и
значение Церкви принижались, еѐ ценности подвергались разграблению,
памятники разрушались. Всѐ это обернулось тяжѐлым морально –
нравственным кризисом для общества. Прерванными оказались и традиции
изучения церковной истории. В 1917 году в России впервые была
провозглашена свобода совести и отделение церкви от государства, и для
преследуемых ранее сектантов наступило «золотое десятилетие». Но Церковь
большинства русского народа – православная – подверглась разгрому.
Тринадцать храмов было на территории нынешнего Каневского района до
начала коллективизации. Одиннадцать из них сожжены, взорваны или
разрушены в тридцатые годы ХХ века. С каким наслаждением созидатели
нового расправлялись с прекрасными творениями народных умельцев,
уничтожая то, что было создано руками простых людей – строителей и
ремесленников. Даже день разрушения храма зачастую объявлялся
праздником, и охваченные безумием люди жгли иконы, священные книги,
сбивали кресты и купола, сбрасывали церковные колокола. Русская
Православная Церковь не раз переживала тяжѐлые времена. На протяжении
всей истории она неоднократно подвергалась гонениям. Таким образом,
атеистическая политика, активно проводившаяся в 20-30-е годы ХХ века,
привела к полному разрушению храма Сошествия Святого Духа, его
разграблению и осквернению.
Примечания
1. Дейневич А.В. Далѐкое-близкое // Каневские зори. 1992. №149.
2. Дейневич А.В. Далѐкое-близкое// Каневчане. 1996. №1.
3. Зорина О. Загадка центрального фонтана // 10-й канал. 2 июля 2010 года.
№27.
4. Интервью Дуленко Н.Ю. с краеведом станицы Каневской Сизовой З.А. от 19
марта 2008 года. Рукопись // Архив Дуленко Н.Ю.
5. Интервью Дуленко Н.Ю. со специалистом архивного отдела администрации
МО Каневской район Костровым В.П. от 10 февраля 2007 года. Рукопись // Архив
Дуленко Н.Ю.
6. Интервью краеведа станицы Каневской Сизовой З.А. со старожилом
Святным В.С. от 6 марта 2007 года. Рукопись // Архив Сизовой З.А.
7. Православная церковь на Кубани в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Краснодар: Диапазон-В. 2005.
8. Скуратов М. Что за купол под землѐй? // Каневские зори. 1 июля 2010г.
№79.
Л.М. Есипенко
Становление музейного дела на Кубани в 1920-е гг.
После установления Советской власти на Кубани в марте 1920 г, по
инициативе местной интеллигенции в масштабе области развернулась работа
по спасению музейных и внемузейных памятников. В то время по всей
стране все силы были направлены не только на восстановление разрушенной
экономики, но шла повсеместно большая работа по спасению и охране
историко-культурных ценностей. С первых дней Советское правительство
приняло экстренные меры по охране и учету памятников прошлого, по
формированию объединенной музейной сети. Уже в ноябре 1917 г. была
создана Всероссийская комиссия по делам музеев и охране искусства и
старины с отделением в Москве и Петрограде. А в мае в 1918 г. при
Наркомпросе был организован музейный отдел, который способствовал
проведению Декрета в жизнь «Об учете музейных предметов» и ограничения
вывоза их за границу; охране и собирания историко-культурных ценностей и
сосредоточение их в государственном музейном фонде, организованном
позже, в 1919 г. Таким образом, с 1918 началось формирование
государственной системы музейного дела. Для создания единой системы
руководства музейным строительством на местах, 7 декабря 1918 г.
Наркомпрос вынес Постановление об образовании губподотделов по делам
музеев и охраны памятников искусства и старины при отделах Нароброза,
губсовдепов. В 1919 г. при музейном отделе Наркомпроса был сохдан
подотдел, отвечавший за работу с провинциальными музеями. Связь центра с
ними осуществлялась уполномоченными эмиссарами, штат которых
определѐн был музейным отделом. Эмиссаров было немного, к тому же связи
центра с регионами препятствовали транспортные затруднения, разруха,
тяжелое экономическое положение в стране. Поэтому особенно важное
значение обретало организация местных музейных органов. Таким образом,
музейный отдел Наркомпроса оставив за собой планирование и контроль,
передал инициативу по музейному строительству созданным на местах
музейным органам [1].
В 1920-х гг. музейным строительством на Кубани ведало образованная
при Оботнаробе музейная секция, которая с 1 апреля 1920 г. была передана
внешкольному подотделу. Председателем музейной секции был назначен
профессор М.В. Клочков, вместо ушедшего в середине июля того же года
Н.Ф. Николаева. О первых действиях местного музейного органа
свидетельствуют сохранившиеся документа в Государственном архиве
Краснодарского края. Уже в первые месяцы представитель Оботнароба
обратились к населению с призывом сдать в музей оставленные на улицах и в
окрестностях Екатеринодара отступающими частями Добровольческой
армии «национальную одежду, украшения, вещи домашнего обихода». На
основании провозглашенного проекта Постановления учреждения, общества
и частные лица, имеющие художественные или старинные вещи, обязаны
были зарегистрировать их путем подачи письменного заявления в целях
устройства ряда временных выставок. В то время музейной секции было
поручено три основные задачи: организация музеев, организация
образовательных экскурсий, охрана памятников культуры и природы. На
всех этапах существования, в работе музейной секции принимали участие
специалисты в разных областях знаний, многие из которых связаны были с
гуманитарным образованием. Так в организации образовательных экскурсий
принимали участие профессор, преподаватель Кубанского политехнического
института, председатель биологической секции Совета обследования и
изучения Кубанского края при ВСНХ Павел Иванович Мищенко (с 1921 г. он
заведовал ботаническим подотделом областного музея); преподаватель
сельхозинститута, естественник Леонид Петрович Бардаков (1920–1921
первый заведующий Кубано-Черноморским областным музеем); окончивший
три курса университета (?) Владимир Яковлевич Частухин (в 1920 г.
заведовал ботаническим подотделом областного музея), а также студенчество
местных вузов [2].
В 1920 году областная музейная сеть включала следующие
подведомственные учреждения: Областной музей в г. Краснодаре, окружные
музеи в Новороссийске, Туапсе, Геленджике, Романовске (ныне –
Кропоткин), Баталпашинске (ныне – Черкесск), Ейске, Майкопе,
проектируемые музеи в г. Темрюке и Анапе. Эти данные музейная секция
получила на основании разработанной анкеты обследования окружных
музеев. Названные музеи представляли собой как вновь созданные в 1920–
1921, так и музеи, существовавшие с дореволюционного времени. К
старейшим музеем Кубани относились Областной музей в г. Краснодаре
(бывший Войсковой этнографический, естественно-исторический музей,
датой основания которого считаемся 1879 г.), в ауле Романовском (создан в
1914 г.), музеи Новороссийска и Майкопа существовали с 1916 г. В
последующие годы структура музейной сети подвергалась всевозможным
преобразованиям как в количеством отношении, так и по составу [3]. С 1920-
х гг. деятельность местных областных музеев разворачивалась в условиях
развития в стране краеведческого движения. Новый вектор развития
отечественного музейного дела мало как повлиял на становление областных
музеев в новых условиях. Фактически краеведческая направленность
являлась основой их существования и стала вдохновляющей перспективой
последующих действий и конкретных решения в реализации задач
краеведения. Профиль местных музеев, особенно для «старых», определен
был первоначально комплектованием, нацеленный на документирование
уходящего времени. До революции такого плана музеи относились к группе
музеев местной истории. Это были музеи комплексного профиля,
отражавшие в той или иной мере природу, историю и экономику края. Таким
образом, музеи Кубано-Черноморской области, опираясь на сложившиеся
условия и возможности, при поддержке старых кадров содействовали
реализации масштабных задач краеведения. В рамках своей деятельности
окружные музеи не ограничивались хранением и показом своих богатств.
Коллективы музейных работников одновременно занимались изучением и
обследованием местных природных ресурсов. Краеведческая деятельность, в
которую с 1920-х гг. были вовлечены музеи, содействовала формированию
положительного опыта в деле изучения области с упором на прикладные
исследования. Уже в первые годы Советской власти, большинство музейных
деятелей поддержало мнение о том, что провинциальные музеи на местах
обязательно должны заниматься изучением местных ресурсов в самом
широком понимании этого дела. Считалось, что собираемые музеями
данные, могли дать ценные данные, столь необходимые для восстановления
народного хозяйства [4]. На начальном этапе особых результатов у
кубанских музеев не было, хотя обширность поставленных пред музеями
задач и вызывали определѐнные трудности, но это не являлось препятствием
дальнейшему развитию кубанских музеев в новых условиях. Эти затруднения
вызваны были новизной, многогранностью дела, нехваткой научных сил, и
самое важное отсутствие достаточных средств для осуществления
поставленных задач. В том, что музеи выжили в трудных условиях, прежде
всего заслуга руководителей и небольших коллективов музейных
сотрудников. В то время музейные штаты были невелики и состояли из 2–3
человек. Это были люди, для которых понятие долга являлось
основополагающим в их профессиональной деятельности.
Исследовательские приоритеты определялись специальным образованием и
научными интересами руководителей музеев. Заведующий Темрюкским
музеем С.Ф. Войцеховский по образованию был геологом, вследствие чего
одним из направлений развития данного музея связано было с геологическим
изучением территории Таманского полуострова. Таманский музей
специализировался на пропаганде сельскохозяйственных культур, при музее
существовали опытные поля. Данной работой руководил заведующий
музеем, агроном по образованию А.Г. Остроумов. В результате это вылилось
в не просто накопление музейных предметов, а способствовало созданию
системы организации музейного собрания с включением производственных
отделов. В 1920 г. в докладе о конструировании деятельности внешкольного
подотдела отмечалось, что ядром окружных музеев служат производственно-
образовательные отделы, отделы местной истории. Так как Кубань
относилась к аграрнообразующим регионам страны, то сельскохозяйственная
пропаганда являлась темой содержания работы окружных музеев. При
многих музеях существовали аграрные отделы, экспозиции наполнены были
коллекциями, отражающими развитие сельского хозяйства. Кроме того, при
музеях имелись парки, небольшие сады, а в Майкопском музее организовано
было содержание вольера с животными, аквариумы и террариумы. Согласно
доклада, структура областного музея г. Краснодара состояла их 8 отделов:
этнографического, исторического, археологического, ботанического,
зоологического, геологического и дополнительных отделов –
педагогического и художественного. Данная структура сложилась в ходе
объединения бывшего Войскового музея, коллекции которого стали основой
нового музея, собрания городской картинной галереи имени Ф.А. Коваленко,
городского музея наглядных пособий имени Н.В. Гоголя. Идея создания
единого городского витала еще в умах интеллигенции еще в 1918 г., но
осуществлена была только после установления Советской власти с
образованием Кубано-Черноморского областного музея [5]. В мае 1920 г. на
основании Постановления Кубано-Черноморского областного музея
Оботнаробр по внешкольному подотделу был утвержден список личного
состава служащих данного музея. 17 мая 1920 г. заведующим музея был
временно назначен профессор Альберт Семенович Гинзбург, который уже с 8
мая находился в должности заведующего геологического подотдела. С 30
августа 1920 г. преподаватель сельхозинститута Л.П. Бардаков стал
заведующим Кубано-Черноморским областным музеем. Через год 21 августа
1921 г. он был отчислен как не вернувшийся в срок после командировки. С
21 августа 1920 г. заведующим ботаническим подотделом был В.Я. Частухин
(затем он работает препаратором при музее), а его на посту заведующего
сменил профессор П.И. Мищенко. Заведующий зоологическим подотделом
был профессор Владимир Петрович Казанцев. Археолог по специальности
Петр Лазаревич Жаткин возглавлял археологический подотдел. На момент
назначения ему было 26 лет. В фондах КГИАМЗ хранится книга В. Бузескула
«Древняя цивилизация в Европе – Эгейская или Крито-Микенская культура»,
издания Союза Кредитного союза кооператоров 1918 года с автографом
«Дорогому Ивану Ефимовичу Гладкому в знак добрых отношений.
Признательный П. Жаткин. 19 сентября 1920 г.» И.Е. Гладкий на тот момент
находился в должности заведующего историческим отделом. С 15 ноября
1921 г. зав. археологическим отделом был назначен Иван Павлович Кинсбург
(окончил археологический институт). С 1 мая 1920 г. делопроизводитель
музейной секции Евгений Нестерович Егоров был перемещен на должность
заведующего этнографического подотдела. Позднее Егоров преподавал в
краснодарском педагогическом институте. Заведующим педагогическим
подотделом числился выпускник Петербургского университета по
специальности «география» Владимир Андреевич Егунов. Хранителем
художественного отдела (картинная галерея имени Коваленко) и
одновременно заведующий хозяйственной частью и мастерскими являлся
Яков Васильевич Жарко – известный общественный деятель Кубани,
литератор, автор поэтических сборников. Помощник заведующего бывшим
Войсковым музеем Георгий Андреевич Панюта исполнял обязанности
делопроизводителя. В этой работе ему помогала Зинаида Васильевна
Третьякова, помощник заведующего педагогического музея имени Гоголя.
Музейными служителями в те годы были Анна Николаевна Неручева, Ольга
Петровна Котлярова, Михаил Иванович Щербачев (состав музейных
служителей постоянно менялся). С 11 мая 1920 г. профессор Владимир
Александрович Пархоменко был назначен научным консультантом музейной
секции [6]. После объединения в Областном музее работало до 22 человек.
Это масса сотрудников начала переорганизацию музея на новых началах. В
момент объединения музейное собрание составляло около 30 тыс. единиц
хранения при условии, если добавить предметы, как писал профессор Г.Г.
Григор: «Из запасных витрин портреты, картины, предметы, помещенные
под навесом во дворе музея». В то время экспозиции располагались на тех
площадях, в тех же зданиях по следующим адресам: Центральный отдел
Областного музея (бывший Войсковой) – ул. Рашпилевская, 3; городская
картинная галерея имени Коваленко – угол улиц Красной и Графской; музей
наглядных пособий имени Гоголя – улица Красная, рядом с городской
больницей. Фактически данное объединение, как и вторая его попытка в
1925–1927 гг. стали неудавшимися экспериментами развития музейного дела
на Кубани и остались на бумаге. Слишком различными по характеру и
задачам были входившие в него музеи. Они продолжали быть
самостоятельными. Факт объединения выражался исключительно в решении
административно-хозяйственных вопросов, что тормозило и не давало
развернуться каждому музейному учреждению [7].
С 1 августа 1921 г. вопросами музейного строительства на Кубани
ведало областное правление по делам музеев и охране памятников старины,
искусства, народного быта и природы (Облмузей). Новый областной
музейный орган создан согласно предложения коллегии Оботнароба на
основании положения Наркомпроса №187 от 23 мая 1921 г. Вопрос о новом
музейном органе обсуждался с приглашением представителей местной
интеллигенции (Скидан) в помещении Оботнароба 28 июля 1921 г.
Деятельность Облмузея находилась под общим руководством Главмузея в
ведении Оботнароба. Заведующим Облмузея стал профессор Г.Г. Григор (с
сентября руководил музейной секцией Оботнароба). Он же разработал
окончательное положение Облмузея [8]. Несмотря на затянувшийся
организационный период, уже на сентябрь месяц был составлен план работы
управления. Сам документ подписан заведующим областным музеем И.Е.
Гладким, который на тот момент замещал эту должность в течение двух
недель [9]. Согласно записи в книге приказов кубано-Черноморсокго
областного музея за 1921 г. профессор Григор с 24 августа 1921 г. находился
в командировке в Новороссийске и Анапе для ревизии музеев и организации
базы по сбору морской фауны. На тот момент Григор одновременно
находился в штате краснодарского пединститута и активно занимался
научно-исследовательской работой. Область его научных знаний –
естественные науки. Многие годы он посвятил изучению и охране природы
Кубанской области. Музейная тема также входила в сферу его научных
интересов. Он являлся автором ряда научных статей и публикаций, которые
до сегодняшнего дня сохранили значение серьѐзных источников в изучении
региональной истории. В фондах КГИАМЗ хранятся комплекс научных
изданий, автором которых является Григор. В 1925 г. по результатам
палеонтологической экспедиции была написана и издана отдельная брошюра
о находке кладбища пещерного медведя. В краснодарском журнале
«Буревестник» №4 за 1 мая 1924 г. напечатаны были статьи Григора с
приложением фотоиллюстраций первого заведующего Кавказского
заповедника Х. Шапошникова и заведующего КубОблмузея Е.И. Гладкого
[10]. Следующее издание Григора, хранящееся в фондах КГИАМЗ,
созданным им совместно с профессором И.В. Поповым «Указатель
литературы пор геологии, минералогии, палеонтологии и полезным
ископаемым Северного Кавказа и Дагестана» (Краснодар, 1930). Вопросы
музейного строительства освещались Григором в региональных
краеведческих сборниках, на страницах журнала «Просвещение», отдельные
номера которого хранятся в отделе редкой книги КГИАМЗ. В конце 1921 г.
Главмузей был преобразован в музейный отдел Главнауки. Такое подчинение
подчеркивало, что музеи относились в научным учреждениям, что
благоприятствовало развитию в местных музеях исследовательской работы
по изучению родного края. Значительно расширились по сравнению с
постановлением Наркомпроса 1918 г. функции и задачи музейных органов на
местах. Вопросы реорганизации музейного дела освещались во время работы
краевого музейно-архивного съезда, состоявшегося в Ростове-на Дону в 1921
г. В выступлениях участников съезда отмечалось, что реорганизация
музейного одела должна базироваться на строго научных, но с другой
стороны стать доступной в плане просвещения для самых широких масс
населения. В основном на съезде широко были представлены Донская и
Кубанская области, где было поставлено довольно высоко музейно-архивное
дело и имелись работники с увлечением и продуктивно работающие в
архивах и музеях. Вместе с тем эта работа велась самостоятельно и каждая
область пробила себе пути без связи поддержки извне [11]. Первые шаги в
плане общего руководства музейным делом давались профессору Григору с
трудом. Сохранились архивные документы, свидетельствующие каких
нервных затрат стоило ему стабилизировать положение музейного дела в
области. Особенно в период 1920–1921 гг. деятельность управления и
подведомственных музейных учреждений осложнялась полным отсутствием
финансовых средств, продовольственных пайков и гарантированной оплаты.
Тяжелое экономическое привело к уменьшению количества работников в
управлении и музеях. Средства на хозяйственные надобности отпускалось
мало: канцтовары выделялись по норме. Например, в заявлении в
материальную часть ОбОНО от 17.02. 1922 г. было указано для областного
музея «выдать 1 бутылку чернил, 5 штук перьев, 5 штук карандашей и 30
листов бумаги». В здании областного музея не было водопровода, вследствие
чего И.М. Гладкий вынужден был регулярно обращаться за разрешением
получить в день 2–3 ведра воды во дворе фельдшерской школы или
военкомата. Львиная доля времени у Григора уходила на улаживание
административно-хозяйственных вопросов, на постоянное хождение по
различным учреждениям для решения этих проблем. Ввиду такого
положения зав. управлением Григор обратился за разъяснением в Главмузей
«как следует вести работу на Кубани по музейному делу при полном
подчеркнутом равнодушии местных властей» [12]. После согласования с 1
ноября 1921 г. коллегией ОбОНО были утверждены штаты Управления в
количестве пяти человек, хотя Григор хлопотал о 24 штатных единицах для
управления. В итоге Областное управление по делам музеев приступило к
работе в следующем составе: заведующий управлением – профессор Г.Г.
Григор, заведующий подотделом охраны памятников и просвещения –
профессор Казимир Ромуальдович Войцик, заведующий музейным
подотделом – Александ Тимофеевич Тоукач (переведен из внешкольного
подотдела), секретарь – Лидия Александровна Кельберер, делопроизводитель
– Вера Николаевна Голованева. Коллектив управления был укомплектован
специалистами, получившими высшее гуманитарное образование. Григор и
Войцик одновременно продолжали преподавательскую в деятельность в
краснодарском пединституте [13]. Работа управления осуществлялась в трех
основных направлениях, согласно фиксации работы по подотделам. По
результатам командировки зав. управления Григора в августе-сентябре 1921
г. было определено, что на территории области действует 12 музеев: в Анапе,
Майкопе, Геленджике, Ейске, Тамани, Темрюке, Кропоткине, Армавире,
Баталпашинске, Сочи, Новороссийске, Центральный Краснодарский
Областной музей. Все названные музеи, несмотря на тяжелые условия жизни,
не свертывали своей работы, а продолжали большую просветительскую
деятельность, являясь часто единственными очагами культуры и
просвещения на местах. В то время на рубеже 1920 х. гг. широкие
общеобразовательные задачи наряду с изучением и показом местной истории
возлагались на провинциальные музеи. Такое понимание просветительской
функции местных музеев подчеркивало их роль в сети краеведческих
учреждений.
Однако, в адрес управления по делам музеев не прекращали поступать
сообщения о тяжѐлом материальном положении музейных работников.
ОБОНО категорически отказало финансировать даже Облмузей, который уже
на тот момент (1921 г.) по количеству экспонатов и по значимости имел
государственное значение. В те годы у музейной сферы сложилась репутация
малобюджетных учреждений с малобюджетным содержанием сотрудников.
Заведующий управлением Григор даже просил Главмузей принять его
отставку.
Ссылаясь на постановление коллегии Наркомпроса от 06.01.1921 г., зав
управлением Григор выступил на заседании ответственных работников
музеев с заявлением о необходимости перейти на рельсы самообслуживания.
С этой целью специальная комиссия должна была ра0зработать текст
объявления о приѐме добровольных взносов на нужды музея. Комиссии
одновременно поручалось отобрать предметы, не имевшие музейного
значения с последующей их продажей. Затем вырученные средства
предполагалось использовать на хозяйственные нужды. Приказом №18 от 25
июля 1922 г. записано на приход в бюджет музея денег за проданные
вышивки в сумме 200 рублей. Вместе с тем, разрешенные Наркомпросом
меры к самообслуживанию не нашли одобрения со стороны ОБОНО.
Образец текста объявления, сохранившегося в ГАККе, был следующего
содержания: «В данное время Государство переживает финансовые
затруднения и потому не имеет возможности уделять на музей такую сумму,
чтобы музей не нуждался в средствах и не имел возможности покупать
новые художественные и этнографические предметы, и производить
хозяйственные расходы, а потому музейная комиссия просит посетителей,
имеющих возможность, при посещении музея жертвовать какую-либо сумму
на указанные нужды, чтобы не вводить плату за вход в картинную галерею, и
тем дать возможность беднейшим гражданам республики посещать музей».
И всѐ же музеи, переживая не лучшие времена, являлись не только
хранителями памятниками культуры, но и всемерно пропагандировали идеи
музейной работы и охраны памятников [14].
Состоявшийся 23 октября 1922 в Краснодаре I съезд по краеведению
принял резолюции, которые укрепили позиции областных музеев как
учреждений имеющие не только культурные воздействие на массы, но и
являющиеся центрами по изучению края. Основная задача этого съезда
выражалась в разработке единой программы для лиц и учреждений,
занимающихся краеведением [15]. Территория Кубанской области являлась
основой изучения для местных окружных музеев. Исходя из реальных
возможностей, музеи наряду с показом быта населения, природных богатств,
организовывали общеобразовательные экскурсии с практическими
занятиями. Посетителей знакомили с сельскохозяйственными культурами,
раздавали семян бесплатно, организовывались краткосрочные курсы про
сельскому хозяйству. Среди основных задач накопления и обработки
краевого материала в музеях получила развитие производственная
пропаганда. Данная установка явилась началом нового направления в
музейном деле. Основным еѐ содержанием считалось разъяснение населению
роли той или иной отрасли в общем хозяйстве страны. Для собирания
необходимых сведений краеведческого характера сотрудниками музеев
разрабатывались анкеты, которые распространялись среди населения, что
способствовало в значительной степени и пополнению музеев.
Вместе с тем, если обратиться к истории дореволюционного музейного
дела, то отделы сельского хозяйства и промышленности уже тогда имелись
при музеях местной истории. Тема экономического развития регионов уже и
тогда активно развивалась в стенах музеев. Важным составляющим фондов
бывшего Войскового музея являлись рыболовный отдел,
сельскохозяйственный и промышленный отдел, характеризовавшие
экономическое развитие Кубанской области на тот период [16]. С
укреплением краеведческой направленности музейные кадры активно
вовлекались в научно-исследовательскую работу по изучению местных
ресурсов. Деятельность окружных музеев развивалась, прежде всего, с
учетом физико-географических особенностей той местности, где они были
открыты и существовали. Ввиду этого в планах музеев особое внимание
уделялось изучению природных богатств и как следствие пополнение
естественно-научных коллекций. По сведениям о музеях Кубано-
Черноморской области за 1923 г. на базе Майкопского музея успешно
проводились работы по изучению предгорного ландшафта. Коллектив музеев
Сочи и Геленджика занимались комплектованием естественнонаучных
коллекций, образцов морской фауны, субтропической флоры и горного
ландшафта. Новороссийским музеем была организована работа по сбору,
хранению и изучению памятников истории и археологии Черноморского
побережья. Научная работа Темрюкского музея заключалась в изучении
нижнего течения реки Кубани, формированию коллекций, образцами флоры
и фауны лиманов и сопок. Таманским музеем осуществлялось изучение,
охрана и учет археологических памятников. Музеи Ейска и Кавказской
проводили обследования согласно сельскохозяйственной особенности
степной зоны края. Армавирский и Краснодарский музеи имели значение
областных научных центров [17]. Эта развернувшаяся широким фронтом
краеведческая работа содействовала созданию производственных отделов в
местных музеях области. Например, Ейский районный музей поддерживал
тесную связь с кооперативными организациями, смог расширить
сельскохозяйственный отдел. В залах музея выставлены были богатейшие
коллекции гербариев, разнообразных злаков, почв Ейского района.
Экспозиция дополнялась диаграммами результатов селекции, таблицами по
урожайности посевной площади. Кавказский музей в новых условиях
пополнялся коллекциями краеведческого характера, при отделе имелся
сельскохозяйственный отдел. Заметное развитие получает производственная
пропаганда в работе Сочинского музея, фонд которого заключал коллекции
по табаководству, виноградарству и лесному делу. Также имелся комплекс
предметов, отражавших развитие местных промыслов. В Майкопском музее
посетителей знакомили в показательном дворике с техническими культурами
и лекарственными травами. Темрюкский музей помимо производственного
отдела, имел астрономическую вышку и организовывал выезды с телескопом
и экспонатами по станицам [18].
Все названные музеи, несмотря на тяжѐлые условия жизни, не
свѐртывали свои работы, а продолжали осуществлять большую
просветительскую работу, являясь часто единственным очагом культуры и
просвещения на местах.
В то же время, на рубеже третьего десятилетия двадцатого века широкие
общеобразовательные задачи, наряду с изучением и показом местной
истории, возлагались на провинциальные музеи. Такое понимание
просветительской функции местных музеев подчѐркивало их роль в сети
краеведческих учреждений.
С укреплением краеведческой направленности музейные кадры активно
вовлекались в научно исследовательскую работу по изучению местных
ресурсов. Деятельность местных окружных музеев развивалась с учѐтом
физико-географических особенностей той местности, где они существовали.
Ввиду этого, в планах музеев особое внимание уделялось изучению
природных ресурсов. Например, силы Майкопского Окружного музея были
направлены на изучение горного ландшафта; кроме того, привлечение
специалистов с/х отраслей способствовало организации в музее
разъяснительной работы путѐм бесед с посетителями об улучшении развития
садоводства и пчеловодства. Активно пропагандировалась роль
кролиководства и животноводства в развитии хозяйственной деятельности
округа. В целом коллекции музея были собраны его заведующим П.К.
Перепелицыным. Музеи Сочи и Новороссийска преимущественно
занимались изучением и пополнением естественно-научных коллекций
образцами морской фауны, субтропической флоры и горного ландшафта.
Сочинский музей краеведения основан в 1920-м году по инициативе
заведующего Сочинского ОНО И.Е. Лермана. Ему помогали работники музея
Н.О. Кирпич и Е.С. Котелевец, имевшие в прошлом большой музейно-
экскурсионный стаж.
Деятельность Темрюкского районного музея выражалась в изучении
особенностей таманского полуострова, в геологическом, биологическом,
экономическом отношении. Специалистами музея разработана карта
Таманского полуострова и элементами гидрографии, геологии и археологии,
которые настойчиво предлагал опубликовать зав музеем С.Ф. Войцеховский.
(с 1922 г. возглавлял музей.) С 1920 г. работа Темрюкского музея
осуществлялась заведующим Ю.Д. Новосѐловым. С приданием
краеведческой направленности Таманский музей стал называться
«Археологическая станция и музей». С 25 июля 1921 г. он был организован
местными школьными работниками, братьями – профессором С.Г. и
агрономом А.Г. Остроумовым, уроженцами ст. Таманской. В 1920 г.
Таманский музей назывался Этнолого-археологическая станция Таманского
полуострова, в основу которого были положены коллекции
дореволюционного музея, основанного местным жителем, внештатным
сотрудником войскового музея, хорунжим В.В, Соколовым. Действия
Таманского музея в полной мере способствовали охране и учѐту
археологических памятников. Одновременно в целях научного исследования
местного края при Таманском музее были организованы агрономические
работы на опытном поле, и действовала метеорологическая станция. Кроме
того, работала мастерская для набивки чучел. Имелись готовые к печати
материалы по почвам местного края и по климату.
Музей города Ейска, ставший в 1920 г. районным естественно-
историческим (зав. Н.В. Блошков), и Кавказский районный музей
краеведения (зав. В.И. Солодовников) проводили обследования согласно с/х
особенностям степной зоны края. Армавирский районный музей им.
Леткенса (зам. М.С. Фиалковская) и Краснодарский областной музей (зав.
И.Е. Гладкий) имели значение областных научных центров. Особенность
Армавирского музея выражалась в наличии кроме основной экспозиции ещѐ
передвижного отдела, широко обслуживающего наглядными пособиями
школы и другие учреждения. Кубано-Черноморский областной музей имел
десять богатых, высоко интересных в научном отношении отделов:
археологический, естественно-исторический, оружейный, нумизматический,
этнографический, рыболовный, хозяйственный, церковно-исторический,
художественный и отдел революции. Музейное собрание к 1922 г. заключало
свыше тридцати тысяч экспонатов, размещѐнных в шестнадцати залах двух
зданий: по ул. Рашпилевский 3 и Красной 11 [19].
Развернувшаяся музейная краеведческая работа содействовала
образованию производственных отделов. Считалось, что путем развития
наглядности в музеях достижений в области сельского хозяйства и
промышленности больше вовлекаться население в работу по поднятию
народного хозяйства. Обновление и пополнение этих отделов материалами
производилось музеями самостоятельно и при участии отдельных
организаций и учреждений. Отмечая развитие производственной пропаганды
в музейных условиях, Григор обозначил наличие производственных отделов
в каждом окружном музее. Мы уже отмечали выше широкие связи Ейского
музея с кооператорами района. Кроме того, Темрюкский районный музей с
1922 г. активно развивал астрономический, геологический, биологический,
экономический и археологические отделы [20].
В 1922 г. перевод музеев области на Госснабжение и местные средства
позволил значительно улучшить работу музеев, как с научной, так и с
хозяйственной стороны. Согласно решения коллегии отдела музеев
Главнауки с 1 апреля 1922 г. в сеть государственных музеев включено было 4
музея – Краснодарский, Новороссийский, Таманский, Майкопский с 13
сотрудниками. На местном бюджете состояли музеи: Темрюкский районный,
Сочинский музей краеведения, Геленджикский районный. Из местных
средств от Окрисполкома отпускались суммы на содержание личного
состава, на хозяйственные и научные надобности. Уже в мае – июне 1922 г.
по сведениям начальника финансового подотдела ОбОНО на нужды музеев
было перечислено 12278 руб., затем в распоряжение Губмузея от 3.07. 1922 г.
выделены кредиты в сумме 12381 руб.
В 1923 г. в ведении Главмузея состояло 11 подведомственных музеев и 1
заповедник [21].
Дополнительными денежными ресурсами для музеев стали
спецсредства, получаемые от эксплуатации закрепленных строений, которые
целиком расходовались на нужды музеев и охрану памятников. Право иметь
специальные средства музеи получили согласно постановления Совнаркома
от 19.04. 1923 г., опубликованного в Известиях ВЦИК от 4.05. 1923 г., за
№97.
С разрешения матчасти ОбОНО зав. Облмузеем Гладкому доверялось
сдавать в аренду и заключать договора на переданные помещения
Коммунхозом ОбОНО, расположенных по ул. Рашпилевская, Красная и
Графская [22]. Во дворе музея по ул. Рашпилевской снимали комнаты наряду
с сотрудниками музея и другие нуждающиеся граждане. Деньги,
взымавшиеся за аренду жилья поступали в доход музея [23].
Впрочем у Г.Г. Григора, как и прежде основное время занято было на
изыскание средств для музеев области. Несмотря на то, что окружные музеи
финансировались из местного бюджета, но положение дел, таких музеев как
Армавирского районного, Темрюкского районного, Сочинского музея
краеведения требовало повышенного внимания. Особенно важно, по мнению
Григора, следовало поддержать Сочинский музей, район которого
изобиловал редкими экземплярами вымирающих животных и растений.
Тревогу вызывал и Новороссийский музей истории и природы
Черноморского побережья, экспозиция которого, несмотря на содействие
исполкома, продолжал оставаться в старом полуразрушенном помещении.
Всѐ, что хранилось в нем, как писала в 1922 г. газета «Красное Знамя»,
заливалось водой, а античные вазы в течение одной ночи наполнилось водой,
а те, что реставрированы расползались по всем швам.
Относительно Областного музея в Краснодаре, то его роль в будущем
значительно возросла по мнению автора заметки В. Сумовского, если
поддержать его материальную сторону и в первую очередь ремонт здания
[24]. Освещая жизнь областных музеев газета Красное Знамя, отмечала
ключевую роль заведующих музеями в деле сохранения и популяризации
музейного достояния. Музей г. Темрюка работал не только днем, но и ночью.
Вооружившись телескопом, заведующий читал популярные лекции по
астрономии для жителей окрестных станиц. В 1923 г. музей Новороссийска
был переведен в новое здание, что было заслугой заведующего, археолога по
специальности, Г.Ф. Чайковского, сберегшего музейные ценности и грамотно
распределившего их в новом помещении музея [25].
Другой пример самоотверженного труда являет нам в своем отчете зав.
Геленджикского музея Р. Рейнке, который писал, что в течение двух недель
он проламывал ломом каменную стену для соединения музейных
помещений. Местный Комхоз разрешил музею путем присоединения
соседнего помещения расширить свои площади. Но когда работа была
окончена, и оба помещения соединились, явилась воинская часть и заняло
этот помещение. Все труды заведующего оказались напрасны.
Выполняя задания Управления по делам музеев, профессор Семен
Гаврилович Остроумов – зав. Таманским музеем (1921–1924 гг.) – перевозил
древности с мест нахождения при полном равнодушии местных властей.
После того, как станичные исполкомы сжалились и стали отпускать подводы,
работа пошла энергичней [26]. В то время Управлением была поставлена
задача взять на учет все имеющиеся памятники, которыми весьма богата
Кубано-Черноморская область. С этой целью разработали анкету, которая
рассылалась по станичным исполкомам. Во время командировок Григором
проводились совещания в составе предисполкомов, где разъяснялась
важность охраны архитектурных и исторических памятников. Результатом
таких совещаний явилось издание на местах соответствующих обращений к
населению с указанием преступности самовольных раскопок и наказания за
данное деяние. Кроме пресечения отдельных попыток раскопок Управлением
были приняты следующие меры – десяти музеям области было поручено
следить за недопущением раскопок. С 1921 г. по докладу зав. управлением по
делам музеев Григора, Главмузеем в Тамани организована археологическая
база, главной целью которой являлась концентрация и охрана памятников
старины Таманского полуострова. Такими же функциями по отношению к
Черноморскому побережью наделены были музеи Новороссийска,
Геленджика, Сочи. Управлением по делам музеев подготовлены инструкции
по учѐту памятников старины, которая была передана для печати в
очередном номере журнала ОбОНО «Просвещение» [27]. На тот момент
каждый окружной музей располагал собранием археологических находок,
изучение и сбор которых осуществлялся преимущественно по инициативе
руководителя музея. Их опыт в области археологических изысканий,
музейные знания, которые базировались на дореволюционном классическом
образовании, содействовало в решении важных задач по сохранению
историко-культурных ценностей Кубани. С 1925 по 1926 г. плодотворно
трудились в экспедиции под руководством профессора А.С. Башкирова зав.
Таманским музеем (с 1924 г.) А.Г. Остроумов, зав. Темрюкским музеем
Сергей Францевич Войцеховский (до 1922 г. – зав. Ейским музеем). В ходе
этих исследований местные работники успешно справлялись с
поставленными задачами, при этом взаимоотношения с авторитетом в
области археологии Башкировым складывались на равных. Часть экспонатов,
являвшихся результатом произведенных раскопок – керамика, сосуды, стелы,
скульптурные фрагменты, фотоснимки, кремневые орудия – переданы были в
местные музеи. На сегодняшний день в научном архиве КГИАМЗ хранится
две папки с документами, отражающими работу башкировской экспедиции.
По просьбе работавшего в 1926 г. Башкирова зав. Темрюкским музеем
Войцеховский написал статью «Записки краеведа». Копию статьи и
фотографии с картой высланы были в музейно-археологическую секцию
Бюро краеведения. В 1926 г. в сентябре месяце зав. Новороссийским музеем
Чайковский участвовал с докладом «Находка мраморной плиты, найденной
под станицей Анапской в 1922 г.» во Всесоюзной археологической
конференции в Керчи.
Из других работ в 1922 г. Управлением по делам музеев была
организована работа по сбору рукописей и печатных памятников с целью
издания сборника «Старина Кубани».
Всегда совместные выезды по облпасти, деловые встречи Управления с
подведомственными учреждениями носили полезный характер. Тесная,
живая связь управление с музеями содействовала музейному строительству
на Кубани и укрепляла позиции управления как музейного органа власти
[28].
С 1923 г. согласно сообщению Главнауки Губмузей входит в состав
ГубОНО на правах его подотдела. При этом работа управления продолжалась
по тем же направлениям, как и велась по схеме в прежние годы [29].
Профессор Григор работал на одну цель, и не меньше сил тратил на
сохранение числа наличных музеев, которые в то время вполне
соответствовала потребности в области научно-просветительской работы.
Управление предъявляло к музеям требования по углублению внутренней
работы, пересмотру коллекций, переход на научную систематизацию и
классификацию, и увеличение музейных собраний новых поступлений.
Создание широкой школьной и внешкольной аудитории, опираясь на
которые, музеи смогли успешно выполнять свое основное назначение – быть
очагом широкого просвещения масс [30].
Областной музей г. Краснодара, сохранив структуру и формы работы
старого войскового музея, стал для окружных музеев показательным
просветительским учреждением. Сотрудники не только занимались
комплектованием, экскурсионной работой, но и оказывали методическую
помощь коллегам по вопросам музейного дела [31]. Музей имел
систематическую экспозицию с выставленным всем наличным материалом. В
условиях современного музейного строительства XXI века, этот приѐм по-
прежнему основа экспозиционной работы. Тематические коллекции
экспонировались в специальных изготовленных витринах под стеклом.
Поступления регистрировались в книгах учета с последующим присвоением
каждому предмету инвентарного номера. Название областной находилось в
соответствии с отражением жизни и природы всего края.
Примечания
1. Ионов И.В. Строительство местных музеев (октябрь 1917 – 1920 гг.) //
Труды Научно-исследовательского института музееведения. Вып. 2. М., 1961. С. 84;
Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 258. Л. 51.
2. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 200. Л. 86; Д. 8. Л. 61; Ф. Р–158. Оп.1. Д. 19. Л.42–
43; Спутник делового человека. Вып. 1. Краснодар, 1922. С. 38–39.
3. Григор Г.Г. Музеи Северного Кавказа // Бюллетень Северо-Кавказского
бюро краеведения. №5–7. Ростов-Дон, 1926. С. 1.
4. Кубано-Черноморский областной музей (очерк) // Красное Знамя. №281. 13
декабря, 1922 г. Л. 3; Ионов И.В. Строительство местных музеев (октябрь 1917 – 1920
гг.)… С. 96.
5. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 1177. Л. 23; Остроумов А.Г. Археологическая
станция и музей Таманского полуострова // Краеведение ан Кавказе. Общекавказский
научно-информационный журнал. №1. Ростов-Дон, 1924. С. 72; Григор Г.Г. Кубано-
Черноморский областной музей // Просвещение. 1923. №7. (Краснодар). С. 24.
6. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 1428, Д. 18, Д. 1177. Л. 32; КГИАМЗ. ПМ–5493/1
«Дело Кубано-Черноморского областного музея». Л. 13; КГИАМЗ. Книга приказов
Кубано-Черноморского областного музея за 1921 г. Л. 5.
7. ГАКК. Ф. Р–890. Оп. 1. Д. 1657; Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 1977. Л. 39, 192; Д. 174.
Л. 10–11.
8. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 73. Л. 11; Д. 248. Л. 7–8, 13; Д. 258. Л. 11, 51.
9. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 248. Л. 126; Д. 1177. Л. 60.
10. Григор Г.Г. Охрана памятников природы и Кубанский высокогорный
заповедник // Буревестник. 1 мая 1924; Григор Г.Г. Вопросы охраны природы в Кубанской
области // Там же; Григор Г.Г. Описание Кубанского высокогорного заповедника // Там
же.
11. Краевой музейно-архивный съезд // Просвещение. №2 (6). 1921. Краснодар.
С. 119.
12. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 174. Л. 4; Д. 1177. Л. 9, 40, 79, 91; Д. 160. Л. 95;
Создание сети провинциальных музеев (1921–1927 гг.) // Труды Научно-
исследовательского института музееведения. Вып. 2. М., 1961. С. 94.
13. ГАКК. Ф.Р–365. Оп. 1. Д. 1177. Л. 32; Д. 73. Л. 42, Д. 248. Л. 64.
14. ГАКК Ф. Р.–365. Оп. 1. Д. 1177. Л. 11, 25, 79, 91, 239, 257; Книга приказов
Кубано-черноморского областного музея за 1921 г. Л. 18, 24 об.
15. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 1177. Л. 231. Красное Знамя. 1922 год, 4 октября;
Ямпольский М.Л. Краеведческие учреждения Северного Кавказа. Ростов-Дон, 1927.
16. Отчет Кубанского Войскового этнографического и естественно-
исторического музея за 1911–1912 гг. Екатеринодар, 1913; Отчет Кубанского Войскового
этнографического и естественно-исторического музея за 1910 гг. Екатеринодар, 1911.
17. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 103. Л. 57.
18. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 174. Л. 4; Д. 1177. Л. 11, 150, 235.
19. ГАКК. Ф. Р–365. Оп. 1. Д. 103. Л. 57; Ямпольский М.Я. Краеведческие
организации Северо-Кавказского края // Краеведение на Северном Кавказе. №1–2. Ростов-
на-Дону: изд. С.-К. краевого бюро краеведения, 1928. Л. 108; Спутник делового человека.
Вып. 1. Краснодар, 1922. Л. 48; Сумовский В. Хроника. КубЧерОблмузей (очерк) //
Красное знамя. №281 (792). 13 декабря 1922 г. С. 6.
20. Григор Г.Г. Музеи Северного Кавказа. С. 1; Труды НИИ музееведения. Вып.
2. М., 1961. С. 101.
21. ГАКК. Ф. Р.–365. Оп. 1. Д. 174. Л. 4; Д. 103. Л. 59–60; Д. 277. Л. 15; Д. 1177.
Л. 112, 119, 129; Д. 1603. Л. 5.
22. ГАКК. Ф. Р.–365. Оп. 1. Д. 103. Л.34, 36; Иваненко Б.В. Указатель
руководящих материалов в области музейного дела и охраны памятников искусства,
старины, революционных движений, природы и пр. / Издание Центрального Бюро
краеведения. М., 1929. Л. 6.
23. Книга приказов Кубано-Черноморского областного музея за 1921 г. Л. 25, 27
об., 28.
24. Охрана памятников старины на Кубани // Красное Знамя. №256. 14 ноября
1922 г. С. 1; г. Новороссийск. Сохранить музей истории и природы // Красное Знамя.
№281. 13 декабря 1922 г. С. 5–6: Сумовский В. Хроника. КубЧерОблмузей // Красное
Знамя. №281. 13 декабря 1922 г. С. 6.
25. Григор Г.Г. Музеи Северного Кавказа. Л. 1.
26. Из жизни работников Обл. музейного управления // Красное Знамя. №260.
18 ноября 1922 г.; Сокровища Тамани в опасности // Красное Знамя. №176. 5 августа 1922
г.
27. ГАКК. Ф. Р.–365. Оп. 1. Д. 174. Л. 1, 4; Охрана памятников старины и
искусства на Кубани // Красное Знамя. №256. 14 ноября 1922 г.
28. ГАКК. Ф. Р.–365. Оп. 1. Д. 174. Л. 1, 4; Ф. 890. Оп. 5. Д. 101; Лунин Б.В.
Археологические раскопки и разведки на Северном Кавказе в 1927 году // Краеведение на
Северном Кавказе. Периодический орган Северо-Кавказского бюро краеведения. №1–2.
Ростов-на-Дону, 1928. Л. 58; Чайковский Г.Ф. Случайные находки древности в 1924–1927
гг. на Черноморском побережье (в окрестностях Новороссийска) по данным местного
музея природы и истории // Записки Северо-Кавказского общества археологии истории и
этнографии. Вып. 3–4. Ростов-на-Дону, 1927–1928; Всесоюзная археологическая
конференция в Керчи // Красное Знамя. №214. 17 сентября 1926 г.; Красное Знамя. №173,
30 июня 1927 г.; Красное Знамя. 10 июня 1925.
29. ГАКК. Ф. Р.–365. Оп. 1. Д. 103. Л. 11.
30. ГАКК. Ф. Р. –365. Оп. 1. Д. 174. Л. 4.
31. ГАКК. Ф. Р.–№365. Оп. 1. Д. 1177. Л. 28.
М.Р. Стругова
Краснодарский историко-краеведческий музей в 1943–1945 годах
Данная работа посвящена деятельности сотрудников Краснодарского
музея после освобождения столицы края от фашистской оккупации и
является продолжением исследования истории музея в период Великой
Отечественной войны.
5 марта 1943 г. музей открылся для посетителей. В инструктивном
письме начальник музейно-краеведческого отдела НКП РСФСР А.Д.
Маневский сообщал об «уроках войны» для музеев: создать на время войны
особые условия хранения национальных культурных ценностей (заменить
копиями ценные экспонаты; изъять сведения об экономике региона, которые
«невольно могут оказать пользу врагу»); проводить мероприятия МПВО и
противопожарные. Это были актуальные рекомендации: обстановка в крае
оставалась фронтовой до окончательного освобождения территории Кубани
(9 октября 1943 г.) и соседнего Крыма (12 мая 1944 г.). Так, в музей
поступили фугасные бомбы, не разорвавшиеся во время бомбардировки
Краснодара авиацией противника 12 апреля 1943 г. [1]. Важнейшими
задачами являлось восстановление музеев, пострадавших от оккупации;
строительство экспозиций о войне. Приводился в пример экспозиционный
опыт Череповецкого и Ивановского музеев, а также Сочинского музея по
обслуживанию госпиталей [2].
Музейщикам приходилось преодолевать многие повседневные
проблемы. Например, необходимые для оформления музея дефицитные
товары приходилось покупать по рыночным ценам (краску, полотно, известь,
синьку, лесоматериалы, фанеру, гвозди, фотобумагу). Это не
предусматривалось сметой и порождало неурядицы с бухгалтерскими
отчетами. Ремонт и восстановление экспозиций в итоге затягивался [3].
Остро не хватало бюджетных денег, требовались целевые субсидии для
полного восстановления. Бюджет 1944 г. (100 тыс. руб.) почти в два раза
превысил бюджет 1943 г. за счет увеличения средств на исследовательские
работы. Музей работал 314 дней в году, его посетили более 16 тыс. человек,
от продажи билетов было выручено всего 474 руб. (план – 7 тыс.). Директор
музея Ф.В. Навозова это объясняла так: «Научные и педагогические
учреждения Краснодара еще не вполне осознали роль музея в деле
закрепления учащимися знаний о нашем крае путем показа его
особенностей» [4].
9 мая 1945 г. закончилась самая страшная война в истории человечества.
Великая Отечественная война изменила советское общество по многим
характеристикам: демографическим, социальным, психологическим,
ментальным. Настроения людей были непростыми: с одной стороны,
невиданная боль утрат – как минимум 27 млн. погибших на фронтах, в
концлагерях, больничных койках, пропавших без вести... С другой стороны –
радость победы, ожидание воссоединения с семьей, домом, надежды на
мирную жизнь. Эти радужные настроения были естественной реакцией
людей после перенапряжения, экстремальности и мобилизационного порядка
жизни в военное лихолетье. Многие с оптимизмом смотрели в будущее.
Послевоенное общество было обществом веры и надежд.
В конце войны изменения коснулись управления музеями: 6 февраля
1945 г. СНК СССР создал Комитет по делам культурно-просветительных
учреждений при СНК РСФСР (с 1946 – Совете Министров РСФСР). В его
составе было Управление музеев, которому подчинялись музеи. Решением
Краснодарского крайисполкома от 5 марта 1945 г. создан краевой отдел
культурно-просветительной работы (заведующий И.С. Яковенко), в его
подчинение перешли музеи, избы-читальни, библиотеки, дома культуры [5].
8 апреля 1944 [6], в мае – июне 1945 г. комиссии Краснодарского
горкома ВКП (б) обследовали учреждения культпросветработы края:
состояние зданий, материальную базу, основные направления деятельности,
кадры. В 10 государственных музеях Кубани работало всего 50 человек.
Коллективам были поставлены задачи: быстро восстановить народное
хозяйство и осуществить сталинское задание – «сделать всех рабочих и
крестьян культурными и образованными» [7]. Краснодарский музей вызвал
на социалистическое соревнование Симферопольский областной
краеведческий музей. Важным событием повседневной жизни краснодарских
музейщиков было проведение водопровода (1945) [8].
В 1945 г. был организован музейно-краеведческий Совет из 26 человек.
В него вошли представители научно-исследовательских институтов, вузов,
партийно-советских учреждений, краеведы и учителя: доцент КГПИ М.В.
Покровский, архитектор Краснодара В.И. Бреус, зав. кафедрой виноделия
КИПП А.С. Мержаниан, композитор Г.М. Плотниченко [9].
Научно-исследовательская работа в освобожденных от оккупации
музеях в 1943–45 гг. получила новый импульс [10]. В Краснодарском музее
сотрудники Ф.В. Навозова, А.Т. Диденко, Н.В. Смирнов, М.Е. Шеховцова,
Б.М. Васькина [11], А.У. Власова [12], Е.Д. Фоменко активно комплектовали
материалы об освобождении Кубани от оккупации. Музей связался с
трофейными комиссиями, крайисполкомом, редакциями газет, школами,
жактами, написал обращение к жителям города с просьбой оказать помощь в
сборе трофеев. Сотрудники ходили по городу и собирали вещи, брошенные
немцами при отступлении [13]. В 1944 г. председатель Краснодарского
крайисполкома М.М. Бессонов ходатайствовал в Наркомат Обороны СССР,
чтобы командование Северо-Кавказского военного округа выделило музею
трофейное вооружение и обмундирование. Он просил доставить
противотанковые пушку и ружье; танкетку; шестиствольный и
трехствольный минометы; образцы мин и авиабомб; самолет-истребитель;
оружие немецкой, румынской, финской и венгерской армий; автоматы;
винтовки; револьверы; значки, ордена, знаки отличия; обмундирование
немецкого солдата и офицера. Так, из колхоза «Путь Ленина» (ст.
Фанагорийская) в музей привезли трофейное оружие [14]. Постепенно
формировалась коллекция из предметов вооружения и снаряжения немецкой
армии, карт, писем, знаков и других артефактов оккупации. Идея возмездия
фашизму, заложенная в демонстрации трофеев, эмоционально
воздействовала на посетителей.
Комиссия по истории Великой Отечественной войны, созданная в 1943
г., инициировала сбор материалов по истории партизанского движения в крае
[15]. Музейщики прошли по местам боевых действий партизан Кубани,
обследовали Усть-Лабинский, Ладожский, Староминской, Новоминской,
Нефтегорский, Апшеронский, Щербиновский, Брюховецкий, Армавирский,
Абинский и Кропоткинский р-ны [16]. Были составлены списки участников
партизанского движения, являющиеся важным историческим источником.
Бывшая партизанка, учительница-краевед М.И. Карабак, сопровождала
музейщиков по партизанским маршрутам отряда «Овод» в предгорьях
нынешнего Северского р-на. Участники партизанского подполья
откликнулись на призыв музея комплектовать материалы [17]. В фонды
поступили дневники, листовки, газеты из партизанских отрядов:
Апшеронского им. Н.Ф. Гастелло, Нефтегорского им. Н.А. Щорса,
Новороссийского; личные вещи партизан Баранникова, А. Никитина,
Шевцова. Также были получены «акты о зверствах фашистов» из
Нефтегорского, Апшеронского р-нов, ст. Белой Глины и Кущевской; девять
листовок на немецком языке и четыре пропуска германских офицеров
(списаны в 1951 г.) [18]. Особый интерес вызвали предметы А.В.
Верещагина, командира 1-го Нефтегорского партизанского отряда им. Н.А.
Щорса: удостоверение НКВД от 10 августа 1942 г., карта, наградные листы
партизан, деревянная ложка, ватные брюки. Доска объявлений оккупантов с
угрозами расстрела местных жителей, появляющихся в районе действий
партизан (А.В. Верещагин снял ее в 2-х км от ст. Нефтяной у р. Туха), и
сегодня активно используется в экспозиции музея [19]. Сочинский музей
краеведения передал фотографии о праздновании Дня Победы.
В 1943 г. возобновились археологические изыскания музея под
руководством Н.В. Анфимова. Археолог вспоминал: «9 октября 1943 г. я был
командирован в г. Темрюк для восстановления музея. Во время оккупации
музей был разграблен, а экспонаты не сохранились. При мне в музей
трофейная комиссия привезла повозку немецкого оружия. Из Темрюка я
поехал в Кепы и Фанагорию (у пос. Сенного на берегу Таманского залива),
чтобы посмотреть, в каком состоянии находятся эти наиболее крупные
античные городища Таманского п-ва. Кепы были все изрыты окопами, в
восточной части городища я обнаружил каменное надгробие с изображением
воина, которое воинская часть помогла мне доставить в Краснодарский
музей. Фанагорию пришлось осматривать с миноискателем, так как она была
вся заминирована. В ст. Таманскую я не поехал, поскольку она находилась в
зоне артобстрела с крымского берега» [20].
Н.В. Анфимов организовал историко-археологический кружок из
студентов пединститута, которые ежедневно занимались в музее. Вместе с
ними археолог обследовал скифо-сарматские памятники вблизи станиц
Воронежской и Усть-Лабинской [21]. В 1944–45 гг. исследован грунтовый
могильник богатой меотской семьи в ст. Ладожской на ул. Колодезной. Там
были найдены золотые украшения: проволочные браслеты и серьги в виде
фигурок баранов II в. д. н. э. [22]. В 1945 г. состоялась разведочная
археологическая экспедиция на правобережье реки Кубани (р-н ст.
Тбилисской и г. Кропоткина). Обнаружены шесть ранее неизвестных
городищ, два холмообразных укрепления, грунтовые могильники скифо-
сарматской эпохи и девяносто один курган (некоторые раскопаны в начале
века профессором Н.И. Веселовским) [23].
Н.В. Анфимов участвовал в первом Всесоюзном совещании археологов
(февраль 1945 г., Москва) по вызову вице-президента АН СССР академика
В.П. Волгина [24]. Заседания проходили в Доме ученых; были обсуждены
три больших доклада: Б.Д. Грекова «Итоги археологических исследований за
27 лет»; И.И. Мещанинова «О планировании археологических работ» и И.Э.
Грабаря «О законодательстве по охране и исследованию археологических
памятников», ставивший вопрос об учреждении Всесоюзного
археологического комитета, который бы занимался охраной памятников [25].
Н.В. Анфимов выступил с сообщением по теме своей диссертации:
«Материальная культура сармат Прикубанья» [26].
Совещание показало, что во время войны археологические работы не
прекращались. В 1944 г. отмечалось 25-летие деятельности ГАИМК–ГИИМК
и 85-летие со дня основания Императорской Археологической комиссии [27].
Значительным событием в 1945 г. было проведение в Краснодарском
музее первой послевоенной археологической конференции, посвященной 25-
летию советской науки на Кубани. Н.В. Анфимов прочитал доклад
«Археологические исследования на Кубани за 25 советской власти» и
сообщение «Итоги Шапсугской экспедиции». Выступили с сообщением: Ф.В.
Навозова «Палеонтологические находки на Кубани за годы советской
власти»; научный сотрудник Ставропольского краеведческого музея Т.М.
Миняева – «Памятники эпохи среднего средневековья на Кубани за годы
советской власти»; преподаватель Краснодарского пединститута М.В.
Покровский – «Сасанидский сосуд из Краснодара» [28]; студент КГПИ Т.М.
Штефаненко – «Сарматские памятники левобережья Кубани» [29]. К
конференции построена выставка палеонтологических и археологических
находок, о ней в книге отзывов сохранилась запись: «Выставка является
наглядным показателем больших и упорных трудов, знаний и любви к науке
всего коллектива музея» [30].
По-прежнему природные изыскания музея использовались в
народнохозяйственных целях. В 1943 г. было закончено прерванное
оккупацией исследование природных источников предгорий Горячего
Ключа, содержащих йод: установлена возможность добычи йода параллельно
с солеварением на Солоноярских источниках. Материалы экспедиции
переданы в крайплан, крайисполком и геобюро. Работой заинтересовались
геологи [31]. Обследованы соляно-щелочные источники в урочище Безепс
Северского р-на (установлена возможность добычи из них соли и хлебной
соды). Из ст. Старотитаровской были доставлены кости мамонта [32]. Фекла
Васильевна проводила работу по составлению рецептов и технике крашения
растительными красителями, заменителями анилиновых красок. По заданию
корреспондента ТАСС Ф.В. Навозова и Н.В. Анфимов написали
краеведческие статьи для публикаций в США, Англии, Чехословакии и
Болгарии [33].
В экспозиционной деятельности в военный период наметилось явное
ослабление дидактического иллюстрирования, началось постепенное
возвращение к «подлинным свидетелям» истории – коллекциям музейных
предметов, объединенных идеей воинского и трудового подвига. Новую
жизнь получили спасенные музейные ценности. В 1943 г. семь передвижных
выставок на тему «Героическое прошлое русского народа»
демонстрировалась в краснодарских госпиталях и в ст. Пашковской [34]. В
апреле 1943 г. была организована выставка, посвященная 130-летию со дня
смерти выдающегося русского полководца М.И. Кутузова. На ней
демонстрировались портрет военачальника; копии гравюр («Сражение под
Бородино», «Конец Полтавской битвы»), карт вторжения Наполеона в
Россию и отступления разбитых войск; образцы оружия эпохи войны 1812 г.
К 1 мая открылась выставка «Средства воздушного нападения и
противовоздушной защиты». На ней были выставлены авиабомбы
противника разных калибров, снаряды Красной армии (зенитные,
авиапушек), инвентарь для противохимической защиты [35]. В июне 1943 г.
начала работу выставка, посвященная Героям Советского Союза братьям
Игнатовым. Демонстрировались карта-схема района действий партизанского
отряда, картина художника М.Н. Домащенко [36] «Подрыв немецкого
эшелона братьями Игнатовыми», графические рисунки карандашом
портретов Гения и Евгения Игнатовых (списаны в 1977 г.), личное оружие,
акты «о зверствах фашистов» [37].
В экспозиции к маю 1944 г. в девяти экспозиционных залах были
восстановлены разделы природы, археологии, этнографии, истории,
социалистического строительства, истории Великой Отечественной войны.
12 февраля 1944 г. открылась выставка «К первой годовщине освобождения
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков» [38]. Шесть «передвижек»
на эту тему выставлялась в КГПИ; библиотеке им. А.С. Пушкина; партийных
кабинетах Краснодарского горкома и райкомов; в фойе кинотеатра «Солей».
Лекторы выступали перед аудиторией кинозрителей до начала демонстрации
фильмов. 8 мая Н.В. Анфимов и зав. отделом соцстроительства А.У. Власова
демонстрировали выставку в ст. Абадзехской [39].
Ко дню Победы музей открыл передвижную выставку в центре города в
витрине магазина спецторга (на пересечении улиц Ленина и Красной) [40].
Ко второй годовщине освобождения Кубани от оккупантов (октябрь 1945)
подготовлена стационарная выставка, где была представлена скульптура
(скульптор Л.Д. Лебедева) юного скрипача Миши Пинкензона,
расстрелянного гитлеровцами вблизи Усть-Лабинской [41].
На Всероссийском совещании по культурно-просветительной работе
(30 августа 1945 г., Москва) поднимались вопросы об улучшении качества
работы музеев страны, особенно отражение Великой Отечественной войны
[42]. Шефствуя над госпиталями, музейные сотрудники читали лекции
красноармейцам на темы: «На освобожденной советской земле», «Вперед на
разгром врага», «На защиту отечества», «Природные богатства
Краснодарского края и использование их для обороны страны»; выпускали
сатирический листок «Крокодил» [43].
Фондовая работа музея В 1945 г. фонды насчитывали 34,7 тыс.
экспонатов. Краснодарский музей оказал помощь экспонатами разоренным
гитлеровцами Ейскому, Темрюкскому краеведческим музеям. Темрюкскому
музею, наиболее пострадавшему во время оккупации, по теме «Боспорское
царство» были выделены на временное хранение: амфоры, кувшины,
чернолаковая керамика, бронзовые и стеклянные браслеты, пантикапейские и
древнегреческие монеты; фотографии по теме «Происхождение жизни на
земле» [44].
Возобновилось изучение фондов внешними пользователями. В 1944 г. в
музее работали: художники, журналисты, геологи, лекторы горкома,
академик архитектуры Борис Михайлович Иофан [45], участвовавший в
создании проектов восстановления Новороссийска. Научный сотрудник
института этнографии АН СССР Евгений Сергеевич Зевакин в 1945 г. изучал
в фондах экспонаты по материальной культуре адыгов [46].
Подводя итоги работы, начальник краевого отдела культпросветработы
И.С. Яковенко выразил благодарность сотрудникам Краснодарского музея
(приказ от 22 марта 1946 г.). В нем говорилось: «Работая в трудных условиях,
коллектив музея в 1945 г. полностью восстановил экспозицию по отделам
истории и природы; провел 6 экспедиций; собрал 969 экспонатов (представил
на государственный учет 582 экспоната); организовал 10 выставок; провел 79
консультаций, 150 лекций» [47].
Не обошлось без критических замечаний. Начальник отдела местных
музеев Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при СНК
РСФСР Е.В. Пушкина отметила «неравномерность» работы музея: «Наряду с
интенсивной работой по изучению археологии и природы края недостаточно
изучен советский период. Посещаемость низкая: 20 тыс. экскурсантов –
норма районного, а не краевого музея». Очень важной для нас является ее
рекомендация включить в план 1946 г. «написание» истории музея [48].
Таким образом, деятельность музея в годы войны необходимо
охарактеризовать как агитационно-патриотическую. Музейными средствами
(выставки, лекции, изыскание природных материалов – йода, соли и др.,
необходимых для народного хозяйства и восстановления экономики)
сотрудники вносили посильный вклад в разгром врага. Унифицированный
иллюстративный метод экспозиции вытеснялся показом подлинных
экспонатов – артефактами суровых дней войны (вещи, документы, оружие
красноармейцев и трофейные экспонаты), которые активно собирали
музейные работники. Характер справедливой, освободительной, народной
войны СССР против фашистских захватчиков, отображенный музейными
средствами формировал в обществе ценностную ориентацию, которая
мобилизовала на борьбу с фашизмом, укрепляла веру в Победу, после войны
– исцеляла памятью, консолидировала на восстановление разрушенной
экономики.
Примечания
1. Краснодарский государственный музей-заповедник (далее КГИАМЗ). Оп. 1-
п. Д. 32. Л. 72–87.
2. Маневский А.Д. О дальнейшем развитии музейно-экспозиционной работы
по тематике Великой Отечественной войны: НИИ краеведческой и муз. работы. М., 27
февраля 1943. С. 8; его же. Основные вопр. муз.-краеведч. дела: НИИ краеведч. и муз.
работы. М., 1943. С. 13–15.
3. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее
ЦДНИКК). Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 723. Л. 26–29; КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 18. Л. 29 об.
4. Годовые отчеты о хозяйственной деятельности музея за 1941–53 гг. //
КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 18. Л. 28 об., 29, 29 об.; Д. 21. Л. 4.
5. Государственный архив Краснодарского края (далее ГАКК). Ф. Р-1626. Оп.
2. Д. 18. Л. 1.
6. В комиссию вошли доцент КГПИ М.В. Покровский, инструктор горкома
Ливенцов и зав. отделом соцстроительства Краснодар. музея А.У. Власова // ЦДНИКК. Ф.
1774–А. Оп. 2. Д. 1226. Л. 6–6 об.
7. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 18. Л. 1, 5; Д. 17. Л. 1.
8. Там же. Д. 21. Л. 107, 141, 217, 153, 160, 109.
9. Там же. Л. 200, 200 об.
10. См. подробнее: Летунов С.Ф. Агитационно-массовая работа в провинции в
годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг.; Майн В.Н., Румянцева Е.В.
Социокультурная жизнь освобожденных районов Российской Федерации в контексте
возрождения российской провинции // Провинция как социокультурный феномен: Сб.
научных трудов участников VIII международной конференции. Кострома, 2000.
11. Васькина Бела Михайловна (1905, Петербург – 1982, Краснодар), из
кустарей, образ. высшее, чл. ВКП (б) с 1929. В 1936 – 16 сент. 1937 – инструктор
Кировского РК ВКП (б) г. Краснодара; 15 нояб. 1938 – 1941, 1946–48 – сотрудник
Краснодарского историко-краеведческого музея, первая заведующая отделом истории
колонизации Кубани XVIII–XIX веков. В предвоенное время она собрала для музея
уникальную коллекцию этнографических материалов, в частности, предметы быта
казаков-некрасовцев. После ухода из музея в 1950-е гг. она являлась внештатным
лектором Кировского РК КПСС, преподавателем нефтяного, сахарного техникумов //
КГИАМЗ. Книга приказов директоров Краснодарского историко-краеведческого музея за
1936–47. С. 7; Протокол № 45 от 3 января 1939 г. заседания Кировского РК ВКП (б) г.
Краснодара по слушанию контрольного дела чл. ВКП (б) Б.М. Васькиной // ЦДНИКК. Ф.
733. Оп. 1. Д. 35. Л. 1, 15, 27; РГАСПИ (Российский государственный архив социально-
политической истории). Ф. 17. Оп. 108. Учетно-парт. документы.
12. Рябкова Александра Ивановн (1913, с. Преображенское ААО – 1988,
Краснодар), из крестьян. Член ВКП (б) с 1932 г. В 1930–31 – учительница нач. школы (с.
Преображенское), 1931–34 – заведующая нач. шк. в х. Новый Сад ААО, март–август 1934
– учительница нач. шк. в х. Урусов ААО. 1935–39 – студентка истфака КГПИ. Сент. 1939
– сент. 1941 – зав. отделом соцстроительства Краснодарского историко-краеведческого
музея. 1942 – слушательница двухмесячных курсов пропагандистов при ЦК ВКП (б) г.
Куйбышев; с июня 1942 г. – пропагандист отд. агитации и пропаганды Кировского РК г.
Краснодара; 1942–43 - повар-боец отдельного кавалерийского дивизиона связи. В 1950–
60-е – преподаватель истории, библиотекарь кр. библиотеки им. Пушкина // ЦДНИКК. Ф.
1774-В. Оп. 1. Д. 6695. Л. 1–9; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 108. Учетно-партийные документы
13. ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 723. Л. 27–28.
14. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 21. Л. 187, 175–176.
15. Реброва И.В. Повседневная жизнь кубанских партизан и ее отражение в
мемуарах // Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг. Ростов н/Д, 2009.
С. 189.
16. ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 723. Л. 27 об.
17. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 9. Л. 48, 50–53, 62–64; Луговая Г.М. Взаимодействие
музеев и общественности в области исторического краеведения. 1917–1980 гг. (На
материале Татарской АССР): Дисс. канд. ист. наук. М., 1989; Матвеев О.В.
Партизанская война в устной истории кубанских станиц (по материалам полевых
исследований) // Великая Отечественная война в пространстве исторической памяти
российского общества. Ростов-на-Дону, 2010. С. 273–280.
18. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Л. 53; Д. 21. Л. 149, 150, 111, 112; Д. 21. Л. 136.
19. Там же. Кн. поступлений экспонатов за 1941–43 гг. № 5. С. 72–75.
20. Прошлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимова / Сост. Е.А. Хачатурова, А.В.
Пьянков. Краснодар, 2010. С. 57; Сокольский Н.И. Новые памятники синдской
культуры // Краткие сведения Института археологии. Вып. 100. М., 1965. С. 590.
21. Кн. поступлений экспонатов за 1941–43 гг. № 5. С. 84, 90; ЦДНИКК. Ф.
1774-А. Оп. 2. Д. 1226. Л. 5.
22. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 24. Л. 32, 32 об.; Анфимов Н.В. Древнее золото
Кубани. Краснодар, 1987. С. 182; Хачатурова Е.А., Юрченко Т.В. История
формирования коллекций КГИАМЗ. Комплектование археологических украшений из
драгметаллов // КГИАМЗ. Рукопись. 2008. С. 1.
23. Веселовский Николай Иванович (1848–1918) – проф. СПб. ун-та, археолог.
В 1901–03 раскопал 120 курганов по правобережью Кубани между ст. Кавказской и
Воронежской и около 10 курганов в Закубанье
24. Волгин Вячеслав Петрович (1879–1962) – сов. историк, общ. деятель,
специалист по истории социалистических и коммунистических идей домарксова
периода, вице-през. АН СССР в 1942–53.
25. К вопросу об организации и юридическом обосновании дела охраны и
исследования археологических памятников в РСФСР // Материалы к Всесоюзному
Археологическому совещанию. М., 1945. С. 188.
26. ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 1226. Л. 4.
27. Пиотровский Б.Б. Страницы моей жизни. СПб., 1995. С. 222–225; Формозов
А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. М.,
2006. С. 76–79; КГИАМЗ. Приказы директоров по личному составу за 1936–47 гг. С.
95; Оп. 1-п. Д. 24. Л. 10.
28. Покровский М.В. Новый сасанидский сосуд из Краснодара // Краткие
сообщения о докладах и полевых исследованиях. М. – Л.: ИИМК АН СССР. 1947. Т.
18.
29. ГАКК. Ф. Р-1626. Оп. 2. Д. 17. Л. 34–36; КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 21. Л. 111, 111
об.
30. Там же. Оп. 1-п. Д. 23. Л. 2; ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 723. Л. 27 об.
31. Отчет Навозовой Ф.В. в Краснодарский крайком партии о работе музея в 1
квартале 1944 г. // ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 1226. Л. 4, 6.
32. КГИАМЗ. Приказы директоров по личному составу.... 1936–47. С. 92.
33. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 21. Л. 111 об.
34. ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 723. Л. 28.
35. Большевик. 1943. 30 апреля.
36. Домащенко Марк Николаевич (1906–88) – ветеран Гражданской и Великой
Отечественной войн. Участник боев 1941 г. под Смоленском. После ранения с 1943 г.
работал в студии военных художников им. М.Б. Грекова. Участвовал в боях на
«Голубой линии», в освобождении Тамани, Керчи, Крыма. Автор картин «Атакуют
кириченковцы», «По следам оккупантов», «Бой в горах Кавказа» и др. В 1949 г. по
ложному доносу арестован и осужден на 8 лет лишения свободы. Отбывал наказание
в Вятлаге Кировской обл. Многие картины в Гос. артиллерийском музее,
Центральном музее Красной армии уничтожены как картины «врага народа».
Реабилитирован в 1956 г.
37. Большевик. 1943. 30 мая.
38. Большевик. 1944. 8 февраля, 3 марта.
39. ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 1226. Л. Л. 8–9; Большевик. 1943. 27 июня;
КГИАМЗ. Приказы директоров по личному составу... 1936–47. С. 90.
40. ЦДНИКК. Ф. 1072. Оп. 1. Д. 2431. Л. 20.
41. Сов. Кубань. 1945. 28 сент.; КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 21. Л. 173, 185. В архиве
музея сохранился ответ на просьбу школьников из Усть-Лабинска рассказать о
подвиге Муси Пинкензона. Сообщалось: семья Пинкензон эвакуировалась на Кубань
из Кишинева. 15 дек. 1942 вышло распоряжение оккупац. командования собраться
еврейским семьям близ старой крепости Усть-Лабинска якобы для переезда в др.
место. Вместе с родителями отправился пятиклассник Миша. В юж. части крепости
был вырыт ров. Люди догадались, что гитлеровцы предпримут нечто страшное. Миша
попросил у полицейского разрешение перед смертью сыграть на скрипке любимую
мелодию, исполнив «Интернационал». В тот день было расстреляно более 600 человек
// КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 87. Л. 29, 30.
42. Там же. Д. 24. Л. 5.
43. Там же. Д. 19. Л. 1–4; Лупало И.Г. Деятельность советских музеев
исторического профиля по военно-патриотическому воспитанию трудящихся. 1941–
1972 гг.: Дисс. канд. ист. наук. М., 1982.
44. ГАКК. Ф. 1626. Оп. 2. Д. 17. Л. 37,5, 9.
45. Иофан Борис Михайлович (1891–1976) – народный академик СССР.
Основные работы: павильоны СССР на Всемирной выставке в Париже (1937), в Нью-
Йорке (1939). Принимал активное участие в проекте Дворца Советов в Москве
(конкурсы 1931, 1958), арх. административно-жилого комплекса на ул. Серафимовича
в Москве (знаменитого дома на Набережной). В послевоенные годы создал комплексы
Нефтяного и Горного институтов // Е. Мельников. Борис Михайлович Иофан.
Ахитектура СССР. 1971. № 5. С. 39; ЦДНИКК. Ф. 1774-А. Оп. 2. Д. 1226. Л. 4.
46. Зевакин Евгений Сергеевич (1901) с окт. 1946 г. – ст. науч. сотрудником
Адыгейского НИИ. Труды по полит. и соц.-эк. истории Причерноморья в эпоху
раннего средневековья // КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 21. Л. 203.
47. Там же. Л. 16.
48. КГИАМЗ. Оп. 1-п. Д. 24. Л. 23.
А.В. Кондрашев
О германских торпедных катерах, погибших в Керченском проливе
В списке потерь германского флота на Черноморском ТВД в 1942–1943
г., у южных берегов Таманского п-ва отмечена гибель двух торпедных
катеров – S-27 и S-102. Подробная информация об обстоятельствах
происшествий в отечественных источниках отсутствует. Известно только,
что в первом случае в катер случайно попала торпеда, пущенная во время
атаки c другого «шнелльбота» – S-72 (1942 г.). Второй подорвался год
спустя на советской мине во время ночного рейда у мыса Железный Рог. В
связи с отсутствием точных данных о месте их гибели, поисками затонувших
судов никто не занимался.
В 2004 г. любителем подводного плавания А. Маратовым из подводного
центра «Тамань» в южной части Керченского пролива были случайно
открыты остатки затонувшего судна времен Второй мировой войны..
Сохранившийся обломок кормовой части, а также значительный разброс
фрагментов корпуса и двигателей позволили предварительно
идентифицировать объект и определить причину его гибели : обнаружен
немецкий торпедный катер, погибший в результате сильного взрыва.
Поскольку был найден только 4-метровый фрагмент кормы, (общая длина
катера составляет около 35.0 м), дайверы решили самостоятельно
продолжить поиски оставшейся части «шнелльбота», сохранив свое открытие
в тайне. Однако, корпус судна так и не был обнаружен, а подводный центр
через пару лет закрылся.
Спустя шесть лет обломок кормы был вновь найден подводной
экспедицией клуба «Нептун-Про» из г.Тольятти. В районе гибели катера
были сделаны новые находки – 40 мм корабельное орудие шведской фирмы
«Бофорс», снаряды с германской маркировкой, несколько глубинных бомб и
якорь-кошка.
Для идентификации объекта возникла необходимость более детального
изучения боевой деятельности немецких катеров в Северо-Восточном
Причерноморье. Неоценимую помощь в этом оказали материалы известного
военного историка М.Э.Морозова, который не только дал ценные
консультации, но и предоставил копии бортовых журналов, раскрывающих
подробности гибели судов.
Германские торпедные катера появились на Черном море в период
наиболее ожесточенных боев за Севастополь. Это было наиболее
подготовленное и отличившееся в боях в Северном море, Ла-Манше и на
Балтике подразделение
1-й флотилии из шести катеров в составе S-26, S-27, S-28, S-40, S-72 и S-
102.
По мнению командования, из всех боевых кораблей германского флота в
Черном море, только субмарины и торпедные катера были эффективны для
использования в наступательных целях. Катера обладали хорошей
мореходностью, имели малозаметный силуэт и мощные дизельные двигатели
по 2000 л.с. Развивая скорость до 40 узлов, они были вооружены двумя
торпедными аппаратами и автоматическими пушками. Кроме того, катера
несли на борту мины и глубинные бомбы, что делало их многоцелевыми
боевыми единицами.
«Шнелльботы» 1-й флотилии развили у берегов Кавказа и Крыма бурную
деятельность, полную дерзких ночных рейдов и атак на советские конвои.
Особенно выделялся успехами катер «S-102» под командованием В.Тенигеса,
получившего Рыцарский крест за боевые действия против англичан в Ла-
Манше. Позже за удачные походы в Черном море он добавил к ним «дубовые
листья».
Главной задачей «шнелльботов» стала блокада осажденного
Севастополя. Первый боевой выход они совершили из передовой базы Ак-
Мечеть в ночь на 19 июня. Достигнув мыса Фиолент, S-27, S-102 и S-72
атаковали санитарный транспорт «Белосток» (2048 брт.), шедший из
Севастопля в Туапсе с ранеными и беженцам под охраной тральщика
«Якорь» и пяти охотников. Торпеда, пущенная с S-102, разворотила борт
«Белостока», который вскоре затонул. Добившись попадания, немцы
удалились, а корабли охранения занялись спасением людей. Из воды были
подняты 157 пассажиров и членов экипажа, жертвами атаки стали от 400 до
650 человек. Таким образом, первый выход германских катеров завершился
уничтожением последнего транспортного судна, пытавшегося прорвать
блокаду.
Ночью 3 июля в районе мыса Ай-Тодор S-102 потопил уходивший из
осажденного Севастополя СКА-0112. Было захвачено в плен 37 человек, в
том числе командир 109-й стрелковой дивизии генерал-майор П.Г. Новиков,
который возглавлял оборону Севастополя. Некоторые источники указывают,
что в тот же день шнелльботами был потоплен при невыясненных
обстоятельствах СКА.
В июле 1942 года произошла передислокация на новую базу в поселке
Киик-Атлама близ Феодосии (немцы называли его «Иван-Баба», до войны
здесь был рыбколхоз с таким названием.). Появление немецких катеров
противника на широте южнее Туапсе стало полной неожиданностью для
наших моряков. В ночь на 10 августа был потоплен советский военный
транспорт «Севастополь» (1339 брт), перевозивший раненых и беженцев из
Туапсе в Поти. Его торпедировал S-102 капитана Тѐнигеса. Погибли 924
человека. Следующее нападение «шнелльботов» состоялось 31 августа.
Катера S-28 и S-102 обнаружили и потопили близ Новороссийска транспорт
«Ян Томп» (1988 брт.)
В начале сентября флотилия развернула активную деятельность у
берегов Таманского полуострова. По германским данным, в результате трех
нападений в районе села Благовещенское было потоплено 22 плавсредства.
Доподлинно известно, что погибли буксир «Пролетарий» и один катер-
тральщик. Надо отметить, что советское командование остальные потери не
подтверждает. Во время ночной атаки 5 сентября в районе мыса Жжелзный
Рог одна из выпущенных катером S-72 торпед начала описывать циркуляцию
и угодила в S-27, мгновенно отправив его на дно. Это стоило жизни 12
немецким морякам.
С февраля 1943 года главной задачей 1-й флотилии стало нарушение
снабжения плацдарма на «Малой земле». Список жертв «шнелльботов» стал
пополняться буксирами, шхунами и сейнерами. Ночью 27 февраля им
удалось потопить у Мысхако тральщик Т-403 и буксир «Миус». Еще одна
торпеда попала в корму канонерской лодке «Красная Грузия», которая села
на грунт и впоследствии была разрушена артиллерией и авиацией.
13 марта катера S-26 и S-47 торпедировали у Туапсе танкер «Москва».
Его отбуксировали в порт, однако начавшийся на нем пожар не могли
потушить в течение трех суток. Восстановить «Москву» удалось лишь после
войны.
Торпедные атаки немцы сочетали с минными постановками. В
последнюю ночь марта четыре катера выставили у Мысхако заграждение, на
котором впоследствии погибли буксир «Симеиз» и несколько мелких
плавсредств.
Немцы тоже несли потери. 8 июля погиб S-102, подорвавшийся на
советской мине в южной части Керченского пролива, а 11 сентября авиацией
был потоплен катер S-46.
Последний раз немецкие катера заявили о себе в ночь на 28 сентября. В
результате внезапной торпедной атаки открытого рейда Анапы затонули два
советских катера-тральщика, а еще два получили повреждения.
Последним эпизодом в деятельности германских торпедных катеров в
1943 году стало участие в блокаде Эльтигенского плацдарма. Пятерка
катеров совершила 17 групповых походов. При взаимодействии
«шнелльботов» с тральщиками и БДБ, с середины ноября удалось
блокировать советский десант, что спустя две недели привело к его
уничтожению.
Отдельные выдержки об обстоятельствах гибели интересующих нас
катеров S-27 и S-102 приведены в бортовых журналах. Перевод с фотокопий
германских документов сделан краснодарцем, преподавателем немецкого
языка Владимиром Владимировичем Устич, которому я выражаю
искреннюю признательность
05.09.1942 г. Южная часть Керченского пролив. Ночная атака на
стоящие на рейде советские суда. Гибель S-27.
… 00-06 Радиограмма по УКВ с S -28: не стрелять, попадание в свой
катер. Флагманский катер (S-102) ложится на курс 270 к месту
происшествия, где наблюдается небольшой пожар.
00-14 S -102 подходит к горящему катеру вместе с S – 72.
S-28 наблюдал попаданиe, прибыл на место происшествия первым и
подобрал нескольких оставшихся в живых. S -102 и S -72 спустили надувные
лодки и подняли из воды последних членов экипажа. S -27 получил попадание
торпеды под мостиком, передняя часть катера оторвана. Катер лежит
на гл.6 м, корма торчит из воды, второй отсек еще герметичен.
00-26 Старший механик с S -27 обследовал второй отсек и доложил,
что на борту людей больше нет. Оставшиеся в живых спасены. Команда
взрывников из-за приближающегося советского транспорта вынуждена
вернуться на катер.
00-39 Флотилия легла курсом на базу, тяжело раненые нуждаются в
срочной помощи. Нет никакой угрозы, что кормовая часть погибшего
катера, в случае если второй отсек останется герметичен, будет поднята
противником. Напротив, я надеюсь, что кормовую часть можно будет
поднять.
01-09 Даю радиограмму в «Иван Баба» : S -27 затонула, командир и
11 членов экипажа спасены. Потоплены 4 парохода и 4 лихтера.
Возвращение с боевого задания в 3.00.
08.07.1943 г. Ночной рейд катеров 1 флотилии у берегов Таманского п-
ва в
районе мыса Железный Рог. Гибель S -102.
04-28… Непосредственно перед точкой 19 сильный взрыв под 4
отсеком катера S -102. Высота 2- 300 м темный столб взрыва. Части
катера разлетелись в воздух до 400 м. Задние отсеки предположительно
разрушены. Катер сразу погрузился на нос до верхней кромки палубы.
Переборка в 6? отсеке разрушена. Эти отсеки медленно заполняются водой.
Радист успел покинуть катер с секретными документами. Вследствие
наклона катера и скользкой поверхности палубы (покрыта топливом и
маслом), ключи «М» он успел уничтожить ногами.
04-30. Иду к S-28 вдоль борта S-102 и передаю ему буксирные
канаты.
Доклад радиограммой : S -102 подрыв на морской мине. Квадрат 6588.
-S-28-
04-35. S-102 идет на буксире S-28. Катер продолжает погружаться,
плавучесть поддерживается только за счет связи с буксирующим катером.
Дальнейшая буксировка становится невозможной. Забираю команду катера,
устанавливаю заряды взрывчатки и даю команду открыть огонь из 20 мм
пушки по борту катера.
05-30. S-102 тонет. Его местоположение отмечается. На
протяжении этого времени продолжается поиск оставшихся в живых.
Никого не обнаружено.
05-51 Радиограмма на базу с координатами обломков затонувшего
судна. Оба местоположения обозначены спасательным кругом на якоре.
–S-28-
Анализ архивных материалов и натурных обследований затонувшего
объекта позволяют предположить, что обнаружен фрагмент германского
торпедного катера S-102, подорвавшегося на мине 08.07.1943 г.
Согласно бортовому журналу, именно у него была разрушена взрывом
часть корпуса в районе кормы, в то время как у S-27 от попадания торпеды
пострадали носовые отсеки. Разброс обломков по дну на большой площади
также совпадает с описанием взрыва. В качестве дополнительных аргументов
можно считать наличие пушки «Бофорс», которые устанавливали на катера
флотилии осенью 1942 г. уже после гибели S-27, а также находка среди
обломков судна якоря-кошки от сигнального буя, отмечающего место
взрыва.
Как представляется, оставшуюся часть корпуса судна, которую
буксировали в сторону базы «Иван Баба» примерно в течение часа после
взрыва, надо искать юго-западнее обломка кормы в радиусе около 2.0 км.
М.К. Авдащенкова
О.Г. Садковская
Творчество композитора Г.Ф. Пономаренко на Кубани
(к 90-летию со дня рождения Г.Ф. Пономаренко)
«Притихли лунные поляны,
Притихли клены в вышине –
Пономаренко на баяне
Поет о милой стороне…»
Сергей Хохлов
Композитор Григорий Федорович Пономаренко приезжает на Кубань в
1973 году, по приглашению первого секретаря Краснодарского крайкома
КПСС Г.С. Золотухина. Вспоминал это время он так: «С Ростовской области
до Краснодара я ехал около недели…». И действительно в каждом селе,
поселке или станице его узнавали и не отпускали, пока он не сыграет им на
баяне. В ответ – его кормили, поили, рассказывали о себе, пели его и
кубанские песни, показывали достопримечательности и просили написать
песню об их станице или селе, и многие позже получили ее от композитора.
Григорий Федорович безумно любил музыку и жизнь. И это в полной
силе проявилось в его творчестве на Кубани. Край, Кубань напоминали ему
его родную Украину. Тот же говор, та же любовь к песням, такая же
певучесть людей, темперамент, каштаны, церкви, купола, деревенские
посиделки и песни, песни, песни….
В этот период его творчества, в репертуаре композитора появляются
совершенно разные по своему эмоциональному содержанию произведения.
Это патриотические, душевные и шуточные песни, романсы, оперетты,
оратория, «всенощная». В них пелось о любви, от любви к Родине до любви к
маленькому цветочку. Все произведения Г.Ф. Пономаренко были такие же
разные, как и людской нрав кубанского казачьего края, казаков, которым
было очень сложно угодить.
Григорий Федорович вспоминал: «На Кубани меня не посвятили в
казаки, но кубанские поэты атаковали меня сборниками свои стихов…,
каждый хотел, чтобы я хотя бы на одно стихотворение написал музыку».
Композитор тесно сотрудничал с кубанскими поэтами, которые
называли его «Наш Кобзарь казачьего края». Среди них наиболее
известными были: Иван Варавва («Ехал казак на Кубань», «Ой, станица»,
«Краснодарская весна»), Николай Доризо («Краснодарская улица Красная»,
«Желанная моя», «Спешит на свидание бабушка»), Виталий Бакалдин («Ой,
лиманы», «Что такое Кубань?»), Сергей Хохлов («Здравствуй, наша Кубань»,
«Кубаночка», «Посадила я сады», «Нам ли, братцы, песню не начать?»),
Кронид Обойщиков («Песня о городе-герое Новороссийске», «Хутора»),
Татьяна Голуб (Не будите, журавли, вдов России», «Я вам не позвоню»),
Майя Лукашова («Я обязательно вернусь»).
В 1970-е годы Григорий Федорович пишет музыку к двум известным
отечественным фильмам «Мачеха» и «Безотцовщина». Песни из этих
кинофильмов получили всенародное признание. Среди них «Ой, завьюжила,
запорошила» на слова Виктора Бокова, «Соловей на веточке» на слова Ивана
Вараввы, «Как взять себя в руки» на слова Николая Палькина.
Одновременно композитор работает над музыкой к спектаклю Малого
театра Союза ССР «Ураган», поставленному по пьесе Героя
Социалистического труда Анатолия Софронова. За свою жизнь Григорий
Федорович написал музыку к многим спектаклям, шедшим на сценах городов
Ленинграда, Омска, Томска, Москвы, Куйбышева, Горького, Новгорода,
Ростова, Краснодара и других.
На Кубани Пономаренко заканчивает работу над двумя опереттами:
«Лебединая верность» на слова Кронида Обойщикова, поставленной на сцене
Краснодарского театра драмы; и «Старым казачьим способом», поставленной
ростовчанами по пьесе своего земляка Анатолия Софронова на сцене
Ростовского театра оперетты.
По заказу Центрального телевидения СССР, краснодарским режиссером
В. Триандофиловым были сняты два фильма-концерта из произведений
Пономаренко – «Ах, осень, осень» и «Зимняя фантазия».
Тесно сотрудничая с кубанскими поэтами, композитор не прерывал
творческих связей и со своими давними соавторами – Виктором Боковым,
Маргаритой Агашиной, В. Чурсовым, Вениамином Бурыгиным, Сергеем
Красиковым, Н. Шумаковым, Т. Ивановой и многими другими.
В 1985 г. к 40-летию Победы над фашистской Германией Г.Ф.
Пономаренко написал песенно-хоровую ораторию «Епистиния Степанова –
мать девятерых сыновей», в которую вошли песни ветеранов Великой
Отечественной войны и стихи поэтов: М. Агашиной, А. Блока, В. Бокова, В.
Бутенко, В. Вельченко, Г. Георгиева, Т. Голуб, В. Жилина, В. Семернина, Г.
Фатеева, В. Чурсова.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1985 года
композитору Григорию Федоровичу Пономаренко было присвоено звание
«Народного артиста РСФСР», за заслуги в развитии советского музыкального
искусства.
В 1987 году здесь, на Кубани, Григорий Федорович заканчивает свою
работу над написанием цикла песен на стихи Сергея Есенина и Александра
Блока, над которым он начал работать еще в 1957 году.
В 1989 году композитор Г.Ф. Пономаренко создал несвойственное для
него произведение «Всенощное бдение» для церковного хора. Это
произведение было впервые исполнено в Колонном зале в Москве и в
Смольном зале Санкт-Петербурга. Оно получило высокую оценку не только
музыкальной интеллигенции, но и духовенства.
Фирмами грамзаписи СССР, России, Англии, Японии, ФРГ, Финляндии,
Болгарии выпущено более 30 пластинок, 4 компакт-диска, издано более 30
сборников с произведениями Григория Федоровича.
Указом Президента СССР от 6 августа 1990 года композитору Григорию
Федоровичу Пономаренко присвоено почетное звание «Народный артист
СССР», за большие заслуги в развитии советского музыкального искусства и
плодотворную общественную деятельность. Это звание ему очень долго не
присваивали, так как композитор так и не получил диплом о высшем
музыкальном образовании. Но в 1990 году, то ли прислушавшись к мнению
музыкальной интеллигенции, то ли ближе ознакомившись с творчеством
композитора, Михаил Горбачев все, же присвоил композитору это звание.
Григорий Федорович писал не только музыку, но и стихи. Наиболее
известные его песни: «И все-таки меня ты любишь», «День города»,
«Лебединка моя», «Наш Октябрьский поселок», «Ой, ты речка Бейсужок»,
«Фабрика Динская», «Песня о маме», «Песня о Сочи», «Песня о Тамани»,
«Хлеборобы-казаки», «Черное море».
Композитор Г.Ф. Пономаренко вел большую общественную
деятельность. Он был членом Союза композиторов РСФСР и СССР, состоял
в музыкальном фонде СССР, был награжден значком «Отличник
культурного шефства над селом», избирался в народные депутаты, учредил
собственную стипендию для студентов Краснодарской государственной
академии культуры, которая была раза в три больше государственной и
всегда выплачивалась вовремя из его личных денег.
Кубанцы высоко оценили общественную деятельность композитора. В
1993 году Г.Ф. Пономаренко присвоили звание «Почетный гражданин города
Краснодара»; в 1994 году – он становится «Почетным членом Краснодарской
государственной академии культуры» (в которой он проработал более 20
лет); в 1995 году – лауреатом премии имени К.В. Россинского
(администрации Краснодарского края).
7 января 1996 года жизнь композитора, поэта, общественного деятеля,
творческого человека Григория Федоровича Пономаренко трагически
оборвалась в автомобильной катастрофе. Но его имя не забыто жителями
города Краснодара, где он прожил свои последние годы и похоронен.
По всему краю открываются музыкальные школы имени композитора.
2 февраля 2001 года, к 80-летию со дня рождения композитора, на доме,
где он жил (г. Краснодар, улица Красная, 204), была установлена
мемориальная доска (автор – художник О.Ф. Яковлева, член Союза
художников РФ).
14 сентября 2002 года на бульваре улицы Красной был открыт памятник
композитору Г.Ф. Пономаренко (автор О.Ф. Яковлева), который в 2005 году
был перенесен к зданию Краевой государственной филармонии, с 2007 года
носящей его имя.
26 февраля 2002 года глава администрации (губернатор) Краснодарского
края А.Н. Ткачев подписал постановление № 700 о создании мемориального
музея-квартиры народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко, в целях
увековечивание памяти и пропаганды творчества композитора.
Открытие музея состоялось 27 февраля 2005 года в квартире
композитора, по адресу: улица Красная, квартира,80, на третьем этаже. В
церемонии приняли участие руководители администрации Краснодарского
края и города Краснодара, выдающиеся деятели музыкальной культуры,
творческая общественность России и Кубани. Среди них были вдова
композитора Вероника Журавлева-Пономаренко, Людмила Зыкина, Виктор
Комиссинский и многие другие.
С этого дня музей начал принимать своих посетителей. Здесь походят
экскурсии, лекции и концерты, посвященные жизни и творчеству
композитора Г.Ф. Пономаренко. Основу мемориального фонда составляет
коллекция экспонатов любовно собранная, сохраненная и переданная в дар
музею вдовой и наследницей композитора, исполнительницей его
произведений, заслуженной артисткой России, профессором Краснодарского
государственного университета культуры и искусств, директором
Краснодарской краевой филармонии имени Г.Ф. Пономаренко – Вероникой
Ивановной Журавлевой-Пономаренко.
В январе 2011 года (по распоряжению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края А.Н. Ткачева № 129/р от 09.03.2010 года)
Государственное учреждение культуры Краснодарского края
«Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко» стало отделом в Государственном бюджетном учреждении
культуры Краснодарского края Краснодарском государственном историко-
археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына.
За свою жизнь композитор написал свыше 5 000 произведений, был
награжден многими званиями и наградами – это свидетельство его таланта,
творческого труда, колоссальной трудоспособности, активной гражданской
позиции, тесной связи с народом. Надеемся, что еще на протяжении многих
лет творчество и имя Григория Федоровича Пономаренко – композитора,
народного артиста СССР, общественного деятеля, борца за мир, да и просто
талантливого человека, будет известно будущим поколениям планеты, радуя
и объединяя народы Земли на плодотворное сотрудничество и мирную
жизнь.
А.В. Бабич
Кубанский казачий хор. История и современность
К 200-летию со времени образования
(по материалам фонда Р–1833 ГКУ «Крайгосархив»)
Войсковой певческий хор, преемником которого в настоящее время
является Государственный академический Кубанский казачий хор под
руководством В.Г. Захарченко [1], был создан по инициативе протоиерея
Черноморского казачьего войска о. Кирилла Россинского. В его письменном
ходатайстве войсковой канцелярии от 02.08. 1810 г. говорилось: «Для
благолепнейшего богослужения при здешней соборной церкви нужно иметь
певческий хор, на содержание коего должно определить ежегодно, по
крайней мере, тысячу рублей, к чему доходы церковные будут недостаточны.
Не благоугодно ли будет войсковой канцелярии назначить сию сумму из
войсковых доходов…» [2].
Просьба о. Кирилла Россинского была удовлетворена и фактически хор
начал действовать уже в августе 1910 г. на праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, однако Указ императора последовал лишь 20 февраля 1911 г., и
эта дата является официальным днем начала существования коллектива.
Первым регентом хора был назначен Константин Гречинский, ставший
подбирать голоса из станичных певцов и обучать их навыкам многоголосого
пения. По началу, это был даже не хор, а ансамбль из 8 голосов, в котором
пели 2 тенора, 2 баса (взрослые), 2 дисканта, 2 альта (казаки-малолетки). А
через некоторое время восьмиголосый младенец запел несколькими
десятками сильных, красивых голосов и стал называться войсковым
певческим хором [3].
В связи с тем, что певческий хор был подчинен Войсковому собору, его
основной обязанностью было исполнение духовных произведений во время
церковных служб, а также обслуживание торжественных парадов и
праздников в Войсковом собрании.
Однако уже к концу XIX в. репертуар хора расширяется, и на его
концертах начинают звучать произведения В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.
Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, Р. Вагнера, А.Г. Рубинштейна; казачьи
песни Украины и Кубани. В дни церковных праздников устраивались
духовные концерты, программы которых состояли из религиозных
сочинений А.А. Архангельского, Д.С. Бортнянского, А.Т. Гречанинова, А.Д.
Кастальского, П.И. Чайковского [4].
Хором руководили такие энергичные и одаренные хормейстеры, как Г.Г.
Пентюхов (1818–1838), М. Лебедев (1864–1870), Ф. Дунин (1870–1886), Г.М.
Концевич (1892–1906), Я.М. Тараненко (1910–1917). Каждый из них оставил
заметный след в творческом развитии коллектива, в росте его популярности
на Кубани и за пределами края. Так, об успехах регентской деятельности
Гавриила Григорьевича Пентюхова знали в штабе Отдельного Кавказского
корпуса в Тифлисе. Оттуда пришло распоряжение направить Г.Г. Пентюхова
и четырех его певцов в корпусную церковь города для усовершенствования
пения ее хора. В ноябре 1838 г. сотник Пентюхов, урядники Иван Гупало и
Ефим Фисечко и казаки Арефий Жагло и Михаил Кравченко, «Лучшие
певцы по голосам и обучению и хорошего поведения», выехали в Тифлис.
О признании заслуг войскового хора свидетельствует и характеристика
наместника императора Николая I на Кавказе генерала М.С. Воронцова
(1782–1856), считавшего, что «войсковые певчие поют превосходно», в чем
он «лично убедился» в 1853 году. Кроме этого, хор приносил определенную
пользу и в области школьного образования. Некоторые казаки после
прохождения службы в хоре становились учителями пения в школах [5].
Важный вклад в изучение, сохранение и пропаганду кубанской казачьей
песни и народной музыки адыгейского народа внес Григорий Митрофанович
Концевич (1863–1937), талантливый музыкант, дирижер, композитор и
видный фольклорист. В 1890–1910-е годы он собрал и издал 10 выпусков
казачьих песен с доступной для всех гармонизацией на 3 и 4 голоса с
подзаголовком «Репертуар Кубанского казачьего хора», а также сборники
народных песен «Школяр», «Щедровки и колядки», «Чумацкие песни»,
«Бандурист», «Запорожец» и др. Его сборники народных казачьих песен
были удостоены Большой серебряной медали на Кубанской
сельскохозяйственной и промышленно-этнографической выставке в г.
Екатеринодаре в 1910 г.
В 1931 г. Г.М. Концевич руководил музыкально-этнографической
экспедицией при участии И.С. Цея по записи адыгейских (черкесских)
народных песен и танцевальных мелодий. Запись их продолжал и в
последующие годы. В 1997 г. был издан «Музыкальный фольклор адыгов в
записях Г.М. Концевича». Значительное место в творчестве композитора
занимали духовные сочинения для смешанного хора: «Молебное пение на
избранные случаи и некоторым святым» (1907), «Повседневные молитвы»
(1907), «Господи, спаси благочестивыя», «Ектения сугубая», «Отца и Сына»,
«Славословие Великое», «Милость мира», «Елицы», «Кресту твоему» и др. В
1920-е годы им были написаны десятки сочинений и обработок для мужского
квартета, входивших в репертуар мужского вокального квартета в г.
Краснодаре, Московских квартетов им. В.И. Сафонова и Государственного
института музыкальной науки, Харьковского государственного квартета им.
Н.В. Лысенко и др. 30 августа 1937 г. Г.М. Концевич был арестован в г.
Краснодаре по обвинению в подготовке покушения на И.В. Сталина. 13
декабря 1937 г. приговорен «тройкой УНКВД по Краснодарскому краю к
расстрелу. Реабилитирован18 апреля 1989 года [6].
Значительный вклад в развитие хора не только в дореволюционный, но и
в советский период, внес, ученик Г.М. Концевича Яков Михеевич Тараненко
(1885–1943). В 1904 г. он был призван на службу в Войсковой певческий хор,
где работал регентом под руководством Г.М. Концевича; с 1910 по 1912 гг. и
с 1917 по 1920 гг., будучи регентом Войскового певческого хора, Я.М.
Тараненко добился высокого художественного уровня звучания хора и
культуры исполнения певчих в традициях древнерусского знаменного
распева при исполнении церковной и светской музыки. Кроме этого Я.М.
Тараненко являлся автором музыкальных сочинений: духовных песнопений
для богослужений, хоровых произведений, патриотических песен, квартетов,
хоровой поэмы «Дума о Кочубее» (совместно с композитором Л. Книппером)
[7].
В 1911 г. Кубань широко отметила 100-летие хора. Торжества
проходили в Екатеринодаре (25–27 сентября) и Тамани (5–7) октября, где
состоялся церемониал открытия памятника первым запорожцам, прибывшим
к берегам Тамани 25 августа 1792 г. Юбилейные концерты проходили под
руководством Я.М. Тараненко, были исполнены: «Юбилейная кантата» Е.Д.
Эспозито на слова Г.М. Концевича, хор из оперы «Ночь перед Рождеством»
Н.А. Римского-Корсакова, «Щедривка» Г.М. Концевича, «Слава нашим
казаченькам» Н.В. Лысенко, народная песня «Про Чепигу та Головатого» и
др. [8].
В последующие годы репертуар хора обогатился хоровыми
сочинениями «Кобза», «Украина» Г. Давидовского, «Волга» Я.М. Тараненко.
Местная печать весьма похвально отзывалась о гастрольных концертах хора
по Кубанской области летом 1917 г. [9].
В 1921 году, в связи с крайне тяжелым экономическим положением
страны деятельность хора, который с 1918 года стал именоваться советским,
была прекращена. 25 июля 1936 года, постановлением президиума Азово-
Черноморского крайисполкома создается Государственный Кубанский
казачий хор. Молодой коллектив возглавил Г.М. Концевич и его ученик-
хормейстер и композитор Я. М. Тараненко [10].
30 июня 1937 года состоялся первый концерт Кубанского казачьего
хора. В репертуаре хора в это время были революционные песни,
классические хоровые произведения и песни советских композиторов.
Второе отделение состояло из народных песен [11].
3 марта 1937 г. в газете «Красное Знамя» Г.М. Концевич писал: «Азово-
Черноморский край создал год назад Донской казачий профессиональный
хор… Теперь создан и Кубанский казачий хор. Его будущее несомненно
блестяще. Этот высокохудожественный коллектив украсит нашу Кубань и
яркой звездой окрасит край» [12].
В 1938 году хор получил наименование Государственный ансамбль
песни и пляски кубанских казаков, ансамбль возглавил Я.М. Тараненко. В
это время расширяется жанровая принадлежность хора, теперь в одной
программе стали звучать не только кубанские, но и грузинские, армянские,
белорусские, узбекские песни, классика, музыкально-литературные монтажи,
хореографические сюиты и акробатические этюды. Зрелищность и
сценичность должны были обеспечить высокий эмоциональный настрой
зрителей. Ансамбль успешно гастролировал в столице и многих других
городах страны, от Украины и Белоруссии до Дальнего Востока [13].
Академический хоровой профессионализм хора был достаточно высок.
Этому способствовали его создатели Г. Концевич и Я. Тараненко, а также
наиболее одаренные руководители послевоенного времени – П. Лысоконь,
заслуженный деятель искусств Таджикской ССР П. Мирошниченко, В.
Малышев [14].
Однако в этот период народные песни Кубани занимали довольно
скромное место в программе ансамбля и обрабатывались порой так, что их
трудно было узнать при сравнении с подлинно народными песнями, которые
звучали в кубанских станицах и хуторах.
В 1960 году ансамбль песни и пляски кубанских казаков вместе с
десятью другими профессиональными хорами и ансамблями РСФСР был
переведен в число любительских и передан на содержание колхозов, в этом
решении с одной стороны, сыграла свою роль популярная в конце 1950-х –
нач. 1960 х гг. точка зрения, согласно которой профессиональное искусство
должно раствориться в самодеятельном, а с другой, отрыв ансамбля от
местных народно-песенных традиций.
В результате этого, в 1962 году, из-за отсутствия средств для дотации,
ансамбль был расформирован, однако уже с 1966 года в партийные и
советские органы края начинают поступать многочисленные просьбы
тружеников колхозов, совхозов и промышленных предприятий о создании
профессионального народного хора, который был бы не только
пропагандистом народного хорового искусства, но явился бы методическим
центром и эталоном для коллективов художественной самодеятельности [15].
В 1969 году коллектив вновь был восстановлен в статусе
профессионального под названием – Государственный Кубанский казачий
народный хор, который влился в состав Краснодарской государственной
краевой филармонии [16]. Хор возглавил в этот период заслуженный деятель
искусств РСФСР С.А. Чернобай, главным балетмейстером стал заслуженный
деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР Г.Ю. Гальперин.
Оркестровую группу возглавил Б. Уткин. По конкурсу в коллектив были
приняты 45 певцов, 24 танцора, 5 баянистов, в основном из числа участников
художественной самодеятельности из кубанских станиц. Первое
выступление хора состоялось 6 ноября 1969 года. Коллектив самобытно
исполнял песни советских и кубанских композиторов: Г. Плотниченко, Г.
Селезнева, П. Черноиваненко, Н. Хлопкова, А. Дудника, В. Пономарева, а
также вокально-хореографические картинки и казачий фольклор. С 1970 г.
коллектив – постоянный участник ежегодных фестивалей «Кубанская
музыкальная весна». Кроме этого хор гастролировал по стране, был
дипломантом VII Международного фестиваля в Болгарии в 1971 году. В
феврале 1974 года, в связи с попыткой «эстрадизации» хора, С.А. Чернобай
покинул коллектив [17].
С 14 октября 1974 г. по настоящее время хор возглавляет ученый-
фольклорист, хормейстер и композитор, профессор В.Г. Захарченко. За
короткий срок по его инициативе был создан самобытный коллектив,
получивший мировое признание и ставший музыкальным символом
культуры Краснодарского края. В станицах и на хуторах Кубани были
записаны тысячи казачьих народных песен, казачий фольклор стал основой
репертуара коллектива наряду с песнями советских и кубанских
композиторов. Созданы оригинальная сценическая система воплощения
народного музыкального искусства, творческая школа русского концертного
исполнительства «фольклора на сцене». Коллектив стал лауреатом I (1975) и
II (1984) Всероссийских смотров профессиональных русских народных
хоров, победителем международных фестивалей и конкурсов фольклорного
искусства. Летом 1980 г. Кубанский казачий хор стал дипломантом
Международного фольклорного фестиваля во Франции (г. Монтгийон),
летом 1981 г. – лауреатом Международного конкурса профессиональных
государственных народных коллективов в Югославии (г. Порторош) [18].
В «Рабочей газете» 29 мая 1983 г. № 121(8003) так говорится о
Кубанском хоре, участнике «Киевской весны» и о его художественном
руководителе: «Виктор Гаврилович – опытный хоровик, составитель пяти
сборников народных песен. Имело в Киеве успех и его собственное
произведение «Баллада о хлебе» с солистом заслуженным артистом РСФСР
А. Лезвинским, обладателем большого голоса. К слову, Лезвинский – также
прекрасный тромбонист в оркестре. В коллективе немало «овладевших
смежными профессиями»: танцовщицы отлично играют на гармониках,
певцы завидно танцуют. «Но ведь так и в жизни, – говорит руководитель, – а
мы подбирали разносторонне одаренных людей из института культуры,
музучилища, из самодеятельности, как вот, Татьяна Бочтарева, Геннадий
Черкасов».
Непринужденностью своего зажигательного искусств Бочтарева
покоряет в песне «Ой, мiй милий вареничкiв хоче» в паре с характерным П.
Мотузом. А с Черкасова, хоть афишу пиши, столь он натуральный казак
наружностью, осанкой, пением, поведением. Неизгладимое впечатление
производит он в застольной «Ой при лужку, при лужку», в строевой «Ой
тучки темны».
В хоре немало хороших солистов. Это дипломант Всероссийского
конкурса В. Фролова, волнующая до слез причитанием невесты в свадебной
«Ой, ходила Катюша», и вызывающая у зрителей желание подтанцевать в
плясовой «Вы казачки, казачки», исполнительской жемчужине женской
группы хора. Душевной проникновенностью запоминается Р. Гончарова в
лирическом дуэте с В. Аскаленко «Ой, на горе сидела пара голубей», и
доносящая вместе с В. Скляренко и хором, словно сквозь века, старинную
«Ой, чого ти почорнiло зеленеэ поле» – о гибели войска Запорожского под
Берестечком.
Можно сказать добрые слова и о других солистах-певцах… Хороша
танцевальная группа хора (балетмейстер Л. Милованов). Очень технична и
выразительна. Как в танцах со строгим рисунком, например «Наурская
плясовая», так и в цветистых характерных («Ползунец», который ничуть не
копирует шедевр ансамбля имени Вирского и поражает неистощимой
выдумкой», или в естественном сочетании того и другого – «Казачий пляс»,
«Пара за парой»…
«Богатый багаж молодого коллектива…, смелый поиск путей к сердцу
зрителя и успех у него вполне объяснимы… Нынешний хор – достойный
продолжатель лучших традиций» [19].
Были в адрес хора и упреки. Упрекали его и за определенную языковую
смесь известных и позабытых на Украине песен (дескать, есть сборники с
более «чистыми вариантами», почему бы ими не воспользоваться), и за
«непричесанность» кубанцев, исполняющих в то же время всю программу а
капелла. «Это ведь не хор, а собрание индивидуальностей», охали критики.
На это В.Г. Захарченко отвечал: «А вы видели, как поют хором люди в
станице или любом другом месте? Разве перед ними стоит дирижер?.
Прилаживаясь, друг к другу, чтобы голоса сливались, и получался ансамбль,
каждый ведь выпевает свою душу данную ему природой, живет в песне. Вот
и мы, постигая смысл и образность произведения, взятого не из сборника, а
записанного нами же, как оно живет сейчас в конкретно указанной станице,
пытаемся его донести в том же русле. То есть, давая простор – в рамках
ансамбля – художественному проявлению индивидуальности, импровизации,
возможно, иногда чрезмерной. Зато достигается красочность пения и редкая
зрелищность номеров. Такое впечатление, что на сцене не артисты, а живые
творцы песни с их различными характерами» [20].
В 1986 г. при хоре была создана Детская экспериментальная школа
народного творчества имени В.Г. Захарченко; в 1990 г. на базе хора создан
Центр народной культуры Кубани (художественный и научный руководитель
В.Г. Захарченко) в составе: Государственный Кубанский казачий хор,
Детская экспериментальная школа народного искусства, отделы фольклора и
этнографии, декоративно-прикладного искусства, педагогики, праздников и
обрядов, фестивалей, мастерская иконописца Георгия Иващенко, мастерские
декоративно-прикладного искусства. В феврале 1992 г. при Центре создан
благотворительный фонд возрождения народной культуры Кубани «Истоки».
В Краснодарском государственном институте культуры и искусств открыт
факультет традиционной культуры. В 1993 г. коллективу присвоено звание
«академический» [21].
Первый заместитель Председателя Совета Министров – Правительства
Российской Федерации В. Шумейко прислал в адрес хора поздравительную
телеграмму, в которой было сказано следующее: «Дорогие друзья!
Неповторимое исполнительское искусство хора снискало поистине мировую
славу и всеобщее признание. И сегодня мне доставляет особую радость
поздравить ваш замечательный коллектив с присвоением ему почетного
звания «Академический». Благодаря вашему яркому, самобытному
художественному таланту, бережному сохранению и приумножению лучших
традиций русского фольклора отечественное народное искусство
плодотворно развивается, а новые поколения россиян черпают в нем свои
жизненные силы. От имени Совета Министров – Правительства Российской
Федерации позвольте пожелать всем артистам хора и его руководителю
Виктору Гавриловичу Захарченко крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых творческих успехов…». С поздравлениями хору выступили
Архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор, атаман Всекубанского
казачьего войска В.П. Громов и др. [22].
В 1994 году, под научной редакцией Н.И. Бондаря, работниками отдела
фольклора и этнографии Центра народной культуры Кубани, выпущен
первый научный сборник «Традиционная культура и дети». В составе
редакционной коллегии сборника: Бондарь Н.И. (кандидат исторических
наук), Захарченко В.Г. (профессор), Мартыненко Л.Б. (кандидат
филологических наук), Попов В.Д. (кандидат филологических наук),
Ратушняк В.Н. (доктор исторических наук), Сидоров В.Г. (доктор
философских наук), Хагуров А.А. (доктор социологических наук). В сборник
вошли материалы по традиционной культуре славянского населения Кубани:
рассказ о ее составе и специфике, об отдельных ее блоках, связанных с
детством (народная медицина, колыбельные песни, детские игры и забавы).
Впервые в этом сборнике были опубликованы сведения о народных
музыкальных инструментах, распространенных на Кубани; статьи научно-
методологического характера, посвященные вопросам формирования
этнических стереотипов у детей, изучению семьи в контексте социализации и
др. Научно-методологическое направление сборника представлено статьями
В.Ю. Креминской, О.А. Романько, А.Н. Мануйлова. Сборник был рассчитан
на практических работников системы культуры и образования, студентов,
историков, этнографов, краеведов. В этот же период готовились к издания, а
затем были изданы: многотомная серия «Фольклор и этнография Кубани»,
учебно-методические пособия по традиционной культуре, сборнике
народных песен, в том числе труды дореволюционных собирателей
кубанского фольклора Г. Концевича, А. Бигдая [23].
В следующем году вышел первый номер Дикаревских чтений, в котором
были опубликованы материалы научно-практической конференции «Итоги
фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани» за
1994 год. Здесь рассматривались вопросы изучения и популяризации трудов
кубанского этнографа М.А. Дикарева (1854–1899), подводились итоги
исследований традиционных национальных культур Кубани за 1994 год,
результаты практической деятельности по сохранению и восстановлению
народной культуры. Среди трудов, опубликованных в сборнике можно
отметить: «Этномедицинские знания в традиционном свадебном обряде
кубанских казаков» (М.В. Семенцов); «Одежда черноморских пластунов»
(Б.Е. Фролов); «Войсковые регалии кубанского казачества» (Н.И. Кирей);
«Троицкий обряд кумления на Кубани» (Н.И. Бондарь); «Состав свадебной
обрядности крымских татар» (Ф.Н. Куртаметова) и др. [24].
В 1996 году вышел 2-й выпуск «Дикаревских чтений», включивший в
себя материалы научно-практической конференции, состоявшейся в п.
Джубге Туапсинского района 4 мая 1996 года. В конференции приняли
участие исследователи и практики в области изучения и сохранения
этнических культур Краснодарского края и Республики Адыгея. Среди
публикаций можно отметить: «Адыги в Османской империи в 60-х-80-х гг.
XIX века. Этнополитический и социокультурный аспекты» (О.В. Матвеев);
«О роли учреждений культуры в сохранении этнических традиций» (М.В.
Семенцов); «Вопросы этнической истории и культуры абазин в современной
литературе» (О.В. Шаленая); «Розенберг Лев Константинович –
исследователь кубанского народного быта» (Н.И. Бондарь) [25] и др.
На страницах «Дикаревских чтений» поднимались серьезные вопросы,
связанные с проблемой сохранения и возрождения этнических традиций на
Кубани. В частности, в статье «О роли учреждений культуры в сохранении
этнических традиций» М.В. Семенцовым, отмечалось, что «народная
культура в конце XIX – нач. ХХ вв. имела традиционную основу. В середине
30-х годов традиционность была прервана. Сегодня значительная часть
населения не соблюдает прежних обрядов, праздников, не знает песен,
танцев, ремесел, рецептов традиционной кухни и медицины. Причины этого
– изменения в жизни общества, разрушение тех социальных связей, которые
поддерживали жизнь традиционной культуры в целом. Немалую роль в этом
сыграла и антирелигиозная пропаганда, позднее названная атеистическим
воспитанием; она сумела внушить не одному поколению людей равнодушие
не только к религии, но и вообще к традициям предков. Внушалась мысль,
что народные обычаи – это признак отсталости. В ХХ веке научно-
техническая революция производства, распространение аудиовизуальных
средств, а также массовые миграции населения привели к разрушению
традиционной общины, нарушили механизм передачи культурных традиций,
привели к интернационализации производства и культуры, и как результат, к
утрате их этнизирующих особенностей. Как реакция на деэтнизацию и
распространение массовой культуры во второй половине ХХ века во всем
мире начался процесс возрождения национального самосознания…» [26].
С 1995 г. сборники «Дикаревские чтения» (составитель и научный
редактор М.В. Семенцов), адресованные специалистам по этнографии и
фольклору, а также работникам культуры и просвещения, стали выходить
ежегодно.
В 2002 и в 2005 годах вышли, соответственно, 1-й и 2-й тома «Очерков
традиционной культуры казачеств России» под общей редакцией Н.И.
Бондаря. Проект издания очерков, предложенный научно-исследовательским
Центром традиционной культуры Государственного научно-творческого
учреждения Краснодарского края «Кубанский казачий хор» (генеральный
директор В.А. Захарченко) и поддержанный Кубанским казачьим войском в
лице атамана ККВ казачьего генерала В.П. Громова, преследовал как
теоретические, так и практические цели. В связи с интенсивными научными
и общественно-политическими дискуссиями по проблемам казачества (время
возникновения, основные этапы развития, первичная этническая основа,
таксономическое положение казачества: этнос, сословие и т.д.), пик которых
приходится на 1990-е годы, необходимо было подвести некую черту,
определить степень и глубину изученности различных аспектов этой
проблемы в отечественной науке, проанализировать методологическую и
источниковедческую базу современных исследований. В сборник вошли
материалы о религии, верованиях, праздниках, обрядах, фольклоре и
народных знаниях Кубанского, Терского, Сибирского, Дальневосточного
(Амурского), Уральского, Оренбургского, Забайкальского, Донского.
Семиреченского казачеств; а также материалы по идеологии и культуре
казачьего зарубежья [27].
В 2004 году вышел 1-й выпуск сборника «Мир славян Северного
Кавказа» (научный редактор доктор исторических наук, профессор О.В.
Матвеев). В издании приняли участие ведущие слависты и кавказоведы
Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Армавира, Нальчика, Майкопа.
Выпуск включал в себя материалы по историографии источниковедению
кавказской и кубанской славистики,, статьи по истории и культуре кубанских
и терских казаков, а также чехов, поляков, болгар, исследования о роли
славянского фактора в стабилизации исторической обстановки на Кавказе,
работы, посвященные историко-культурным взаимосвязям славянского мира,
рецензии и отзывы на новую литературу по означенной тематике. Сборник
был рассчитан на студентов и преподавателей, работников учреждений
культуры и образования, подвижников возрождения казачества [28]. Этот
сборник продолжает выпускаться ежегодно, вплоть до сегодняшнего дня.
В августе 1995 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время
пребывания в г. Краснодаре благословил Кубанский казачий хор петь на
праздничных литургиях, вследствие чего хор стал единственным светским
коллективом, который был допущен к богослужениям в храмах. На клиросе
Свято-Троицкого собора в г . Краснодаре пел художественный руководитель
хора профессор В.Г. Захарченко. В одном из интервью газете
«Краснодарские известия» (21.11. 1995 №211 (1231), на вопрос «Почему вы
поете на клиросе?» В.Г. Захарченко ответил: «Хочу понять, познать веру.
Есть такие слова в молитве: «Господи, помоги мне в моем неверии». Мне
хочется изнутри познать церковь, Божественную литургию. Я ведь руковожу
народным хором, всю жизнь занимаюсь народным искусством, традициями,
обрядами. В этом отношении здесь я прохожу свою главную консерваторию.
Первая – народная песня… Ну, а второй консерваторией была учеба, главной
же стал храм. В наше время церковь была закрыта. Поразительно, но за все
годы учебы в консерватории мы ни разу не сказали слов «Христос»,
«Господи, помилуй». Если мы пели церковную музыку, то только
католическую, на латыни. И никогда – русскую православную музыку… У
наших русских композиторов было очень много духовной музыки.
Чайковский, Рахманинов. Где-то за рубежом, я зашел в магазин и увидел
компакт-диск. Американский оркестр исполнял увертюру П.И. Чайковского
«1812 год». Я стал слушать. Потом сказал продавцу, «вы мне не то дали».
Меня убедили, что все правильно и посоветовали слушать дальше.
Оказалось, симфоническая увертюра начинается с хора, который поет
кондак: «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние Твое победы
борющимся за Святую Русь и веру православную». Все это обрезалось,
молитвы вычеркивались, а наши гениальные композиторы, глубоко
верующие люди, превращались в атеистов… Понимание Бога пришло ко мне
через песню, потому что все, что рождается в душе – от Бога. На то, что
рождается в голове, - надо еще посмотреть, а душа…». Кроме самого В.
Захарченко на клиросе Троицкого собора пела и мужская группа хора [29].
15 октябре 1996 г. постановлением №468 главы администрации
Краснодарского края «О признании правопреемства (исторического)
Государственного академического Кубанского казачьего хора от Войскового
хора Кубанского казачьего войска» была официально признана историческая
преемственность коллектива, ведущего свою историю от протоиерея
Черноморского казачьего войска о. Кирилла Россинского. В постановлении
говорится следующее: «Признать правопреемником Войскового хора
Кубанского казачьего войска, созданного в 1811 году, Государственный
академический Кубанский казачий хор» [30]. Этим же постановлением
предлагался план юбилейных мероприятий, посвященных этому событию, не
только в крае, но и в Москве.
В 1998 г. Центр народной культуры Кубани преобразован в
Государственное научно-творческое учреждение Краснодарского края
«Кубанский казачий хор». На базе хора проводятся: ежегодный
Международный фольклорный фестиваль «Золотое яблоко», смотр-конкурс
детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Коллектив с
успехом гастролировал в Японии, Франции, Германии, США, Италии,
Турции, Индии, Австралии, Вьетнаме, Китае, Сербии, Финляндии,
Швейцарии, Словакии, Чехии, Бельгии, Испании, в странах Африки и др.
[31].
Многогранная деятельность руководителя Кубанского казачьего хора
отмечена присвоением В.Г. Захарченко ученой степени доктора
искусствоведения, академика Российской гуманитарной академии и
Петровской академии (Санкт-Петербург), действительного члена
Международной академии информатизации (ассоциированного члена ООН),
а также высоких званий: народного артиста России, Украины и Республики
Адыгея, лауреата Государственной премии России и Международной премии
Фонда святого всехвального апостола Андрея Первозванного. В.Г.
Захарченко награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, Сергия
Радонежского, званием Героя труда Кубани и другими наградами. Коллектив
Кубанского казачьего хора награжден: орденом Дружбы народов (1988);
Государственной премией Украинской ССР им. Т.Г. Шевченко (1990);
орденом «Дружба» Социалистической Республики Вьетнам (1977) [32].
В ГКУ «Государственный архив Краснодарского края» на хранении
имеется фонд Р–1833 «Государственный академический Кубанский казачий
хор», в состав которого вошли документы с 1975 по 1995 годы в количестве
21 единицы хранения.
В составе фонда хранятся:
1. Документы о творческой деятельности Кубанского казачьего хора:
- научное исследование «Хоровое искусство Кубани», составленное под
редакцией художественного руководителя Кубанского казачьего хора В.Г.
Захарченко;
- списки творческого состава хора по состоянию на 1977 год;
- очерк по истории хора: Страницы истории Государственного ордена
Дружбы народов Кубанского казачьего хора, издан в Краснодаре в 1987 году;
- сборник В.Г. Захарченко «Песни станицы Кавказской» (записанные от
исполнительницы народных песен А.И. Сидоровой);
- сборник А.Д. Бигдая «Песни кубанских казаков под редакцией В.Г.
Захарченко (1992);
- нотные записи песен Кубанского казачьего хора (1978);
- записи на грампластинках выступлений Кубанского казачьего хора
(народные песни черноморских казаков, кубанских станиц, черноморских
линейных казаков (1990–1992);
- войсковой гимн Кубанского казачества и Жалованная грамота
почетному гостю к 200-летию г. Краснодара (1993).
2. Программы, афиши и буклеты о выступлениях Кубанского казачьего
хора:
- программы, планы и отчеты о гастролях Кубанскеого казачьего хора
(1975–1984);
- программы концертов Государственного Кубанского казачьего хора
(1976–1984);
- буклеты о концертной деятельности Кубанского казачьего хора (1977–
1984);
- буклеты о проведении международных фольклорных фестивалей в
Югославии и Франции (1981–1983);
- художественные буклеты о гастролях Кубанского казачьего хора за
рубежом (1985-1989);
- художественные программы о гастролях Кубанского казачьего хора за
рубежом;
- афиши о концертах и гастролях Кубанского Академического казачьего
хора под руководством В.Г. Захарченко (1980–1995) (в двух частях);
- программы встреч-концертов экспериментальной школы народного
искусства Кубанского казачьего хора.
3. Статьи и сборники о концертной деятельности Кубанского казачьего
хора.
- статьи из периодической печати с отзывами и рецензиями о
выступлениях Кубанского казачьего хора (1976–1984);
- подборки газет Украины и Приморского края о концертной
деятельности Кубанского казачьего хора (1994–1996);
- списки опубликованных работ В.Г. Захарченко, статей и рецензий о его
творчестве;
- Традиционная культура и дети. Краснодар: изд-во Краснодарского
экспериментального центра развития образования. 1994 (о культуре
славянского населения Кубани: народная медицина, кубанское жилище,
музыкальные инструменты, детские песни, игры) [33].
Примечания
1. Государственное казенное учреждение «Государственный архив Краснодарского
края» (далее ГАКК). Ф. Р–1855. Оп. 1. Д. 247. Л. 81.
2. ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 189; Екатеринодар–Краснодар. 1793–2009: ист.
энциклопедия / авт.-сост. Б.А. Трехбратов, В.А Жадан. Краснодар, 2009. С. 109–110.
3. Кияшко И.И. Войсковой певческий и музыкантский хоры Кубанского казачьего
войска. 1811–1911. Екатеринодар, 1911.
4. Екатеринодар–Краснодар. 1793–2009: ист. энциклопедия. С. 110.
5. Там же. С. 110.
6. Там же. С. 285.
7. Там же. С. 610.
8. Там же. С. 110.
9. Там же. С. 110.
10. ГАКК. Ф. Р–1833. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
11. ГАКК. Там же. Л. 2-об.
12. Красное знамя. 3 марта 1937 г.
13. Екатеринодар–Краснодар. 1793-2009: ист. энциклопедия. С. 610.
14. ГАКК. Ф. Р–1833. Оп. 1. Д. 3. Л. 3.
15. ГАКК. Ф. Р–1693. Оп. 1. Д. 171. Л. 57.
16. ГАКК. Ф. Р–1693. Оп. 1. Д. 196. Л. 32.
17. Екатеринодар–Краснодар. 1793–2009: ист. энциклопедия. С. 394.
18. Там же. С. 394.
19. ГАКК. Ф. Р–1833. Оп. 1. Д. 18. Л. 23.
20. Там же. Д. 18. Л. 23.
21. Екатеринодар–Краснодар. 1793–2009: ист. энциклопедия. С. 394–395.
22. ГАКК. Ф. Р–1833. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
23. Традиционная культура и дети. Краснодар: изд-во Краснодарского
экспериментального центра развития образования, 1994. 272 с.
24. Дикаревские чтения (1). Итоги фольклорно-этнографических исследований
этнических культур Кубани за 1994 год. Материалы научно-практической конференции. //
Сост. М.В. Семенцов. Белореченск, 1995.
25. Дикаревские чтения (2). Итоги фольклорно-этнографических исследований
этнических культур Кубани за 1995 год. Материалы научно-практической конференции.
Сост. М.В. Семенцов. Пос. Джубга, 1996.
26. Там же. С. 60–61.
27. Очерки традиционной культуры казачеств России // Научно-исследовательский
Центр традиционной культуры Государственного научно-творческого учреждения
«Кубанский казачий хор» [и др.]; под общ. ред. Н.И. Бондаря. Краснодар, 2002, 2005.
28. Мир славян Северного Кавказа. Вып. 1. Краснодар, 2004.
29. ГАКК. Ф. Р–1855. Оп. 1. Д. 19. Л. 1.
30. Там же. Д. 247. Л. 81.
31. Екатеринодар-Краснодар. 1793–2009: ист. энциклопедия. С. 395.
32. Екатеринодар-Краснодар. 1793–2009: ист. энциклопедия. С. 395.
33. Опись № 1 дел постоянного срока хранения архивного фонда Р–1833
«Государственный Академический казачий хор» за 1975–1995 годы.
В.В. Селуянова
Личность в истории Кубани и личность историка:
«три кита Валентины Еланкиной
Медведовскую учительницу Валентину Еланкину можно с
уверенностью назвать соратницей Виталия Бардадыма. Они жили в одну
эпоху и занимались одним делом – жили историей и для истории, а не мнили
себя в ней, как кто-то другой.
Валентина Яковлевна автор трех сборников по истории родной станицы
Медведовской, которые являются настольными книгами для учащихся и
учителей Медведовских школ при изучении курса кубановедения и ценным
подспорьем в воспитательной и в частности музейной работе с
подрастающим поколением.
Третью из книг помогал ей писать Бардадым. Вот что она сама
рассказала о своей первой встрече с писателем, которая состоялась в
Краснодарском краевом государственном архиве:
«Это прекрасный весенний день 2005 года. Уже в который раз я увидела
увлеченного работой пожилого мужчину. И вдруг он пригласил меня к
своему рабочему столу. Сказал:
- Я услышал, что вы из Медведовской.
- Да – ответила я.
- Познакомимся. Я Бардадым Виталий Петрович. Вам хочу предложить
литературу, с которой вы можете работать по вашей теме.
Для меня это было приятным неожиданным удивлением. Писатель, поэт,
авторитетный человек, не зная меня, предлагает помощь! Да еще какую!
Сама бы я копалась в архивах годы! А тут подробное указание на источники,
с номерами фондов. То есть, Бардадым, специально подготовился, видя мои
усилия в архиве. Каждый знает, что среди увлеченных краеведением людей
редко встретишь добродетелей. А тут бескорыстная помощь, да еще от
именитого писателя!
Этот случай многое сказал мне и о характере писателя, и о его
профессионализме как историка. Виталий Петрович жил для истории, а не
история для него.
Я долгое время работала с этими источниками, а затем использовала в
своей книге. Особенно большая часть материала отражена в главах,
посвященных медведовскому казачеству. Я не раз потом виделась с
Бардадымом там же, в архиве. Мы даже обменялись телефонами, я хотела
пригласить его в свой станичный музей. Но болезнь, сковавшая писателя, не
дала мечте сбыться…»
Педагогическая судьба В.Я. Еланкиной (Бураковой по мужу) началась в
1960 г. после окончания исторического факультета Краснодарского
пединститута. По распределению уехала в Верх-Пайву Алтайского края. В
то время учитель кроме владения педагогическим даром должен был уметь
запрягать лошадей, чтобы посещать учеников на дому и помогать с
успеваемостью. Добраться приходилось за 8-10 километров бездорожья от
школы*.
По возвращению на Кубань в 1963 г. ей, кандидату в члены КПСС,
предлагают должность завуча в одном из детских домов района. Секретарь
парторганизации был удивлен еѐ отказу «Меня ждет работа вожатой в
Медведовской, я больше не хочу уезжать из станицы», - пояснила Валентина.
Так и началась карьера вожатой с небольшой нагрузкой учителя
истории.
В школе №2 станицы Медведовской работу пионерской комнаты
пришлось поднимать с нуля. Но уже через год еѐ пионерская ячейка гремела
на весь район. На туристические походы и научно-исследовательские
экспедиции денег не было, и дети увлеченно ходили по просторам края
«дикарями» вместе с неутомимой вожатой Валей. В 1964 г. в районке
выходит еѐ первая научно-исследовательская статья «По туристическим
тропам».
Одержимые идеями наставника, пионеры активно участвовали в
поисковой деятельности. Они первыми в станице собирали сведения о войне,
о своей школе, ходили партизанскими тропами, вели переписку с писателем
Игнатовым, генерал-лейтенантом Хижняком, делегатом 1-го слета пионеров
в Москве Гуковым, и даже с Ковпаком – руководителем партизанского
движения на Украине.
Почетная грамота министерства просвещения пионервожатой Вали
Еланкиной, полученная ею в еѐ молодые годы, считалась тогда наивысшей
оценкой труда и усердия.
Материал об истории станицы она начала собирать с первых дней
работы, потому как была уверена – учитель должен знать историю
местности, выявляя «белые пятна» и восполняя их знаниями. Легкая на
подъѐм Валентина участвовала во многих краевых конкурсах как учитель и
вожатая. Высокую оценку получила еѐ работа «Межпредметные связи на
уроках истории» в 1972 г. В поисках новых знаний Валентина становится
дипломированным географом, оканчивая КубГУ.
В те же годы Еланкина награждена медалью «За доблестный труд» -
редкой для тех времен награды работников просвещения. А в 90-годы
удостоена не менее труднодостижимой для современности награды – медали
Лауреата Всероссийского Выставочного центра (ВДНХ) за научно-
исследовательскую работу «Развитие образования в станице Медведовской».
В середине 90-х Еланкина, будучи на пенсии, возрождает традиции
пионерии в станице. Пенсионерка создает в станице два детских клуба
«Память» и «Пионеры Кубани». Юные исследователи участвуют и
побеждают в краевых конференциях, их особая гордость – 1 место во
Всероссийской конкурсе научно-исследовательских работ «Колокола
памяти» и 1-е место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ «Моя малая родина» в Москве. В год 60-летия Великой Победы
пенсионерка организует в станице научно-практическую конференцию
«Медведовская в годы Великой Отечественной войны» для
старшеклассников Медведовской и близлежащих хуторов.
Стоит удивиться тому, что столь серьезная работа по подготовке юных
исследователей ведется на дому пенсионерки, где она устраивает самый
настоящий пионерский штаб. Зато она могла с уверенностью сказать, что это
– еѐ детище, собственность еѐ души.
Есть еще одна «личная душевная собственность» Валентины Еланкиной.
Сотворенный и ревностно оберегаемый ею станичный музей находится
неподалеку от еѐ дома в неотапливаемом уже много лет здании Дома
культуры. По многолетней неписаной традиции музей существует на так
называемых «общественных началах». Все экспонаты собраны с любовью и
доверены земляками. Вот прялка – еѐ принесла Лена Сливенко. Старинный
патефон – семейная реликвия супругов Березних. Гармонь – подарена Надей
Васильевой в память об отце-фронтовике. Более 2-х тысяч экспонатов
расскажут об истории станицы, начиная с заселения нашей малой родины
Черноморскими казаками, о земледелии и культуре.
Все годы большим спросом пользуются экскурсии в музей, а также
беседы, лекции, исторические справки, аналитические статьи Еланкиной.
Обращаются и студенты, и педагоги, руководство и служащие всех слоев.
Помогает Валентина Яковлевна, конечно, бескорыстно. Еѐ бессонные ночи
ничего не стоят, а вернее - бесценны.
Валентину Яковлевну можно слушать часами. Багаж еѐ знаний
неисчерпаем. Еѐ рассказы образны, они удивляют подробностью фактов и
сюжетов истории станицы.
Малая толика еѐ знаний отражена в изданиях: «Двести лет Кубанскому
казачьему войску» – к 55-летию ВОв, «Станица моя родная» – 2004 г.,
«Медведовская – годы, события, люди» - 2006 г., «Станица Медведовская –
частица истории Кубани» 2009 г. Еѐ историко-публицистические и
социально-нравственные статьи издаются в СМИ района и края.
41 почетная грамота бережно хранится в семейном архиве Валентины
Яковлевны, как память о прошлых заслугах. Зачем? – спросят скептики. Она
и сама не знает ответа. Награды не повлияли ни на убранство скромной
хатѐнки, ни на мизер пенсии учительницы…Но зато душа еѐ пропитана
особым Светом, хотя она об этом может даже не догадываться. И поэтому-то
болеет за свое дело преданно и неподдельно искренне. Так, как того требует
совесть.
Церковь, Музей и Дворец культуры – три кита, на которых держится
духовность любого города или села. Они же – в основе творчества
талантливого краеведа, неспокойной души человека – Валентины Еланкиной.
Л. Г. Орѐл
Василий Орел как популяризатор жизни и творчества Коста Хетагурова
…Коста, любимый наш Коста,
Не смолкнет песнь твоя в веках.
Души народной красота
Живет в твоих стихах.
Эти замечательные строки о Коста Хетагурове поэта Е. Пхиева (в
переводе А. Толмачева) были обнаружены в личном архиве В.Н. Орла –
кубанского и украинского литературоведа и краеведа, более полутора
десятка лет посвятившего изучению и популяризации жизни и творчества
основоположника новой осетинской литературы. Видимо, не случайно
Василий Николаевич хранил их у себя. Наверняка они как нельзя лучше
отражали его собственное отношение к певцу Осетии.
Василий Николаевич по-настоящему любил этого неустрашимого
рыцаря свободы, который не уставал выступать за переустройство мира,
говорим ли мы о нем как о поэте и драматурге, о живописце или публицисте.
Собирать по крупицам материалы о нем начал в начале 1970-х годов. Важной
частью поисковой работы стала переписка с известным осетинским поэтом и
писателем, профессором Н.Г. Джусойты, которая длилась с 1975 по 1986
годы. 29 апреля 1975 года он писал в Осетию: «Уважаемый Нафи
Георгиевич, на протяжении ряда лет я занимаюсь изучением документов и
материалов о пребывании Коста Хетагурова на Украине в 1899–1900 годах.
За это время собрал интересный материал, особенно о пребывании
Хетагурова в Очакове. Этот период писателя почти не изучен и поэтому я
придаю ему такое большое значение. Кое-что из собранного уже
опубликовано, кое-что подготовлено к печати...».
Правдивые острые корреспонденции молодого осетинского
публициста не нравились властям. Так Коста оказался в своей первой ссылке
в Карачае. Но гонения и преследования не сломили поэта-борца. И тогда
царским правительством было принято решение выслать Хетагурова за
пределы Кавказа. В 1899 году поэт уже в новой ссылке, теперь на Украине в
Херсонской губернии, подальше от родных мест.
Почти год провел Хетагуров в Николаеве, Херсоне, Очакове. Как раз
об этом периоде Орел и писал Джусойты. Пребывание осетинского поэта на
Украине навсегда вошло в историю этого региона. В периодической печати
появились первые работы о жизненном и творческом пути Коста Хетагурова,
о его связях с Украиной, украинской литературой. Выходит книга доктора
филологических наук Ивана Луценко о пребывании поэта на Украине.
В 1977 году В.Н. Орел публикует первый большой цикл статей о
Косте Хетагурове, в т. ч. «Поэзия Коста Хетагурова на Украине», «Новый
сборник о Коста Хетагурове», «Корреспонденция из Очакова», «Коста
Хетагуров и украинская критика». Другой очерк – «Первый фильм про Коста
Хетагурова» – рассказывает, о том, как в 1939 году в Херсоне и Николаеве
был снят документальный фильм, посвященный 80-летию народного поэта и
художника Хетагурова. Орлу удалось установить судьбу этого фильма,
автора и оператора. Копии фильма были тогда посланы в Москву на студию
кинохроники и в один из музеев в Осетию. А всего в периодической печати
Украины, Осетии, Дагестана и других республик Орлом опубликовано более
двух десятков статей и исследований о Коста Хетагурове [1].
В 1979 году Орел выступает на XXIV республиканской
Шевченсковской конференции на тему «Т. Г. Шевченко и К. Л. Хетагуров. К
украино-осетинским литературным связям».
25 января 1979 года «неутомимый следопыт» писал Джусойты: «Судя
по всему, впервые за всю историю Шевченковских конференций в ее
программу был включен доклад о Шевченко и Хетагурове. Это уже хорошо.
Посылаю тебе копию доклада» [2].
В 1981 году в издательстве «Ир» в Орджоникидзе выходит
монография В. Орла «Коста Хетагуров и Украина». В аннотации к книге
говорится, что эта работа является обобщением высказываний и разысканий
автора, украинской критики и литературоведения по теме «Коста Хетагуров
и Украина». Это была первая попытка украинского автора систематизировать
материалы о жизни и творчестве поэта в очаковской ссылке.
Василий Николаевич продолжает искать документы и с учетом новых
данных перерабатывает свой труд о Шевченко и Хетагурове.
В письме к Джусойты он с радостью написал: «Я полным ходом пишу
рукопись «Тарас Шевченко и Коста Хетагуров», знаешь, что-то намечается,
много нашел интересного, особенно о связях Хетагурова с Екатеринодаром и
семьей Кухаренко, в общем, как закончу, тебе один экземпляр пришлю
обязательно» [3].
И вот в 1982 году в журнале «Вiтчизна» №12 выходит большая статья
Орла с этим названием под рубрикой «К украино-осетинским литературным
связям». Затем она была опубликована в нескольких номерах с
продолжением в очаковской газете «Чорноморська зiрка», городе, где
Хетагуров находился в ссылке.
Василий Николаевич пытается привлечь внимание к изучению жизни
и творчества поэта других исследователей. Он готовит статью «Всюду были
друзья». Статья была опубликована в газете «Знамя коммунизма» в Осетии
под рубрикой «Письмо с Украины». «За последние годы советское
хетагуроведение сделало немало в деле изучения жизненного и творческого
пути поэта. Весомый вклад в общее дело внесло и украинское
хетагуроведение, ибо жизнь гениального поэта, его борьба были связаны не
только с родной его Осетией», — говорится в статье. И далее Орел пишет:
«Пожалуй, менее всего изучено время пребывания Коста на Кубани, как в
селе Осетинском, так и в Екатеринодаре (Краснодаре)».
Исследователи упоминают лишь, что Коста в разные годы бывал на
Кубани у своего отца в родном доме в селе Георгиево-Осетинском
Баталпашинского уезда Кубанской области, где в 1906 году поэт был
похоронен, прожив всего 47 лет. Впоследствии его прах был перенесен во
Владикавказ.
Однако ограничивались ли поездки поэта только в это кубанское
село? Были ли у него друзья в Екатеринодаре и вообще на Кубани? Как
складывались отношения поэта с Екатеринодарскими газетами?.. На эти
вопросы еще предстоит ответить» [4].
В личном архиве В.Н. Орла сохранились ноты песен на стихи Коста,
созданные за пределами Осетии. В сентябре 1981 года Орел писал Джусойты:
«Известный украинский композитор, лауреат Государственной премии
Анатолий Кос-Анатольский по моему предложению написал музыку на
стихи Коста Хетагурова «Завещание». Это впервые в украинском
музыкальном искусстве. А Николаевский композитор Ладзень (по
происхождению украинский латыш) написал балладу на стихи Коста
«Предчувствие». Как мне известно, ноты эти нигде не публиковались.
В этот же период Орел начал писать свою большую работу «Южная
ссылка поэта» (Рукопись находится в домашнем архиве В. Орла.)
В коллекции Василия Николаевича имеются также копии около трех
десятков документов о пребывании Хетагурова в Петербургской академии
художеств, собранные им для будущего музея Коста в Очакове, об открытии
которого он мечтал. Но мечта его, к сожалению, не осуществилась.
Еще один интересный документ в личном архиве исследователя –
сценарий литературного вечера, посвященного 60-летию образования СССР,
состоявшегося в музыкально-художественном салоне г. Очакова. В основу
вечера положена идея дружбы народов нашей страны. В ходе мероприятия
состоялась презентация книги Василия Орла «Коста Хетагуров и Украина»,
прозвучал рассказ о содружестве украинского и осетинского народов,
выступления поэтов-переводчиков стихов Коста Хетагурова. Григорий
Громовой, очаковский поэт, прочитал свою поэму «Изгнанник»,
посвященную Косте Хетагурову. Она была переведена на осетинский язык и
вышла в издательстве «Иристон» в Цхинвале. В коллекции Орла хранится
экземпляр с автографом Нафи Джусойты.
В 1985 году был издан коллективный сборник стихов николаевских
(Украина) и североосетинских поэтов, воспевающих неразрывную дружбу
советских народов-братьев. На Украине сборник назывался «Крила нашої
весни» (на украинском языке), а в Орджоникидзе – «Дети одной земли» (на
осетинском языке). В обоих сборниках публикуются стихи К. Хетагурова [5].
В 1989 г. Косте Хетагурову должно было исполниться 130 лет со дня
рождения и 90 лет пребывания его в ссылке на Украине. И Орел
разворачивает невиданную кампанию по подготовке к этой большой дате. У
него возникла идея не просто по организации мероприятий-вечеров, встреч,
конференций и т. д., он задумал увековечить имя Косты Хетагурова, создав в
Очакове мемориал в его честь. Написаны десятки писем во все республики
Советского Союза, в музеи, библиотеки, редакции газет и издательства, а
также поэтам, писателям, художникам с просьбой принять участие в
праздновании. Очевидно, Василий Николаевич хотел, чтобы юбилей поэта
праздновался в всесоюзном масштабе.
В одном из писем он написал: «150-летний Пушкинский День памяти
показал всем нам, как надо чтить память великих поэтов. Я глубоко убежден,
что не бывает больших и маленьких литературных солнц. Если Пушкин –
солнце русской поэзии, то Коста – осетинской, и оба они светят не только
своим народам, но и народам всей нашей многонациональной Родины».
С идеей увековечения памяти Хетагурова на Украине В. Орел
обращается в Совет министров Северо-Осетинской АССР. Он пишет:
«Приближается 130-летие со дня рождения великого поэта. И кто как не мы,
сегодня живущие, должны позаботиться о памяти! Это и 90-летие
пребывания Коста на Украине – в Николаеве, Херсоне, Очакове...
Я вам посылаю Постановление правления областной организации
общества охраны памятников истории и культуры. Николаевцы начинают
потихоньку готовиться к этим двум датам». Он сообщает, что в г. Очакове
планируется установить мемориальную доску на доме, где жил Хетагуров в
ссылке и пополнить литературный уголок Коста в военно-историческом
музее – доброе начало сделано. Будем продолжать его общими усилиями».
Далее Орел пишет: «Разве двум республикам не под силу решить вопрос о
создании хетагуровского мемориала в Очакове, установлении там же
памятника великому поэту, а также установлении мемориальной доски не
только в г. Очакове, но и в Николаеве на вокзале, куда поэт приехал 28 мая
1899 года и на морском вокзале, откуда он на пароходе отплыл в г. Херсон 29
мая 1899 г.
Мне 59 лет, так что дожить до 150-летия Коста не получится, но
хотелось бы спокойным быть, что придут тогда почитатели на большой
хетагуровский праздник к памятнику великому поэту в г. Очакове, потому
что за 20 лет станет этот праздник и традиционным и популярным, ведь
Коста этого заслуживает...
Я не сомневаюсь, что в его пылающем сердце было место и для нас,
ныне живущих» [6].
Постановление областной организации охраны памятников и письмо
Орла явились предметом обсуждения на заседании Совета Министров
Северо-Осетинской АССР. Одновременно вопрос о праздновании
хетагуровских дней был рассмотрен Министерством просвещения и Союзом
художников Северной Осетии. Пришло письмо и из Совета Министров
Северной Осетии: «Уважаемый Василий Николаевич! Благодарим Вас и
правление Николаевской областной организации Общества охраны
памятников истории и культуры за внимание к памяти революционного
демократа, великого осетинского поэта К. Л. Хетагурова, за доброе слово в
адрес нашей республики. Ваши предложения, изложенные в письме,
рассмотрены в Совете Министров Северо-Осетинской АССР. Руководители
министерств и организаций уже начали работу по реализации предложений и
продолжат ее.
В ближайшее время будет передан бюст поэта в г. Очаков, Союз
писателей готовит книги о Коста, объединенный музей – материалы для
создания музея. Школьники КИДА также начали работу в этом направлении.
С уважением зам. председателя Совета Министров К.Я. Фидаров» [7].
Министерство просвещения Северной Осетии прислало подробную
программу по увековечению памяти поэта, Дом пионеров – прекрасную
подборку для фотовыставки из 30 фотографий о жизненном и творческом
пути Коста Левановича [8].
Союз художников сообщил, что принято решение организовать
подборку работ художников Осетии, созданных по мотивам его
произведений для передачи их в дар какому-либо музею (по усмотрению), а
также решено изготовить модель бюста-памятника Хетагурову для г.
Очакова и мемориальной доски в г. Очакове, где жил поэт. Подписал письмо
М.О. Царикаев – председатель правления республиканского Союза
художников [9].
Из главной редколлегии художественной и детской литературы и
изданий Госкомиздата УССР также сообщили, что по поручению совета
Министров УССР в 1988 году запланировано в издательстве «Днiпро»
выпустить книгу И. М. Дзюбы «Коста Хетагуров» (очерк жизни и
творчества), а в 1989 опубликовать подборку стихов Хетагурова в переводе
на украинский язык в одном из выпусков сборника «Созвездие» [10].
Из Дагестана ответили, что в декабре 1987 года планируется
подготовить сборник стихов К. Хетагурова на языках народов Дагестана для
учащихся среднего и старшего школьного возраста [11].
Одесское издательство «Маяк» (Украина) в 1987 году выпустило
коллективный сборник стихотворений Николаевской области и Южной
Осетии, воспевающий братскую дружбу, интернационализм народов СССР,
красоту земли.
В сборнике помещен ряд стихотворений, посвященных великому
поэту К. Хетагурову. Сборник называется «Голоса гiр та степiв».
Из множества ответов приведу еще только один. «Всемерно
поддерживаю идею увековечения памяти славного сына осетинского народа
Коста Хетагурова. Спасибо Вам за бескорыстную работу по укреплению
дружбы народов — бесценного достояния советских людей. С большой
радостью обещаю Вам посильную помощь. Предлагаю то, что у меня есть, а
именно последнюю публикацию стихов Коста Хетагурова в журнале «Таван
Атал» с предисловием профессора Васе Абаева, приуроченную к 125-летию
со дня рождения поэта.
Пишу на чувашском языке. Поэт, прозаик, автор более 10 книг,
переводчик. К. Хетагурова переводил немного, но вы своим письмом
напомнили о моем долге перед мужественным и мудрым поэтом Коста
Хетагуровым.
10 лет назад чувашское книжное издательство выпустило сборник
прозаических произведений осетинских писателей. Я был в числе
инициаторов этого издания» (Д. Гордеев. 15 октября 1986 г. Чебоксары).
В папке поисковых материалов В.Н. Орла «Мемориал Коста»
собраны библиографические списки публикаций поэта и о нем, присланные
из Дагестана, Чувашии, Казахстана, Грузии, Эстонии, Молдавии, Северной
Осетии.
Книжная палата прислал статические данные об издании в нашей
стране произведений Коста Хетагурова за годы советской власти.
По состоянию на 1 января 1984 года произведения поэта были изданы
99 раз общим тиражом 1 млн. 266 тыс. экз. на 21 языке народов СССР, в т. ч.
на русском – 43 издания тиражом 949 тыс. экз., осетинском – 26 раз (170 тыс.
экз.), на других языках народов СССР – 30 изданий (147 тыс. экз.).
О популярности великого сына Осетии говорит тот факт, что его
произведения издавались почти на всех языках нашей страны, в т. ч. русском,
аварском, армянском, адыгейском, азербайджанском, абхазском, балкарском,
бурятском, грузинском, даргинском, ингушском, казахском, кабардинском,
карачаевском, лакском, лезгинском, осетинском, татском, чеченском,
украинском, эстонском, молдавском языках.
К великому сожалению, В.Н. Орлу не удалось увидеть плоды своих
трудов и усилий по увековечению памяти своего любимого поэта,
празднование его 130-летнего юбилея. 31 августа 1987 год Василия
Николаевича не стало. До последних дней он не оставлял мысли написать
большую книгу о поэте. 21 июля 1987 года уже смертельно больной, за месяц
до кончины, он запишет в своем дневнике: «Очень жаль, что эти дни я не
могу работать над книгой о Хетагурове. Ведь надо обязательно закончить.
Этого же ни один человек в мире не напишет... Чувствую себя ужасно...»
А в год юбилея, газета, выходящая в г. Беслане, опубликовала статью
Василия Николаевича, посланную в газету им еще при жизни. Редакция,
высылая газету на имя автора со статьей о Хетагурове, написала:
«Уважаемый Василий Николаевич! Высылаем Вам номер нашей районной
газеты, в которой помещена Ваша публикация о Хетагурове. В нашей
республике широко был отмечен юбилей великого поэта – 130-летие со дня
его рождения. Отрадно, что благодаря таким энтузиастам, как Вы, все
больше благодарных потомков приобщается к творчеству Коста Левановича,
проникается бесконечным восхищением этим славным человеком.
От имени редакции выражаем Вам, автору книги «Коста Хетагуров и
Украина», глубокую признательность за Вашу неуемную энергию в
пропаганде великого наследия нашего Коста.
Мы, наша Осетия, также глубоко чтим бессмертного кобзаря Тараса
Шевченко – истинного самородка земли украинской. Так и должно быть в
нашем общем доме – СССР, ибо в единстве и общности цели наша сила.
Великое Вам спасибо.
С уважением зав. отделом писем Аза Мукагова. 16. X. 1989 г.» [12]
Огромный труд и, действительно, неуемная энергия этого человека,
направленная на увековечение памяти славного сына братской Осетии, были
не напрасны. В 1988 году в письме на мое имя зам. председателя Совета
Министров К.Я. Фидаров тоже дал высокую оценку деятельности Василия
Николаевича: «Уважаемая Лариса Гавриловна!.. В Осетии хорошо помнят и
ценят Василия Николаевича как публициста, пропагандиста идей дружбы и
братства народов, исследователя и популяризатора творчества К.Л.
Хетагурова.
Многие советы и предложения Василия Николаевича Орла в связи с
юбилеем Коста учтены и будут осуществлены в процессе подготовки и
проведения 130-летия со дня рождения Хетагурова. 13.X. 1988» [13].
В 2006 году в Краснодаре посмертно вышла книга Василия Орла «В
поисках истины» под редакцией профессора Виктора Чумаченко. Она
открывается эпиграфом из стихотворения Коста Левановича:
Блажен, кто душой и умом
Прославлен в народе своем,
Чье ценится веское мненье!
Блажен, кто отчизну любил,
Кто славой отцов дорожил,
Чье имя не знает забвенья!
В разделе «Из эпистолярного наследия В.Н. Орла» помещено 3
письма Орлу от К.Я. Фидарова, М.О. Царикаева и А. Мукаговой о подготовке
к юбилею поэта.
А в год 150-летнего юбилея 24 сентября 2009 года в Краснодаре в
литературной гостиной Пушкинской библиотеки состоялись встреча и
выставка, посвященная 150-летию со дня рождения К.Л. Хетагурова. На
выставке были представлены материалы о нѐм из фондов Пушкинской
библиотеки, а также обширная коллекция книг, фотографий, документов о
жизненном и творческом пути К. Хетагурова из личного архива В.Н. Орла.
И все мы, кто присутствовал в зале и принимал участие в
мероприятии, снова почувствовали себя в великой семье братских народов, в
своей великой стране.
Примечания
1. Материалы к библиографии В. Н. Орла // Орел В.Н. В поисках истины. Сост. Л.
Г. Орел / под науч. ред. В. К. Чумаченко. Краснодар, 2006. С. 288–319.
2. Письмо В. Н. Орла Н. Г. Джусойты от 25 января 1979 г. (Личный архив Л. Г.
Орѐл).
3. Письмо В. Н. Орла Н. Г. Джусойты. Государственный архив Краснодарского
края (ГАКК). Фонд Р–1682. Оп. 17. Д. 98. Л. 35.
4. Орел В. Письмо с Украины. Всюду были друзья. // Знамя коммунизма. 1989. 14
октября. № 124.
5. Крыла нашої весни. Поезiї. Одеса: Маяк; Орджоникидзе: Iр, 1985.
6. Письмо В.Н. Орла зам. председателя совета Министров СО АСССР К.Я.
Фидарову от 2 марта 1987 г. (Личный архив Л. Г. Орѐл)
7. Письмо К.Я. Фидарова В.Н. Орлу от 16 декабря 1986 г. // Орел В.Н. В поисках
истины. 2006. С. 285–286.
8. Письмо В. Н. Орлу из Министерства просвещения СО АССР. От 5 октября
1989 (Личный архив Л. Г. Орѐл).
9. Письмо О. Царикаева В. Н. Орлу из Союза художников СО АССР от 30 марта
1987 // Орел В.Н. В поисках истины. Краснодар, 2006. С. 286–287.
10. Письмо № 4–61 от 9.04.87. из издательства киевского «Днiпро» В. Н. Орлу
(Личный архив Л. Г. Орѐл).
11. Письмо В. Н. Орлу от 16 июня 1987 г.
12. Письмо Азы Мукаговой В. Н. Орлу от 16.10.1989. // Орел В. Н. В поисках
истины. Краснодар, 2006. С. 287.
13. Письмо К.Я. Фидарова Л. Г. Орел от 13 декабря 1988 г. (Личный архив Л. Г.
Орѐл).
М.Ю. Смертина, О.В. Топчий
С чего начинается Родина:
образовательная деятельность музея на базе детских дошкольных
учреждений
Главная задача музея с момента его возникновения – сохранять и
транслировать культуру от поколения к поколению, от человека к человеку
через предметы быта, произведения искусства, любые свидетельства нашей
истории. Каким должно быть новое поколение, чтобы это наследие не
исчезло?
В современном мире, со всеми его плюсами и минусами, задачи музея,
связанные с воспитательной и образовательной деятельностью, не только не
сокращаются, но и возрастают с каждым днем. Вступив в эпоху
глобализации и информатизации, современный человек может, с одной
стороны, бесконечно расширять свой кругозор, быть взаимосвязан
практически со всем миром, с другой – слабеют и разрушаются
традиционные социальные связи (семейные, национальные, культурные).
Отчасти функции этих институтов предстоит восполнить учреждениям из
сферы культуры и образования. Именно поэтому необходимо тесное
сотрудничество между ними. В данной статье рассматривается опыт
совместной работы музея на примере детского дошкольного учреждения.
По словам одного из основателей отечественной музейной педагогики
Е.Г. Вансловой, ее «детище» уже давно вышло за рамки музея. «Музей для
меня не цель, а средство. Ребенок плохо воспринимает абстрактные понятия,
а вся система образования сегодня построена на них. Я совершенно
убеждена, что формировать систему ценностей, воспитывать философское
понимание жизни. Можно только опираясь на конкретику, в том числе и на
предметный мир. Поэтому такую важную роль играет именно музейная
педагогика, оперирующая знанием предмета [1].
С 1987 г. Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына (КГИАМЗ) начал работу с детьми
дошкольного возраста. Ведь именно в раннем детстве формируются самые
главные понятия и создаются яркие образы: Родины, своего народа, его
культуры, начинается знакомство с некоторыми событиями истории.
Накопленный за годы работы опыт, позволяет активно проводить занятия по
специально разработанным темам для детей 4–7 лет. Строятся эти занятия
«на стыке различных отраслей знания: музееведения, истории, психологии,
педагогики с учетом исторических особенностей нашего края и характера
музейных коллекций» [2].
Детские дошкольные учреждения по ряду причин более ограничены в
возможностях регулярной транспортировки детей в музей, чем школы.
Именно поэтому оптимальной формой работы с ними становится музейное
занятие, которое «в отличие от экскурсии, может проводиться не только на
экспозиции, но и на другой, приспособленной для этого территории…и
допускает выборочный отбор экспонатов» [3]. То есть, в таких условиях
становится целесообразным сотрудничество на базе самого детского сада. С
2009 г. КГИАМЗ работает по программе «Здравствуй, музей!» с МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №166». Занятия разработаны таким
образом, чтобы сделать музейные предметы более «живыми» и доступными;
главными помощниками здесь становятся игра и сказка.
Занятия проводятся с детьми, начиная со средней группы детского сада.
И свое первое знакомство с музейным предметом дети осуществляют именно
с помощью сказок, ведь этот способ познания мира им уже знаком, а сказка,
как нельзя лучше, отражает в себе культуру и быт народа. Кроме того,
«примерно до 10–12 лет у детей преобладает «правополушарный» тип
мышления. Следовательно, наиболее важная для их развития информация
должна быть передана через яркие образы. Именно поэтому сказочные и
мифологические истории являются лучшим способом передачи ребенку
знаний о Мире» [4]. Тематика занятий связана с миром природы
Краснодарского края («В лес за загадками»), знакомством с бытом кубанской
станицы («Из бабушкиного сундука»). Для достижения наилучшего
результата, педагогом детского сада проводится подготовительная работа с
детьми (это может быть и предварительное прочтение выбранной для занятия
сказки, разучивание стихов или загадок), а также закрепление полученных
знаний посредством изготовления какой-либо поделки, связанной с данной
темой.
Второй год работы предполагает знакомство детей 5–6 лет с календарем
народных праздников посредством игровых музейных занятий. На выбор
предлагается 2–3 наиболее любимых детьми праздника (как правило, Новый
год, Масленица или Пасха). Включение элементов игры позволяют детям
стать непосредственными участниками народных гуляний, обычаев и
обрядов, окунуться в образ жизни наших предков. Например, в процессе
занятия «Мы празднуем Новый год» ребятам предлагается разыграть сценку
с «вождением Козы», стать участниками Святочных гаданий, а в завершение
вместе с музейным педагогом и воспитателем своими руками изготовить
традиционные рождественские украшения.
Старшим дошкольникам предлагается стать участниками важнейших
событий ХХ века – пройти нелегкими тропами Великой Отечественной
войны и совершить свой собственный полет в космос. Форма работы
остается прежней – музейное занятие с обязательными ролевыми играми.
Увлеченность игрой, самоотдача участников (будь то «санитарки»,
бинтующие «раненых бойцов» или «космонавты», вслушивающиеся в
команды «Центра управления полетами») говорит о том, что эта форма
соответствует психологии ребенка.
Таким образом, можно подвести итог, что работа по совместным
образовательным программам музея и дошкольного учреждения является
оптимальной для знакомства детей с историей и культурой родного края.
Долгосрочное сотрудничество в данном случае закрепляет результат, а
возможность обратной связи позволяет корректировать форму и содержание
занятий.
Примечания
1.Как все начиналось // Музей. №11. 2010. С. 40.
2.Митяева Г.А. О некоторых формах работы Краснодарского музея-заповедника с
различными категориями учащихся Краснодарского края // Проблемы и практический
опыт музеев в современных экономических условиях. Краснодар–Тамань, 2000. С. 53.
3.Ботякова О.М. Культурно-образовательная деятельность музея: направления,
формы, методы. СПб, 2010. С. 14–15.
4.Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка / Под ред. А.К. Колеченко. СПб.,
2006. С. 71.
К.В. Хараишвили
Этнографические исследования КГУКИ.
Краткие итоги полевого сезона (Тамань 2011 г.)
Каждый человек в своей деятельности, как познавательной, так и
практической, использует множество разнообразных методов. Всѐ чего мы
достигаем, является результатом их применения [1]. Так, неотъемлемой
частью образовательного процесса высшей школы является практическая
работа по освоению научно-практических археологических и
этнографических методов исследования.
Слово метод в переводе с греческого «methodos» означает «путь
исследования, теория, учение» [2]. Метод дает возможность систематически
подойти к исследованию. Владение методом помогает человеку определиться
с последовательностью совершения тех или иных действий для достижения
поставленной им цели. Метод (в той или иной своей форме) сводится к
совокупности определенных правил, приемов, способов, норм познания и
действия. Он есть система предписаний, принципов, требований, которые
должны ориентировать учѐного в решении конкретной задачи [3].
В настоящее время в этнографической науке применяются различные
методы исследования. В данной статье мы хотели бы на конкретном примере
представить методы научного исследования, которыми мы пользовались во
время исследовательской работы и оценить их продуктивность и
действенность этих методов.
Летом 2011 г. студенты I первого курса КГУКИ проходили полевую
практику. Еѐ этнографическая часть проходила под руководством В.И.
Колесова (зав. отделом истории и этнографии КГИАМЗ) и Н.А. Алексеева
(научный сотрудник того же отдела КГИАМЗ, преподаватель КГУКИ). Перед
нами поставили задачу произвести этнологическое исследование. Объектом
выступили произвольно выбранные жители Тамани. Цель – выявить
особенности повседневно жизни на Таманском полуострове во второй
половине ХХ века (на основе источников устной истории), а так же в наши
дни. В процессе работы мы использовали следующие методы – наблюдение,
анкетирование, интервьюирование. Они позволили выявить ряд сведений о
быте, а так же взаимоотношениях селян. Так же нами была проанализирована
статистическая информация.
В первую очередь мы использовали метод наблюдения. Данный метод
предполагает целенаправленное изучение предметов, опирающееся в
основном на такие чувственные способности человека, как ощущение,
восприятие, представление. Например, объектом нашего наблюдения была
жительница станицы Тамань – Солодухина Раиса Павловна. В ходе
наблюдения нам представилась следующая картина – женщина, на вид
пенсионного возраста, осуществляет уборку придомовой территории двух
этажного 18 квартирного дома по улице Карла Маркса (на северной
оконечности Тамани). Мы пришли к выводу, что еѐ финансовое положение
побуждает заниматься подработками. В ходе интервью выяснилось, что
женщина является женой сотрудника Таманской администрации (от него мы
позднее получили официальные статистические сведения о населении
Тамани), а убирала в подъезде многоквартирного дома на добровольных
началах.
Мы также пользовались методом анкетирования, который предполагает
фиксацию интересующих вопросов на бумаге с вариантами ответов или
вопросы, предполагающие развернутый ответ. Данный метод, на наш взгляд,
является малоэффективным, так как большинство опрашиваемых несерьезно
относятся к анкетированию, не вчитываясь, отвечают на вопросы лишь бы
быстрее «отвязаться» от опрашивающих их людей. Использование данного
метода не принесло нам больших результатов, так как большая часть
потенциальных опрашиваемых отказывалась от анкетирования, а те, кто
отвечали, относились к этому поверхностно.
В нашем случае наиболее продуктивным оказалось интервьюирование.
Задавая те же вопросы устно, активно используя обратную связь при прямом
контакте, мы получили больше интересующей нас информации. Выделим
следующие преимущества данного метода перед анкетированием –
появляется возможность следить за реакцией интервьюируемого при ответе
на заданный вопрос; в случае необходимости интервьюирующий может
менять формулировки, ставить дополнительные вопросы; в ходе
интервьюирования можно (пусть и субъективно) оценить насколько искренне
интервьюируемый отвечает на вопрос.
Отметим важную особенность – среди респондентов преобладали
возрастные группы от 35 и выше. Молодые люди и подростки на контакт не
шли.
Однако и у этого метода есть свои недостатки. Интервьюирование -
сложный, трудоемкий процесс, требующий от интервьюирующего
наивысшего профессионализма. Кроме того, возможно искажение
результатов за счет взаимного, социально-психологического влияния
интервьюируемого и интервьюирующего [4].
Особенно важным является умение «разговорить» человека,
расположить его к себе, показать, что тебе не безразлично все, что
повествует интервьюируемый. Именно метод интервьюирования дал нам
возможность получить наиболее интересные сведения.
Мы установили, что в 1960-70-е гг. в Тамани не было хороших дорог
(даже галечных) и, как рассказывала Солодухина Раиса Павловна «даже на
главных улицах населенного пункта лежал слой песка» и зачастую жители
перемещались по ним босиком. Позднее и другие респонденты указывали на
плохую дорожную сеть. Соответственно в дождливую погоду дело обстояло
еще хуже: «из-за слякоти невозможно было вообще выйти из дома». Также
мы узнали, что в указанный период в Тамани отсутствовали больницы.
Ближайший медицинский пункт находился за несколько десятков
километров от станицы. Так как в те времена, по данным интервьюируемых,
ни у кого в посѐлке не было автомобилей, добраться до места оказания
медицинской помощи было очень трудно. И, как свидетельствует Руссо
Татьяна Филипповна (жительница того же дома), из-за отсутствия
медицинского пункта она потеряла своего первого ребенка. Из транспорта в
60-е гг. имелось только две повозки на всѐ село, да и те «ведомственные».
Как позже удалось установить, на них главным образом перевозили
питьевую воду.
Нас поразило утверждение Солодухиной Раисы Павловны, что в 60-е
гг. в Тамани девушки надевали «мини-юбки». Однако, далее в ходе разговора
мы выяснили, что под «мини-юбкой» она понимала юбку, длина которой
была на ладонь выше колена. Также в области моды мы узнали, что в одежде
предпочтительны были яркие цвета. Как сказала Солодухина Раиса Павловна
«люди хотели яркой одеждой раскрасить серые будни». Тоже отмечается и в
отношении причѐсок. В заключение нашего разговора Солодухина Раиса
Павловна сказала, что «за последние пятнадцать лет Тамань очень сильно
преобразилась».
Говоря с нею и некоторыми жителями двора (они не стали
представляться) о современном положении дел в Тамани нам открылись и
острые социальные проблемы посѐлка. Речь шла об отношениях с
подростками в контексте проблемы наркомании!
Полученную информацию мы систематизировали с помощью метода
дедукции, который предполагает выведение частного положения из общих
сведений. То есть мы рассмотрели всю полученную от разных людей
информацию и по общим чертам выявили особенности жизни на Таманском
полуострове в ХХ веке.
Таким образом, научно-практические методы исторического познания,
освоенные в ходе практики, позволили выработать взвешенную позицию и
взгляд на проблему использования источников устной истории; оценить
важность и степень достоверности получаемых данным путѐм сведений.
Важным итогом проведѐнной работы явилось и выявление ранее
неизвестных сторон повседневной жизни современной Тамани.
Примечания
1. Кривохатько Н. И. Современные методы научного познания и их роль в
формировании картины мира. Электронный ресурс: http://sfkm.nm.ru/koordawt.htm Дата
просмотра: 14.10.2011.
2. Современная энциклопедия. ООО «Академик», 2000-2010. Электронный ресурс:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/29910. Дата просмотра: 16.10.2011.
3. Кохановский В.П., [и др.]. Философия для аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е
- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. С. 300–301.
4. Методы социологических исследований. Электронный ресурс:
http://otherreferats.allbest.ru/sociology/00065602_0.html. Дата просмотра: 18.11. 2011.
Е.А. Ягодкина
Устная история. Жизнь одной болгарки
(по итогам полевого сезона 2011 г.)
В исторической науке, за долгие годы существования, накопилось
довольно много обширного материала, описывающего различные периоды
советской истории, в том числе о второй мировой войне. Однако
повседневная жизнь людей после еѐ окончания, в особенности
представителей народов подвергнувшихся депортации, ещѐ слабо изучена. К
одной из таких групп относятся крымские болгары. Большинство болгар,
проживающих в настоящее время в Краснодарском крае, являются
потомками тех 12 тыс. крымских болгар, депортированных 24 июня 1944
года с Крымского полуострова в Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь и
Башкирию.
В 1956 году крымские болгары были реабилитированы, получили
долгожданное советское гражданство и право выбора места жительства на
территории СССР, но им было запрещено возвращаться в родные сѐла. Одни
из них остались в местах высылки, другие, стремясь приблизиться к родной
земле, переселялись на Кубань.
Изучая современную историческую литературу, публикуемую на
Кубани, выяснилось, что существует ряд статей посвящѐнных болгарской
культуре или смежным вопросам истории болгар. Непосредственно
крымским болгарам на Кубани были посвящены работы С.В. Калашниковой
(в девичестве Рогалѐвой) [1], а так же О.В. Матвеева [2].
Собирая, как мозаику, сведения, полученные с помощью различных
методов исследования, в том числе прибегая и к источникам устной истории,
мы получаем полноценную картину их жизни.
Одним из примеров такой судьбы является жизнь Татьяны
Филипповны Руссо, приехавшей в пос. Тамань в 1960 г. и проживающей там
по сегодняшний день. Еѐ нам посчастливилось встретить во время летней
этнографической практики, проходившей под руководством научного
сотрудника КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына – Н.А. Алексеева.
Из еѐ рассказа следует, что ещѐ двенадцатилетней девочкой, во время
Второй Мировой войны, она принимала участие в оказание помощи раненым
солдатам, а так же в захоронении погибших. Вместе с односельчанами
занималась рытьем противотанковых рвов. Отметим, что она не просто
помнит все хитросплетения ее нелегкой жизни, но и в подробностях
описывает обстоятельства, связанные с оккупацией Керчи (ее родного
города) войсками вермахта, причѐм приводит особенности первого и второго
их прихода, репрессии против близких и родных; депортацию... но и
фиксирует свои воспоминания в форме рукописи.
Анализируя записи интервью, выделяя ту информацию, которая не
отражена в мемуарах, мы можем не только по крупицам собрать образ жизни
Татьяны Филипповны, но и воспроизвести во многом не известные страницы
истории трагического прошлого группы болгар выселенных после войны в
Казахстан. Сравнить еѐ устные воспоминания с тем письменным образом,
который она оставляет потомкам, и, выявить личные особенности восприятия
проблемы связанные с воспитанием, морально-ценностными ориентирами.
Особенно значимым представляется детализированность
воспоминаний, о наиболее ярких (но не всегда радостных) событиях – как в
Керчи несколько дней была пришвартована баржа с пленными, и чтобы
деморализовать солдат, офицеры вермахта демонстративно выбрасывали
хлеб на глазах голодных солдат; как девочкой помогла раненому русскому
солдату, привела родственникам для укрытия, а те его отослали к дальним
селениям, не рискуя подставлять себя и своих детей; как прощалась с теми,
кого арестовывали; как полюбила и вышла замуж (за русского ветерана
войны, кавалера ордена третьей степени); потерю первенца на нервной почве
из-за смерти мамы и плохого медицинского обеспечения в Тамани (в начале
1960-х не было больниц); рождение второго ребѐнка (сына) и смерть
любимого мужа…
Так же, с болью в сердце она рассказывает такие подробности жизни ее
семьи, как «добродушная» встреча их казахами, которые вместо приветствия
забрасывали камнями. «Сначала мы были, как враги», поясняет Татьяна
Филипповна; как все двенадцать лет проживания в Казахстане – тюрьме, не
имели права никуда выезжать, отмечаясь, каждый месяц в комендатуре; как
наивно поверила в фальшивое освобождение ее семьи от ежемесячного
посещения комендатуры. Вспоминая слова мамы по этому поводу, говорит:
«Побежала к маме, обняла ее, а она мне говорит, что это освобождение
равносильно пойманной птице, которой оторвали крылья, выкололи глаза и
отпустили на море!»; как страшный голод и нехватка продовольствия
заставляла местных жителей просить еду у рыбаков, а Татьяна Филипповна с
сестрой в виду строгого наказа мамы, не бегали на пристань, но рыбак по
фамилии Мурунов, из-за уважения и желания помочь, принес в подарок еѐ
семье огромного судака, со словами, обращенными к маме: «Держи, накорми
девочек».
Подобного рода источники представляются особенно важными для
раскрытия сведений о процессе переселения групп болгар с мест высылки.
Так, сообщая последовательность переезда, Татьяна Филипповна Руссо
описала те бытовые условия, в которых они оказались, приехав на Кубань, то
разочарование, которое они испытали по прибытию. Многие сломались и
даже вновь отправились обратно.
Еѐ глазами мы можем и сегодня «увидеть» как выглядел пос. Тамань в
60-е годы: в послевоенное время дорог вообще не было, а та единственная,
которая была, шла под самым обрывом, последний постоянно осыпался;
дефицит автобусов и общественного транспорта, продовольственные
магазины отсутствовали, продукты в послевоенную Тамань привозили из
Керчи; воды не было, страшная грязь и слякоть в зимнее время.
Такие условия пугали и Татьяну Филипповну, ей хотелось уехать, но
останавливала не только похороненная здесь мама, не только тот факт, что
ехать было некуда, но и стойкий и мужественный характер Руссо Татьяны
Филипповны, который не раз помогал ей выдержать все перипетии,
предоставляемые ей судьбой. Она позиционирует себя как «счастливая и
выносливая женщина».
Таким образом, проанализировав все сведения, которые удалось
собрать в ходе этнографической практики, можно сделать вывод о том, что
методы этнографии, в частности интервьюирование, очень продуктивны и,
несомненно, интересны, так как при непосредственном контакте с человеком,
можно узнать неизвестные факты из истории жизни людей той или иной
эпохи. Отметим, что детали повседневной жизни человека, такого, каким
является Руссо Татьяна Филипповна, очень важны и уникальны для
исторической науки, они хорошо дополняю знания, полученные при
изучении письменных источников.
Примечания
1. Рогалева С.В. Крымские болгары: реабилитация и возвращение из депортации
(1956 – начало ХХI в.) // Славянский Мир, Запад, Восток; Она же. Депортация крымских
болгар: спецэшелоны в пути (1944–1956 гг.) // Год Болгарии в России. Краснодар, 2009;
Она же. Адаптация крымских болгар на Кубани глазами очевидцев (вторая половина ХХ
в.) // Синергетика образования. 2009. № 1 (14); Она же. Болгары Крыма в условиях
депортации (1944–1956 гг.) // Синергетика образования. Ростов н/Д, 2008. Вып. 12; Она же
(Калашникова). Крымские болгары на Кубани: некоторые аспекты традиционной
культуры» // Культурная жизнь юга России. № 3. Краснодар – 2010. С. 11–14; Она же.
Депортация болгарского населения с крымского полуострова (1944–1956 гг.): к вопросу об
историографии проблемы // Научные проблемы гуманитарных исследований. № 9.
Пятигорск – 2010. С. 39–45.
2. Матвеев О.В. Устная история болгар Темрюкского района (по итогам полевого
сезона 2004 г.) // Мир славян Северного Кавказа. Вып. 2. Краснодар, 2005; Он же. Болгары
Темрюкского района (по материалам Кубанской фольклорно-этнографической
экспедиции 2004 г.) // Синергетика образования. Ростов н/Д, 2005. Вып. 4; Он же.
Некоторые итоги и перспективы изучения кубанско-болгарских связей // Год Болгарии в
России: проблемы истории и культуры славянских народов: материалы междунар. науч.-
практ. конф. Краснодар, 2009.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Авдащенкова Марина Константиновна – научный сотрудник отдела
КГИАМЗ им. Фелицына «Мемориальный музей-квартира народного артиста
СССР Г.Ф. Пономаренко»
Бабич Александр Владимирович – главный специалист ГКУ КК
«Государственный архив Краснодарского края
Винокуров Владимир Васильевич – сотрудник МУК «Музей станицы
Бриньковской»
Дуленко Наталья Юрьевна – младший научный сотрудник отдела
фондов Каневского районного историко-краеведческого музея
Есипенко Лариса Михайловна – с. н. с. отдела хранения фондов
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Жупанин Святослав Олегович – научный сотрудник Литературного
отдела КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына.
Зеленский Юрий Викторович – с. н. с. отдела археологических фондов
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Завьялов Сергей Львович – эксперт Кубанского управления
Росохранкультура (г. Краснодар).
Казе Елена Ивановна – главный хранитель МУК «Тихорецкий историко-
краеведческий музей».
Карпов Михаил Валерьевич – м. н. с. отдела истории и этнографии
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Карпова Анна Игоревна – Зав отделом внешних коммуникаций
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Коваль Светлана Сергеевна – научный сотрудник отдела учета КГИАМЗ
им. Е.Д. Фелицына
Колесов Владимир Игоревич – зав. отдела истории и этнографии
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына.
Кондрашев Александр Васильевич – с. н. с. лаборатории полевых
исследований КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Корсакова Наталия Александровна – ст. н. с. отдела истории и
этнографии КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына.
Наделяева Ирина Викторовна – учитель истории и кубановедения
МБОУ СОШ №15 им. Героя РФ Е.Д. Шендрика станицы Роговской
Тимашевского района, победитель конкурса лучших учителей РФ в 2006,
2010 гг.
Новиков Павел Васильевич – с. н. с. лаборатории полевых исследований
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Орел Лариса Гавриловна – краевед.
Пьянков Алексей Васильевич – ведущий научный сотрудник ООО
«Западно-Кавказская Археологическая Экспедиция».
Садковская Ольга Георгиевна – Заведующая отделом КГИАМЗ им.
Фелицына «Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко»
Селуянова Вера Викторовна – старший научный сотрудник, заведующая
научно-просветительским и экспозиционно-выставочным отделами
Тимашевского музея семьи Степановых
Смертина Марина Юрьевна – с. н. с. отдела выставочной деятельности
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Стругова Марина Рафаэлевна – к. и. н., с. н. с. отдела истории и
этнографии КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Топчий Оксана Владимировна –воспитатель МДОУ «Детский сад
№166».
Хараишвили Кристина Владимировна – студентка отделения
культурологии Краснодарского государственного университета культуры и
искусства
Хмара Е.В. – историк-краевед.
Шеремет Александр Григорьевич – директор Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Брюховецкий историко-краеведческий
музей» Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района (МБУК
«БИКМ»)
Ягодкина Екатерина Андреевна – студентка отделения культурологии
Краснодарского государственного университета культуры и искусства
















































































































































































































![“Медный чекан Кеша в VIII веке [Copper coinage of Kesh in the 8th century].” -- Нумизматическиe чтения 2011 года памяти Алексея](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332cccb576b626f850d95af/medniy-chekan-kesha-v-viii-veke-copper-coinage-of-kesh-in.jpg)