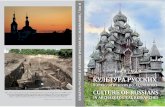Усыпальница Князей Хованских И Пожарских В...
-
Upload
archaeolog-ru -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Усыпальница Князей Хованских И Пожарских В...
307
Л.А. Беляев
УСЫПАЛЬНИЦА КНЯЗЕЙ ХОВАНСКИХ И ПОЖАРСКИХ
В СУЗДАЛЬСКОМ СПАСО-ЕВФИМИЕВОМ МОНАСТЫРЕ: НОВЫЙ ЭТАП
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*
В последние годы археология быстро расширила хроноло-гические границы своих интересов, уверенно включив в них период позднего средневековья и раннее Новое время. Это произошло во всем мире, но в России процесс имел свои осо-бенности – он сопровождался сдвигом смысловых акцентов. Археология поздних исторических периодов, которую часто так и называют «исторической археология», в России исключитель-но важна для понимания тех основ сознания, тех культурных и художественных традиций, тех способов восприятия мира и матриц мышления, которые сложились в период формирования Московского царства и его недолгого развития и от которых мы, сами это не всегда сознавая, существенно зависим в нашем ми-ровосприятии1.
Сегодня не надо доказывать важность археологического изучения истории сельского ландшафта и землепользования в раннемосковский период, или архитектурных проектов русско-итальянского периода. Однако археология способна изучать не только экономические основы общества или его технологии. Она играет определенную роль и в реконструкции политиче-ских событий (например, военных: Куликово поле, битва при Молодях и др.). Особенно важно построение археологических версий истории для периодов «социальных катастроф», таких как Смутное время. В последние десятилетия в ряд работ, важ-ных для «археологии Смуты», встали раскопки Казанского собо-ра в Москве, убедительно доказавшие отсутствие исторической связи памятника и с церковной историей Красной площади, и с храмостроительной деятельностью рода Пожарских. Извест-ную роль сыграли попытки изучения сельского кладбища XIV–XVII вв. под Костромой и раскопки усыпальницы рода Романо-вых в Новоспасском монастыре (к ним мы обратимся ниже). Важным вкладом в «археологию Смуты» станет разбор старых материалов, среди которых важнейшей является коллекция
* Статья подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований Президента РАН «Историко-культурное наследия и духовные ценности Рос-сии».
308
Тушинского лагеря, который сейчас ведется в хранилищах Госу-дарственного истонического лицея. Это работы очень разные по жанрам, исходным задачам и результатам, но все они призваны ярче осветить первый этап формирования Российской империи, помочь понять, почему Россия празднует именно 4 октября как День единения.
Не последнее место в этом направлении занимает история новых форм исторической (генеалогической) памяти и церков-ного поминовения, которая все яснее предстает перед нами в исследованиях родовых некрополей знати второй половины XVI – первой половины XVII в. (хотя, конечно, имеет гораздо более глубокие исторические корни). В этой плоскости и будут рассмотрены новые данные о давно известной отечественной археологии суздальской усыпальнице князей Пожарских и Хо-ванских.
Непосредственным импульсом к новым исследованиям стало решение восстановить памятник князю Дмитрию Пожарскому, поставленный (в 1885 г.) по проекту архитектора А.М. Горно-стаева и разобранный в 30-е годы прошлого века. Намечавшееся строительство требовало изучить состояние остатков фундамен-тов и подготовить место для реконструкции. Эти работы выпол-нил в июле–сентябре 2008 г. Суздальский отряд (рук. Л.А. Беля-ев, И.В. Папин) Владимиро-Суздальской экспедиции Института археологии РАН (рук. член-корр. РАН Н.А. Макаров)2. Памятник в форме часовни был восстановлен за один год и торжественно открыт 4 ноября 2009 г. в присутствии Президента Российской Федерации Д.М. Медведева и многих официальных лиц.
Для нас, однако, главным итогом работ стала не практиче-ская реставрация «материальной части», а полученная инфор-мация об истории усыпальницы. Как известно, ее остатки были впервые раскрыты графом А.С. Уваровым в 1851–1852 гг.3 Эти работы стали одной из отправных точек в археологии Руси Мос-ковского периода и сопоставимы в этом отношении с первыми исследованиями Десятинной церкви в Киеве или Борисоглеб-ской – в Старой Рязани; они и сегодня сохраняют значение для археологии Московского периода.
Именно поэтому давно назрела необходимость их повторить. Дело в том, что материалы А.С. Уварова оставили ряд белых пя-тен – прежде всего в силу ограниченности тогдашних техниче-ских средств. Еще не применялась недавно изобретенная фото-графия; обмер носил слишком общий характер; поверхностным оказался антропологический анализ; почти не изучались вещи; документальная публикация запоздала более чем на полвека, а часть материалов была уже утрачена. В итоге, не все детали опи-саний были понятны сегодня даже специалистам.
Повторные натурные работы требовались не только для обогащения и уточнения информации. В последние десятилетия
309
обострилась проблема достоверности идентификации останков исторических личностей4. Поэтому надлежало проверить совре-менными методами надежность атрибуции, которую комиссия А.С. Уварова провела около 150 лет назад.
Наконец, описаний XIX в. было недостаточно, чтобы полно-ценно включить усыпальницу Пожарских и Хованских в оборот современной научной информации. Дело в том, что «команда Уварова» имела сравнительно узкую цель: найти погребение на-ционального героя. Она было, так сказать, «настроена на аполо-гию» и воспринимала особенности сооружений, детали обряда, половозрастной состав некрополя в качестве дополнительного материала, важного только в качестве инструмента идентифи-кации.
Для сегодняшней науки он, напротив, представляет самодо-влеющую ценность. Нам требуется понять последовательность захоронений; провести массовый антропологический анализ; представить конструкции погребальных сооружений, интерьер и внешний облик усыпальницы; сравнить все это не только со сведениями письменных источников, но и с материалами общего монастырского кладбища5 и другими статусными усыпальница-ми России. Словом, нужно провести комплексное исследование и получить данные для историко-археологической характери-стики всего объекта, а не одного погребения. Здесь представле-ны первые результаты такого исследования6.
Кратко остановлюсь на ходе работ XIX в. В июле 1851 г. графу Алексею Сергеевичу Уварову, чиновнику по особым по-ручениям при министре внутренних дел графе Л.А. Перовском и сотруднику Императорской Археологической комиссии, шел 27-й год (Рис. 1). Он приехал в Суздаль чтобы начать знамени-тый проект изучения курганов Северо-Восточной Руси и почти попутно взялся обнаружить место захоронения князя Дмитрия Пожарского. Установить его нужно было с высокой степенью надежности, поскольку в 1850 г. великие князья Николай и Михаил Николаевичи решили воздвигнуть памятник Дмитрию Пожарскому не зная еще точно, где лежит его прах: за 150 лет сведения о кладбище Пожарских успели изгладиться из памяти местных жителей, поскольку сам род пресекся в конце XVII в.
Работа заняла всего 8 месяцев, за которые граф провел серь-езные изыскания в местных архивах (его выписки и подлинные документы составляют значительный фонд в ОПИ ГИМ), а также обнаружил и раскопал внутреннюю часть усыпальницы, благода-ря чему смог, на основе надписей на крышках саркофагов, уве-ренно идентифицировать два погребения как принадлежащие Никите Хованскому и Федору Пожарскому, т.е. шурину и сыну Д.М. Пожарского. Затем граф добился разрешения на вскрытие саркофагов, прежде всего безымянного, в котором предполагал погребение князя Дмитрия Михайловича. Для вскрытия была на-
310
значена комиссия, в состав которой входили историки, деятели церкви и администраторы: сам А.С. Уваров; епископ Владимир-ский и Суздальский Иустин; тайный советник К.И. Арсеньев, статский советник М.П. Погодин, губернатор статский советник П.М. Муравьев; чиновник по особых поручениям при министре внутренних дел граф Д.Н. Толстой. 22–24 февраля 1852 г. ко-миссия присутствовала на вскрытии и признала саркофаг № 3 (нумерация А.С. Уварова7) погребением Дмитрия Михайловича Пожарского. О вскрытии и осмотре гробницы, идентифициро-ванной в качестве такового, был составлен официальный акт с изложением историко-археологической аргументации, подпи-санный 24 февраля 1852 г. (его размножили типографски, но распространяли в основном по служебным надобностям).
Материалы работы вводил в науку не сам А.С. Уваров, а уча-стники комиссии и вообще те, кто занимался историей монасты-ря или рода Пожарских. В 1852 г. вышло краткое сообщение об открытии8; тем временем готовилось донесение М.П. Погодина в Академию наук (для печати переработанное, снабженное прило-жениями и аппаратом9); его дополнили более поздние сочинения Л. Сахарова10 (1878 г.) и И. Голышева11 (последнее приурочено к открытию памятника и наиболее полно отражает печатные ма-териалы за XIX в., в том числе местную владимирскую научную периодику). Переписка и официальные отчетные документы А.С. Уварова по работам в Спасо-Евфимиевом монастыре были собраны и опубликованы вместе с частью визуальных материа-лов, только в начале ХХ в.12
* * *
Обратимся к описанию работ. Евфимиев монастырь возник в середине XIV в. на далекой северо-восточной окраине Сузда-ля. Символическим центром монастыря является апсида южно-го придела собора Преображения – она стоит на месте, которое почитают как могилу подвижника второй половины XIV в. Евфи-мия Суздальского. Остатки усыпальницы Хованских и Пожар-ских расположены к востоку от нее, т.е. в самой непосредствен-ной близости от могилы святого.
К сожалению, данные раскопок 2008 и 1851 гг. нельзя срав-нить напрямую (рис. 2–3). Нам удалось раскрыть только часть усыпальницы, хотя и значительную (открыты две стены, северная и часть восточной – южный край палатки скрыт дорожкой – кладку, примыкавшую к апсиде, мы не раскрыли из соображений сохранности собора – треть вскрытой площади оказалась заня-той фундаментом часовни 80-х годов XIX в.). Все же точек сопри-косновения более чем достаточно для проверки выводов 1851 г.
А.С. Уваров раскрыл остатки четырехстенной постройки, приложенной вплотную к апсиде Евфимиевского придела, в которой тремя рядами располагались могилы (рис. 4). Погребен-
311
ные лежали в антропоморфных белокаменных саркофагах или в деревянных гробах с кирпичными футлярами («склепах») и без них, просто в грунтовых могилах.
Оказалось, что самый западный ряд погребений А.С. Уваров, убедившись в отсутствии здесь надписей, почти не расчищал. Линия тесно лепящихся друг к другу кирпичных «склепов» и немногих грунтовых могил буквально прижата к апсиде; в ней нет белокаменных саркофагов (рис. 5). Над частью «склепов» (их всегда выкладывали на месте, в могиле); сохранились кир-пичные основания под памятники, так называемые нагробницы; в большинстве они не соединены со своим «склепом» сплошной кладкой, так что верх «склепа» отделен от нагробницы слоем грунта. В восточной линии в 2008 г. расчищено не менее восьми погребений «склепов» (включая двойной детский), хотя А.С. Ува-ров насчитал их на том же протяжении не менее девяти (самые южные и самые северные участки в раскоп 2008 г. не попали).
В среднем ряду мы, вслед за А.С. Уваровым, открыли бело-каменный саркофаг (№ 15/2008 г.) князя Никиты Андреевича Хованского, умершего в мае 1608 г. (рис. 6). Он был идентифи-цирован по надписи на крышке:
ЛЕТА 7116 ГОПРЕСТАВИСЬ РАБ Б[О]ЖIЙ КНЯЗЬ НИ
КИТА ΩНДРЕЕВИЧ ХОВНСКОЙВО ИНОЦЕХ ИНОК СКИМНИК НИΘОНТЪ
НА ПАМЯТ[Ь] С[ВЯ]ТАГ[О] АП[О]СТ[О]ЛА КАРПА
День определяется по скрытой дате, дню апостола Карпа «от 70-ти», как 26 мая. А.С. Уваров прочел год как 1609-й. Последняя цифра передана буквой S («зело»-6), что в пересчете дает 1608 г. (7116–5508). Что заставило Уварова читать здесь З («земля») – неясно (возможно, близкая форма буквы в слове «князь»). По независимым источникам дату смерти Н.А. Хованского прове-рить не удалось. Осмотр саркофага подтвердил его общее соот-ветствие дате как по типу, так и по характеру декоративной вязи.
От него к северу фиксируется промежуток на три-четыре погребения, но были ли они здесь – неясно, землекопы XIX в. пробили здесь слой до материка (известно, что некоторые по-гребения были разрушены еще до 1851 г.). В материке нами про-слежено не менее двух могильных ям, но по крайней мере одна из них явно древнее усыпальницы, так как имеет иную ориенти-ровку (рис. 7).
Далее к северу в среднем ряду А.С. Уваров отметил три кир-пичных склепа, из которых два были к тому времени уже разру-шены. Сейчас они застроены часовней, и до нас дошел только третий – № 14/2008. Его особенно важно было изучить, так как он в головах у Федора Дмитриевича Пожарского и гипотетиче-ски мог принадлежать князю Дмитрию Михайловичу (об этом
312
см. ниже). Кроме того, № 14 (единственный из всех) сохранил такой тип свода, какой Уваров описал над вероятным погребени-ем князя Пожарского, т.е. свод с двускатной «кровлей» и двумя треугольными «фронтонами».
А.С. Уваров не пишет о вскрытии «склепа» № 14, видимо, он его не тронул. Но западная часть кладки была позже пробита валунами часовни, и мы смогли, убрав их не разбирая свода, сде-лать фото изнутри, а затем расчистить «склеп». В нем не содер-жалось саркофага, а разрозненные останки принадлежали трем мужским костякам и одному женскому, так что даже пол главно-го погребения определить не удалось. На восточный край «скле-па» № 14 опираются два склепа следующего, восточного ряда (№ 2/2008 и 3/2008), что делает вероятной дату № 14/2008 ранее 1635–1640 гг. – А.С. Уваров определил именно эти два «склепа» восточного ряда как возможные могилы Дмитрия Пожарского и его первой жены или матери. К сожалению, стратиграфия куль-турного слоя в усыпальнице полностью разрушена, и стратигра-фия кладок компенсирует эту утрату лишь частично.
Восточный ряд А.С. Уваров счел целиком принадлежащим Пожарским (рис. 7 и 8). Из открытых здесь в 1851 г. девяти или 10 погребений в наш раскоп попало восемь. Возможно, они самые поздние – если заполнение палатки шло с запада, а простран-ство в центре, между погребениями второго ряда, старались не заполнять, чтобы иметь возможность вносить новые гробы.
В восточном ряду удалось уточнить ряд деталей, в том числе увидеть надпись на крышке саркофага князя Федора Дмитрие-вичу Пожарского (№ 4/2008; левые части двух верхних строк восстановлены по описанию А.С. Уварова, так как весь саркофаг застроен фундаментом памятника-часовни 1880-х годов и нам удалось расчистить не весь текст) (рис. 9). Надпись сделана в 4 строки углубленной вязью, крупной и четкой:
[ЛЕТА] 7131 ГО ДЕКО[БРЯ 27 ДЕНЬ] ПРЕСТАВИС[Я] РАБЪ Б(О)]ЖИЙ
БЛАГОВЕРНИЙ КНЯЗЬ ФЕДОРДМИТРЕЕВИЧ ПОЖАРСКОЙ
Сын князя Дмитрия умер в 1633 г., раньше своего отца и даже бабушки, которую, возможно, положили сразу к северу от князя Федора. Антропологический анализ и находка в погре-бении № 3/2008 «волосника» (шапочка с кружевным верхом и золотным шитьем с растительным орнаментом), который видел еще А.С. Уваров, подтверждают, что здесь погребена пожилая женщина. Уваров полагал, что это Прасковья Варфоломеевна – первая жена князя Дмитрия Михайловича, мать князя Федора. Однако она умерла 2 сентября 1635 г. в Москве, где ее отпевал патриарх Иоасаф в церкви Введения на Лубянке13; так что пол-ной уверенности в перевозе ее тела в Суздаль у нас нет. Не ме-нее вероятна здесь бабушка Федора, т.е. мать князя Дмитрия,
313
Евфросиния, которая умерла в 1640 г. в очень преклонном воз-расте, пережив некоторых своих внуков (хотя до недавнего вре-мени дата ее смерти считалась гораздо более ранней, надпись на ее надгробии14 и запись Кормовой книги Троице-Сергиева монастыря15 указывают именно1640 год) (рис. 10). Евфросиния, несомненно, погребена в Суздале, причем в схиме, чему отчасти противоречит отсутствие внешних признаков монашеского сана и найденный в погребении волосник. Вопрос точной идентифи-кации этого погребения остается открытым.
Крайний к северу в восточном ряду кирпичный «склеп» (№ 1/2008) А.С. Уваров не вскрыл, но полагал, здесь лежит вторая жена князя Дмитрия, Феодора Андреевна Голицына, умершая в 1651 г., через 9 лет после мужа. Следуя примеру предшественни-ка, мы не стали вскрывать склеп, но разрушения свода позволили осмотреть череп, который был определен как принадлежавший женщине 20–30 лет.
В результате возникает выглядящая логичной хронологиче-ская последовательность погребений: № 4 (Федор, †1633); № 3 (Прасковья, †1635 или Евфросинья, †1640); № 2 (по Уварову № 3, князь Дмитрий Михайлович, †1642); № 1 (вторая жена князя Дмитрия, Феодора, †1651). В этом случае восточный ряд развива-ется с юга на север, от центра к стене (что не слишком логично), а всем его погребениям предшествует «склеп» № 14 в среднем ряду.
Тогда нельзя исключить, что два детских погребения («склеп» и маленький саркофаг, № 5/2008 и 6/ 2008), лежащие южнее сар-кофага Федора Дмитриевича, рядом друг с другом, принадлежат рано умершим сыновьям Д.М. Пожарского (или его внукам), но, возможно, что и детям его сестры Дарьи, в замужестве Хован-ской (см. рис. 7 и 8). Во всяком случае, известно надгробие двоих из них: сына князя Дмитрия Никиты и сына Н.А. Хованского, младенца Петра Никитича. Они, видимо, умерли вместе, так как были погребены под одной нагробницей с единой надписью, в которой указана одна дата смерти – 26.08.1608 г.16 Не исклю-чено, однако, что одно из двух раскрытых детских погребений принадлежит младенцу Василию Петровичу Пожарскому, внуку (?) Дмитрия Михайловича, о погребении которого в монасты-ре известно благодаря находке его надгробия, и который умер практически одновременно с бабушкой, в 1640 г. (см. ниже).
Особый интерес представляло, конечно, погребение в со-оружении №2/2008, определенное А.С. Уваровым (его № 3/1851) как погребение князя Дмитрия Пожарского. А.С. Уваров дал достаточно подробное описание того, что содержалось в сарко-фаге: в нем лежали останки очень пожилого (судя по состоянию черепных швов и зубов) человека в богатой светской (боярской ?) одежде. Раскопки 2008 г. показали, что документации 1851 г. можно полностью доверять, поэтому после ряда обсуждений мы приняли решение отказаться от повторного вскрытия, которое могло дать сравнительно немного новой информации (рис. 11).
314
Особых оснований сомневаться в атрибуции погребения князя Д.М. Пожарского, предложенной в 1851–1852 гг., не воз-никает. Более того, после работ 2008 г. ее можно оценить как весьма вероятную. Научный подход к атрибуции исторического погребения, продемонстрированный А.С. Уваровым и его комис-сией, обеспечил надежность выводов. Часть их подтвердилась еще до раскопок, благодаря открытиям историков. Так, полагая Ефимиев монастырь местом погребения Д.М. Пожарского (в чем тогда были сомнения), А.С. Уваров опирался на многочис-ленные, но исключительно косвенные свидетельства: известные ему документы прямых сведений о погребении не содержали, в монастыре не имелось надгробной доски князя Дмитрия, а на его вероятном саркофаге не оказалось надписи. Но в конце ХХ в. за-вещание Д.М. Пожарского было найдено, и в нем обнаружился наказ похоронить его в конкретном месте Ефимиева монастыря: «а тело мое мерзкое положить в головах у света моево у князя Федора Дмитриевича»17.
С находкой завещания уверенность, что князь Дмитрий по-гребен именно в палатке Евфимиева монастыря, упрочилась – поскольку погребение князя Федора было уже открыто. Но, как ни странно, именно благодаря появлению духовной родились но-вые сомнения в точном месте погребения князя Дмитрия внутри усыпальницы: саркофаг № 2/2008 (№ 3/1851) стоит не там, где его полагалось искать согласно завещанию, а в одном ряду с князем Федором. Поэтому нельзя быть абсолютно уверенным, что одно из утраченных или плохо сохранившихся погребений в головах у князя Федора в действительности не принадлежало Дмитрию Михайловичу, а саркофаг № 2/2008 – его отцу или одному из сыновей (тому же Ивану Дмитриевичу). Будем надеяться, что эти, сравнительно незначительные, недоумения прояснятся с обнаужением новых документов и эпиграфических памятников, в ходе архитектурно-археологических исследований собора или повторного вскрытия саркофага № 2/2008 (№ 3/1851)18.
Многие детали, казавшиеся в отчете А.С. Уварова фантасти-ческими, оказались реальными. Например, стало понятно, как устроен маленький саркофаг. (ср. рис. 2 и 12). На литографии к отчету А.С. Уварова он имел нетипичную орнаментацию, но вер-ность рисунка подтвердилась: как выяснилось, саркофаг сделан из двух надгробий, высокого с каннелюрами и плитчатого с узор-чатой крышкой (то и другое укладывается в конец XVI – первую половину XVII в., но более узкая датировка затруднительна).
Подтвердилось и то, что многочисленные кирпичные «скле-пы» принадлежат XVII в., причем они перекрыты как коробо-выми сводами, так и необычными «щипцовыми». Как известно, индивидуальные кирпичные «склепы» стали в России в черте городов обязательны только после указов Петра I. Для XVII в. их долго считали то исключениями, то плохо датированными объектами. Обилие индивидуальных «склепов» в усыпальнице
315
Ефимиевого монастыря строго доказало, что возникновение традиции их сооружения уходит вглубь XVII, если не в конец XVI в. Столь же невероятными выглядели описания «склепов», где стояли каменные саркофаги. Однако оказалось, что сарко-фаг № 2/2008 (№ 31851) был когда-то, действительно, помещен в кирпичный футляр со щипцовым сводом (уцелели остатки его стенок по краям саркофага), выходившим в уровень пола, где на его края опиралась нагробница (рис. 13).
Следует упомянуть, что сопровождающих погребения ве-щей нами не обнаружено кроме остатков тканей. В пяти захо-ронениях уцелела отделка мужских рубах в технике вышивки и плетения на окрашенной шелковой основе; фрагменты женской одежды; головные венчики (в «склепе» № 8/2008 – с шитым тек-стом Трисвятого и тремя круглыми клейма, в которых изображен Голгофский крест с орудиями страстей). Ряд деталей, несмотря на повторное вскрытие, по-прежнему нуждаются в прояснении, но о них скажу ниже.
Обратимся к материалам одного из самых важных направ-лений исследований 2008 г. – к физической антропологии. Осмотр, обмер и полевую аналитику проводила прямо на рас-копе постоянный антрополог отряда, аспирант Института этно-логии и антропологии А.В. Рассказова. При ее участии прово-дились все расчистки и выемки костных материалов, которые затем обмерялись и фотографировались с применением необхо-димого оборудования. Дополнительный анализ и методический контроль осуществляли член-корр. РАН А.П. Бужилова и доктор исторических наук М.Б. Медникова.
С раскрытым участком усыпальницы связываются останки 72 индивидов, что позволяет говорить о высокой насыщенности ими слоя (в среднем более одного погребения на квадратный метр) и неравномерном половозрастном составе погребенных (61% мужчин, 32% женщин и 7% детей). Непривычно малое ко-личество детей и резкое, примерно вдвое, преобладание мужчин следует считать характерным для кладбищ мужских монасты-рей (вне усыпальницы это соотношение еще разительнее: сре-ди 94 костяков нет ни одного детского, а преобладание мужчин выражено предельно: 84% против 16%, т.е. более чем в 5 раз!). Кладбища женских монастырей дают обратную пропорцию: так, в московском Зачатьевском монастыре при подсчете более чем 1 тыс. костяков женские соотнесены с мужскими как 2:1, в то время как доля детей оказалась весьма значительной, из чего можно сделать вывод о предпочтительном помещении умерших младенцев с матерями на кладбищах женских обителей. Таким образом, предпочтения по половому признаку в монастырей очевидны, хотя и не доходят до прямого запрета на смешанные кладбища. Однако в родовых усыпальницах эти соотношения существенно сглажены. Так, среди Романовых в Новоспасском мужском монастыре (Москва) мы видим почти равное соотноше-
316
ние мужчин и женщин (25 и 21) при сравнительно большом коли-честве детей (не менее 10%). Видимо, присутствие на кладбище семейных усыпальниц увеличило процент женщин и обеспечило присутствие детей. В усыпальнице Пожарских и Хованских оно очевидно благодаря четырем детским гробницам, помещенным попарно, и надгробным надписям четырех младенцев (возмож-но, количественное совпадение здесь не случайно).
Продолжая сравнение кладбища и усыпальницы, отметим почти полное совпадение возрастных характеристик. Средний возраст погребенных довольно поздний в обеих группах (без учета детей): в усыпальнице для мужчин – 41 год, для женщин – 35 лет; на кладбище для мужчин – 38 лет, для женщин – 40. Все же в усыпальнице оказалось довольно много людей старше 50 лет, на кладбище их несколько меньше. Только в усыпальни-це отмечены скелеты воинов – особо мощные, с выраженным «комплексом всадника» и большим количеством травм. Часты заболевания позвоночника, ударные травмы головы, тяжелые переломы со смещением. Среди других болезней – обычный при преобладании углеводной диеты кариес, а также остеомие-лит; отмечены случаи сифилиса и туберкулеза.
Разницу между погребениями в усыпальнице и вне ее по-казывают и черты монашеского делания: на кладбище в восьми случаях (до 10 %, т.е. довольно часто) встречены кирпичи-под-головники (ясный признак монаха19), чётки и железные вериги. Внутри усыпальницы ничего этого нет – видимо, большинство погребенных здесь не были пострижены. В то же время, эпи-графика и источники говорят по крайней мере о двух случаях погребения пострижениц (мать Пожарского Евфросиния/Ма-рия, во иноках Евдокия, в схиме Евникея (согласно надписи на ее плите) и старица Покровского монастыря Леонида, сестра Д.М. Пожарского и супруга Н.А. Хованского, см. ниже) и одного постриженника, Н.А. Хованского/схимника Нифонта (согласно надписи на крышке саркофага).
Как особое погребальное сооружение усыпальница Пожар-ских и Хованских довольно необычна (рис. 14 и 15). Прежде всего, интересно ее положение восточнее апсиды, не имеющее прямых аналогов в русском церковном строительстве, где не принято возводить никаких пристроек вплотную к алтарной части с востока. Описание усыпальницы заставляет думать, что она примыкала к более пространному сооружению (ризнице) к югу от палатки, в которой также имелись погребения. Видимо, это был род очень протяженной галереи (в описи указан размер: до 20 м длины при почти 7 м ширины) по южному фасаду галереи с выступом от алтаря на, примерно, 6.40 м, что сопоставимо с ши-риной открытой в 1851 г. усыпальницы.
Сведения об этой палатке-усыпальнице вызывали интерес у всех, кто занимался историей погребения князя Пожарского еще до раскопок А.С. Уварова. Уже с 1810-х годов А.Ф. Малинов-
317
ский20и другие историки знали из документов, что «оная полатка была против алтаря придельной церкви Преподобнаго Евфи-мия»; что «в ней погребались князья Хованские и Пожарские»; что «над нею вверху была полатка для хранения ризницы, кото-рая бывшим архимандритом Ефремом в 1765 и 1766 годах разо-брана, а фундамент оной и поныне виден…»; наконец, что «имев-шиеся на гробах князей Хованских и Пожарских белые камни с надписями им же архимандритом Ефремом употреблены на вы-стилку при церкви рундуков и на другие церковные починки»21. Опись 1660 г. прямо упоминала о взятии в собор «из полатки от родителей боярина князя Ивана Никитича Хованскаго, да князя Ивана Дмитриевича Пожарскаго» образов и гробовых покровов «…с родителей их …» На этом основании Погодин приписал со-оружение палатки именно этим двум князьям, допуская, что сам князь Дмитрий изначально был погребен на открытом кладбище, палатка же возникла после 1642 г.22 Это представляется крайне маловероятным, но окончательно решить вопрос могут только будущие архитектурно-археологические исследования южной части собора и прилегающей территории (см. ниже).
Создание усыпальницы Пожарских и Хованских нужно рас-сматривать как важное звено в развитии боярских и княжеских родовых погребальных комплексов XVI–XVII вв. Она, конечно, скромнее таких выдающихся некрополей, как Архангельский собор и собор Вознесенского монастыря в Московском Кремле, или кладбища близких к царской семье боярских родов в Ново-спасском и Высоко-Петровском монастырях. Но в них имеются не только различия, но и черты сходства.
Так, количество надписей на крышках каменных гробов в Москве дает примерно 8–10% от общего количества надгробных надписей за 100 лет (середина XVI – середина XVII в., подсчет по каталогу В.Б. Гиршберга). Поскольку большинство погребений в суздальской усыпальнице, видимо, имело надписи, то эти коли-чественные соотношения сопоставимы. В то же время, в Архан-гельском, Вознесенском и Новоспасском некрополях каменные гробы с надписными крышками составляют гораздо больший процент, чем в Суздале или в среднем по Москве– в Воскресен-ском женском монастыре, судя по коллекции саркофагов, после середины XVI в. все или почти все крышки надписывали; ту же картину для второй половины XVI – середины XVII в. дает Но-воспасский монастырь23. В Архангельском соборе не все гробы изучены, но все четыре саркофага в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи (Ивана Грозного, двух его сыновей и М. Ско-пина-Шуйского) надписи имеют.
Напротив, крышки саркофагов на других церковных клад-бищах обычно гладкие (в кремлевском Спасском монастыре и в Покровском соборе на Красной площади открыто по две таких саркофага; в церкви Троицы в Полях – три; в Богоявленском
318
монастыре за Торгом – не менее шести, и т.д.). Некоторые (ве-роятно, более ранние) саркофаги просто не рассчитаны на вре-занную надпись, так как их поверхность не плоская (саркофаг из Савватиевой пустыни под Тверью, открытый в 2009 г.).
Видимо, надписывать крышки саркофагов – обычай исклю-чительно высшей знати, великокняжеских, царских и родствен-ных им московских семей, к тому же сложившийся достаточно поздно (древнейшие надписи на на крышках саркофагов – граф-фити, которые предположительно связаны с перестройкой Ар-хангельского собора и восходят, таким образом, к первым годам XVI в.; первая известная декоративная надпись – в погребении Елены Глинской, 1538 г.). Проявление этой традиции в Суздале, возможно, нужно рассматривать как свидетельство придворных связей, а также как стремление подражать высшим кругам стра-ны в формах почитания и поминовения предков.
Следует обратить внимание и на конструкцию, в которую помещен предполагаемый саркофаг князя Д.М. Пожарского. Кирпичные обкладки, ограждающие погребение от «соседей» и служащие основанием для нагробниц, известны именно для XVII в., и пока только в Новоспасском монастыре в Москве. Но и там их, на несколько десятков погребений в саркофагах, всего три, и они принадлежат знатнейшим женщинам России, акку-ратно укладываясь в те же десятилетия XVII в., что и усыпаль-ница Пожарских: 1611 (Татьяна Федоровна Романова, княгиня Катырева-Ростовская), 1631 («великая старица» Марфа, мать Михаила Федоровича) и 1679 (царевна Ирина Михайловна Ро-манова)24. Это довольно сложные структуры, где белокаменные саркофаги заключены в кирпичные своды, на которых лежали типовые надгробные плиты. В XVI в. таких сооружений мы не видим даже в Кремле – саркофаги Грозного и его сыновей про-сто зарыты в землю, а сверху поставлены нагробницы.
Оформление погребений в усыпальницах Новоспасского и Евфимиева монастырей ставит вопрос о развитии в Москов-ском государстве XVI–XVII вв. нового типа погребальных ком-плексов, ориентированного на царский обряд и на центральное сооружение этого типа – Архангельский собор Московского Кремля. Изучение этого вопроса самостоятельная тема, но сде-ланные наблюдения позволяют достаточно отчетливо предста-вить общий вид интерьера усыпальницы в Суздале и возможную последовательность его заполнения погребениями.
Конечно, полученные материалы неизбежно фрагментарны. Все же стоит попыться сравнить сведения антропологии, архео-логии и письменных источников, чтобы хотя бы в общих чертах судить о составе погребенных. Опись 60-х годов XVII в.25 назвала число покровов, снятых с «гробов» в палатке: 22 или 21, что очень близко количеству кирпично-каменных памятников, открытых внутри усыпальницы в 1851 г. (23 саркофага и «склепа»; они же
319
показаны и на плане работа А.С. Уварова). В то же время, отчет 1851 г. говорит в целом о 48 погребениях, «из коих совершенно истлевших 25».
Опись 60-х годов XVIII в. называет среднюю цифру: «под тою палаткою и во оном приделке 38 гробниц над умершими камен-ных разных вкладчиков»26. Либо их количество возросло после описи 1660 г., либо, что также вероятно, кроме 21–23 сооруже-ний «под палаткою» были еще 15–17 памятников «в приделке», который не был вскрыт ни в 1851, ни в 2008 г. (о его устройстве пока остается только гадать).
С усыпальницей можно связать костные останки не менее чем 72 индивидов, определенных антропологически в 2008 г. Эта цифра включает останки из ям-оссуариев – эти ямы видны на литографированном виде раскопок А.С. Уварова и были исполь-зованы для захоронения разрозненных останков, собранных при работах, о чем упомянуто в отчете графа. Объяснить столь существенную разницу в числе погребенных можно тем, что на месте усыпальницы хоронили и до ее постройки, но без камен-но-кирпичных сооружений. Содержимое таких могил вторично откладывалось при постройке склепов, образовав между «скле-пами» слои перекопов с разрозненными останками, а отчасти попало в сами «склепы» и позже оказалось собранным в ямах-оссуариях 1851 г.
Трудно сказать, все ли погребенные входили в семью Хован-ских и Пожарских; примесь возможна, но явно незначительна. Хотя в 2008 г. изучены только 15 сооружений из 23, открытых А.С. Уваровым, точно установлено, что погребения сохраняли последовательность и что новый склеп никогда не ставили на место более раннего. Это значит, что погребения в «склепах» совершены на позднем этапе развития семейного участка, уже после постройки усыпальницы. Изначальное положение семей-ного участка Пожарских именно здесь, вблизи могилы святого (к югу и юго-востоку от него, но на участке открытого кладбища, в том числе за апсидой) может объяснить странность размеще-ния усыпальницы.
Такой участок у Пожарских, несомненно, имелся они давние прихожане Евфимиева монастыря. Их род восходит к местной домонгольской династии, их владения лежат в Суздальской зем-ле, а их вклады в монастырь прослеживаются уже с 1527 г. (хотя делались, наверное, и раньше). Князья Хованские в этих землях пришлые, их появление у Пожарских оправдано, видимо, тем, что еще в конце 80-х годов XVI в. старшая сестра Дмитрия По-жарского Дарья Михайловна вышла замуж за Никиту Андрееви-ча Хованского.
Сопоставим теперь гипотетически число костяков со спис-ками лиц, которые известны письменным источникам и могли быть погребены в палатке. Прежде всего это те, кто упомянут в
320
надписях надгробий, найденных вокруг собора и во вторичном использовании в кладках27. Их известно восемь (в том числе одно без имени), и на них названо 10 лиц, включая брата князя Ники-ты Андреевича Хованского, боярина Ивана Андреевича Хован-ского (†1622 г.), однополчанина князя Дмитрия Пожарского. Все они умерли между 1587 и 1668 гг., в течение 90–100 лет; среди них четыре имени Хованских и шесть имен Пожарских (самый поздний, Иван Дмитриевич Пожарский, предпоследний в роду, умер в 1668 г.)28.
Учтя надписи с нагробниц, данные о вкладах и иные докумен-ты29, можно представить поименный список лиц, погребение ко-торых в палатке возможно или доказано. Их опять оказывается всего около 20 человек, что не удивительно: ветвь рода Пожар-ских, идущая от Ивана Третьяка, коротка и малочисленна. В пяти поколениях она дала не более 12 мужчин, причем семь из них умерли без мужского потомства30. С учетом жен можно, видимо, говорить о 25–30 представителях Пожарских этой ветви, так что разница с числом антропологически определенных погребений разительная – в два-три раза, с описью же 1660-х годов совпа-дение достаточно близкое. Думаю, у нас есть возможность гово-рить о погребении в усыпальнице 20–30 членов рода Хованских и Пожарских, о которых сообщают письменные источники; о создании каменной усыпальницы в середине – второй половине XVII в.; о ее размещении на месте старого участка Пожарских на кладбище, которое и дает дополнительные костные останки. Следует помнить, что, хотя ветвь князя Дмитрия Михайловича короткая, список его рода – самый длинный в синодике Евфи-миева монастыря (опубликован в приложении к статье Н.М. По-година) и насчитывает более 200 имен, включая младенцев.
Когда была построена усыпальница, не до конца ясно. Вряд ли ее можно связать с датами первых надгробных плит Пожарских, имеющихся в монастыре. Даже признавая, что эти плиты стояли на памятниках внутри усыпальниц31, мы не считаем возможным относить саму постройку к эпохе Михаила Глухого Пожарского (в XVI в. строительство особых каменных усыпальниц при церк-вах могло навлечь обвинения в гордыне – достаточно вспомнить «филиппику» Грозного против строительства надгробной Вла-димирской церкви в Кирилло-Белозерском монастыре князьями Воротынскими). Положение рода Пожарских во второй полови-не XVI в. было отнюдь не таким, чтобы позволить строительство особо статусной родовой усыпальницы. Ее существование до на-чала Смуты кажется маловероятным и по археологическим ма-териалам: нагробниц, решительно относящихся именно к XVI в., во вскрытой нами части не обнаружено.
Дата усыпальницы напрямую зависит от даты собора, к кото-рому она пристроена. К сожалению, и эта дата сейчас колеблется между 50–60-ми годами XVI в. (А.Л. Баталов, на основе стилево-
321
го анализа) и 1592–1594 гг. (традиционная дата на основе пись-менных источников, содержащих анахронизмы)32. Косвенным свидетельством, что усыпальница уже существовала к 1612 г., является известный рассказ «Нового летописца»: когда Второе ополчение уже шло из Ярославля к Москве «...князь Дмитрий же Михайлович ... пошел в Суздаль помолитца... и у родительских гробов проститца»33.
Таким образом, вероятна пристройка к ризнице особой па-латки в период расцвета славы князя Дмитрия, во второй полови-не 1600-х–1610-х годов34, или на 10–15 лет позднее, но до 1633 г. Не исключено, что в этой палатке и новые, и прежние, сущест-вовавшие до нее, «родительские гробы» были переоформлены единообразно, подобно тому что мы видим в других усыпальни-цах России, прежде всего в Архангельском соборе, где моление «у гробов» вошло в состав основных ритуалов Московского цар-ства, по сути общегосударственных35.Остается сказать, что, за-вершив исследования, мы последовали примеру А.С. Уварова36 и перезахоронили собранные останки в специально сложенном из старого кирпича оссуарии в центре усыпальницы. Важнейшие узлы памятника и ряд склепов сохранены в неприкосновенно-сти для проверки выводов в будущем.
1 Формально рождение направления можно связать с дискуссией, проведен-ной в 2004 г. журналом «Российская археология». Она отразила вполне зрелый уровень конкретно-исторических исследований. См.: Археология позднего пе-риода истории // Российская археология. М., 2005. № 1. С. 81–99; Беляев Л.А. Археология Москвы и проблемы истории культуры позднего средневековья // Современные проблемы археологии России: мат. Всерос. археол. съезда (23–28. 10. 2006. Новосибирск). Новосибирск, 2006. Т. 1. С. 3–12. На II/XXI Всероссий-ском археологическом съезде 20–25.10.2008 г. в Суздале уже работала отдельная секция «Археология Московского государства и Российской империи».
2 С 06 по 25.09. 2008. В организации и руководстве работами принимал уча-стие Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник в лице гене-рального директора А.И. Аксеновой и археолога М.Е. Родиной. В производстве раскопок участвовал отряд НПЦ «Древности Севера». Работы велись на сред-ства Региональной общественной организацией «Русское афонское общество» по Открытым листам на имя Л.А. Беляева и И.В. Папина.
3 Уваров А.С. Работы по разысканию могилы Кн. Дм. Мих. Пожарского // А.С. Уваров. Сборник мелких трудов, т. III: Материалы для биографии и статьи по теоретическим вопросам. М., 1910; Родина М.Е. История изучения захороне-ния Д.М. Пожарского в Суздале // Археология Владимиро-Суздальской земли: мат. науч. семинара. М., 2008. Вып. 2. С. 200–204.
4 Беляев Л.А. Персональная идентификация погребений и археология // Труды II (XVII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. М., 2008. Т. II. С. 424–427. Частные случаи: Беляев Л.А., Бужилова А.В., Петров А.Е. Пат-риотический скелет в народном шкафу // Родина. 2007. № 8. С. 58–63; Петров А.Е. Останки Ивана Сусанина: к вопросу о методике фальсификации // Исто-рические записки. М., 2008. Вып. 11 (129). С. 443–458; Ивакин Г.Ю. Некрополь церкви Спаса на Берестове и в Киеве и «погребение Юрия Долгорукого» // Рос-сийская археология. 2008. № 2. С. 107–117 и др.
5 Это позволил сделать раскоп на соседнем участке, где закладывался фунда-мент под восстановленный памятник.
322
6 Материалы исследований готовятся к полной публикации, поэтому в дан-ной статье опущены многие детали археологического характера, прежде всего точные размеры сооружений и их детальные описания.
7 В статье используются номера 1851 и 2008 гг. с указанием на год через ко-сую черту.
8 Смирнов С.К. Об открытии места погребения князя Д.М. Пожарского. М., 1852.
9 Погодин М.П. Исследование о месте погребения князя Дмитрия Михайло-вича Пожарского // Москвитянин. 1859. № 19. Отд. III. С. 39–77.
10 Сахаров Л. Историческое описание Суздальского первоклассного Спасо-Евфимиевского монастыря. М., 1878 (3-е изд. 1905 г.).
11 Голышев И. Место земного упокоения и надгробный памятник… Дмитрию Михайловичу Пожарскому в городе Суздале. Владимир, 1885.
12 Уваров А.С. Работы по разысканию... С. 26 и след.13 Эскин Ю.М. Дмитрий Пожарский // Вопросы истории. 1976. № 8. С. 118.14 Беляев Л.А. О датах смерти Е.Ф. Пожарской и В.П. Пожарского: эпиграфи-
ческие заметки // Российская археология. 2009. № 1. С. 162–165.15 Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. М., 1987. С. 101.16 Курганова Н.М. Надгробные плиты из усыпальницы князей Пожарских
и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля // Памятники культуры. Новые открытия, 1993. М., 1994. С. 396–404; Она же. Страницы истории некро-поля города Суздаля. М., 2007.
17 Эскин Ю.М. Завещание князя Дмитрия Пожарского. Духовная грамота / Публ. Ю.М. Эскина // Отечественная история. М., 2000, № 1. С. 152. На отпева-ние и «на столы» монастырю были оставлены крупные вклады деньгами, конями и вещами, в числе коих была «шуба государева жалованная на соболях, золот-ная», известная по другим источникам и отчасти сохраненная до сего дня.
18 Повторное вскрытие саркофага может уточнить такие детали, как вопрос о хромоте покойного (известно прозвище князя Дмитрия – «Хромой»). Понадо-бится антропологическое обследование и осмотр «батожка», упомянутого Ува-ровым у правого бедра погребенного. Изучение стеклянной елейницы, назван-ной, но не нарисованной в отчете 1851 г., может сузить датировку погребения (хотя вряд ли существенно), и т.д.
19 См. об этом: Макаров Н.А. Каменные подушки в погребениях древнерус-ских некрополей // Советская археология. 1981. № 2. С. 113; Беляев Л.А. Камен-ные «подушки» монашеских погребений и их ветхозаветный прототип // Рос-сийская археология. 2005. № 4. С. 171–175; Беляев Л.А. De archeologia abrahamica // Archeologia abrahamica. Исследования в области археологии и художествен-ной традиции иудаизма, христианства и ислама. М., 2009. С. 17–18.
20 Малиновский А.Ф. Биографические сведения о князе Пожарском. М., 1817. С. 103. Раннюю историография: Погодин М.П. Исследование о месте по-гребения… С. 39.
21 Погодин М.П. Исследование о месте погребения… С. 42–43. 22 Там же. С. 41.23 Станюкович А.К. и др., Усыпальница рода Романовых в Московском Но-
воспасском монастыре. Кострома, 2005.24 Там же. С. 62.25 Описная книга Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря 1660 года //
Ежегодник Владимирского губернского статистического комитета. Владимир, 1878. С. 18, 38.
26 Благодарю архитектора М.Ю. Горячеву за разрешение воспользоваться ее выписками из этой описи.
27 Курганова Н.М. Надгробные плиты…; Она же. Страницы истории...; (ср.: Беляев Л.А. О датах ... С. 162–165). Описание плит, найденных в XIX в., см.: Саха-ров Л. Историческое описание... С. 26–30; Любомудров Н. Вновь открытые над-писи на надгробных камнях в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре // Владимирские Епархиальные ведомости, 1871, № 13. С. 298–304.
323
28 Поименно: Михаил Федорович Пожарский Глухой, отец Д.М. Пожар-ского (ум. 23.08.1587); Никита Дмитриевич Пожарский, сын Д.М. Пожарско-го (ум. 26.08.1608); Федор Дмитриевич Пожарский, сын Д.М. Пожарского (ум. 27.12.1633); схимница Евникея (Ефросиния–Мария–Евдокия Федоров-на, жена князя Михаила Федоровича, мать князя Д.М. Пожарского (ум. 7.04. 1640); Василий Петрович Пожарский, младенец, внук князя Д.М. Пожарско-го (?) (ум. 24.04.1640); Иван Дмитриевич, сын Д.М. Пожарского, окольничий (ум. 15.02.1668); Никита Андреевич Хованских , муж Дарьи Михайловны Пожар-ской (сестры Д.М. Пожарского), схимник Нифонт (ум. 26.05.1608); Петр Никитич, младенец, сын Н.А. Хованского (ум. 26.08.1608); боярин Иван Андреевич, брат Н.А. Хованского (ум. 26.05(?).1622); княгиня Анна, жена Ивана Никитича Хован-ского (ум. 7.12.1633). Аналогичным образом оформлена таблица с нагробницы неизвестного лица с датой: ум. 14 (?). 1635 г. (соблазнительно сопоставить ее со сведениями о смерти в 1635 г. первой жены князя Дмитрия Ивановича, Праско-вьи Варфоломеевны, но сообщаемая источником дата ее смерти, 28 августа: не совпадает с четко читающимся на плитке 12-м (ГI) днем неизвестного месяца.
29 Например, известно, что игуменье Покровского Суздальского девичь-его монастыря предписано было (согласно памяти царя Алексея Михайловича от 5.09.1646 г.) отпустить «тело старицы Леониды Хованской, тетки стольника князя Ивана Пожарского, для погребения в Спасо-Евфимиевом монастыре, где погребены их родители». См.: Описание актов собрания гр. А.С. Уварова. М., 1905, № 198. Старица Леонида – старшая сестра князя Дмитрия Пожарского Дарья Михайловна, жена Никиты Хованского.Таким образом, пострижение в другом монастыре считали допустимым обойти, чтобы положить тело покойной с ее родом.
30 Погодин М.П. Исследование о месте погребения … C. 72–73; Савелов Л.М. Князья Пожарские // Летопись историко-родословного общества. М., 1906. № 2/3.
31 Среди опубликованных таблиц с нагробниц по орнаментации и «почерку» явно выделяются две группы: в одну входят тексты с датами 1587, 1608 и 1633 (две), в другую – две таблицы 1640 г. Допустимо думать, что первая группа наре-зана при единовременном оформлении усыпальницы и имеет отношение скорее к самой поздней из дат, а не к самой ранней.
32 Наиболее полный обзор совр. точек зрения см.: Баталов А.Л., Маштафа-ров А.В. Евфимиев Суздальский в честь Преображения Господня мужской мона-стырь // Православная энциклопедия. М., 2008. С.361-374
33 Новый летописец // ПСРЛ. М., 1965. Т. XIV. С. 122–123.34 М.П. Погодин в своем «Исследовании о месте погребения…» (С. 41) пред-
ложил сверхпозднюю дату, между смертью Д.М. Пожарского (1642) и 1660 г., на основе того, что опись 1660 г. устойчиво связывает палатку с И.Н. Хованским и И.Д. Пожарским (например: «из палатки боярина князя Ивана Никитича Хо-ванского да князя Ивана Дмитриевича Пожарского, с родителей их…»). Однако конструкция погребения № 2/2008 (№ 3/1851) ни при каких обстоятельствах не могла помещаться на открытом кладбище. Вероятно, постоянные отсылки к И.Н. Хованскому и И.Д. Пожарскому даются описью просто потому, что эти два лица представляют остающихся в живых наследников усыпальницы.
35 См. подробнее: Баталов А.Л., Беляев Л.А. Сакральное пространство сред-невековой Москвы. М., 2010. Гл. 5 (в печати).
36 Отметим бережный подход А.С. Уварова к остаткам памятника: на по-верхность крышки саркофага № 3/1851 им были положены два кирпича, видимо, чтобы прикрыть стык двух ее частей (практически все крышки антропоморфных саркофагов делали из двух половин, поскольку из хрупкого известняка трудно тесать тонкие плиты большой площади) – и мы не стали поднимать эти кирпи-чи. Крышки саркофагов Н.А. Хованского и Ф.Д. Пожарского оказались растрес-кавшимися, их требовалось укрепить специальными составами, что и сделали владимирские реставраторы. Наконец, следуя примеру комиссии 1852 г., Влади-мирская епархия во главе со своим архиепископом, высокопреосвященным Евло-гием, провела заупокойную службу над останками перед засыпкой усыпальницы.