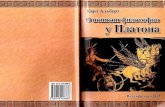Система философии Гегеля как предмет...
Transcript of Система философии Гегеля как предмет...
Коротких В.И.
Система философии Гегеля как предмет
историко-философского рассмотрения
(Вестник Московского университета. Серия 7. Философия.
2002, №6. - С. 3-19)
Идея системы философии в творчестве Гегеля и основные
подходы к еѐ изучению в историко-философской литературе.
Первое крупное и вполне самостоятельное произведение Гегеля –
«Феноменология духа» - было издано в 1807 году как «первая часть»
«Системы науки». В предисловии к «Феноменологии», которое было
написано после окончания работы над основным текстом и поэтому может
рассматриваться в качестве выражения автором своего общего отношения
к тому, что сделано, Гегель даѐт следующую оценку значения формы
системности в философии: «Истинной формой, в которой существует
истина, может быть лишь научная система еѐ» [1]. Лапидарность этого
тезиса подчеркивает как ясность, достигнутую сознанием философа
относительно формы изложения философии, так и значимость для
философии этой еѐ истинной – систематической – формы.
Если принимать во внимание лишь титульные листы последующих
изданий произведений Гегеля, то можно решить, что «вторая часть»
«Системы науки» так и не появилась [2]. Каждая новая публикация
вносила коррективы в первоначальное представление о системе
философии, первую часть которой должна была составить
«Феноменология». По замечанию А.Д. Власова, Гегель «скользил, падал и,
встав, двигался уже в ином направлении» [3].
Однако, несмотря на то, что и в «Логике», и в «Энциклопедии»
Гегель, как может показаться, начинает всѐ построение системы
философии с самого начала, все последующие еѐ элементы сохраняют всѐ
же связь с «Феноменологией». Конечно, установить и точно
охарактеризовать эту связь «Феноменологии» с «Логикой» и
«Энциклопедией» очень трудно; наше дальнейшее изложение покажет, что
и сам Гегель немало сделал для того, чтобы запутать своих читателей. И
все же в этой двухвековой путанице необходимо разобраться, поскольку от
самой идеи системы Гегель никогда не отказывался, и, следовательно,
пониманию любого фрагмента гегелевской философии должно
предшествовать определенное понимание того «общего поля», контекста, в
котором он формируется и выступает, - понимание системы философии
как целого.
Итак, ясно, что философ, не мысливший философию иначе, чем в
качестве системы, не может быть и понят вне определенного истолкования
строения его системы философии. А между тем именно в этом отношении
литература о философии Гегеля – огромная и, безусловно, разнообразная, -
даѐт очень немного. В самом деле, в работах прошлых десятилетий – как
отечественных, так и зарубежных авторов – безоговорочно
воспроизводилось представление «позднего» Гегеля, закреплѐнное
благодаря деятельности его учеников и последователей, - представление о
тождестве «системы философии» и «Энциклопедии философских наук». И
сегодня это положение повторяется в историко-философской литературе
как само собой разумеющееся, даже если при этом и признается, что
«внутренняя структура системы Гегеля – центральная для объективного
идеализма взаимосвязь Логики и реальной философии – до сегодняшнего
дня остаѐтся малоисследованной» [4]. В соответствии с таким пониманием
эволюции системной мысли философа утверждается, что в период между
созданием «Феноменологии духа» и «Науки логики» имел место некий
«разрыв», означавший переход к принципиально иному способу
организации содержания системы философии, окончательно
закреплѐнному в «Энциклопедии», по отношению к которой
«Феноменология» сохраняет, якобы, лишь роль исторического введения,
или первого несовершенного наброска системы [5].
Впрочем, в большей части современной гегелеведческой
литературы система философии Гегеля в синхроническом аспекте вообще
не рассматривается; рассматриваются лишь отдельные этапы становления
системы (приходится сказать – некоторого неизвестного Х), эволюция
взглядов философа относительно возможности построения системы
философии, «варианты» системы, которые берутся чаще всего как
независимые друг от друга. Для оправдания этого отказа от мышления
системы философии Гегеля как действительного целого в гегелеведении
был сформулирован тезис об «эволюционно-историческом» методе как
якобы единственно научном методе изучения гегелевского наследия.
Однако, разве «историчность» гегелевской мысли исключает
необходимость реконструкции «системы» как принципа, вне которого
история гегелевских поисков образа системы философии просто не может
быть увидена как нечто целостное, - не может быть осмыслена? Да,
взгляды Гегеля по вопросу о строении системы философии менялись. Но
если бы при этом объективно – в том числе и независимо от этой эволюции
взглядов автора – не сохранялся определенный инвариант «системы»,
который связывает все периоды, этапы эволюции взглядов философа, то
какой смысл имело бы вообще сохранение представления о философии
Гегеля как чѐм-то едином?
На мой взгляд, к открытию такого инварианта, принципа строения
системы философии, должен стремиться всякий исследователь философии
Гегеля – в том числе и те авторы, которые, не формулируя эту задачу
непосредственно, изучают лишь какую-либо «частную» проблему (можно
ли найти у Гегеля что-либо «частное»?). Более того, поиски образа
системы философии Гегеля – последнего философа классической традиции
и уже хотя бы только поэтому также и «философа по преимуществу» - не
могут оказаться безразличными ни для кого, кто занят изучением западной
философии, считая еѐ сущностным выражением всей европейской
культуры. Поэтому при написании этой статьи для меня было важно
сохранить стиль изложения, который ориентируется не только на «узких
специалистов», но и на всех тех, кто и сегодня, после многократно
повторенного «пост» в формальной метке «постклассическая философия»
стремится понять целое европейской философской мысли, этой одной из
самых величественных интеллектуальных традиций человечества.
«Феноменология» и «система».
Первая и важнейшая проблема, которую мы должны решить,
исследуя вопрос о границах и структуре системы философии Гегеля, - это
проблема соотношения «Феноменологии духа» и последующих
гегелевских текстов, в которых, признаем, в конце концов, была
реализована существенно иная программа построения системы, чем та, что
предполагалась «Феноменологией». Следуя примеру самого Гегеля [6],
разделим рассмотрение этой проблемы на две части: сначала рассмотрим
«внешние» отношения «Феноменологии» к более поздним произведениям,
а затем – их «внутренние» отношения. Под «внешними» отношениями мы
будем понимать представления Гегеля о структуре его системы
философии, его намерения, планы относительно построения системы, а
под «внутренними» - действительные отношения, выявившиеся, или
сформировавшиеся, в процессе разработки, реализации системы
философии. Последние, возможно, окажутся отличными от мнений,
которых Гегель – как первый читатель своих произведений – о них
придерживался.
Отметим, прежде всего, что в предисловии к «Науке логики»,
написанном в марте 1812 года, Гегель говорит, что за «Феноменологией»
как первой частью «Системы науки» должна была последовать (согласно
плану 1806 года) вторая часть, содержащая и Логику, и обе дисциплины
реальной философии [7]. Это намерение Гегеля следует понимать таким
образом, что после «Феноменологии», которая описывает соотношение
формообразований сознания и порождаемых ими структур предметности,
должно быть дано и описание самих этих предметных сфер, взятых вне
соотношения с порождающим их трансцендентальным сознанием [8].
В 1812 году Гегель ещѐ не отделяет свою современную точку зрения
от позиции «Феноменологии», об этом говорит всѐ предисловие к «Науке
логики», - достаточно обратить внимание, например, на то, что Гегель
повторяет здесь высказанное в предисловии к «Феноменологии духа»
положение, согласно которому философия не может заимствовать свой
метод у математики, даѐт характеристику духа как истины разума, что,
несомненно, напоминает о соответствующем сюжете «Феноменологии», и
т.д. Уже этого достаточно для того, чтобы усомниться в истинности
положения о «разрыве» в системном мышлении философа между 1807 и
1812 годами. Напротив, совершенно ясно, что между «Феноменологией» и
«Логикой» никакой принципиальной границы нет. Более того, в «Логике»
Гегель прямо говорит о том, что «Феноменология» готовит для Логики
особую предметность, поскольку сознание в «Феноменологии» становится
«чистым знанием, дающим себе в качестве предмета ... чистые сущности,
как они суть сами по себе» [9], а самодвижение этих чистых сущностей (то
есть просто категорий), пишет Гегель, «представляет собою то, что
конституирует науку (Логику, - В.К.) и изображением чего она является»
[10].
В 1812 году (или, точнее, начиная с этого года) «Логика» выходит
отдельно от реальной философии (что было бы точным исполнением
прежнего замысла), как кажется Гегелю, просто потому, что в ней
накоплено огромное содержание; от него нужно «освободиться», сдав его в
печать. Гегель называет «Логику» «первым продолжением» [11]
«Феноменологии», «скорректированный» план называет «расширенным»
[12], обещает разработать позднее обе реальные философские науки [13].
Но внимательный читатель, конечно же, не может не видеть и того,
что такое колоссальное расширение и детализация логической
составляющей, пусть и являющейся, по существу, реализацией
спекулятивного замысла «Феноменологии», не может не означать и
определенного изменения позиции философа. Сознание человека (и
«гений» - не исключение) не безгранично, и выдвижение на первый план
одного из элементов создаваемой системы философии неминуемо должно
было привести к забвению других, прежде разработанных еѐ элементов. В
данном случае сознание философа оказалось захваченным страстью к
описанию самодвижения логической идеи как высшего уровня
порождаемой «Феноменологией» предметности, тогда как сам
развернутый в ней процесс порождения предметности (само
«путешествие за открытиями»), в котором, между прочим, была
намечена связь этого высшего уровня предметности – логической, или
спекулятивной, предметности, важнейшего из «открытий», - с другими еѐ
уровнями, оказалось отодвинутой на второй план, «забытой».
И действительно, когда появляется «Энциклопедия», излагающая и
Логику, и реальную философию, то Гегель уже не вспоминает о том, что
тем самым оказался реализованным план создания второй части «Системы
науки», - «Феноменология» оказывается к этому времени (1817 г) забытой
настолько, что «вторая часть» прежнего проекта системы, описывающая
различные уровни предметности не в их порождении сознанием, а как уже
готовые, лишь найденные им, сама претендует теперь на то, чтобы
выступить в качестве самодостаточной системы. В самом деле,
«Энциклопедия» рассматривается Гегелем не в качестве продолжения, а в
качестве альтернативы «Феноменологии», - пусть он и не говорит при этом
последнего слова, которое внесло бы окончательную ясность в позицию
автора относительно соотношения его трудов.
На мой взгляд, эту эволюцию отношения Гегеля к «Феноменологии
духа» следует рассматривать как деградацию проекта создания системы
философии. Решающим аргументом, который заставляет нас принять этот
непростой для исследователя гегелевской философии вывод, является то,
что без Феноменологии Логика и реальная философия (нужно же было
составить из них целое!) вынуждены были объединиться в
«Энциклопедии» немыслимым «переходом», очевидно и безоговорочно
демонстрирующим невозможность всей конструкции вне того основания,
которое было заложено «Феноменологией духа».
По-видимому, этому странному забвению «Феноменологии» самим
еѐ автором способствует то, что Гегель не читает лекционного курса по
Феноменологии (она чисто технически, по степени своей сложности не
может стать предметом университетского, тем более гимназического,
образования), - а ведь гегелевская система формировалась в контексте
педагогического опыта еѐ автора [14]. Не приходится сомневаться и в том,
что с «Феноменологией» были плохо знакомы те, кто окружал Гегеля в
Нюрнберге, Гейдельберге, Берлине (по-видимому, исключение в какой-то
мере составляют Дауб, Габлер, Хинрихс). При жизни Гегеля
«Феноменология» так и не была переиздана, в то время как
«Энциклопедия» переиздавалась дважды, а лекции Гегеля, несмотря на
его признаваемое всеми косноязычие, собирали аудиторию, которой мог
бы позавидовать и современный лектор; думая о судьбе «Феноменологии
духа» при жизни еѐ творца нельзя не задать и самый простой вопрос:
сколько экземпляров книги сохранилось к 1831 году? И могла ли в этой
ситуации «Феноменология» противостоять тому «морю слов», к которым
оказался волею судьбы причастен берлинский философ? А когда вопрос о
переиздании первого труда философа, находящегося уже в зените своей
славы, всѐ же возник, оказалось, что труд этот за четверть века, что прошла
с момента его создания, стал чуждым и для самого его автора, - в
известном документе 1831 года Гегель оценивает «Феноменологию» как
«своеобразную раннюю работу» [15]. Отказываясь от переработки книги и
не торопясь с еѐ новой редакцией, Гегель, по существу, признает, что еѐ
настоящего автора – «йенского Гегеля» - уже давно нет.
Подводя итог этим размышлениям об утрате «Феноменологии
духа», сделавшей невозможным осмысление соотношения, имеющего
место между «Феноменологией» и «системой», приведем интересные
оценки А.Д. Власова, необычные для нашей гегелеведческой литературы.
С моей стороны эти цитаты можно было бы назвать сочувственными, - они
в целом соответствуют тому впечатлению, которое остается и у меня от
знакомства с эволюцией гегелевских взглядов относительно построения
системы философии, за исключением, может быть, тезиса о «путанице
понятия с идеей», который представляется мне не вполне ясным. В
предисловии ко второму тому «Словаря по философии Гегеля» А.Д.
Власов пишет: «То, что с таким подъемом и воодушевлением Гегель
создавал в первую половину своей жизни («Феноменология духа» и
«Наука логики»), во второй период своей жизни он столь же энергично
разрушал («Энциклопедия философских наук»)» [16]. «Сразу после
завершения этой первой «системы» философии (Феноменологии - Логики,
- В.К.) начался процесс еѐ перепланировки и перестройки, на наш взгляд,
плохо продуманный и обоснованный. Уже на последней странице своей
«Логики» Гегель предложил определение природы как
«непосредственного бытия» идеи» [17]. «Этот намеченный на последней
странице «Логики» неожиданный поворот не вѐл никуда, или вел в бездну
путаницы и неразберихи. Но именно этим путем пошел Гегель при
создании своей «Энциклопедии философских наук»» [18]. «Последствия
этой перепланировки системы философии ... были плачевны» [19].
«Принципы расположения материала (использованные в «Энциклопедии»,
- В.К.) совершенно не соответствовали ни глубочайшим идеям
«Феноменологии духа», ни «Науки логики». Был применен совершенно
иной принцип построения системы, по нашему мнению, неудачный и
основанный на неоправданном отождествлении или простой путанице
понятия с идеей» [20]. «Безнадежная путаница» [21] – таков итог не
отрефлектированного с должной ясностью самим философом
постепенного перехода от проекта «Системы науки» к проекту
«Энциклопедии».
«Феноменология духа» как основание системы философии:
трансцендентальное истолкование бытия и его структура.
Наше рассмотрение отношений между «Феноменологией» и
«системой», взятых лишь с внешней стороны, убеждает в том, что Гегель,
внося изменения в проект «Системы науки», не в полной мере отдавал себе
отчѐт в том, насколько глубоко были в нем связаны Феноменология,
Логика и реальная философия. Выше мы упоминали о том, что Логика и
реальная философия, не составляющие последовательности и единства в
границах «Энциклопедии», в проекте «Системы науки», то есть в качестве
продолжения «Феноменологии», подобным единством как раз обладают: и
Логика, и реальная философия описывают различные уровни
конституируемой в «Феноменологии» предметности, тогда как
«Феноменология» являет собой движение самого порождающего
предметность трансцендентального сознания.
Как видим, «Феноменология» по своему положению в системе и
задачам, которые она в ней выполняет, принципиально отличается от
элементов, объединенных позднее в «Энциклопедию». Уже из этого ясно,
насколько бесперспективной должна была оказаться та модель построения
системы, в которой не найдется места Феноменологии как еѐ
самостоятельной основополагающей части. В самом деле, в
«Феноменологии» речь идѐт о движении соотношения «сознание-
предмет», в ходе которого порождается всѐ предметное содержание
системы философии; следовательно, только в «Феноменологии» могут
задаваться отношения между различными типами предметности, но в
таком случае должно быть ясно и то, что вне «Феноменологии» не могут
быть поняты и отношения между философскими науками, которые эту
предметность описывают, отношения между Логикой и реальной
философией в энциклопедической системе. В «Феноменологии» Гегель
выявляет, описывает и «каталогизирует» структуры всех возможных типов
предметности, но тем самым – и задает границы философских дисциплин,
которые могут возникнуть как описания движения этих уровней
предметности. Логика и реальная философия оказались объединенными
«переходом» в результате забвения «Феноменологии», определявшей
действительные отношения между ними; возникновение подобной
псевдопроблемы [22] в системе, открывающейся Феноменологией, было
бы просто невозможно.
Но что же конкретно меняется в нашем понимании Логики,
реальной философии и, самое главное, в понимании соотношения между
этими частями «Энциклопедии», если они мыслятся в единстве с
«Феноменологией духа», если они мыслятся в качестве продолжения того
философско-систематического сюжета, начало которому положила
«Феноменология»? Наше подробное исследование этой проблемы [23]
выявляет два основных направления переосмысления Логики и реальной
философии, возвращающих их к «Феноменологии» как своему основанию
и истоку.
Во-первых, забвение «Феноменологии» скрыло
трансцендентальную природу той предметности, которая описывается
энциклопедическими дисциплинами, и для понимания Гегеля нам сегодня
следует, прежде всего, сформировать в себе способность видеть в его
текстах не описание определенности «существований», а описание
сконструированных самим сознанием образов предметности, в конечном
счете – описание порождаемых трансцендентальным сознанием структур
логического, реально-философского и других, более простых, уровней
предметности. Во-вторых, - и в продолжение первого тезиса, - Логика и
реальная философия, рассматриваемые в контексте Феноменологии,
оказываются соотнесенными друг с другом также лишь в соответствии со
структурной определенностью подлежащих им предметов, что, повторим,
освобождает их отношения от возникновения искусственной проблемы
«перехода». Анализ «Феноменологии» позволяет раскрыть определѐнность
этих структур и, следовательно, также – и действительный характер их
взаимоотношений.
Теперь мы должны последовательно рассмотреть оба указанных
момента, но прежде представляется уместным задуматься над вопросом,
почему восприятие Логики и реальной философии как своеобразного
«продолжения» «Феноменологии» должно непременно открывать
читателю трансцендентальную природу описываемой философом в
«Логике» и «Энциклопедии» предметности. Согласимся, что такой вывод
не является очевидным в контексте традиционного прочтения Гегеля.
По-видимому, давняя привычка читателей отрывать
«Феноменологию» от «системы», рассматривая еѐ как «раннее»,
«отдельное» и т.п. произведение, исказила не только образ системы
философии Гегеля, - а в стремлении обосновать этот тезис, по существу, и
заключается главный пафос нашего повествования, - но и образ самой
«Феноменологии духа». В самом деле, если «система» может быть понята
лишь с учетом «Феноменологии», то на каком основании мы могли бы
надеяться понять «Феноменологию» вне «системы»? Может быть,
напротив, отрыв «Феноменологии» от «системы» создал наибольшие
препятствия как раз для понимания «Феноменологии», ведь вследствие
этого отрыва было утрачено представление о еѐ предмете, задачах и
функциях в создаваемой системе философии.
И всѐ же, если сегодня попытаться снова увидеть в
«Феноменологии» «первую часть» «Системы науки», то она должна
предстать как движение трансцендентального сознания, в котором – и это
самое важное с токи зрения роли «Феноменологии» в «системе»! –
полагаются, конституируются, «порождаются» различным образом
структурированные, то есть структурированные в соответствии с
различными схемами деятельности сознания, уровни, типы, образы
предметности. Реальная философия и Логика предстают в этом случае в
качестве описаний двух самых сложных по своей структуре –
предпоследнего и последнего в феноменологической «лестнице» -
уровней.
Во время работы над «Феноменологией духа» Гегель ясно
осознавал трансцендентальную природу своей философии, хотя и не
склонен был использовать термин «трансцендентальная философия» для
обозначения собственной философской позиции – по обстоятельствам,
которые для нас давно утратили свою актуальность. Если не обращаться к
анализу основного текста «Феноменологии» (формат статьи для решения
этой задачи просто непригоден), то для подтверждения этого положения
можно было бы сослаться на последние страницы «Введения» [24].
Характеризуя здесь в общем виде понятие феноменологического
опыта, Гегель показывает, что в-себе-бытие (истина, предмет),
предстоящее «ihm», «самому сознанию», то есть сознанию, являющемуся
предметом феноменологического рассмотрения, и бытие для (für)
сознания, то есть знание, образ предмета в сознании, различаются в нѐм
лишь как моменты его собственного движения, и существуют они также
лишь в границах опыта: «понятие и предмет, бытие для иного (сознания, -
В.К.) и бытие в себе самом (мнимо независимый от сознания предмет, -
В.К.), входят в само исследуемое нами знание (то есть в сознание,
являющееся предметом нашего рассмотрения, - В.К.)» [25].
«Бытийный статус» моментов опыта устанавливается сознанием, и
вне опыта сознания никакого значения не имеет. Отсюда – странный вне
трансцендентальной установки тезис о возникновении в опыте нового
предмета в результате «обращения» («Umkehrung») сознания [26]; Гегель
поясняет даже, почему «возникновение нового предмета» «совершается
для нас (сознания феноменолога, - В.К.) как бы за спиной сознания
(сознания, являющегося предметом рассмотрения феноменолога, - В.К.)»
[27]: только так вообще и оказывается возможным феноменологический
опыт – «благодаря этому в движение сознания входит момент в-себе-
бытия, не проявляющийся для сознания, которое охвачено самим опытом»
[28].
Внимательного прочтения этих страниц Введения вполне
достаточно для понимания того, что в основной части текста
«Феноменологии» мы должны стремиться увидеть, прежде всего,
завершающийся «абсолютным знанием» процесс усложнения структур
порождаемой сознанием предметности (тогда как Логика и реальная
философия окажутся описанием еѐ собственного движения). Но почему
же, однако, это простое, прямо сформулированное самим автором,
трансцендентальное истолкование феноменологического опыта и всей
вырастающей из него философии остается скрытым от многих поколений
читателей Гегеля? - Да в том-то ведь и всѐ дело, что сегодня увидеть в
качестве основной темы «Феноменологии» движение трансцендентального
сознания отнюдь не так просто, как это может показаться после
«наивного» - не оглядывающегося на традицию и огромную
гегелеведческую литературу – прочтения нескольких страниц гегелевского
текста. Более полутора веков «Феноменология духа» читалась как книга, в
которой, якобы, «зашифрован» некий исторический опыт, например,
история философии и науки, моральные и религиозные взгляды и т.п.,
одним словом, нечто «реальное». Рассматриваемая с этой точки зрения,
«Феноменология» хотя и шокировала издавна читателей странным
смешением «истории», «психологии», «логики» (вспомним Рудольфа
Гайма), но, с другой стороны, не торопилась раскрыть и свою
действительную природу.
Не станем спорить, к сожалению, Гегель оставил в тексте книги
очень много таких «следов» - исторических образов, скрытых и явных
цитат, характеристик, вызывающих вполне определенные ассоциации с
реальностью, - двигаясь по которым можно ещѐ очень и очень долго
подвергать «Феноменологию» всѐ новым и новым «реалистическим»
интерпретациям (марксизм и экзистенциализм преуспели в этом больше
всех), но после десятилетий безуспешных попыток разгадать секрет первой
гегелевской книги на этом пути, думается, стало очевидным уже и то, что
всякое «реалистическое» еѐ прочтение полностью разрушает замысел
«Феноменологии» и лишает еѐ того места в системе философии Гегеля,
занимать которое она была предназначена проектом «Системы науки». А
если бы, представим, Гегель до конца выдержал свой принцип, согласно
которому действительное познание, реализующееся в самом изложении,
движении философского сюжета, следует оставлять свободным от
«заверений», предпосылаемых обычно авторами своим книгам, и не
зафиксировал бы тех признаний, которые, кажется, делают просто
излишним дальнейшее обоснование тезиса о принадлежности Гегеля к
традиции трансцендентальной философии, разве смогло бы это
воспрепятствовать открытию за движением исторических и литературных
образов «Феноменологии», событиями и идеями, которые в ней прямо или
косвенно упоминаются, и т.д., движения простых трансцендентальных
структур, лишѐнных какого бы то ни было отношения к «реальности»,
никак не связанных с «существованием»? Вовсе нет! Непредвзятое
прочтение «Феноменологии духа» - и в особенности, может быть,
«быстрое», не останавливающееся первоначально на деталях, прочтение –
убеждает в том, что все реально-исторические обстоятельства,
рассыпанные по тексту книги, лишь иллюстрируют движение этой единой
феноменологической структуры. Между прочим, только этим
обстоятельством может быть объяснено и то, что движение одной и той же
с логической точки зрения структуры воспроизводится в
«Феноменологии» несколько раз, что феноменологическое движение
проходит несколько «кругов».
Наше подробное исследование этой проблемы выявило три
основных «круга» «Феноменологии духа», соответствующих трѐм
элементам предмета Феноменологии – сознанию феноменолога («нашему
сознанию»), сознанию, являющемуся предметом рассмотрения («самому
сознанию»), и его предмету, а в каждом из них – поскольку «сознание есть,
с одной стороны, осознание предмета, а с другой стороны, осознание
самого себя: сознание того, что для него есть истинное (предмет, - В.К.), и
сознание своего знания об этом» [29], – ещѐ и различие «большого»
(«предметного») и «малого» (соответствующего самосознанию) «кругов»
[30]. Не может быть никакого сомнения в том, что, повторим,
действительный интерес автора лежит не на стороне «реально-
исторических обстоятельств», то здесь, то там обнаруживающихся в
тексте, а на стороне этой единой и повторяющейся в разных
феноменологических контекстах структуры.
Но что это за структура? Когда в конце III главы (это место
соответствует завершению «Первого большого круга») она выступает
впервые, Гегель называет еѐ «бесконечностью». И хотя в последующем
движении «Феноменологии» этот термин и не повторяется систематически
в соответствующих, «логически одновременных», пунктах «кругов», это
обстоятельство не может скрыть того, что в них воспроизводится, по
существу, тот же самый с логической точки зрения результат. Думается,
мы вправе, не игнорируя феноменологическое своеобразие каждого
«круга», пользоваться именно понятием бесконечности как обозначением
единого логического результата, знаменующего достижение высшего
этапа феноменологического движения. Конституирование
«бесконечности» в качестве особой области трансцендентальной
предметности как раз и даѐт начало спекулятивной Логике, делает
необходимым возникновение этой науки в системе философии.
Обратим внимание на то, что возникновение и реализация
феноменологического замысла (1805-1806 годы) совпадает по времени с
изменением понимания Гегелем предмета и задач логики в системе
философии. Если в более ранних системных набросках йенского периода
логика мыслилась как выражение движения конечной рефлексии и
вследствие этого выступала в качестве введения к метафизике, ведению
которой, собственно, и подлежала сфера бесконечного, то с этого времени
логика сливается с метафизикой, сама выступает в роли метафизики.
Отныне логика мыслится Гегелем именно как спекулятивная Логика, как
систематическое раскрытие и осмысление «бесконечности». А
освободившееся в результате освоения Логикой «бесконечности» и
перехода еѐ в статус метафизики место введения в систему занимает
Феноменология. Отличие Феноменологии от Логики с этой точки зрения
определяется тем, что в Феноменологии «бесконечность» является целью
движения в каждом из «кругов» и достигается в качестве результата всего
движения (поэтому Феноменология, как прежде и логика конечной
рефлексии – введение в «науку», метафизику), тогда как в Логике
движение начинается с «бесконечности», в границах установленной ею
предметности; «бесконечность» - структура самодвижущейся логической
предметности, и весь путь Логики оказывается процессом самоуглубления
этого понятия. Итак, в «Науке логики» «бесконечность» является
исходным пунктом эволюции форм спекулятивной предметности
(вспомним хотя бы о «подвижности» первой категории), а вся Логика в
целом может быть представлена как результат систематической рефлексии
относительно этого сконструированного в «Феноменологии» понятия.
Анализ III главы «Феноменологии», в свою очередь, открывает, что
реальной философии соответствует предметность, конституируемая в ходе
феноменологического движения до выступления «бесконечности»
(равнозначные в логическом отношении фрагменты мы находим и во
«Втором большом круге», в начале V главы). Поэтому реальную
философию следует понимать как дисциплину, описывающую
предметность, порождаемую в том шаге феноменологического движения,
который непосредственно предшествует выступлению «бесконечности».
Логика «Системы науки», стало быть, избавляла своего создателя и
его читателей от необходимости так страшно ломать голову (не могу не
вспомнить эту чудесную шутку Маркса) над «переходом» логической идеи
в природу, поскольку предусматривала другой, и уже вполне мыслимый,
переход – переход от феноменологических формообразований,
конституирующих предметность реальной философии, к
формообразованиям, конституирующим предметность Логики. В границах
самой Логики, как мы знаем, этому переходу соответствует переход от
«дурной бесконечности» к «истинной бесконечности» в каждой из трѐх
частей «Учения о бытии», а также аналогичные фазы эволюции
«рефлексии» и «развития» (соответствующих «становлению», «переходу в
иное» вообще «Бытия») в «Сущности» и «Понятии».
Как мы видим, «Энциклопедия» вовсе не является самодостаточной
системой философии. В действительности она представляет собой лишь
«вторую часть» проекта «Системы науки», оторванную от
«Феноменологии» как «первой части» и насильственно ей
противопоставленную. Без «Феноменологии» как своего источника и
основания она не является чем-то единым, в ней лишь суммируются
механически два вида дискурса, соотносящихся с двумя различными
типами (уровнями) предметности, причѐм, поскольку конституируются эти
уровни предметности в ходе самого феноменологического движения, то
вне Феноменологии они могут быть связаны лишь не поддающимся
человеческому осмыслению «переходом». Однако, если мыслить реальную
философию и Логику в единстве с Феноменологией, как описание
движения двух высших предметных уровней, конституированных
трансцендентальным сознанием Феноменологии, то и видимость
противоречия между Логикой и реальной философией исчезает. И для
того, чтобы увидеть это, достаточно просто прочесть «Логику» и
«Энциклопедию» не как альтернативу, а как естественное продолжение
«Феноменологии». Признаем, впрочем, что это оказалось не просто и для
самого автора этих трудов.
«Бесконечность», «абсолютный идеализм» и структура
системы философии Гегеля.
Исследуя связь «Феноменологии духа» и последующих трудов
Гегеля, мы пришли к понятию бесконечности. «Феноменология»
описывает движение трансцендентального сознания, которое порождает
различным образом структурированные образы предметности; два
последних уровня в этом ряду, предметность реальной философии и
Логики (логическая идея), рассматриваемые в «Энциклопедии»,
различаются Гегелем, как показывает III глава «Феноменологии», прежде
всего по отношению к понятию бесконечности; «бесконечность», или
«истинная бесконечность» «Логики», - это структура логической
предметности, а предмет реальной философии полагается в ходе
феноменологического движения непосредственно перед завершением
эволюции форм «Рассудка», оставаясь, по существу, ещѐ в сфере «дурной
бесконечности».
Мышление по модели «бесконечности» и является, по Гегелю,
собственно философским, или спекулятивным, мышлением; «абсолютный
идеализм» - понятие, посредством которого Гегель склонен был
обозначать свою философскую позицию, - характеризуются им как
способность к такому мышлению. Но поскольку помыслить
«бесконечность» означает помыслить противоречие [31], то абсолютный
идеализм раскрывается как спекулятивная диалектика: «бесконечность»
выступает как «абсолютный непокой чистого самодвижения,
заключающегося в том, что то, что определено каким-либо образом,
например, как бытие, есть скорее то, что противоположно этой
определенности ...» [32].
В «Феноменологии духа» сознание лишь достигает
«бесконечности», систематически раскрывается это понятие в «Логике»,
прежде всего, в первом разделе «Учения о бытии». Здесь в качестве
моментов процесса бесконечности выступают «конечное» и «дурная
бесконечность»; они предстают как абстракции от того подвижного
целого, каким является «истинная бесконечность»: «бесконечное, каково
оно на самом деле, есть процесс, в котором оно низводит себя до того,
чтобы быть лишь одним из своих определений, противостоять конечному
и, значит, быть самому лишь одним из конечных, а затем снимает это
отличие от себя самого для утверждения себя и есть через это
опосредствование истинно бесконечное» [33].
Но если «бесконечность» - абсолютный принцип спекулятивной
философии, то и «системой философии» следует считать ту философскую
конструкцию, которая позволяет достигать этого принципа и реально
использовать его в философском мышлении, - а это, прежде всего,
«Феноменология духа», показывающая необходимость полагания
спекулятивной предметности сознанием, проходящим
«феноменологическую лестницу» и достигающим «бесконечности», и
«Наука логики», раскрывающая понятие бесконечности, или исследующая
метод и границы процесса самоуглубления спекулятивной предметности.
Реальная философия оказывается в понимаемой таким образом системе
философии описанием некой пограничной между философией и другими
науками сфере; реальная философия указывает на ту «окрестность»
философии в культуре, в которой непосредственно пребывает то, что в
точном смысле и следовало бы называть у Гегеля философией, -
Феноменология и Логика.
Как видим, несмотря на изменение взглядов Гегеля относительно
структуры его системы философии, объективно созданная им система
философии не вышла за пределы йенского проекта «Системы науки»; по
существу, она и стала реализацией этого системного проекта. За
оказавшейся незаменимой в системе «Феноменологией» в качестве
«первой части» последовала еѐ вторая часть, представленная «Наукой
логики» и «Энциклопедией». Оговорки Гегеля не способны скрыть
действительного родства Логики и реальной философии с
Феноменологией; в частности, понимание «Феноменологии» остаѐтся
принципиально важным для осмысления самого первого из вопросов,
которые возникают в процессе чтения «Науки логики» и «Энциклопедии»,
- вопроса «о чѐм» говорится в этих книгах, какие типы предметности в них
описываются.
Впрочем, вопрос о последовательности и связи частей системы
оказывается лишь первой проблемой, возникающей перед сознанием,
которое стремится овладеть «системой философии Гегеля». Его решение
не обеспечивает еще верности последующих мыслительных актов мысли
философа, оно способно лишь преодолеть те внешние препятствия,
которые были воздвигнуты на пути понимания гегелевской мысли
временем и случайностями жизни, которая была уготована гегелевской
мысли в истории европейской культуры XIX-XX веков. Надеюсь, однако,
что представленные здесь размышления способны убедить современного
читателя в необходимости актуально мыслить гегелевскую систему как
единое целое, вне которого остаются лишь бездушные обрывки его мысли,
способные, по-видимому, еще неопределѐнно долго занимать внимание
«гегелеведов», - но и не более того.
Избавлять себя от задачи изучения гегелевской философии как
целого, может быть, позволительно лишь в начале процесса знакомства с
гегелевской мыслью; но, продвигаясь по этому пути все дальше и дальше,
мы обречены задумываться и над вопросом об общем смысле гегелевской
философии. Подобно тому, как изучение всякого движения должно
открывать точку, из которой движение исходит и к которой оно стремится,
а изучение жизни – если это действительно глубокое проникновение, а не
нечто поверхностное и формальное, - неизбежно открывает и
неподвижную и всеобъемлющую точку судьбы, в границах которой
обречено разворачиваться всякое составляющее жизнь движение, -
подобно этому и мы за изменением установок и взглядов Гегеля, за
движением содержания его книг и выступлений должны стремиться видеть
и его «систему философии» - ту же жизнь философа, взятую как единое
целое. Эта творческая жизнь, в которой сливаются все мотивы, интуиции,
образы и идеи, и есть та единственная подлинная «система», которая
способна оказаться естественным и плодотворным контекстом для
изучения всех составляющих ее «протяженность» деталей мышления
философа и их эволюции.
П Р И М Е Ч А Н И Я
1. Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. IV. – М., 1959. С. 3.
2. Следует, впрочем, принять во внимание, что возникновение названия
«Наука логики», по-видимому, восходит именно к этому плану: «Система
науки» реализуется в нѐм в форме «Науки опыта сознания»
(первоначальное название «Феноменологии духа») и «Науки логики».
3. Власов А.Д. Словарь по философии Гегеля: В 2 томах. Т. II. Наука
логики. – М., 2000. С.8. В статье «Абсолютная идея» А.Д. Власов так
поясняет эту характеристику отношения Гегеля к своим произведениям:
«Гегель ... редко возвращался к своим прежним результатам и предлагал
новые концепции, не считаясь с уже предложенными. Гегель только
упоминал о ранее выдвинутых понятиях и теориях, но не согласовывал их
со своими новыми взглядами» [с.51]. Кажется, Гегель писал в расчѐте на
читателя, который продумывал бы содержание его произведений так же
основательно, как и он сам. Только с этой точки зрения мог бы показаться
понятным подход автора, который, оставляя без внимания вопрос о
согласовании своих произведений, в последующих работах снова и снова
обращается к разработке содержания новых предметных областей.
4. Hösle V. Hegels System. Bd. I. – Hamburg, 1987. S. 3-4.
5. См., например: Мотрошилова Н.В. Путь Гегеля к «Науке логики». – М.,
1984. С. 118-119, 224, 229; Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная
идея и абсолютный дух в философии Гегеля. – М., 1993. С.60.
6. См.: Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 томах. Т. 1. – М., 1970. С. 79.
7. См.: там же, с. 79-80.
8. Перед лицом «Феноменологии» как первой части «Системы науки» все
составляющие позднейшей «Энциклопедии» должны были предстать в
единстве – как одна, вторая, часть системы, - и это и должно было уберечь
систему от возникновения в ней противоречий. Напротив, в самой
«Энциклопедии», оторванной от «Феноменологии» как начала системы,
возникает неразрешимая проблема «перехода» логической идеи в природу,
разрывающая искусственную последовательность Логики и реально-
философских дисциплин. Как мы попытаемся показать ниже, Логика и
реальная философия могут мыслиться лишь в качестве продолжения
«Феноменологии», более того, в единстве с «Феноменологией» как своим
основанием они (но уже в совершенно ином отношении) составляют
единство и друг с другом, - как это и предусматривал план «Системы
науки».
9. Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 томах. Т.1. – М., 1970. С.79.
10. Там же.
11. См.: там же, с.80.
12. См.: там же.
13. См.: там же.
14. См.: Коротких В.И. Педагогическая карьера и трагедия творчества:
факторы эволюции философии Гегеля // Alma mater (Вестник высшей
школы), 2001, №8, с.22-26.
15. См.: Hegel G.W.F. Phänomenologie des Geistes. Hrsg. von Y. Hoffmeister.
– Hamburg, 1952. S. 578.
16. Власов А.Д. Словарь по философии Гегеля: В 2 томах. Т.II. Наука
логики. – М., 2000. С.7.
17. Там же, с.8.
18. Там же, с.9.
19. Там же.
20. Там же.
21. См.: там же.
22. Давно замечено, что Гегель избегает более подробной характеристики
«перехода» логической идеи в природу: в «Логике» он относит этот вопрос
к ведению «Философии природы», а в последней начинает изложение с
предположения, что «переход» уже состоялся; такое поведение Гегеля
понятно с учетом неестественности самой этой темы для гегелевского
мышления.
23. См.: Коротких В.И. Очерк исследования структуры системы
философии Гегеля. – М.: Прометей, Елец: ЕГПИ, 1999.
24. См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т.IV. – М., 1959. С.47-50.
25. Там же, с.47.
26. См.: там же, с.48-49.
27. Там же, с.49.
28. Там же. Подробнее о строении предмета «Феноменологии» см.
параграф 1 I-ой главы нашей монографии. Любопытно, что и в 1831 году
Гегель повторяет эту свою мысль о том, что процесс становления знания
происходит «за спиной сознания», хотя и делает из неѐ уже несколько
иные выводы, - см. параграф 4 I-ой главы монографии.
29. Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. IV. – М., 1959. С. 48.
30. См. первую и третью главы монографии.
31. См., например: Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. IV. – М., 1959. С.88.





























![[Central nervous system tuberculomas] Туберкуломи на централната нерва система.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633338ab9d8fc1106803b317/central-nervous-system-tuberculomas-tuberkulomi-na-tsentralnata.jpg)