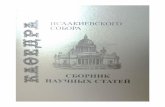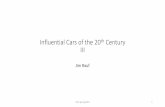Solar Interpretations in 20th Century Academic Music (“Kosmogonia”, K. Penderecki);...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Solar Interpretations in 20th Century Academic Music (“Kosmogonia”, K. Penderecki);...
Ольга Викторовна Колганова
Кандидат искусствоведения
член Санкт-Петербургского союза ученых
(г. Санкт-Петербург)
Статья опубликована в следующем издании:
Временник Зубовского института. –
Вып. 4: Грани интерпретации. –
СПб., 2010. С. 16–27.
Солярные интерпретации в академической музыке ХХ в.
(«Космогония» К. Пендерецкого)
В разное время творчество отдельных композиторов метафорически
определялось как солнечное. При этом имелся в виду не только высокий
уровень оценки их деятельности, признание масштаба и значимости личности,
но и светлая оптимистическая основа музыки.
Наиболее часто среди композиторов с Солнцем сопоставляется имя В. А.
Моцарта. (Р. Шуман говорит о его музыке как о символе света и Солнца).
«Солнцем музыки» называет композитора Б. Асафьев (И. Глебов) [Глебов,
1922: 1]. «Гелиос музыки», «Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе
Моцарт!», — пишет А. Рубинштейн [Рубинштейн, 1891: 49]. Легенда о
«Моцарте — солнечном юноше», как ее определяет автор монографии о
композиторе Г. Чичерин, достаточно широко распространена. Тем не менее,
сам Чичерин, опираясь на труд Г. Аберта1 и другие исследования (и, возможно,
в связи с идеологическими особенностями советского музыкознания 1970–
1980-х гг.), рассматривает ее как ложное представление и, более того, —
«апогей извращения Моцарта романтиками» [Чичерин, 1979: 48].
К имени Ж. Б. Люлли ‘солнечный’ статус, возможно, присоединялся в
связи со служением композитора королю-Солнцу — Людовику XIV2. «Солнцем
Италии», «расточающим свои звонкие лучи всему миру», с легкой руки Г.
Гейне называют Дж. Россини [Гейне, 1982: 198]. По аналогии с «Солнцем
русской поэзии» А. Пушкиным — «Солнцем русской музыки» называют М.
Глинку3. О. Мандельштам связывает воедино ‘солнца’ А. Пушкина и другого
русского композитора — А. Скрябина. В статье «Скрябин и христианство» поэт
писал: «Пушкин и Скрябин — два превращения одного солнца. Дважды смерть
художника собирала русский народ и зажигала над ним свое солнце. Они явили
пример соборной, русской кончины, умерли полной смертью, как живут полной
жизнью, их личность, умирая, расширилась до символа целого народа, и
солнце-сердце умирающего остановилось навеки в зените страдания и славы»
[Мандельштам, 2001: 352].
1 См.: [Аберт, 1978, 1983].
2 См., например, роман Филиппа Боссана «Люлли — солнечный композитор» [Beaussant, 1992].
3 Истоки этого определения и особенности его употребления в разные эпохи анализирует В. Б. Валькова
[Валькова, 2006].
Солнечными характеристиками награждают и музыку С. Прокофьева4.
Весьма примечательно в этой связи то, что композитор родился в селе с
солярным топонимом «Сонцовка»5. Данный факт, возможно, имел влияние на
характер творчества и на внемузыкальные интересы композитора. Так
называемая «Деревянная книга», которую С. Прокофьев вел в период с 1916 по
1921 г., содержит 48 ответов его великих современников на вопрос «Что Вы
думаете о Солнце?» [Деревянная книга, 2009]. Одна из записей в ней
принадлежит «вечному солнцепоклоннику» К. Бальмонту, посвятившему
Прокофьеву следующие строки:
Ты солнечный богач. Ты пьешь, как мед, закат.
Твое вино — рассвет. Твои созвучья, в хоре,
Торопятся принять, в спешащем разговоре,
Цветов загрезивших невнятный аромат…6
Помимо эпитетов и метафор, характеризующих творчество того или
иного композитора в целом, ‘солнечные’ (‘солярные’) проявления в
музыкальном искусстве можно проследить на двух других взаимодополняющих
уровнях: в тематике произведений и технике музыкальной композиции. В
данной статье, главным образом, будет рассматриваться воплощение в музыке
идей солнца, света — «солярные смыслы», а также их трактовка при помощи
разных средств художественной выразительности — «солярные
интерпретации».
* * *
Названия произведений, так или иначе связанные с солнечной
тематикой, встречаются преимущественно в академической музыке XIX–XX
вв. В это время композиторы значительно чаще, чем, например, в XVIII в.
прибегали к программным заголовкам, а также комментировали свои
намерения относительно произведений в письмах, записках, «летописях»,
интервью. По поводу же происхождения названий отдельных сочинений
времен классицизма могут возникать сомнения. К примеру, шесть ранних
квартетов Й. Гайдна op. 20, до сих пор принято именовать «Sonnenquartette»
(«Солнечными»). Однако доподлинно не известно, имел ли отношение к этому
определению сам композитор. По мнению исследователей, появление
‘солнечного’ заглавия может быть связано с гравюрой на титульном листе
одного из старинных изданий7. Аналогичный случай представляет квартет Й.
4 Д. Кабалевский пишет: «Сергея Прокофьева смело можно назвать солнцем русской музыки двадцатого века.
Его творчество напоено могучей жизненной силой, ослепительным светом, проникнуто безграничной любовью
к жизни, к человеку, к природе. Даже в самых печальных, самых драматически-напряженных трагедийных
страницах его музыки, где тучи сгущаются порой чуть ли не до сплошной черноты, — мы всегда чувствуем,
что где-то там, за этими тучами, продолжает светить солнце и оно обязательно снова засияет над нами,
обязательно восторжествует над любой непогодой» [Кабалевский, 1984]. 5 Ныне с. Красное Красноармейского р-на Донецкой обл., Украина.
6 «Ребенку богов, Прокофьеву» [Бальмонт, 2003: 412].
7 Информация об этом см. в монографии Л. Новака «Йозеф Гайдн» [Новак, 1973: 224], а также в издании А.
Хобокена «Йозеф Гайдн. Тематико-библиографический справочник» [Hoboken, 1957: 393].
Гайдна op. 76 № 4 (B-dur, ок. 1797 г.), который во многих изданиях фигурирует
под французским заглавием «l’Aurore» или английским «The Sunrise» [Hoboken,
1957: 434], то есть «Заря», «Восход солнца».
В XX столетии среди воплощений Солнца в музыке сосуществуют
самые разные направления: языческое, философское, символистское,
естественно-научное. Образ светила определяет содержание сочинений, в числе
которых «Солнце» А. Веберна (op. 14, 1917–1921), «Солнце вод» П. Булеза
(1948), «Солнце инков» Э. Денисова (1964), «Тринадцать цветов заходящего
солнца» Т. Мюрая (1978), «Ярило» Н. Корндорфа (1981), «Солнце гор» И.
Мациевского (1988), «Amicta sole» («Облаченная в солнце») А. Кнайфеля
(1995), «Перед закатом» Э. Денисова (1996), «Мираж: танцующее солнце» С.
Губайдуллиной (2002) и др.
Основой для целого ряда музыкальных произведений служит текст св.
Франциска Ассизского «Кантика брата Солнца, или Похвала творению»
созданный в 1224 г. Сочинения, написанные в ХХ в. и так или иначе связанные
с этим гимном, относятся к самым разным жанрам и рассчитаны на различные
исполнительские составы. Среди них: оратория «Гимн Солнцу св. Франциска
Ассизского» Г. Зутера8 (1924), «Sonnengezang» («Солнечное пение») А. Шнитке
(1976), опера «Святой Франциск Ассизский» О. Мессиана (1983), «Молитва
Франциска Ассизского» В. Екимовского (1984)9, рок-опера «Серафические
видения Франциска Ассизского» (1978) и «Canticum fratris Solis. Octo tonorum»
(«Гимн брату Солнца. В восьми тонах») В. Мартынова (1996), «Кантика брата
Солнца или Похвала творению» С. Губайдулиной (1997) Из композиторов
предшествующего столетия стоит упомянуть названного в честь св. Франциска
Ф. Листа10
, в числе сочинений которого: хор «Cantico del Sol di San Francesco
d’Assisi» (1881) и ряд его инструментальных транскрипций.
В ХХ столетии в связи с очередной волной интереса мирового научного
сообщества к астрономии в сфере композиторского творчества увеличивалось
внимание к устройству Вселенной и различным космическим объектам.
Провозглашенная еще во времена Античности идея «Гармонии сфер» находит
свое многоуровневое претворение в творчестве целого ряда композиторов
1960–1980 гг.: Д. Лигети — «Атмосферы» (1961); Э. Артемьев — «В космосе»
(1961), «Звездный ноктюрн» (1961); Дж. Кейдж — «Небесный атлас» (1962); К.
Штокхаузен — «Звучание звезды» (1971), «Сириус» (1977); О. Мессиан — «От
каньонов к звездам» (1974); Дж. Крам — «Макрокосмос» (1972–1973), «Звезда-
дитя» (1977), «Небесная механика» (1984); В. Артемов — «Звездный ветер»
(1981) и т. д.11
8 Герман Зутер (1870–1926) — швейцарский композитор, дирижер.
9 В. Екимовский ― также автор монографии об О. Мессиане [Екимовский, 1979].
10 По словам О. Левашовой, «при совершении обряда ему было дано имя Франциск (Franciscus). Выбор этого
имени, данного в память великого гуманиста эпохи Средневековья святого Франциска Ассизского оказался
далеко не случайным: в судьбах отца и сына, Адама и Франца, оно… сыграло свою символическую роль»
[Левашова, 1998: 35]. Адам Лист впоследствии стал послушником францисканского ордена. Сам композитор
вступил во францисканский орден терциариев в 1865 г. 11
Появление десятков произведений в разных жанрах на общую космическую тематику повлекло за собой
соответствующие исследования, среди которых отметим диссертацию Е. Горячкиной с характерным названием
«Творческая интерпретация космоса в музыке XX века» [Горячкина, 1995].
К 500-летию со дня рождения Николая Коперника12
на родине ученого
— в Польше — появлся целый ряд крупномасштабных ‘гелиоцентрических’
музыкальных произведений. В 1972 г., по заказу американского фонда им.
Тадеуша Костюшко Г. Гурецким создана «Коперниковская симфония»13
. Ее
автор так определяет идею своего сочинения: «Солнце и Земля остались
такими, какими были при Копернике, но гениальная мысль польского
астронома ввела новые измерения таинственных глубин вселенной» [Энтелис,
1978: 133]. В 1975 г. наставник Г. Гурецкого, Болеслав Шабельский написал
симфоническую фреску «Николай Коперник» (для оркестра, двух хоров и
сопрано соло). Еще одно сочинение, связанное с именем Н. Коперника — это
«Космогония» К. Пендерецкого (для оркестра, смешанного хора и солистов).
Произведение было заказано к 25-летию ООН несколько ранее, в 1970 г.
Центральный объект «Космогонии» — ми-бемоль-мажорный аккорд,
иллюстрирующий слово «Солнце» основополагающей фразы Н. Коперника «in
medio vero omnium residet Sol» («в середине всего находится Солнце»)14
. На
фоне общей кластерной атмосферы, это простое, казалось бы, решение
воспринимается как нечто невероятно гармоничное15
. Единственное во всей
композиции трезвучие, появляющееся на фоне двеннадцатитоновых звуковых
комплексов, производит ошеломляющий светоносный эффект.
Текст «Космогонии» соткан из цитат, отсылающих к источникам
различных эпох. Здесь звучат фразы из сочинений Лукреция, Овидия, Софокла,
Джордано Бруно, реплики космонавтов Ю. Гагарина и Дж. Гленна во время
полетов. Непосредственно за цитатой из трактата Коперника следуют слова «Et
facta est lux» («И стал свет» Быт. 1: 3). Композитор прибегает к фразе,
говорящей об «изначальном свете», но помещает ее после упоминания о
Солнце. Сотворенный им мир вмещает в себя как современный научный взгляд
на природу Вселенной, так и космогонические представления прошлого.
Слово «свет» произносится солистами (сопрано и тенор) одновременно
со словом «illuminare» («освещать») у хора и озвучено уже темброкомплексом
из полного спектра звуков — всех двенадцати тонов хроматической гаммы.
Этот фрагмент партитуры демонстрирует нечто подобное явлению дисперсии
света — разложению пучка белого света на спектр цветов16
. К темброкомплексу
подводят глиссандо всего хора, оркестра и солистов. Голоса сопрано и тенора
образуют в результате интервал большой секунды. Только их линии
восходящие, оркестр и хор двигаются в нисходящем направлении. Вслед за
предшествующим лучезарным солнечным аккордом, этот масштабный
темброкомплекс звучит еще более грандиозно.
Несмотря на кластерное звуковысотное окружение, традиции
воплощения Солнца средствами гармонии здесь во многом соблюдены.
12
Официальная дата празднований — 14 февраля 1973 г. 13
Op. 31, для сопрано, баритона, хора и оркестра. 14
См. труд Н. Коперника «О вращениях небесных сфер» в переводе И. Н. Веселовского [Коперник, 1964: 35]. 15
Аналогичный гармонический эффект К. Пендерецкий использовал в сочинении «Полиморфия» (1961), где
чередование диссонирующих звуковых комплексов, наполняющее все произведение, внезапно заканчивается
до-мажорным трезвучием. 16
Подробнее об этом см. нашу статью: [Пахомова, 2008].
Трезвучия и их обращения использовались в таких случаях композиторами
разных эпох. Звучащие подчас на протяжении целых разделов произведений,
трезвучия передают красоту света Солнца. Фигурации по их звукам словно
рисуют некую окружность. В результате этих кружений в партитуре возникают
своего рода солярные знаки. В эпоху Барокко, например, в центральном
эпизоде обряда поклонения Солнцу из оперы-балета Ж.-Ф. Рамо «Галантные
Индии» (1735)17
весьма протяженный фрагмент строится на фактурно-
тембровом варьировании трезвучия ля-мажор (в хоре звучат строфы,
начинающиеся словами: «Блистающее Солнце», «Светлый факел мира»). Во
времена венского классицизма аналогичные приемы гармонизации можно
наблюдать у Й. Гайдна. По словам В. Кадочникова, образы «света» в
послелондонских сочинениях композитора передаются движением по звукам
разложенных аккордов основных функций лада с преобладанием автентических
оборотов [Кадочников, 1989: 19]18
.
В 1880-х гг. трезвучия для иллюстрации Солнца стало уже недостаточно.
Новый гармонический контекст требовал новых решений. В хоре «Свет и сила
бог Ярило» из оперы «Снегурочка» Н. А. Римский-Корсаков вместе с
мажорными трезвучиями использовал и доминантовые секундаккорды19
. Из
более поздних примеров отметим мажорный квартсекстаккорд, участвующий в
гармонизации слова «Солнце» в песне с одноименным названием А. Веберна
(«Die Sonne», op. 14, 1917–1921).
На фоне солярных интерпретаций композиторов рубежа XIX–XX вв. ми-
бемоль-мажорный аккорд К. Пендерецкого выглядит неким возвращением к
барочным и классическим канонам. Однако это созвучие помещено в новый —
уже десятилетие осваиваемый им — кластерный контекст20
. Чем обусловлен
выбор автором именно этой тональности, предположить достаточно сложно.
Будучи одним из немногих композиторов, пользующихся графической и
цветной нотацией, он, безусловно, обладает особыми синестетическими
способностями. В одном из интервью К. Пендерецкий говорит, что цвет
каждого звука меняется в зависимости от его ощущений. «Я использую цвет,
записывая нотный текст. Возникновение произведения, запись его на бумаге
являются материализацией музыкального кода. Чтобы ощутить соответствие
замысла его воплощению, мне нужно сравнить версии набросков <…>. Я
накладываю их друг на друга, а цвета версий помогают мне в сопоставлении. И
во всей этой гуще цвета я нахожу полифонию звука» [Кантор, 2007].
Начертание партитуры «Космогонии» — не исключение (см. пример
№1).
17
Акт «Перуанские инки». 18
В противовес этому, «важнейший элемент мелодической характеристики образов “тьмы” — секундовое
движение. При этом обычно подчеркивается выразительность малых секунд» [Кадочников, 1989: 19]. 19
В «Летописи моей музыкальной жизни» композитор писал: «В гармоническом отношении мне удалось
изобрести кое-что новое, например, аккорд из шести нот гаммы целыми тонами или из двух увеличенных
трезвучий, когда леший обнимает Мизгиря <…> или применение одних мажорных трезвучий и доминантового
секундаккорда, тоже с мажорным трезвучием наверху почти, на протяжении всего гимна Яриле-Солнцу в 11
/4,
что придает этому хору особо светлый, солнечный колорит» [Римский-Корсаков, 1980: 138]. 20
Первые сонористические работы автора появились еще на рубеже 1950–1960 гг., однако в «Космогонии» К.
Пендерецкий впервые обратился к крупной форме.
Пример №1. К. Пендерецкий. Космогония. Фрагмент партитуры21
.
Цветные партитуры композитора — пример особого рода звуко-
красочной синестезии. Определение «цветной слух», пожалуй, не вполне
подходит для характеристики этого явления. Тем не менее, попытаемся
поставить ми-бемоль-мажорное трезвучие автора в круг цвето-тональных
интерпретаций других композиторов.
В истории солярных воплощений фигурируют самые разные
тональности. Н. А. Римский-Корсаков, например, в сценах восходов Солнца
чаще всего использовал тональность ля-мажор («Ночь перед рождеством»,
«Сказка о царе Салтане», «Садко», «Золотой петушок», «Млада») [Ванечкина,
Галлеев, 2003]. Между Солнцем восходящим и дневным для композитора
существовало большое различие. По представлениям Римского-Корсакова, A-
dur — «ясный, весенний, розоватый», в то время как «дневным, желтоватым,
царственным, властным» является для него D-dur [Ванечкина, Галлеев, 1981:
165]. Несмотря на существенные различия в цвето-тональном восприятии у
21
Копия сделана в 2002 г. в Эрмитаже во время выставки «Страсть. Музыкальные зарисовки Кшиштофа
Пендерецкого» (19 июня — 27 июля 2003 г.), где было представлено 12 работ композитора, созданных в разные
периоды его творчества.
многих русских композиторов, обладавших цветным слухом, именно D-dur
парадоксальным образом тяготеет к солнечному желтому (см. таблицу №122
).
Таблица 1 К. Сараджев А. Скрябин С. Рахманинов
23 Б. Асафьев Н. Римский-
Корсаков
Э. Денисов24
D –
dur
Темно-
красновато-
оранжевый25
желтый,
яркий
Желтый солнечные лучи,
блеск именно как
интенсивное
излучение света
(если в жаркий
день смотреть с
горы Давида на
Тифлис)
дневной,
желтоватый,
солнечный,
царственный,
властный
символ света
Для сравнения приведем менее единообразные характеристики
тональности Es-dur (см. таблицу № 2).
Таблица 2 А. Скрябин Б. Асафьев Н. Римский-Корсаков К. Пендерецкий
Es-
dur
стальной цвет с
металлическим
блеском
ощущение
синевы неба,
даже лазури
темный, сумрачный,
серо-синеватый
(тональность
крепостей и градов)
Cолнце
«Ми-бемоль-мажорное Солнце» К. Пендерецкого в их ряду выглядит
несколько неуместно. На метафорическом уровне эту разницу в ассоциациях
можно объяснить особой ролью Солнца в «Космогонии». Возможно, оно более
сумрачно и холодно (судя по ми-бемоль-мажорным ассоциациям других
музыкантов) в связи с тем, что преподнесено в сочинении как объект космоса.
В действительности, характерный желтый оттенок Солнце приобретает лишь у
поверхности Земли, само же по себе оно светит практически белым светом.
Может быть, по той же «космической» причине, «солнечный» аккорд
помещен композитором в среднем регистре, а не в высоком, как это
свойственно, например, пасторальным произведениям. Размеры ‘Солнца’ К.
Пендерецкого составляют немногим более трех октав из доступного слуху
звукового пространства: Es — g2. Ми-бемоль-мажорный аккорд взят в
положении терции таким образом, что наименование абсолютной высоты
верхнего тона — «sol» — совпадает с произнесением слова «Sol» («Солнце») в
тексте Н. Коперника. Кроме струнной группы, медных духовых и смешанного
хора, тембральную основу аккорда составляют орган, колокола, гонг и литавры.
Это звучание производит впечатление масштабное, грандиозное, однако
холодное и несколько отстраненное.
22
В таблице использованы сведения из следующих работ [Ванечкина, Галеев, 1981: 165], [Цветаева, 1988: 68]. 23
По сведениям А. И. Цветаевой [Цветаева, 1988: 67]. 24
По поводу D-dur в своем Реквиеме Э. Денисов пишет следующим образом: «Для меня этот ре-мажорный
аккорд возник сам по себе — я его не выдумал — он пришел сам и стал для меня как символ света» Цит. по:
[Шульгин, 1998: 26]. 25
D-moll воспринимается К. Сараджевым как «ярко-желтый с сероватым оттенком», а собственно «ярко-
желтым» он видит F-dur [Цветаева, 1988: 67].
Точные координаты ‘Солнца’ в творимом «космическом» пространстве:
20-я цифра партитуры из общих сорока. Иными словами, фраза Н. Коперника
озвучена композитором буквально. Солнце, представленное в партитуре
своеобразной осью симметрии, действительно централизует всю композицию.
Для К. Пендерецкого подобная выстроенность композиции скорее
норма, чем исключение. Его произведения всегда четко структурированы, и
именно архитектоника составляет одно из сильных мест его авторского стиля.
«Архитектура творчества» — далеко не случайное определение для
композитора, как не случайно и активное увлечение парковым искусством.
«Мои парк и музыку, — говорит К. Пендерецкий в одном из интервью, —
роднит архитектура творчества. Мне неинтересно писать короткие опусы, меня
это гнетет, утомляет. Я пишу большие произведения. Так и сад. Это мое
произведение, где я создатель. Мой сад — мое вдохновение. Хочу, посажу тот
куст или другой. Я так и музыку пишу. Не с начала, а с середины. Потом она
обрастает деталями, появляется развитие. Главное, видеть, к чему ты
стремишься, знать, куда идти. Хотя иногда в процессе работы все может
измениться. На то оно и творчество»26
.
Четко выверенную архитектонику «Космогонии» можно сопоставить со
структурой другого сонористического сочинения, написанного несколько
ранее, — «Атмосферы» Д. Лигети (1961). В отличие от «Космогонии», в
которой перед партитурой выписаны все звучащие в ней тексты, становящиеся
ее непосредственной программой, композиция для оркестра «Атмосферы»
такой программы не имеет. В центре сочинения словно обозначено
пространство между двумя важнейшими для человека космическими
объектами. В точке золотого сечения27
— Земля (темброкомплекс в диапазоне h
— des1), симметрично ей (то есть в точке золотого сечения, если считать от
конца произведения) расположено Солнце (D — g3 с последующим
восходящим глиссандированием28
).
В составленной нами схеме все сочинение условно поделено на десять
разделов, включающих от одной до трех букв партитуры. В нижних строчках
указаны их протяженность (количество секунд и число тактов) и изменения
темпа. Каждому разделу соответствуют различные уровни динамики и
диапазоны звучания темброкомплексов (см. схему №1).
Схема №1. Д. Лигети «Атмосферы»
26
Цит. по: [Погонцев, 2006]. Судя по этому высказыванию, начало «Космогонии», было положено
«солнечным» ми-бемоль-мажорным аккордом. 27
Из расчета 8 минут 34 секунд общего звучания, золотое сечение приходится на 5 минут 17 секунд, что
соответствует началу 6-го раздела партитуры. 28
Отметим, что Д. Лигети в верхний голос помещает звук соль.
Контуры «Солнца» буквально вырисованы композитором при помощи
нотной графики (раздел 4, буквы E, F). Своеобразный его центр, или ядро
озвучен диапазоном h — gis1, от которого на протяжении пятидесяти шести
секунд распространяются вверх и вниз ‘лучи’ и их ‘отражения’. Приведенный
фрагмент партитуры сответствует четвертому разделу схемы (см. пример № 2).
Пример № 2. Д. Лигети. «Атмосферы». Фрагмент партитуры.
Технику композиции в двух близких по тематике произведениях,
«Космогонии» К. Пендерецкого и «Атмосферах» Д. Лигети, роднит монтажный
принцип организации материала. Будучи автором музыки ко многим фильмам,
в том числе к короткометражной картине режиссера К. Дембовского
«Экскурсия в космос» (1960), К. Пендерецкий, по всей видимости, сознательно
имитирует в своих сочинениях отдельные кинематографические приемы.
Чередование крупных и общих планов в «Космогонии» можно сравнить с
внутрикадровым монтажом. Время наслоения ‘кадров’ ― темброкомплексов ―
очень большое, и часто равняется длительности звучания самого материала. В
периоды наслоений, предшествующий тембровый блок не исчезает
моментально, продолжая существовать в творимом пространстве, и новый
звуковой объект заявляет о себе лишь постепенно.
Композиция «Атмосфер» Д. Лигети имеет схожее строение, хотя, в
отличие от «Космогонии», время наслоений «звуко-световых кадров» в них
отнюдь не соперничает с экспонируемым материалом. Автор более склонен к
крупному плану, его стихия — сама материя звучащих, ‘светящихся’ атмосфер.
Потрясающие аудиовизуальные возможности «Атмосфер» прекрасно
демонстрирует режиссер С. Кубрик, использовавший это сочинение в
оформлении фильма «Космическая одиссея».
В силу своей специфики солярные проявления в музыкальном искусстве
в плане общей оценки творчества отдельных авторов, а также на уровнях
программы сочинения и техники композиции носят в значительной степени
символико-мифологический характер. Тем не менее, повод к различным
трактовкам произведений всегда дают совершенно конкретные средства
музыкальной выразительности и способы их организации. Сонористическая
техника композиции, в частности, обладает высокой степенью свободы при
передаче разных ощущений, в особенности звуко-красочных, в том числе —
‘солнечных’, ‘световых’. Если в музыке XVIII–XIX столетий в отношении
солярных интерпретаций применимо скорее понятие звукоизобразительности,
то начиная с рубежа XIX–XX вв. можно говорить об отдельных попытках
передать собственно ощущение солнечного света (музыкальный
импрессионизм). С 1960-х гг., с возникновением сонористики, появляется
возможность воплощать в звуках физическую природу света, собственно
‘светящуюся материю’ с присущими ей эффектами отражения, преломления,
дисперсии.
Литература
Аберт, 1978, 1983 — Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с. нем., вст. статья и
коммент. К. К. Саквы. В 2 т. М., 1978, 1983.
Бальмонт, 2003 — Бальмонт К. Д. Избранное. М., 2003.
Валькова, 2006 — Валькова В. Б. «Солнце русской музыки». Глинка как миф
национальной культуры // М. И. Глинка. К 200-летию со дня рождения: в 2 т. Т.
2. М., 2006. С. 17–24.
Ванечкина, 1981 — Ванечкина И., Галеев Б. «Поэма огня» (концепция
светомузыкального синтеза А. Н. Скрябина). Казань, 1981.
Ванечкина, 2003 — Ванечкина И., Галеев Б. «Цветной слух» в творчестве Н. А.
Римского-Корсакова [Электронный ресурс] // Cинестезия СНИИ «Прометей»,
Казань: [сайт]. 2006. URL: http://synesthesia.prometheus.kai.ru/zwet-sl_r.htm (дата
обращения 16.01.2010).
Веселовский, 1974 — Веселовский И. Н., Белый Ю. А. Николай Коперник. М.,
1974.
Гейне, 1982 — Гейне Г. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. Путевые картины /
Пер. с нем., коммент. М. Рудницкого. М., 1980. 1982.
Глебов, 1922 — Глебов И. Моцарт: 1756–1791: [Критич. очерк]. Петроград,
1922.
Горячкина, 1995 — Горячкина Е. А. Творческая интерпретация космоса в
музыке XX века: Автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 1995.
Деревянная книга, 2009 — Деревянная книга. Альбом Сергея Прокофьева.
СПб., 2009.
Екимовский, 1987 — Екимовский В. А. Оливье Мессиан. Жизнь и творчество.
М, 1987.
Кабалевский, 1984 — Кабалевский Д. О Сергее Прокофьеве и его музыке для
детей и юношества [Электронный ресурс]: URL:
http://www.composer.ru/xxmidi/st/Pr_Kab01.html (дата обращения 23.11.2009).
Кадочников, 1989 — Кадочников В. П. Черты симфонизма в поздних вокально-
инструментальных сочинениях Й. Гайдна: Автореф. дис. … канд.
искусствоведения. Л., 1989.
Кантор, 2007 — Кантор Ю. Проигрыш и выигрыш: Почему великий польский
композитор Кшиштоф Пендерецкий никогда не занимался политикой.
Интервью [Электронный ресурс] // Российская газета [сайт]. Федеральный
выпуск № 4433 от 7 августа 2007 г. URL:
http://www.rg.ru/2007/08/07/penderetsky.html (дата обращения 12.06.2008).
Коперник, 1964 — Коперник Н. О вращениях небесных сфер. Малый
комментарий. Послание против Вернера. Упсальская запись / Перевод И. Н.
Веселовского. М., 1964.
Левашова, 1998 — Левашова О. Ференц Лист: Молодые годы. М., 1998.
Мандельштам, 2001 — Мандельштам О. Скрябин и Христианство //
Мандельштам О. Избранное / Сост. В. П. Смирнова; предисловие Г.
Заполянского. М., 2001. С. 352–357.
Новак, 1973 — Новак Л. Йозеф Гайдн. Монография / Пер. с нем. Д. Каравкиной
и Вс. Розанова. М., 1973.
Пахомова, 2008 — Пахомова О. В. «Дисперсия света» в сонористических
композициях В. Лютославского и К. Пендерецкого // Музыковедение. 2008, №
1. С. 11–15.
Погонцев, 2006 — Погонцев В. В парке звуков. Кшиштоф Пендерецкий пишет
музыку и разводит сады [Электронный ресурс] // Российская газета [сайт].
Федеральный выпуск № 4239 от 5 декабря 2006 г. URL:
http://www.rg.ru/2006/12/05/pendereckij.html (дата обращения 12.06.2008).
Римский-Корсаков, 1980 — Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей
музыкальной жизни. М., 1980.
Рубинштейн, 1891 — Рубинштейн А. Музыка и ее представители. Разговор о
музыке. М., 1891.
Цветаева, 1988 — Цветаева А., Сараджев Н. Мастер волшебного звона / Под
общ. ред. В. Руденко. М., 1988.
Чичерин, 1979 — Чичерин Г. Моцарт: Исследовательский этюд / Общ. ред., вст.
статья, примеч. Е. Ф. Бронфин. Л., 1979.
Шульгин, 1998 — Шульгин Д. И. Признание Эдисона Денисова. По материалам
бесед. М., 1998.
Энтелис, 1978 — Энтелис Л. Встречи с современной польской музыкой. Л.,
1978.
Beaussant, 1992 — Beaussant Ph. Lully ou Le musicien du Soleil. Paris, 1992.
Hoboken, 1957 — Hoboken A. Joseph Haydn. Thematisch-bibliographisches
Werkverzeichnis. Mainz, 1957.