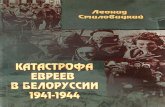Собаководство на Камчатке в начале 1920-х гг
Transcript of Собаководство на Камчатке в начале 1920-х гг
Собаководство на Камчатке в начале 1920-х гг.
(перевод Л. Абрамян)
Л. Штреккер, И. Сванберг
Этнобиологи особенно заинтересованы в отношениях между животными и людьми.
Многие виды тесно связаны с людьми вплоть до одомашнивания, а одомашненные
животные существуют практически во всем мире. Кроме того, многие приполярные
этнические группы традиционно держат укрощенных животных, которые им
необходимы для выживания: особенно оленей и собак. Происхождение и процесс
окультуривания оленеводства обсуждались учеными более века (20; 23; 13; 3).
Кроме того, собаки были чрезвычайно важны для выживания приполярных
народностей, хотя до настоящего времени исследование их роли было скудным.
Несмотря на тот факт, что собаки были обнаружены практически во всех человеческих
обществах, они долгое время игнорировались культурными антропологами и
этнобиологами (14). Исследователи попытаются описать и проанализировать
собаководство у коренных народностей Камчатки в 1920-х гг. с использованием
полевых заметок шведского исследователя.
В начале ХХ в. несколько скандинавских археологов, этнологов и лингвистов приняли
участие в дискуссии о происхождении оленеводства. Важный вклад внес профессор
Карл Бернард Виклунд (Karl Bernhard Wiklund) (1863-1934), который основал
исследования саамского языка в Уппсала и продвинул шведское исследование по языку
и культуре саами на международный уровень. Как профессор в области финно-
угорских языков, он страстно желал собрать сравнительный лингвистический материал
и этнографические данные из северной Европы. Он также запросил информацию у
коллег и исследователей, которые контактировали с оленеводами на местах (в полевых
условиях). Для этой цели он составил специальный вопросник, который был напечатан
в 1915 г. Вопросник содержит 104 очень детальных и многословных вопроса и все еще
представляет интерес для всех, кто исследует историю оленеводства. Но, как он
утверждает во введении, собаки тоже очень важны в изучаемой культуре и территории,
особенно как упряжные животные. Именно поэтому 2 секции из 21 посвящены
исключительно изучению ездового собаководства. Вопросы об охотничьих и
сторожевых собаках рассматриваются в других секциях (28, с. 2).
Одним из шведских исследователей, который внес вклад в исследование Виклунда, был
зоолог Стен Бергман (1895-1977). Когда он отправился в свою первую азиатскую
экспедицию, он изучал оленеводство коренного населения Камчатки по поручению
Виклунда. Очень мало информации об этом было приведено в популярных описаниях
путешествий, которые Бергман опубликовал после экспедиции, но его полевые заметки
все еще хранятся в архивах К. Б. Виклунда среди коллекции рукописей библиотеки
университета Уппсала. И только некоторая часть была опубликована до настоящего
времени (27). Записи Бергмана также содержат интересные этнографические данные по
традиционному собаководству у эвенов и коряков в начале 1920-х гг. Эти записи
вместе с его опубликованными описаниями путешествия являются основой нашего
исследования. Хотя в настоящее время существует большой интерес к ездовым
собакам, очень немногое известно об их традиционном использовании и содержании у
народов Севера (12).
Поскольку Стен Бергман провел большую часть времени своего пребывания на
Камчатке со своими собственными ездовыми собаками, то ознакомился и изучил их "на
практике"! (6). В связи с этим его ответы на вопросник Виклунда являются особо
ценными. Только некоторые собранные им данные, касающиеся собак, были включены
в его описания.
Собаки как упряжные животные были частью повседневной жизни всего населения
Камчатки. Когда Бергман путешествовал по полуострову, ездовые собаки были
обычным средством передвижения. Все торговцы, священники, охотники, чиновники и
т. д. передвигались на собаках. Как описывает Бергман, каждый мужчина старше 15 лет
имел свою собственную упряжку из 10 собак, и в деревне из 15-20 домов обычно было
около 200-300 собак. Кроме того, собаки также играли ключевую роль в духовной
культуре коренных народов Камчатки. Русский этнограф Владимир Йохельсон описал
наблюдения по жертвоприношению собак в своей монументальной монографии о
коряках с 1900 г. (17, с. 95). Вплоть до наших дней, хоть и в другой форме, у коряков
это все еще практикуется в традиционных похоронных ритуалах в северной части
Камчатки. Это высокое почитание собак также проявляется и в повседневной жизни,
например, когда с любовью выращиваются щенки, когда говорят о них и т. д. (Личное
наблюдение Лизы Штреккер во время ее полевых исследований на севере Камчатки в
2009 г.; 6, с. 58).
Принимая во внимание тот факт, что собаководство, в общем, было чрезвычайно важно
для жизни на Камчатке, сравнительно немного написано об этом феномене. Следует
отметить, что не хватает научной литературы по различным вопросам относительно
ездовых собак на Камчатке. Этот факт отмечают и антропологи, и кинологи, которые
могут только утверждать, что прежние знаменитые породы, какие описаны, например,
Леонардом Стейнегером (1896), утеряны. В связи с этим документальные источники -
такие, как дневники путешествий, общие научные описания Камчатки, а также
фотографии и фильмы, снятые путешественниками по Камчатке, являются ценными
источниками информации по традиционному собаководству на полуострове. Многие из
этих описаний были собраны воедино В. И. Борисовым (2007) в его
высокоинформативной книге о собаках на Камчатке в ХVIII - нач. ХХ вв. Факт, о
котором не упоминается в книге, это спрос на шкуры камчатских собак перед Первой
мировой войной. Собачьи шкуры требовались в Северной Америке. Больше всего шкур
экспортировалось из Маньчжурии (100 000 шкур в год!), но из-за высокого спроса
собачьи шкуры экспортировались и из других мест, включая Камчатку (11, с. 437).
Источники по ездовым собакам в северной Сибири в основном датируются временем,
когда этнографы пытались выяснить происхождение различных культурных
особенностей, в данном случае собак как упряжных животных.<> Образцовой работой
такого рода является исследование Левина по происхождению ездовых собак (1946)
или исследование по собаководству в Сибири во второй половине ХIХ - начале ХХ вв.
Антроповой и Левина (2). Более поздние источники восходят к паре кинологов и
восторженных каюров, особо заинтересованных в камчатской ездовой собаке, Елене и
Сергею Панюхиным, которые ведут Интернет-блоги и журналы о своем опыте и работе
с камчатскими ездовыми собаками. Тем не менее, не существует общего исследования
по камчатским ездовым собакам.
Дневники путешествий Стена Бергмана были переведены на русский язык (9), но все
еще не опубликованы ни вопросник Виклунда, ни еще более ценные ответы Бергмана,
касающиеся собак. Наша цель - представить некоторые этнографические наблюдения
по собаководству, сделанные Стеном Бергманом у коряков и эвенов во время его
экспедиции с 1920 по 1922 г.
Стен Бергман был главой экспедиции, состоящей из молодых, пытливых и смелых
людей, которые покинули Стокгольм 16 февраля 1920 г. Она стала одной из последних
иностранных экспедиций на Камчатку до распада Советского Союза, когда полуостров
снова стал открытым для ученых из не советских стран (16, с. 38). Для Стена Бергмана
это было началом его выдающейся карьеры в качестве знаменитого исследователя и
одного из самых популярных шведских писателей середины ХХ в. (26). Помимо Стена
Бергмана (зоолог) и его жены Дагни Бергман, экспедиция включала Эрика Хультена
(ботаник), его жену Эльзи Хультен, Эрнста Хэдстрёма (таксидермист) и Рене И.
Малази (Малэс) (энтомолог) (6, v).
Целью экспедиции, спонсируемой Шведским географическим обществом и многими
выдающимися шведскими компаниями, было собрать ботанические и зоологические
образцы и этнографические коллекции для музеев Швеции. Члены будущей
экспедиции уже были друзьями во время учебы в университете. К тому времени они
представляли свою экспедицию на Камчатку, где планировали проводить научные
исследования по ботанике и зоологии во время своего пребывания. После 4-месячного
путешествия через Суэц экспедиция, наконец, прибыла в Японию в мае 1920 г. Члены
экспедиции провели несколько недель в Японии, чтобы пополнить оборудование и
провиант, прежде чем отплыть с советским судном "Командор Беринг" из Хакодате до
конечного пункта - Камчатки. Научная экспедиция начинается с чрезвычайно
драматического приезда: летом 1920 г. они терпят кораблекрушение на м. Лопатка.
Члены шведской экспедиции оставались на Камчатке практически 3 года, усердно
собирая коллекции и проводя исследования. Обоснования для экспедиции были
разными, как и научные задания, и такими же стали и результаты. Зоологические
результаты были опубликованы в более чем 40 изданиях, под заголовком "Ergebnisse
der schwedischen Kamtchatka-Expedition 1920-1922" в журнале "Arkiv fцr zoology 1925-
1935", опубликованном Шведской академией наук. Другие материалы экспедиции -
рукописи, письма, статьи из газет и дневники Стена и Дагни Бергман и Эрика Хультена
- хранятся в архиве Центра истории наук в Шведской королевской академии наук.
Ботанические и зоологические контрольные образцы, собранные во время экспедиции,
сейчас являются собственностью Музея естествознания в Стокгольме. Кроме того,
архивный материал хранится у дочери Бергмана - Астрид Бергман-Саксдорф и ее сына
Дженса Саксдорфа (25, 61f.).
Стен Бергман, глава экспедиции, впоследствии говорил об этом путешествии, как о
приключении: "Kamtchatka: skildringar frеn en treеrig forskningsfдrd" (1923) (9).
Его целью была орнитология. Так, он собрал 420 чучел птиц и описал 135 видов,
которые встречали и на которые охотились он и другие члены экспедиции во время их
пребывания на Камчатке. Позднее он опубликовал монографию по птицам Камчатки и
Курильских островов на основе собранных образцов и своих наблюдений (7). Его
работа ценится за большой вклад в орнитологию полуострова (19). Другие научные
статьи, которые он опубликовал, встретили меньшее одобрение. Достоверность
описания гигантского камчатского медведя подвергалась и подвергается серьезным
сомнениям (8; 15, с. 46).
Помимо исследования по зоологии, Бергман намеревался собрать этнографический
материал по коренным этническим группам Камчатки - ительменам, эвенам и корякам.
В связи с ограниченными средствами этнографическая коллекция была ограничена
коряками и ительменами. Сегодня этнографические коллекции экспедиции Бергмана на
Камчатку принадлежат Музею этнографии в Стокгольме.
Осенью 1920 г. супруги Бергман и Эрнст Хедстрём отправились на судне в Усть-
Камчатск. По случайному стечению обстоятельств они не смогли попасть на последнее
в том году судно на юг. Будучи совершенно не готовыми к этому, без какой-либо
теплой одежды, они вынуждены были остаться там на зиму. Эта ситуация подвела их к
решению пройти 800 км до Петропавловска на лыжах с ездовыми собаками, которые
будут их тащить. Из Усть-Камчатска они шли вдоль р. Камчатки, пока не достигли
главной долины Центральной Камчатки. В течение зимы 1921/1922 гг. супруги Бергман
совершили второе путешествие до Центральной Камчатки длиной в 2150 км на лыжах
и с ездовыми собаками. Для этнографических наблюдений второе путешествие, начатое
в декабре 1921 г., является более значимым, т. к. оно было совершено с целью
проведения этнографических исследований и сбора материалов по ительменам и
эвенам. В этот раз Стен и Дагни Бергман шли одни на одной нарте с 10 отобранными
собаками, и на этот раз они были, практически, опытными каюрами.
В это путешествие Стен Бергман взял с собой вопросник по оленеводству,
составленный К. Б. Виклундом. Эти записи были расшифрованы в 1923 г. Хотя
собаководство не так сильно, как оленеводство, было затронуто политическими
изменениями, последовавшими вскоре, исследование Бергмана дало ценную
информацию изнутри, из первых рук, по уходу за собаками в то время.
Во время этой поездки они проехали от Петропавловска на север вдоль р. Камчатки до
Козыревска. Оттуда они посетили эвенов и коряков в горах. Далее они доехали до
Ключей, затем через Еловку до Седанки, Утхолока и Коврана параллельно побережью
Охотского моря к югу: через Хайрюзово, Сопочное и Большерецк. Через Апачу и
Начики они вернулись назад в Петропавловск. На пути они посетили ительменские
деревни, а также корякские и эвенские кочевые пастбища оленей. В апреле 1922 г.
супруги Бергман вернулись в Петропавловск с большими этнографическими
коллекциями (6).
Описание ездовых собак Бергмана в его дневниках путешествий четко показывает, что
он использовал список вопросов. Он упоминает такие вопросы о собаках, которые не
могли возникнуть из контекста, как, например, замечание о том, что щенков одевали в
меховые шубки для того, чтобы выдержать холод. Порядок фактов, который он
приводит о традиционном собаководстве, соотносятся с порядком в вопроснике. Это
также можно отметить при сравнении информации, которую он дает о коренных
группах, перечисляя те же самые вопросы в том же порядке. Естественно, это ведет к
повторам, которые будут устранены в последующих описаниях.
Выдержка из вопросника Виклунда (28):
"М) Упряжные животные
59) Пользуются ли оленями или собаками или даже другими животными, чтобы тащить
нарты. Пользуются ли собаками как упряжными животными только для коротких
путешествий или чтобы привезти дрова или воду и подобное, или лишь для
развлечения? Хорошо ли обращаются с животными? Они привязчивы к людям?
Имеются ли особенные сараи или вольеры для упряжных животных?
60) <...> Пользуются ли суками как упряжными животными? То же во время
беременности? Кастрируют ли упряжных собак? По какой причине и в каком возрасте?
Какая собака запрягается лидером упряжки?
61) Какой породы упряжные собаки, и как они выглядят? Умеют ли они лаять? По
каким внешним признакам можно узнать хорошую упряжную собаку? Принимаются ли
меры для улучшения породы собак? Как ладят упряжные собаки с оленями? Что
происходит, когда собачья упряжка по дороге встречается с оленьей?
62) Как и в каком возрасте объезжаются <...> упряжные собаки? Только самых сильных
выбирают? Упряжные олени и собаки очень ручные и послушные? Хорошо ли они
объезженные? Можно ездить на них, не готовя дорогу (или хотя бы след снегоступов)?
Они напрямую бегают или со многими поворотами?
63) Сколько стоят упряжные <...> собаки по сравнению с обычными? Сколько
упряжных <...> собак у одной семьи в среднем?
<...>
О) Собачьи нарты
75) Описывай словами и картинками обычный для этой местности тип собачьих нарт со
всеми подробностями (и тоже те нарты, на которых привозят дрова и воду). Покроются
ли полозья как-нибудь льдом? Как летом хранят нарты? Как строят временные собачьи
нарты? Запрягают собак в оленьи нарты? Почему поперечная палка, куда привязывают
трос у собачьей нарты, дугообразная, а у оленьей нарты прямая?
76) Описывай словами и картинками со всеми подробностями обычные для собак
шлейки и ремни. Когда-нибудь слышали о том, что петлю одевали собакам на
хвостовую часть корпуса?
77) Во время езды пользуются палкой, прутом или плетью, как она выглядит и как ей
пользуются?
78) Сколько собак запрягают перед нартой? В каком порядке? Куда ставят самых
сильных собак? Кто вожак? Ставят суку вожаком? Почему? Часто меняют порядок
собак во время езды? Почему?
79) Помогают ли люди собакам тащить нарту? Каким образом? Как выглядят их петли,
с помощью которых они тащат?
80) Как и какими криками управляют упряжкой направо или налево, как ее разгоняют,
замедляют, останавливают? Как ее привязывают во время пауз?
81) Упряжные собаки обычно энергичные или ленивые? Что делают с уставшими
собаками? Собаки очень выносливые? Какое расстояние можно преодолеть на собачьей
упряжке в течение одного дня или часа, не мучая собак? Какой вес может тащить
собачья упряжка (сколько собак)?
82) Чем кормят упряжных собак? По дороге? Им дают столько, чтобы они были
сытыми? Кормят их вне палатке? Позволяют ли им вообще входить в палатку? А
щенкам? Жестоко с ними обращаются? Сложно ли для хозяину собак заготавливать
много корма для них? Число их собак этим ограничивается? Есть ли края, которые не
подходят для содержания собак из-за большего холода и бурных пург?
83) Как сидят на нартах? Одевают ли на ноги во время езды снегоступы (или только
один)?
84) Пользуются собачьей нартой также летом? Используют собак, чтобы тащить лодки?
Как это происходит?
85) В каком порядке ездят нарты одной семьи одна за другой? Умеют и имеют ли
женщины право управлять собачьими упряжками?
86) Используют ли собак для катания на лыжах? Этим занимаются только как видом
спорта?
87) Надевают собакам на лапки носки, и как они выглядят? Шьют ли одежду для
щенков?"
Согласно историческим источникам кочевые эвены постепенно появились в
Центральной Камчатке только в середине ХIХ в. В отличие от коряков-оленеводов,
чавчувенов, стада оленей у них были меньше. Животные у них были крупнее, и их
использовали также для езды. Территория, на которую прибыли эвены, в основном
тогда была необитаемой, и их иммиграция и заселение на Камчатку происходили
мирно. Эти две этнические группы можно легко отличить друг от друга по их языку
(эвены говорят на тунгусском языке, а коряки так же, как и ительмены, - на чукотско-
камчатском), материальной и духовной культуре, и по их самоопределению (1; 16).
Стен Бергман и его жена посетили различные зимние стоянки эвенов, и таким образом
имели возможность поговорить с разными информантами. Однако его главным
источником информации был эвен Иван Петрович. Супруги Бергман несколько дней
пребывали в качестве гостей в его юрте, которая стояла недалеко от р. Быстрой.
Интервью проводились на русском языке (6). В оригинале рукописи, в общем и целом,
ответы распределены согласно вопроснику Виклунда. Описания последующего в
основном взяты из ответов Стена Бергмана на вопросник и обогащены информацией из
дневников путешествий.
Хотя Бергман и не проводит разграничения, совершенно ясно, что для него "коряк"
равноценен "чавчувену" (кочующий оленный коряк). Коряки, которые ориентировочно
делятся на кочующих и несколько оседлых групп, являются самой большой по
численности этнической группой в северной Камчатке. Его основным информантом по
ездовым собакам, относящимся к чавчувенам, был человек, которого звали Акей.
Бергманы провели несколько дней в его лагере, и хотя он признает, что их общение
страдало из-за плохих навыков русского языка их хозяина, они упоминают, что
интервьюировали его. Далее они направились к его отцу, который жил недалеко от р.
Быстрой. Здесь они пробыли недолго и поехали к кочевым эвенам (Там же). Поскольку
у Акея была собачья упряжка, можно предположить, что информация, касающаяся
ездовых собак у чавчувенов, восходит к нему. Поскольку чавчувены были
оленеводами, не у всех юрт были свои собственные собачьи упряжки.
Ительмены - оседлая коренная этническая группа, которая живет в южной части
Камчатки.
В своих исследованиях Бергман отмечает особенности различных этнических групп,
тем не менее, можно утверждать, что сходство намного перевешивает различия. Для
того, чтобы избежать повторов, наблюдения, приведенные в следующих секциях,
являются общими для Камчатки, этнические особенности будут указаны.
Эвены использовали ездовых собак наряду с упряжными оленями. Это требовало
хорошего управления собаками: если собачья упряжка встречала оленью, одна из
сторон, обычно оленья упряжка, которая была в критической ситуации, меняла
направление, сделав большой полукруг. Если бы не приучение к оленям, собаки бы
стали полностью дикими и неслись бы на большой скорости к оленьей упряжке. Если
каюр не мог удержать их и собаки сталкивались с оленьей упряжкой, они раздирали
оленей и пожирали их. Как описывал Стен Бергман, он едва мог сдерживать своих
собак, когда они вдалеке видели оленью упряжку. По этой же причине оленьи упряжки
никогда не въезжали в поселения. Только обеспеченные эвены имели собак, так же, как
и те, кому нравилось посещать ительменские селения.
Если эвены брали взрослую собаку, которая выросла у ительменов, сначала она была
дикой по отношению к оленям, но постепенно, после года или около того, привыкала.
Помимо этого Бергман видел, что собаки вокруг юрт эвенов были привязаны за
переднюю лапу, что предотвращало их побег для нападения на оленей (там же, с. 153).
Щенки, которые рождались в юртах, привыкали очень быстро.
Бергман представляет исчерпывающие записи о той роли, которую играли собаки как
упряжные животные, а также описывает используемые упряжь и нарты. К тому же
рассматриваются разведение и уход за собаками.
Эвены довольно хорошо ухаживали и за упряжными оленями, и за ездовыми собаками
и редко их хлестали, в отличие от ительменов, которые, согласно сведениям Бергмана,
обращались с упряжными собаками очень жестоко. У эвенов щенкам разрешалось
входить в юрту, с ними обращались очень хорошо и часто ласкали; также с ними
играли дети. К ездовым собакам относились очень гуманно. Он не мог и подумать, что
кто-то будет говорить о привязанности людей к упряжным оленям, но, с другой
стороны, можно было сказать о привязанности к ездовым собакам. Для упряжки
обычно использовались кастрированные самцы. Кастрацию проводили либо весной,
либо осенью, предпочтительно, когда собакам был один год, но иногда и позже. Зимой
было слишком холодно, чтобы кастрировать их. Собак кастрировали, чтобы они лучше
работали, были более спокойными и не обращали внимания на самок, когда встречали
их. Иногда самок тоже использовали, но никогда в качестве ведущей собаки.
Обычно эвены приобретали собак, купив их у ительменов, но иногда они могли
использовать своих собак в качестве упряжных. Собака, выбранная в качестве ведущей,
была лучшей и самой смышленой. Окрас собак был очень разнообразным: белые,
черные, серые, черно-белые или коричневые. Согласно убеждению эвенов, у хорошей
собаки должен был быть острый выступ на шее.
Редко когда более 8 собак впрягали перед нартами. Их привязывали парами по
центральной линии с 2 ярдами (1 ярд - 0,91 м. - Авт.) между каждой парой. Самых
сильных ставили ближе к нартам, а самых послушных - во главе. Как правило,
положение собаки не менялось во время путешествия. Только в случае, если груз был
тяжелый, а путь далекий, все собаки с правой стороны переставлялись на левую - для
того, чтобы все время упряжка не находилась под напряжением с одной и той же
стороны и одним и тем же образом. Когда груз был тяжелым и путь шел наверх,
собакам помогали, таща за дужку, которая находилась спереди.
Когда собакам надо было идти вправо, коряки выкрикивали "tje, tje, tje (дже, дже дже)",
точно так же говорили и ительмены. Для того, чтобы остановить их, говорили "tay". По
всей Камчатке использовалась единая команда "zuda" (направо) (предполагается: сюда?
- Авт.). Когда трогались, давалась команда "nuka" (ну-ка. - Авт.), а когда
останавливались - "stoi".
Ездовые собаки были обычно энергичными, если не сказать несдержанными. Уставшей
собачьей упряжке либо разрешали отдохнуть, либо хлестали, либо кормили, чтобы
взбодрить собак.
Собаки были очень выносливыми. Информант Бергмана утверждал, что весной при
благоприят-ных условиях, загруженные, они могли с легкостью пробежать 100 верст
(приблизительно 107 км. - Авт.) в день. В среднем, 10 верст проходили за час, если
намеренно не ехали быстро. Когда торопились, можно было проехать и 15-20 верст в
час. Нормальный вес для упряжки из 8-10 собак составлял 10 пудов, т. е. 160 кг,
включая каюра. Можно было значительно увеличить груз, однако никто не брал
слишком большой груз, если предстояло долгое путешествие на недели или месяцы.
Собачья упряжка (hдjeken - на эвенском, в соответствии с записями Бергмана, ср.
hejekti (4)) эвенов в 1920-х гг. была абсолютно идентичной с упряжкой ительменов.
Зимой, когда было очень холодно, полозья нарт намазывали теплой или холодной
жидкостью (часто мочой), чтобы они покрылись льдом. В летний период собачьи нарты
вместе с оленьими помещались на деревянную подставку и укрывались соломой. Часто
собак впрягали в оленью нарту. Если передняя перекладина на оленьей нарте, к
которой прикреплялся ход, была изогнутой, как на собачьей нарте, было намного
удобнее бить по задним копытам оленя.
Собачья упряжь эвенов была того же типа, как и более простая из двух моделей,
найденных у ительменов. Эвенский информант Бергмана никогда не слышал об
упряжи, в которой поводья лежали поверх спин животных. Поскольку собаками
обычно управляли без поводьев, это утверждение может быть расценено как ответ на
один из вопросов Виклунда. Материалом для поводьев всегда служила грубая шкура -
тюленья или, иногда, медвежья. Обитый железом шест, длиной примерно в 1 м, с
ремешком на верхнем конце, использовался и для того, чтобы тормозить нарты, и для
того, чтобы подгонять собак. Торможение происходило благодаря тому, что шест
втыкался в снег позади второй пары собак, считая с начала; этот метод использовался и
ительменами.
Эвены обычно кормили собак юколой (вяленый лосось. - Авт.). После того как
забивали оленя, из отбросов готовился суп для собак. Во время поездки им всегда
давали юколу. Большинство оленеводов-чавчувенов кормили собак и олениной, и
вяленым лососем. По дороге им давали кусок рыбы или замороженной оленины. Зимой
они редко наедались досыта (т. е. получали недостаточно еды. - Авт.). Ездовые собаки
привязывались снаружи юрт на протяжении всей зимы, и им не разрешали входить в
юрту. Кормили их также снаружи. Однако щенкам разрешалось входить в юрту. Летом
собак отпускали, и они должны были сами добывать себе еду. Они ели отбросы вокруг
балаганов (здесь: домики на сваях для хранения рыбы - Авт.).
На собачью нарту обычно садились, свесив ноги в одну сторону. Оленеводы - коряки и
эвены, которые привыкли сидеть, широко расставив ноги, часто и на нартах сидели так
же. Собак не использовали летом. Собак никогда не использовали для буксировки
лодок, потому что, согласно наблюдениям Бергмана, у коряков не было лодок. У семьи
никогда не бывало более одной упряжки. Обычно собачья упряжка была даже не в
каждой юрте. Женщины никогда не управляли собаками. Коряки никогда не
использовали носочки для собак или меховую одежду для щенков.
Как показано в данной статье, Стен Бергман дает полный обзор традиционного
собаководства на Камчатке. Его этнокинологические исследования представляют
особенный интерес по двум причинам. Они сделаны в соответствии с научным
вопросником, разработанным Карлом Виклундом. Более того, Бергман сам стал
опытным каюром на Камчатке, т. е. он на практике совершал то, о чем писал. Наблюде-
ния Бергмана по собаководству проясняют тот факт, что тогда собаки играли
центральную, главную роль в повседневной жизни на Камчатке. В настоящее время это
уже не так. Сравнительно небольшое количество людей в северной Камчатке держат
собак в качестве рабочих животных. Новое направление на Камчатке - это управление
упряжкой в спортивных и туристических целях, в основном в южной части Камчатки.
Это подразумевает новую породу собак, различные нарты и упряжи, так же, как и в
целом, другую роль собак.
Тем не менее, современные каюры на Камчатке высоко ценят знания и опыт старых,
местные традиции управления упряжкой. "Камчатская ездовая" стала стандартом
породы в служебном собаководстве Российской Федерации в 1992 г. Эта порода
ценится за быструю адаптацию к суровым погодным условиям Севера.
Хотя резкий спад ездового собаководства на Камчатке начался в 1970-х гг. в связи с
политикой государства, традиционное собаководство на Камчатке никогда не
прекращалось. В отдаленных районах полуострова каюры все еще являются
неотъемлемой частью жизни, которая все еще похожа на традиционный образ жизни
коренного населения. Как было указано в настоящей статье, ценность собак также
отражается в духовной культуре этих народов.
В настоящее время не просто остается все меньше и меньше собачьих упряжек в
селениях Севера, но и исчезают типичные собаки. В связи с этим специалисты и
теоретики разработали несколько проектов для сохранения породы, как и самих
каюров. Одним из таких проектов являются соревнования собачьих упряжек на
Камчатке - "Берингия", которые снова возвращают внимание камчатской публики к
собачьим упряжкам.
Как было указано выше, информации об историческом собаководстве и управлении
собачьими упряжками на Камчатке не очень много, поэтому дневники путешествий
являются очень важным источником информации. Всеобъемлющий доклад Стена
Бергмана представляет особую ценность для каждого, кто интересуется традиционным
собаководством на Камчатке.
Мы глубоко признательны Дженсу Саксдорфу, внуку Стена Бергмана, за
предоставление исторических фотографий, сделанных его дедушкой во время
экспедиции на Камчатке (http://www.stenbergman.se).
Иллюстрации к статье - в приложении на СD.
1. Андерсон Грегори Д. С. Языковые контакты на юге Центральной Сибири. Wiesbaden
: Harrassowitz, 2005.
2. Антропова В. В., Левин М. Г. Упряжное собаководство Сибири в конце XIX и начале
XX веков // Историко-этнографический атлас Сибири. М. ; Л. : Изд-во Академии наук
СССР, 1961. С. 55-78.
3. Баскин Л. М. Северный олень. Управление поведением и популяциями, оленеводство,
охота. М. : Товарищество научных изданий КМК, 2009.
4. Bensing J., Hesche W. and Scheinhardt Lamutische Wцrterbuch. Wiesbaden :
Harrassowitz, 1980.
5. Bergman S. Vulkane Bдren und Nomaden. Reisen und Erlebnisse im wilden Kamtschatka.
Stuttgart : (German translation of Kamtchatka: skildringar frеn en treеrig forskningsfдrd.
Stockholm : Albert Bonniers, 1923, 1926.
6. Bergman S. Auf Schi und Hundeschlitten durch Kamtschatka / german translation Strecker
und Schrцder. Stuttgart, 1928.
7. Bergman S. Zur kenntnis nordasiatischer Vцgel. Ein Beitrag zur Systematik, Biologie und
Verbreitung der Vцgel Kamtschatkas und der Kurilen. Stockholm : Bonniers, 1935.
8. Bergman Sten. Observation the Kamtshatkan bear // Journal of Mammalogy. 1936. Vol. 17.
May 2. P. 115-120.
9. Бергман С. По дикой Камчатке. Петропавловск-Камчатский : Камчат. печатный
двор. Кн. изд-во, 2000.
10. Борисов В. И. Собаководство на Камчатке в XVIII-XX вв. (В материалах
путешественников и исследователей). Петропавловск-Камчатский : Идат-Бланк,
2007.
11. Brass E. Aus dem Reiche der Pelze Vol. 2. Naturgeschichte der Pelztiere. Berlin : Verlage
der neuen Pelzwaren-Zeitung, 1911.
12. Coppinger L. The World of Sled Dogs. New York: Howeli Book House, 1977.
13. Clutton-Brock J. The Walking Larder: Patterns of Domestication, Pastoralism and
Predation. London : Unwin Hyman, 1990.
14. Cummins, Bryan D. First Nations, First Dogs: Canadian Aboriginal Ethnocynology.
Calgary, Alberta, Canada : Detselig, 2002.
15. Eberhart, George M. Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology. Т. 1. Santa
Barbara : CA: ABC-CLIO, 2002.
16. Gernet K. Evenen. Jдger, Rentierhirten, Fischer: Zur Geschichte eines nordostsibirischen
Volkes im russischen Zarenreich. Wiesbaden : Harrassowitz, 2007.
17. Jochelson W. The Koryak. The Jesup North Pacific Expedition Publications, Memoir of
the American Museum of Natural History, New York; Leiden : Brill, 1908.
18. Левин М. Г. О происхождении и типах упряжного собаководства // Сов.
этнография. 1946. № 4. С. 75-108.
19. Lobkov E. Die Vogelwelt Kamtschatkas // Acta ornithoecologica. 1997. № 3. С. 319-451.
20. Nelleman G. Theories on Reindeer-Breeding // Folk. 1961. № 3. P. 91-103.
21. ПАДС "Пояснительная записка к проекту временного стандарта камчатской
ездовой лайки" http://www.pads.ru/mode.985-l.en-type.html (30.10.2011).
22. Панюхина Е., Панюхин С. Камчатская ездовая - аборигенная порода камчатского
полуострова // Друг. 1997. № 7-8. С. 2.
23. Skjenneberg S. Reindeer husbandry in Fennoscandia, in: Wildlife Production Systems:
Economic Utilisation of Wild Ungulates, eds. R. J. Hudson, K. R. Drew and L. M. Baskin. Pp.
207-222. Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
24. Stejneger L. H. The Russian Fur-Seal Islands. Washington, D. C. : Government Printing
Office, 1896.
25. Strecker L. Die Ethnobotanik der Kamtschatka-Halbinsel. Erfassung und Beschreibung
des Datenmaterials in prдsowjetischen, nicht-russischen und einigen rezenten Quellen.
Universitдt Hamburg, 2007.
26. Svanberg I. Mannen som дlskade fеglar: Sten Bergman och Japan, in: Fjдrrannдra:
kontaker mellan Sverige och Japan genom tiderna, eds B. Edstrцm and I. Svanberg. Pp. 119-
136. Stockholm : Arena, 2001.
27. Svanberg I. & Lindin L. Traditional Reindeer Husbandry among the Evens of Kamchatka
in the Beginning of the 1920's, in: Contributions to Circumpolar Studies, ed. Hugh Beach. Pp.
151-179. Uppsala : Department of Cultural Anthropology, 1986.
28. Wiklund K. B. Frageschema fьr die Erforschung des Renntiernomadismus. Journal de la
Sociйtй Finno-Ougrienne. 1915. № 30. С. 7.
Штреккер Л. Собаководство на Камчатке в начале 1920-х гг. (перевод Л. Абрамян) /
Л. Штреккер, И. Сванберг // Пятые Международные исторические и Свято-
Иннокентьевские чтения "К 270-летию выхода России к берегам Америки и начала
освоения Тихого океана (1741-2011)" : материалы : 19-20 окт. 2011 г. -
Петропавловск-Камчатский, 2012. - С. 222-232. - Библиогр. : с. 231-232.