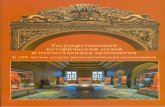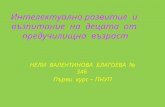СКОТОПРИГОНЬЕВСК И ГРАД СВЯТОЙ ИЕРУСАЛИМ -4
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of СКОТОПРИГОНЬЕВСК И ГРАД СВЯТОЙ ИЕРУСАЛИМ -4
Константин Смольняков
(Старая Русса)
СКОТОПРИГОНЬЕВСК И ГРАД СВЯТОЙ ИЕРУСАЛИМ
(продолжение)
В своем стремлении отождествить Скотопригоньевск, иначе царство
Карамазовых, как символ всей России, Старую Руссу, как ее исток, с
Иерусалимом Достоевский, конечно же, не мог не обратить внимания и
на поток Кедрон, столь значимое место возле стен Святого города, а
также у подошвы Масличной горы. И дополнительным, по-видимому,
поводом к тому еще, возможно, послужил собой игумен Даниил,
который сравнивал в своем «Хождении…», к примеру, Иордан с ему
знакомой речкой Сновь в России, у себя на родине1. Подобное
сопоставление тем более могло возникнуть, надо полагать, у
Достоевского по поводу ручья, что протекает в Старой Руссе так же,
как в Иерусалиме упомянутый Кедрон, вдоль городской границы на
востоке. Столь знаменательным здесь предстает и совпадение в
известном смысле их названий. Одного из них – «долина плача» (как
эпитета Кедрона) и другого – ручей Войе (согласно непосредственной
интерпретации)2, учитывая общность назначения к тому же этих мест,
традиционно представлявших собой кладбище: не только лишь в
Иерусалиме, но и Старой Руссе, на территории существовавшей
некогда обители. Поэтому, хотя бы и условно, тут (на самом деле
несколько поодаль – напротив Петропавловского храма,
унаследовавшего имя упомянутого монастыря)3 и похоронен был Илюша.
То, что его могила находилась именно в «долине плача»,
свидетельствуют вместе с тем начальные стихи того псалма: «На
реках Вавилона, там сидели мы и плакали…» (Пс. 136:1), – другие
строки из которого цитирует отец умершего перед его кончиной.
Самое место плена, с горечью изображаемое вновь в псалме,
ассоциировалось, несомненно, с царством смерти, преисподней, чьим
символом как раз и представал Кедрон, такая же «юдоль плачевная».
Илюшина могила символически, помимо его камня, также, видимо,
располагалась здесь, но только в Старой Руссе: на берегу или у
истоков ручья Войе4. На это в данном случае указывает бывшая тогда
часовня тут же рядом, в парке минеральных вод, сама история ее
происхождения, когда во время начатых восстановительных работ по
обустройству и расчистке одного источника открыли древнее
захоронение. В нем обнаружили, за исключением останков и других
предметов, в частности – ядрá и двух картечей (собою породивших,
надо полагать, рассказ о пушечке, подаренной перед кончиной
мальчику), еще к тому же чудотворную иконку Кирика и Иулитты. В
дальнейшем для нее и выстроен был, таким образом, сей храм5, как бы
на крови мучеников. Тàк же, как это, например, в духовном смысле,
собою порождая Церковь, т.е. узы братства, подлинной любви во имя
высшей истины, – случилось и с Илюшей, чья кончина, в известной
мере обстоятельства с ней связанные, столь напоминают предание о
мученической смерти названных святых. Вернее – мальчика, который
громко плакал при виде истязаний его матери, погибшего от рук ее
мучителя, разбившись, сброшенный с высокого помоста вниз головой,
о камни, острые углы ступеней6.1 «Хождение» игумена Даниила // Памятники литературы Древней Руси: XII век. –
М., 1980. – С. 52-53.2 Которая, возможно, сходится с действительным значением этого названия:
«шумящий» или же «гремящий» (в переводе с угро-финского).3 Поскольку непосредственно его (иначе – храм) назвали – в честь него (или
последнего), исчезнувшего окончательно в конце XVIII в.4 Соленая вода которого, конечно же, усугубляла его сходство с таковой
долиной, равно, как и мельницы, существовавшие на нем (традиционное вместилищенечистой силы), – с преисподней.
5 См. об этом: Красовский В.Д. Страдания святых мучеников Кирика и Иулитты …– Старая Русса, 1910.
6 Поэтому не зря в романе там, где заходит речь об избиении камнями другого
2
Рим, т.е. гонитель христиан и новый центр воинственной языческой
культуры, явный враг, противник Истинного Бога, как известно, был
представлен в Апокалипсисе Вавилоном, или, иначе говоря, его
наследником, стремившимся подобным образом взять штурмом небеса,
построить с этой целью, но только лишь условно, ту же башню. Ее
аналогом, точнее – зримым образом в Иерусалиме, или тем самым
явным символом предательства своей религии и уклонения в язычество
являлась Силоамская, по-видимому, башня, которая собою раздавила –
как бы своих строителей (Лк. 13:4). И в этом смысле названная
сравнивается с действиями Понтия Пилата, т.е. Рима, или
Вавилонской башни, западной цивилизации. Последняя, являясь,
собственно, религией человекобожества, своею целью почитая благо
всех людей, на самом деле их, в конечном счете, лишь уничтожает и
представляет собой некий дьявольский обман. Что, например,
случилось во взаимоотношениях Коли Красоткина с Илюшей, когда
последнего тот из благих как будто побуждений, наказуя –
исправлять, смешал, подобно Понтию Пилату, с его, или подопечного,
невинной жертвой, им загубленной собакой, хотя он сам при этом
давит беззастенчиво гусей. И даже почитает сказанное высшим
долгом, уничтожая глупых тварей7, кому закрыт путь в царство разума
и света, кто лишь мешает общему прогрессу8.
Коля Красоткин поступает здесь как житель этого же города (но
под другим названием) в «Подростке»9, имеющий к тому же стольмальчика – Илюши, в известной сцене у канавки, дважды упомянута возвышенность(14; 160, 162), и еще более конкретно – некая гора.
7 Несмотря на то, что именно они «спасли когда-то Рим». Или в России – те же«провинциальные гуси» (по выражению из «Ревизора» Гоголя), иначе говоря – народв 1812 г. свое Отечество, страну.
8 Или стремлению – «во ад», т.е. опять-таки поток Кедрон, поскольку тотвдобавок назывался «царскою долиной», к которой примыкали также «царские сады»(что в данном случае, собою отражая свышнее Святое Царствие Небесное, его лишьпредставляет соответственно – с «противоположного конца»: как дольнее, илибуквально расположенное здесь, на глубине долины, некогда дарованное, словномилость Божия, благочестивому народу, а ныне самовольно совлеченное, присвоенноепреисподней).
3
красноречивую фамилию, иначе – Скотобойников, который будто бы во
имя просвещения приносит в жертву агнца, малого ребенка. О том,
что он, или разнузданный купец, казалось бы, ведущий себя так по-
русски, откровенно в своем национальном стиле и по обычаям
Скотопригоньевска, на самом деле только лишь доводит до предела
выводы из той же западной цивилизации, свидетельствует, например,
фамилия той самой госпожи, как представительницы названной
культуры – Ферзинг (от слова, в данном случае созвучного немецкому
«versinken» – утонуть)10, что не случайно встретилась на переправе
мальчику перед его самоубийством. Несмотря на явное участие к
нему, именно она и ее дочь, однако, стали для него, как для
Гавроша у Гюго Вольтер или Руссо, причиной гибели, несчастья,
предзнаменованием чего здесь выступает так же, как в романе
«Идиот», тот самый еж, показанный ему11. Невинный мальчик, таким
образом, стал жертвой духа времени, опять-таки цивилизации, еще к
тому же предстающей в облике самой реки, «широкой, бойкой,
деловой», с названием Полисть (от слова – «полис»)12, его увлекшей
одновременно собой, внушая грех самоубийства13 вместо надежды на
спасение здесь рядом. Или точней – на противоположном берегу, там,
где сияет куполами Божий храм, а также был и существует ныне все-
таки – Козьмодемьянский монастырь. Т.е. во имя – покровителей
скота14, а не губителей его, иначе – «малых сих», несущих на себе
гораздо более других, тем самым, образ Агнца (вследствие чего
Христос недаром «с ними <…> еще раньше нашего» – 14; 268).
Река, принесшая собою смерть, обильные и нескончаемые слезы
9 Хотя обозначающим – примерно то же самое: растительный, как в данномслучае, или животный мир, что пребывает тут, в Афимьевском (от имени Анфим –«цветущий») так же, как и в Скотопригоньевске. Приниженный и бессловесный, он(или все тот же мир), будто Афимья и Анфим (кухарка в доме матери о. Зосимы иего спутник в странствиях в дальнейшем), несет в себе благословение, какпервозданный рай, и одновременно проклятие – «анафему» (подобно «Валаамовойослице» – Смердякову).
4
окружающим15, поэтому есть та же наряду с указанным ручьем «долина
плача», что именуется еще в Иерусалиме «царской». Последнюю собою
представляла как бы и река Полисть, поскольку здесь в то время
находился царский Путевой дворец, вокруг которого располагался
сад, а рядом были парк и липовый бульвар для верхней части
городского общества16. Тем более все это следует, конечно, отнести,
иначе – «царскую долину и сады», уже хотя бы по причине
соответствия их местоположению в Иерусалиме17, к парку минеральных
вод, учитывая и характер здешней публики, подчеркнуто стремившейся
даже своим внешним видом проявить причастность к веяниям времени,
цивилизации (291; 240). Как несомненным символом ее могла
восприниматься на курорте водогрейня, или конструкция новейшего
устройства, паровой котел с высокою трубой18, что находилась рядом
с часовней Кирика и Иулитты, условною могилою Илюши, и для него
явившейся (т.е. опять-таки труба) той самой Силоамской башней19,
вдруг неожиданно как бы упавшей и собою раздавившей. А прежде или
вместе с ним – его отца.
То, что в основе действий Мити Карамазова по отношению к штабс-
капитану Снегиреву, помимо лишь причин сугубо внешнего и личного
характера, еще лежали и другие, более глубокие, указывает в данном
случае мотив, его сближающий, иначе – первого из них, со Сквозник-
Дмухановским в «Ревизоре» Гоголя. Тот, как известно, всех хватал
за бороду, при этом заявляя: «Ах ты, татарин!»20 – тем самым
обращаясь, словно Петр I, из ненависти к варварству, желания
умыть, «образить»21, сделать потому из таковых оторванных бород
мочалки, как это, собственно, в романе фигурально почти что и
случилось. О любви всех держиморд и городничих к просвещению и о
желании их в этом духе стать, исполнившись гордыни (в качестве
строителей все той же Вавилонской башни, что решили «себе сделать
имя»), оттого – «фельдфебелями цивилизации» писал неоднократно
5
Достоевский. Стремясь преодолеть невежество и грубость нравов,
дикость первобытного из состояний: условно говоря, «татарское
начало», они, однако, поступали вроде тех же турок, на глазах
родителей жестоко избивая их детей (хотя бы только нравственно, и
неизбежно вслед за тем – физически, по крайней мере – провоцируя
на то в дальнейшем остальных), а потому собою представляя «Белую
Арапию» (20; 180)22.
В ее среде особо можно выделить, как характерного из членов,
например, Маврикия Шмерцова. Т.е. – немца-мавра, станового (того
же Держиморду) и приятеля Трифона Борисыча, открыто презирающего,
грубо попирая и эксплуатируя нещадно, свой народ за его
«вшивость», «подлость», явное неблагородство. Сюда, или к
указанному царству, следует причислить, видимо, и упомянутую
вскользь Мавру Фоминишну (провинциальную помещицу, недаром
названную так и напоминающую, надо полагать, Коробочку23 с ее
неблагочестивым, потребительским и хищническим отношением к
крестьянам). А вместе с ней, конечно же, – всех Карамазовых, или,
тем самым, – «Черномазовых», как символ этого же мира, его темного
начала, не исключая даже и Алешу со свойственным ему презрением к
«вонючему хаму и лакею» Смердякову, словно у отца и старших
братьев, у Мити или у Ивана. Последний, как известно, готов убить
и вовсе любого встреченного им, подвыпившего мужика. А их желал бы
всех, как сам он говорит, хлестать нещадно Федор Павлович. В чем с
ним согласен тот же Смердяков («барчонок» еще с юности, по отзыву
слуги Григория – 14; 115).
Все названные лица здесь есть порождение не столько изначальной
своей варварской натуры, сколько, напротив – петербургского
культурного периода, который осуждает именно в такого рода людях,
в целом – в образованном сословии, как отмечает Достоевский,
Гоголь. Следуя ему, он непрестанно это делает и сам, в частности –
6
по отношению к тому же Мите, чей поступок с капитаном Снегиревым
во многом объясняется тем ядом, или укусом за сердце, какой он
испытал со стороны Грушеньки. Последняя, собою представляя всю
Россию24, когда-то получила эту же прививку от чужеземца, что
изменила ее суть и превратила в Вавилонскую блудницу25, которую сам
Достоевский, следуя его отметкам на полях в Евангелии,
отождествлял с цивилизацией. Отсюда и возник мотив с оторванною
бородой, сопровождаемый почти что беснованием, вошедшим далее в
Илюшу, в нем заключив «великий гнев»26, а вслед за этим, благодаря
буквальному укусу, перешедшим и в Алешу. Тот не случайно потому
так оказался восприимчив к действию, казалось бы, ему столь чуждой
пропаганды, представляющей итог всей западной культурной мысли,
иначе говоря – влиянию теории Ивана о необходимости исправить мир,
его себе всецело подчиняя.
Образом такой преображенной, гармоничной и разумной в основаниях
своих Вселенной, как правило, служили разные утопии (Платона и
других, кончая современными социалистами) или в искусстве – всякие
картинки, в том числе – на чашках и на блюдцах. Зримый рай или,
вернее, воплощенную мечту о нем, представшую Парадоксалисту за
границей (23; 84-87), можно было видеть также в Старой Руссе, в
парке минеральных вод. Причем, что характерно – сразу в двух
возможных ипостасях, в облике традиционно европейском, греко-
римском (какой собой являла, например, архитектура здания
гостиницы-«воксала» на курорте) и еще – восточном, мусульманском,
или по-другому – «мавританском»27 (характерно отразившись на
устройстве Муравьевского фонтана28 и галереи вокруг т.н. Верхнего
из соляных озер). Все это выглядело явно знаменательным и
непростым, случайным сочетанием в свете указанного прежде
тяготения, или стремления одной культуры перейти в другую – Белую
Арапию, восточную тем самым деспотию (что некогда собой
7
продемонстрировали Греция и Рим, став подлинно империей и
тиранией, а вслед за ними Франция в эпоху революции и Наполеона).
Подобную метаморфозу Достоевский в том числе усматривал,
наклонность к ней в среде прозападных кругов в России, будь это
представители правительства, к примеру – губернатор Лембке в
«Бесах», или оппозиционно им настроенной интеллигенции (чьи
умонастроения собою выразил, их доведя до самого конца, в романе
Шигалев)29. Своеобразным отражением такой тенденции является,
конечно промыслительно, и то, что главным символом курорта в
Старой Руссе, иначе – рая на земле (согласно представлениям в
господствующей культуре), стал некогда устроенный фонтан министром
государственных имуществ, графом М.Н. Муравьевым, прежде
либералом, декабристом, а позднее – «Вешателем» (так нареченным
всеми) и крепостником (т.е. Великим инквизитором). К тому же чья
фамилия еще и предстает здесь говорящей, вроде названия – у
Муравьиной улицы в романе «Бесы»30. Как бы ее реальным
продолжением, но только в Старой Руссе, следует рассматривать один
из переулков, примыкающий к курорту, также характерно и словно бы
нарочно нареченный – Лебедев. Иначе тот, где поселился и
впоследствии был арестован столь непосредственно и живо
напоминающий собой кого-либо из «наших», почти такой же, как они,
в бесновании своем «кусающийся поручик» – Владимир Дмитриевич
Дубровин31. Он соотносится и даже именем своим с известным
романтическим героем Пушкина, или наследником разбойников у
Шиллера, кого собой изображает, в том числе и внешне, в известной
сцене, и не только в шутку, Митя.
Последний, являясь представителем тем самым западной культуры, в
этом духе желая сокрушить весь существующий, патриархальный и
неправедный порядок в лице своего родителя, а значит – Бога, и в
результате убивая «агнца», сына такого же отца, он, т.е. Митя,
8
внутренне все время протестует против этого, своих намерений. Что
находило отражение – в каких-то диких, необузданных, или совсем
нецивилизованных поступках. Мучимый, как сын своей земли, им
оставаясь вопреки всему, уже согласно имени32, или насквозь
проеденный «проклятыми вопросами», иначе – Богом, т.е. умершим и
прорастающим сквозь узы смерти и греха зерном33, его носитель
поступает соответственно, по-национальному. Или как тот –
известный у нас «капитан», представленный, к примеру, в «Дневнике
писателя», что так ведет себя открыто вызывающе и гадит прямо
среди залы благородного собрания34. И прежде всего – именно в
отместку за петровскую, или «200-летнюю цивилизацию», которую
пытается совлечь и растоптать. Как это делает вдобавок (недаром
написавший покаянное письмо к начальству) – капитан Лебядкин, с
которым сравнивается, таким образом, и Митя, тоже «капитан»,
согласно прозвищу, а потому и поселенный, видимо, не зря близ
Лебедева переулка35.
Неподалеку от него живет еще к тому же и другой, подобный им
обоим, в том числе и первому, штабс-капитан со сходною фамилией
при этом – Снегирев. Тот несомненно и в не меньшей мере
противодействует культурной, некогда навязанной опеке, в нем
оскорбляющей заветное, святое, нравственное чувство, его собою
унижающей и подавляющей, как Мармеладова из «Преступления и
наказания», откуда происходит им присущая или, к примеру, генералу
Иволгину слабость. Из-за чего все были изгнаны из общества. В
конечном счете – по причине коренной, что служит объяснением тому
и одновременно – всем странностям их поведения, не исключая
преднамеренной и нарочитой глупости36. Или, тем самым,
9
соответственно они подверглись этой участи за дух противоречия и
непокорства, иногда вдобавок проявлявшийся буквально, т.е.
непосредственно, в скандальной форме, опять-таки как у того
«извечного у нас капитана» или в целом – у любой «смердящей
твари». К их числу принадлежит, по-видимому, и супруга штабс-
капитана Снегирева (тем более, поскольку – «из простых»), что
10 Указанный мотив еще, по-видимому, сочетается с другим – стоять, условноговоря, как будто избоченясь, «фертом» (5; 61), а можно было бы сказать иначе –«ферзем».
11 Последний служит в Библии эмблемой или непосредственным изображением того,к чему ведет цивилизация. В конечном счете – к «запустению и разорению некогдашумных, многолюдных городов» (Никифор, архимандрит. Библейская энциклопедия –М., 1990 (1891). – С. 216), где будут лишь ежи и пеликаны, как символынеобитаемых, пустынных мест (Соф. 2:14; Ис. 34:11). Помимо этого, согласносуществующим поверьям, еж еще к тому же означает встречу с хитрым человеком илукавым неприятелем (см. Новейший снотолкователь – М., 1829), т.е.«антихристовым семенем» (или духовным порождением Ваала, который царствует, кпримеру, на Лондонской Всемирной выставке, последнем достижении цивилизации вЕвропе, и требует себе все новых жертв – 5; 68-74).
12 Напоминающей собой о знаменитом некогда пути, что проходил когда-то здесь(или совсем неподалеку), из стран варяжских «в греки», т.е. самый центрцивилизации на юге, в Византию.
13 Вследствие – отчаяния, происходящего из пламени страстей, рожденных вновьот соприкосновения с «долиной огненной», как называется еще Кедрон. Что могласимволизировать собой – та набережная, где жил мальчик в доме у купца, вреальной Старой Руссе именуемая Красный берег, чьим дополнением являются к томуже «красные казармы» на противоположном берегу, куда и направлялась, видимо,жена полковника, или m-me Ферзинг.
14 И вместе с тем – всеобщего Спасителя, Собой преображающего тварь, посколькувозле расположен был, на том же берегу другой, Спасо-Преображенский монастырь,которому принадлежала и Козьмодемьянская обитель (хотя бы превращенная ужетогда, по сути дела, в мызу, следовательно – «скотий рай», или сенокосные луга).
15 Перед которой не способны устоять и камни, сами обращаясь в воду, посколькув них рождается чудесным образом «дар слезный», как у жестокого купца в«Подростке» или у Ивана Карамазова, а значит – истукана «с медным лбом» (14;71). В кого вливается вдруг целый ад, несущий, словно поцелуй Христов («источникжизни», оттого – река), тот самый «плач и скрежет, – в соответствии сЕвангелием, – зубов».
16 О чем упоминает Достоевский непосредственно в одном из своих писем (301;206), за исключением бульвара, что идет вдоль берега. Однако он присутствует врассказе вместе с тем о мальчике-самоубийце, собою открывая как бы (в последнейсцене) трагический финал.
17 Вновь сравнивая планы обоих городов.18 Вернее – сразу два из них (и бывших несомненною новинкой только прежде, для
своего времени), впоследствии вместо которых завели при каждом здании для ванндругие из приспособлений. Однако далее, в начале уже следующего века, на курортевновь возводят общую, как прежде, водогрейню, соединенную вдобавок и с
10
пострадала вследствие «дурного воздуху». В итоге отчего, не вынеся
насмешек окружающих господ, подобных «дикому помещику»37, сошла с
ума.
Однако, несмотря на все несчастья и гонения, такого рода люди
продолжают внутренне, упорно, глухо всячески сопротивляться,
отвергая чуждую культуру, стремясь приблизиться, напротив, к
электростанцией, а кроме этого – с химической лабораторией по производствупрепаратов.
19 В Иерусалиме расположенной как раз почти на этом месте (вернее,соответственно – аналогичном).
20 Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 7-ми тт. – Т. 4. – М., 1977. – С. 65.21 Следуя к тому же и самой потребности, по мнению писателя, народа.22 Служившую не только лишь для Достоевского синонимом социализма, как
выражения – в ее последовательном виде или крайней форме – западной цивилизации.23 В безумии и темноте, вернее, бестолковости и суете своей, испытывая лишь
один дурной (в своих ночных кошмарах) страх, не верующую в Бога, уже согласноимени и отчеству (а разве только – в черта), пусть даже вопреки себе:рассказывая анекдот о Дидероте, как Федор Павлович. В чем превосходит их, опять-таки в своем неверии, Миусов, тот же, но лишь ушедший далеко вперед путемпрогресса, новый Дидерот (иначе «в переводе», собственно – «дурак и идиот», оком недаром сказано: «рече безумец в сердце своем несть Бог» – 14; 39), что дажеи не кается в отличие от прежнего, точней – из анекдота.
24 Так же, как и – Карамазовы, что отразилось в фамилии у первых, собойобозначающей (по-русски и татарски) «черную массу», перегной, и в имени второй –от греческого «агро…», т.е. «поле», или, тем самым – та же «почва».
25 Или жену, сидящую на «звере», например – на Мите, так названном в романе, асимволически – на собственном богатстве, власти, силе. С кем «блудодействовали,– (т.е. с ней), как будто в «Откровении…», – цари земные» (Отк. 17:2, 3), вданном случае – купец-стотысячник и городской к тому же голова – КузьмаСамсонов.
26 Желание, присущее, как отмечал неоднократно Достоевский, прежде всегокатолицизму, все решать вот так же, как и Митя, силой, жестоко мстить зананесенные обиды, напоминая чем средневековых рыцарей.
27 Таким соединением к тому же был отмечен и Священный город под властьюТурции.
28 Как, надо полагать, и у того, что был при Достоевском, не говоря уж опоследующем.
29 Не зря пришедший к парадоксу, как непреложному и окончательному выводу, обудущем цивилизации, гласящему о неизбежности установления вослед неограниченнойсвободе столь же беспредельного по своей сути деспотизма.
30 Аналогом последней в Старой Руссе могла служить, по-видимому,Петропавловская улица, когда-то проходившая неподалеку от Муравьевского фонтана.Ее название поэтому вполне было возможно трактовать как имя «первого в Россиинигилиста» или его духовных чад, у Достоевского стоящих, как ПетрушаВерховенский, во главе «настеганного стада», иначе говоря – Скотопригоньевска. Апо-другому – «малых сих», в отличие от первых нареченных – Павлами, условноговоря или буквально так, подобно Смердякову («Валаамовой ослице» и «слуге
11
почве, или естеству38, пусть замутненному, но все же Божьему
закону39. Внешне у штабс-капитана Снегирева это воплотилось в его
длинной бороде, отпущенной, конечно, с вызовом господствующим всем
установлениям своего прежнего сословия, сближаясь, таким образом,
с простым народом, по примеру Шатова. А им, как полагает
Достоевский, является, по сути, всякий русский человек, даже
Миусов, разрушающий на баррикадах, казалось бы, им столь
возлюбленную европейскую культуру, т.к. не в силах разорвать
таинственной, сакраментальный связи с той же почвой40. Но вместе с
тем любой сознательный возврат к ней с неизбежностью решительно
карался, и в основном со стороны своих же, увлеченных чуждою
идеей, направляемых сторонней силой41. Как это вновь произошло в
лице того же Мити.
Он символически своим поступком как бы унизил весь народ, о чем
свидетельствуют имена отца и сына, потерпевших от него – Илья и
Николай42, принадлежащие, иначе говоря, небесным покровителям и
собирательным, собой одушевляя, образам, согласно Достоевскому,
народной, почвенной России (23; 150. 291; 144-145)43. Испытывая
постоянно это же воздействие, она почти что неизменно пребывала
словно в преисподней, там подвергаясь тем же истязаниям, чреде
мучений. И не случайно потому семейство Снегиревых, как
олицетворение всего народа, проживает на Озерной улице, своим
верному Личарде»). 31 О ком в подобном духе отзывался сам Достоевский (301 ; 67).32 И месту проживания – близ Дмитровского переулка.33 Своим подобием – Всевышнему, Чей образ в наибольшей чистоте своей несет,
как полагает Достоевский, русский православный человек.34 Осуществляя этим, надо полагать, столь знаменательный в «Селе
Степанчикове…» сон – «про белого быка», упорно вызываемый в себе, пусть дажевопреки своей же воле, Фалалеем. (Чье имя, как бы производное от слова «фаллос»,и само видение, по сути, есть эмблема наряду с «Камаринским» того же самого,иначе говоря – демонстративного «шиша»).
35 Что расположен рядом – с Дмитровским (названному придавая, как символународной «почвы», свойства идеала, красоты духовной, присущей оттого любому изЛебядкиных и Лебедевых, сколь бы те не выглядели внешне безобразно).
12
названием напоминающей о том горящем озере, представленном в
апокрифе «Хождение Богородицы по мукам»44. В реальной Старой Руссе
такому из названий ближе всего соответствует другое – у Ерзовской
улицы и одноименного ручья45 (учитывая то, что слово «озеро» звучит
в церковно-славянском языке как «езеро»). Тогда, при жизни
Достоевского, указанный район был самым неблагополучным46 в городе,
собой напоминая, надо полагать, Геенну Огненную в Иерусалиме,
служащую там изображением или почти буквальным воплощением, как
хорошо известно, ада. Вместе с тем расположение Ерзовского ручья
определенно схоже с таковым у иерусалимского ручья Гион, или
Гихон, чье имя соотносится к тому же, исходя из Библии и в
соответствии с традицией, с рекою Нил47, тем самым вызывая в памяти
живое представление, рассказ-картину о египетском пленении. С
которым Достоевский прямо сравнивал культурную опеку со времен
Петра и новый уровень закабаления тогда народа, после московского
периода, как привнесения татарского начала в русскую
действительность и продолжения поэтому того же ига (в отличие от
первых нескольких, или, как сказано, шести веков существования в
России государства – 20; 11-12).
Иносказательно сюда, т.е. в поток Гион и, следовательно, в реку
Нил, словно в Египте некогда, был брошен, точнее – похоронен
рядом, или в реальности – на берегу Ерзовского ручья48,
единственный в семействе сын штабс-капитана Снегирева. Помимо этой
казни, данная река как бы собой определяла всю печальную судьбу
последнего, т.е. отца Илюши49, что отразилось в его прозвище,
происходящем от нее (вослед блаженной Лизавете, только от иной
реки)50, а потому и соответственно звучащем – Словоерсов. Как
отразилось – и в другом (где слышится опять-таки название
Ерзовского ручья), присвоенном ему, но уже Митей, – Йорик51. В том
числе, совместно с ним – и самому себе, т.к. живет здесь рядом,
13
разделяя ту же участь, или, таким образом – всего народа, т.е.
«малых сих».
А таковых, особенно в лице детей, или несущих на себе все тот же
образ Агнца, всегда стремилась уничтожить оттого любая из
языческих цивилизаций, подобно тем из образованных господ, что
мучают, к примеру, свою маленькую дочь (подталкивая этим, надо
полагать, к самоубийству, как Ставрогин, в том же нужнике). Помимо
страха за себя, поскольку видят здесь своих соперников в
дальнейшем, словно Ирод или Митя, поступающий как турки с
христианскими младенцами (а в свою очередь – Иван с ним, «малым
все одно ребенком», еще раньше – Федор Павлович с обоими: условно
говоря, их выбросив опять-таки в нужник)52, любой среди детей в
этой системе ценностей быть может ненавистен своей преданностью
Богу. Его, Который отражается в них даже внешне, пытаются поэтому
измазать калом, а также истребить и внутренне, в душе ребенка,
следуя Ставрогину. Тот отрывает свою жертву от Всевышнего путем
соблазна в виде чувственных, телесных наслаждений, заставляя
полюбить себя как своего мужа и кумира, оттого забыть все
остальное. Иван по отношению к Алеше (в ревности к его старцу и, в
конечном счете – к Богу) это делает иначе: собственно, как те
воспитанные мальчики из благородных, состоятельных семейств, что
всячески чернят отца, роняют его честь в глазах у сына, своего
товарища – Илюши. Однако он, происходящий «из простых» (в отличие
от благоразумных своих сверстников), в ответ грозит им кулаком,
как и Матреша, более того – сам норовит напасть исподтишка,
поскольку не желает подчиниться. За что, как первомученик Стефан,
в итоге подвергается такой же участи. О чем свидетельствует храм,
верней – придел в честь этого святого, существовавший некогда
неподалеку от места будущей условной, символической могилки
умершего мальчика, т.е. часовни Кирика и Иулитты53.
14
Последнее еще раз утверждает тождество, тем самым, между долиной
ручья Войе в Старой Руссе и Кедрона – в Иерусалиме, где
происходила названная здесь расправа, а также возведен
впоследствии был склеп убитого, не пожелавшего отречься от своего
Небесного Отца, Кого Илюша чтит в лице земного. И – недаром, т.к.
опять-таки неблагообразию природного первоначала, естественной
среды, Скотопригоньевска, устроенного «прежним Богом», предстающим
оттого в смешном, комичном виде («старым Боженькой») в поэме
Верховенского-отца54 или в реальности – вновь штабс-капитаном
Снегиревым, цивилизация противопоставляет сказанному только –
сосуд апокалиптической блудницы, внешне привлекательный, хотя
исполненный на самом деле мерзостей, не уступающих содомским.
Подобное скрывается за всей великолепной панорамой парка
минеральных вод55 с его театром, празднествами, балами. А потому и
не случайно именно отсюда (или как сказано – из городского клуба,
который был, по воспоминаниям Л.Ф. Достоевской56, заведен по
преимуществу для отдыхающих курортников, отождествляясь с ними,
таким образом) и возвращается в романе та веселая компания господ,
глумящихся над бедною юродивой (иначе – тем же ангелом) словесно и
не только. Что происходит (или то другое) – со стороны единственно
лишь самого последовательного среди них – Федора Павловича.
Он оттого слит нераздельно – с образом курорта, надо полагать,
как оба его старших сына – фигурально – с трактиром, именуемым
«Столичный город», или в действительности – «Эрмитаж»57.
Свидетельством тому (вышеуказанной взаимосвязи) является название,
к примеру, переулка, что примыкает к парку минеральных вод,
звучащее как Зонов, которое в своей основе составляет вторую из
фамилий Карамазова-отца или помещика Максимова, всего, по-
видимому, русского дворянства, увлеченного европеизмом,
воспитанного в этом духе. Ее, т.е. фамилию фон Зон, поскольку та
15
еще к тому же согласуется с названием одной из райских рек – Фисон
(как бы от слова «сын», но только по-французски)58, поэтому вполне
возможно увязать с Адамом. Или – сыном Божиим, согласно Библии
(Лк. 3:38), вот также падшим вследствие соблазна, а в дальнейшем
неизбежно изменяющим своей жене (как надо полагать), сам
представая, в свою очередь, обманутым супругом. Последнее
подсказывает, в частности, название другой из улиц – Рогачевская,
что служит продолжением (согласно топонимике при Достоевском)
указанного переулка и далее идет вдоль территории курорта.
Такой мотив возник в романе, видимо, отсюда, как сам во многом
персонаж, к кому это относится, иначе – Федор Павлович, чьим
прототипом был свой собственный фон Зон, когда-то живший в Старой
Руссе и давший свое имя переулку59. Подобное происхождение имеет
также, надо полагать, и фраза в черновых, подготовительных
материалах к «Братьям Карамазовым»: «Сернисто-водородный газ.
Оттого и душонки их этим пахнут» (15; 336). Скорей всего здесь
следует иметь в виду соленое озеро в курорте с его грязями,
передающее свой дух иносказательно и прямо всей окружающей,
причастной к нему публике. Оно, происходя из глубины земли, несет
в себе оттуда как бы воды хаоса и служит продолжением истоков
преисподней в такой же мере, как Мертвое, к примеру, море, куда
впадает непосредственно Кедрон, а в данном случае, напротив,
вытекает ручей Войе. Это придает ему, как и Озерной улице или
Ерзовскому ручью, берущему свое начало также здесь, поэтому и
соответственный характер. Вдобавок с ними – в целом данной
местности, т.е. в основном – курорту с его садами наслаждений,
будто бы в Содоме (по берегам того же озера, а по-другому – моря,
именуемого Мертвым). Или в Вавилоне и Египте времен Семирамиды,
Клеопатры – с такими же, как там, строениями вроде Вавилонской
башни, других языческих высот. А потому парк минеральных вод, что
16
расположен там же, где «царские сады» в Иерусалиме, вдобавок можно
уподобить и горе Соблазна60, лежащей, т.к. составляет часть горы
Масличной, по ту сторону Кедрона. А в Старой Руссе – ручья Войе
(совпадая с д. Бряшная Гора, откуда привели, т.е. конкретно – за 6
верст недаром, к старцу Зосиме бесноватую)61.
Подобным местом пребывания нечистой силы является к тому же,
36 Поскольку в трезвом виде, по свидетельству других, они – вполне серьезны идаже, без сомнения, умнее прочих, как Федор Павлович или, к примеру – ФедькаКаторжный, который, «может, по вторникам да по средам только дурак, а в четверг»– совсем наоборот (10; 205). Подобное, иначе – бестолковость у главы семействаКарамазовых, идиотизм – у Смердякова, Фалалея, наивность – у Ставрогина, опять-таки все то же пьянство – у иных (или у тех же самых) во многом коренится лишь вжелании достигнуть той свободы, чтобы «пойти против здравого смысла» (11; 177).Собственно – того, на чем стоит цивилизация.
37 В известной сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина.38 Чему, но только лишь наружно, в глубине души своей не веря этому, себе
противореча, дань отдает, как отмечает Достоевский, и цивилизация на Западе, всебольше соглашаясь, «что соприкосновение с природой есть самое последнее слововсякого прогресса» (23; 86).
39 В конечном счете становясь – «l’homme de la nature et de la vérité»(«человеком природы и правды» – фр.), в соответствии с Руссо. Иначе говоря, темсамым – русским, а не вольтерьянцем, т.е. не крайним европейцем. Тем более – неамериканцем, поскольку Вóльтер (3; 135) в переводе с языка, подобного «демыслибус …» (15; 28) у Мити Карамазова (как смесь «французского снижегородским»), означает: «вольная земля» и «страшная свобода» (или нечтопроизводное от слова «воля» в сочетании с другими: «terre» и далее –«terrible»), что, собственно, и есть Америка, которую благословил Вольтер передсвоей кончиной.
40 Об этом, видимо, свидетельствует, только лишь по поводу духовно емублизкого Ивана, Федор Павлович, когда он говорит, что «и тебя, философа, можно<…> на своей черте поймать» (национального характера) (14; 123). Возможно, самоимя данного героя, в той форме, как он его слышал в песне: «Ах поехал Ванька вПитер …», – подтверждает сказанное, т.к. по-немецки слово «wanken» означает«колебаться» или же «шататься».
41 В конечном счете, – даже превосходя своих учителей, вдруг начиная имиоттого руководить, подобно младшему из Верховенских или Смердякову: по отношениюк Ставрогину и соответственно – Ивану (хотя бы по другому поводу).
42 Перетекая, связанные – в круг, столь знаменательно здесь предстающиевдвойне: как Николай Ильич и соответственно – наоборот, т.е. Илья, напротив,Николаевич.
43 Не зря поэтому слуге Григорию, который также, без сомнения, олицетворяетвесь народ в романе, были приданы черты того же Николая Мирликийского.Последние, к примеру, проявляются в его известном жесте (удару по щеке) поотношению к еретику, «анафеме», такому же, как Арий – Смердякову.
44 Впервые эта мысль была высказана основателем мемориального музея в СтаройРуссе, посвященного Ф.М. Достоевскому, Г.И. Смирновым (см. об этом: Мраморнов О.Там, где жили Карамазовы // В мире книг. – 1981. – № 11. – С. 75-77).
17
несомненно, и 40-дневная гора, где искушаем был Христос, а в
«Братьях Карамазовых» – Алеша в трактире на базарной площади во
время свидания с Иваном, собственно – в таком же клубе, как
курорт. А значит – на горе Соблазна или в Содоме и Гоморре, тем
более, что рядом незадолго происходила сцена надругательства над
штабс-капитаном Снегиревым, его сыном, в их лице – над всеми
45 Берущего свое начало – в Верхнем озере курорта и образующего далее собойдругое в определенной своей части (вдобавок нареченное, как он, Ерзовским).
46 В санитарном смысле.47 Которая берет свое начало в Эфиопии, или стране Куш, а именно ее и обтекал
Гихон (Быт. 2:13). Поток Гион (Геон) в Иерусалиме, считается, был назван в честьнего, т.к. «выходит из скрытых подземных источников», согласно блаженномуФеодориту. (Цит. по кн.: По святым местам от Киева до Иерусалима. – К., 2005. –С. 123-124).
48 Не зря тот служит как бы продолжением иного – ручья Войе, т.е. опять-таки –Кедрона (или «долины смерти»).
49 Не говоря уже – о нем самом, кому она опять-таки вливает в грудь огоньнесметных мук-«терзаний», подобно мальчику-самоубийце из «Подростка».
50 Соседней, с ней сливающейся далее в своем течении и объясняющей, как и она,поэтому собой (т.е. река Смердящая или в реальности – Малашка) смрад грехов,лежащих на простом народе.
51 Т.е. шут гороховый (14; 184, 188, 436, 483, 486. 15; 312) и ёрник. Вдобавокследует сказать, что Ерик Безымянный – это еще к тому же прежнее название рекиФонтанки, как одного из символов, тем самым, Петербурга. А с ней имеетдополнительное сходство (и в таковом ее наименовании), поскольку он берет своеначало из озера, где бьет фонтан, опять-таки ручей Ерзовский в Старой Руссе,благодаря чему последний тем более мог представать эмблемой петербургскогокультурного периода в истории России.
52 К чему идет (т.е. в отношении своего потомства) в целом Запад, где оттогопочти одни лишь старики, как отмечает Достоевский.
53 О чем вполне мог Достоевский знать из книги, имевшейся у него в библиотеке:Макарий, архимандрит. Церковно-историческое описание гор. Старой Руссы … –Новгород, 1866.
54 А равно – у Ивана Карамазова (15; 231).55 Или воксала в Петербурге и его окрестностях, а также – за границей
(особенно – в романах «Идиот», «Игрок»). Как отмечалось ранее, такой воксал былвместе с тем и на курорте в Старой Руссе.
56 См.: Достоевская Л.Ф. Достоевский в изображении его дочери … – М. – Пг.,1922.
57 А может быть, и даже вероятнее всего – «Санкт-Петербург».58 Вернее – в соответствии с одним, так и другим из языков – французским и
немецким.59 О старорусском фон Зоне см.: Рейнус Л.М. Достоевский в Старой Руссе. – Л.,
1971.60 На которой царь Соломон устроил капища языческим богам (и в том числе –
Молоху, кому необходимо было в жертву приносить детей, как принесен в романе былИлюша, чья условная могила находилась тут же, а реальная – неподалеку).
18
малыми и слабыми, смиренными как ангелы. По сути, продолжением ее,
иначе – той же сцены, можно рассматривать теорию Ивана, т.к.
последние, «ничтожные» и «малосильные», в ней подвергаются такой
же участи – уничижению при жизни и полному исчезновению за гробом.
Чего и добивается Великий инквизитор, их, несомненно, любящий, но
только лишь как любят жертву. По примеру – Лизы Хохлаковой,
распинающей младенца, т.е. Эммануила-Христа, вкушая «ананасный»
(вместо яблока)62 компот и сладострастно заявляя: «Это хорошо!»
(15; 24). С чем соглашается вполне Иван.
Подобной плотоядной мерзости, в которой признается, таким
образом, последний, исполнено в духовном смысле любое из языческих
строений, будь это Вавилонская, к примеру, башня и в целом – вся
цивилизация, как было сказано – антихристова церковь в образе
блудницы. Чьим символом является Нечистый, происходящий, словно
Смердяков, из отвратительной, зловонной грязи в Мертвом море63 или
соленом озере курорта. Их ожидает потому, иначе – гордые холмы
Скупого рыцаря или Подростка, воздвигнутые силой преклонения перед
«золотым тельцом», земными хлебами, а по-другому – кучи грязи
(согласно, в том числе, названию и переулка неподалеку от
курорта)64, в конечном счете – та же участь, что и Содом или
Гоморру. Тогда разодраны будут покровы на блуднице (Отк. 17:16-
17), обнажена, тем самым, грязь честолюбивых и развратных
устремлений, разбит ее сосуд (Отк. 2:26-27 – Иер. 51:7-9), как это
делает князь Мышкин или Митя65.
Последнее явилось грозным знамением, предупреждением его отцу,
61 Поэтому и не случайно на таком же расстоянии в романе от обители находитсядеревня Вышегорье, где живет та самая баба, что явилась в монастырь с ребенкомна руках, собой изображая Богоматерь (точнее – сцену Вознесения Ее на Елеоне).
63 Поскольку то является одним из воплощений преисподней.64 Не существующего ныне, прежде именуемого – Кучин.65 Все это совершая также – во исполнение пророчества Иеремии о заблудших
пастырях, вождях, ведущих к гибели подвластный им, духовно опекаемый народ (ихсравнивая с «дорогим сосудом», что «падет» – Иерем. 25:34).
19
живому символу, как отмечает Достоевский, нигилизма (27; 54), т.е.
отрицания своих корней и увлечения чужой культурой. Собственно, о
том же самом, только лишь возле курорта, непосредственно собой
напоминает и название Ильинской улицы, чьим благородным отпрыском,
или наследником по духу и по имени, здесь предстает Илюша,
проживающий на ней, что наказует осквернителей отеческих начал (в
самом широком смысле) на земле. Как это сделал в свое время –
великий князь Иван Васильевич III с предводителями новгородцев из
числа изменников-бояр, сторонников сближения с Литвой, во главе с
Дмитрием Борецким. И причем казнил их там же в Старой Руссе, на
Ильинской улице66, неподалеку от соленого ручья, который
соответствует Кедрону, имеющему также и название Иосафатовой
долины, как места будущего Страшного суда67. Чтобы его избегнуть,
Достоевский предлагает совсем иной путь, не предательства, а
«расширения сознания», культуры (по своей сути чуждой и враждебной
европейской), соединения ее с цивилизацией, идущей с Запада,
порочной внутренне, зато, напротив, совершенной внешне, чего
недостает так «почвенной», иначе – «карамазовской» России68. Чей
корень крепок, светел, словно сердце у отца Алеши, но вместе с тем
покрыт греховною коростою снаружи.
Осуществление своих мечтаний Достоевский видел в будущем России,
условно говоря – среди детей, какие бы не ожидали их падения в
дальнейшем, когда скорей всего те «станут злы». Он все же,
несмотря на это, верил, что мальчики Красоткин, Смуров (последний
с говорящею фамилией и в черной курточке вдобавок, но с виду
чистенький и белый) соединятся с их товарищем Илюшей, столь
неопрятным, грязным и к тому же с черными, сверкающими злобою
глазами. Но, однако – с благородным сердцем, или красной грудью,
т.к. – Снегирев, т.е. с горячей верою в душе. Тогда случится так,
что шестеро среди детей во время столкновения неподалеку от
20
канавки сблизятся, сольются внутренне, сердечно с остальными,
вернее – им противоположной стороной69. Их, как в конце романа,
станет полностью двенадцать. Иначе Церковь разделенная вновь
обретет былую цельность, совершенство, краеугольным камнем для
которой или той самой благодатной почвой послужит подлинный
Иерусалим, т.е. народ в лице Илюши70, за ним стоящего святого Ильи
Муромца под покровительством Ильи-пророка. Чья улица не перестанет
быть при этом – и Озерной, сохраняя парк курорта, как изображение
того же рая, что превратится из иллюзии в реальность, собой
откроет горнюю дорогу, широкую и светлую, как Млечный путь,
навстречу Богу, словно в видении, или пророчестве Алеше.
69 И соответственно – Большая улица, где те находятся – с Михайловской, иначеговоря – земное воинство – с небесным, мирской и «узкий» путь, в итоге – дольниймир и горний.
70 Поскольку названный в романе – непосредственно уподобляется Святому городуи одновременно является, как было сказано, олицетворением русского народа.
62 И то и другое слово в данном случае является синонимом соития и символом,иначе, самки, пожирающей самца. Вернее, здесь невестой – жениха (в его небесномобразе), ветхозаветной Евою – Адама и таковою Церковью – Спасителя.
66 Вернее – рядом, на Торговой площади, когда-то слитой нераздельно с ней.67 Последняя, и прежде всего в этом качестве, где воскресают умершие перед
тем, как будет решена в дальнейшем их судьба, представлена у Достоевского врассказе с символическим названием «Бобок» (21; 47).
68 Которая поэтому столь часто всячески стремится перенять – казалось бы,несвойственные формы, всем жертвуя своим, себя всецело предавая иному жениху,как, например, Полина в «Игроке», любая среди русских барышень – французу.Далее, вослед за ними, соответственно простолюдинки – барину, причем не толькозаграничного происхождения: подобно Грушеньке – поляку, но также всякому изобразованных господ, не исключая самых захудалых среди них, т.е. почти таких жеполуварваров, каким является в романе Федор Павлович, сумевший все-таки увлечьсобой различных «поломоечек»: Софью Ивановну, не говоря уже о Лизавете (и дажена какой-то миг – Аделаиду Ивановну, высокородную девицу).
21