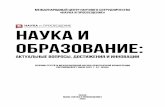Шишков и Наполеон
-
Upload
litinstitut -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Шишков и Наполеон
еликому, но не крѣпкому, подъ кото
1
къ ближнему
Шишков и Наполеон*
1
Государь император Александр Павлович, вполне постигший искусство управления людьми, хорошо разбиравшийся в них, знал, какой человек и в какое время более всего будет полезен на том или ином государственном посту. Отправив в отставку государственного секретаря М. М. Сперанского и выслав его в ночь с 17 на 18 марта 1812 г. в Нижний Новгород, Александр «думая призвать Карамзина, и назначить на его мѣсто, сказалъ объ этомъ Балашову, который, между прочимъ, указалъ на Александра Семеновича Шишкова, какъ заслуженнаго сановника и ревностнаго патріота (тогда же всеобщее вниманіе обращено было на его речь „О любви къ отечеству”)»1.
Упомянутое министром полиции А. Д. Балашовым «Рассуждение о любви к отечеству» было прочитано Шишковым в заседании «Беседы любителей русского слова» 15 декабря 1811 г. Это выступление потребовало от Шишкова известного мужества, ибо в условиях напряженных отношений с Францией вполне реальными были его опасения в том, что «Рассуждение…» будет поставлено в вину Шишкову как «какое нибудь смѣлое покушеніе, безъ воли правительства возбуждать гордость народную»2, попросту говоря, как подстрекательство. «Рассуждение…» было прочитано в многолюдном собрании (около 400 человек); не без робости приступил Шишков к чтению, однако, «Рссуждение…» было принято с о д воодушевлением: «…казалось, возвышаемая мн ю обродѣтель надъ всѣми вообще сильно подѣйствовала»3.
В «Рассуждении…» Шишков утверждал мысль о том, что «самая сильнѣйшая ограда всякой державы, есть любовь къ Отечеству»4. Целый ряд ярких примеров отечестволюбия как из древней, так и из русской истории, среди которых подвиги Фемистокла, Эпаминонда, Регула, Минина и Пожарского, Филар о е о и пета (Романова) и Гермогена, д лж н, п мнению Ш шкова, ридать этой мысли неоспоримую убедительность.
Затем Шишков обращается к тем средствам, коими укрепляются добродѣтели любви к Отечеству и народной гордости.
«Первѣйшая покровительница ихъ есть святая провославная вѣра, сей единственный человѣческаго благополучія источникъ, изъ котораго народоправитель почерпаетъ мудрость, законъ силу, судія правду, полководецъ мужество, земледѣлецъ трудолюбіе, воинъ храбрость и безстрашіе»5. «Вѣра даетъ намъ душевныя силы любить и дѣлать добро, маловѣріе отъемлетъ ихъ, безвѣріе же погружаетъ насъ въ бездну буйствъ и пороковъ, разрушающихъ безопасность, тишину и спокойствіе народное»6.
Второе средство — это отечественное воспитание. Если «Государство или народъ желаетъ благоденствовать, то первое попеченіе его долженствуетъ быть о воспитаніи юныхъ чадъ своихъ въ страхѣ Господнемъ, въ напоеніи сердецъ ихъ любовно къ вѣрѣ, откуду проистекаетъ любовь къ Государю, къ сему поставленному отъ Бога отцу и главѣ народной; любовь къ Отечеству, къ сему тѣлу в безъ соединенія съ главою своею; и наконецъ любовь рою разумѣются сперва сограждане, а потомъ и
* Публикации: 1) Šiškov e Napoleone // La Torre di Babele. Rivista di letteratura e linguistica. N 6.
2009-2010. P. 121-132. (В сокращении); 2) Язык императорских манифестов в эпоху Отечественной войны 1812 года // Вестник Литературного института им. А. М. Горького. № 2. 2009. С. 177‐200.
весь р вствуетъ, н б
2
одъ человѣческій. Отсюду я что воспита іе должно ыть отечественное, а не чужеземное»7.
Наконец, любовь к Отечеству сопряжена с любовью к родному языку. «Языкъ есть душа народа, зеркало нравовъ, вѣрный показатель просвѣщенія, неумолчный проповѣдникъ дѣлъ. Возвышается народъ, возвышается языкъ; благонравенъ народъ, благонравенъ языкъ. Никогда безбожникъ не можетъ говорить языкомъ Давида: слава небесъ не открывается ползающему въ землѣ червю. Никогда развратный неможетъ говорить языкомъ Соломона: свѣтъ мудрости не озаряетъ утопающаго въ страстяхъ и порокахъ. Писанія зловредныхъ умовъ не проникнутъ никогда въ храмъ славы: даръ краснорѣчія не спасаетъ отъ презренія глаголы нечестивыхъ. Гдѣ нѣтъ въ сердцахъ вѣры, тамъ нѣтъ въ языкѣ благолѣпія. Гдѣ нѣтъ любви къ Отечеству, тамъ языкъ не изъявляетъ чувствъ отечественныхъ. Гдѣ ученіе основано на мракѣ лжеумствованій, тамъ въ языкѣ не возсіяетъ истинна; тамъ въ наглыхъ и невѣжественныхъ писаніяхъ господствуетъ одинъ только развратъ и ложь. Однимъ словомъ языкъ есть мѣрило ума, души и свойствъ народныхъ. Онъ не можетъ тамъ цвѣсти, гдѣ умъ послушенъ сердцу, а сердце слѣпотѣ и заблужденію. Но гдѣ добродѣтель вкоренена въ душахъ людей, гдѣ всякому любезенъ языкъ правоты и чести, тамъ, не опасаясь стрѣлъ невѣжества и клеветы, растутъ и зрѣютъ одни только плоды наукъ и трудолюбія»8.
Вывод ясен: «Изъ всѣхъ сихъ разсужденій явствуетъ, что Вѣра, воспитаніе и языкъ суть самыя сильнѣйшія средства къ возбужденію и вкорененію въ насъ любви ч , р , къ Оте еству которая ведетъ къ силѣ, тве дости устройству и благополучію»9.
Все эти идеи для слушателей Шишкова не были новостью, его идеологическая, культурная и языковая позиция были к 1812 году хорошо известны русскому обществу. Еще в 1803 году он вступил в ожесточенную полемику с Карамзиным по поводу его так называемого «нового слога», в ходе которой были написаны «Разсуждение о Старом и Новом слоге российского языка» (1803 г.), «Прибавление» к «Рассуждению…» (1804 г.), «Разговоры о словесности между двумя лицами АЗЪ и БУКИ» (1811 г.), «Рассуждение о красноречии Священного писания и о том, в чем состоит богатство, обилие, красота и сила Российского языка и какими средствами оный еще более распространить, обогатить и усовершенствовать можно» (1811 г.). Согласно Шишкову, язык — это прежде всего словарь, который представляет собой некий органон мысли, то есть орудие восприятия и осмысления действительности; каждое слово языка, точнее, его корень — это не условный знак, а особый, национально своеобразный способ истолкования и представления понятия. У Шишкова впервые не только в русской, но и в новой европейской литературе выражена мысль о том, что позднее Вильгельм фон Гумбольдт будет называть внутренней формой языка, А. А. Потебня — внутренней формой слова, А. Ф. Лосев — ноэмой слова. А. С. Шишков для выражения этого понятия будет пользоваться разными терминами: разум слова, умствование, заложенное в корне слова, понятие, заключающееся в корне слова, сила слова; но в любом случае всегда имеется в виду способ понимания и осмысления вещи. Таким образом, задолго до романтиков он выразил именно романтическое представление о том, что язык есть воплощение народного духа. Отсюда проистекают у Шишкова его гневные
филли
3
няя и не прибавляя къ нимъ ни слова выпиъ другимъ, изъ чего вышло полное описаніе наВыписки сделаны по следующимъ рубрикам:
пики против заимствований, против галломании, против воспитания русских дворянских детей французскими гувернерами.
Если язык вообще — это воплощение духа народа, то французский язык — это воплощение чудовищного духа Французской революции, духа народа, у которого в сердце нет веры, поэтому влияние французского языка ничего, кроме вреда, принести не может. Русский же язык благодаря своему сущностному единству с церковнославянским языком — это язык веры, язык благочестия, язык, обладающий высоким стилем, который дает ему преимущества перед всеми европейскими, если только он не будет окончательно испорчен карамзинистами.
22 марта 1812 г. он призвал к себе Шишкова и, по словам последнего, сказал ему следующее: «Я читалъ разсужденіе ваше о любви къ отечеству. Имѣя таковые чувства, вы можете ему быть полезны. Кажется у насъ не обойдется без войны съ Французами; нужно сдѣлать рекрутскій набор; я бы желал, чтобъ вы написали о томъ манифестъ»10. Как видим, опасения Шишкова в отношении Александра I были напрасными: царь по достоинству оценил слог «Рассуждения…». Правы издатели «Записок», Н. Киселев и Ю. Самарин, когда писали о мотивах, побудивших Александра призвать Шишкова: «Онъ тогда уже былъ убежденъ въ неизбѣжности войны съ Наполеономъ и предвидѣлъ, что борьба будетъ упорная. Надо было изготовиться къ ней всѣми народными силами; для этого необходимо располагать довѣріемъ народа; а чтобы внушить это довѣріе, нужно прежде всего умѣть говорить съ народомъ. И такъ вопросъ состоялъ въ томъ, чтобы запастись простымъ, правдивымъ, искреннимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ сильнымъ и воодушевляющимъ къ подвигу словомъ. Такое слово, показалось Александру, звучитъ въ “Разсужденіи о любви къ отечеству”; опытъ съ манифестомъ о наборѣ оправдалъ чуткость его слуха; и онъ, подавляя въ себѣ всякое личное чувство, рѣшается приблизить къ себѣ, для ежечасныхъ сношеній, человѣка, который, во многихъ отношеніяхъ, не былъ ему по‐сердцу»11. Таким образом, выбор Александра I в значительной мере определялся стилистическими мотивами: в надвигавшейся войне с Наполеоном император счел, что именно перо Шишкова, а не Карамзина, сможет сыграть роль вдохновителя и объединителя всех национальных сил для борьбы с врагом.
Кроме того, царь не мог не учитывать общественного мнения, и он не ошибся в своих ожиданиях: назначение Шишкова государственным секретарем было встречено с воодушевлением. С. Т. Аксаков вспоминал: «Нисколько не позволяя себе судить, на своем ли он был месте, я скажу только, что в Москве, и в других внутренних губерниях России, в которых мне случалось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова и что писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда нескол выр ько напыщенные ажения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей»12.
Несмотря на свой почтенный возраст (58 лет) и болезни, Шишков, повинуясь долгу царской службы, отбыл 12 апреля 1812 г. из Петербурга в действующую армию. Во время похода, выполняя возложенную на него императором миссию, Шишков перечитывал св. Писание и находил в нем «разныя описанія и выраженія весьма сходныя съ нынѣшнею нашею войною. Я не перемѣ салъ и только сблизилъ ихъ одно с шихъ военныхъ дѣйствій»13.
4
й становилась все большей от манифеста к м а средством этого осмысления постоянно оставались ресурсы славянского языка.
Уже в первом манифесте от 23 марта 1812 г. Шишков писал: «Настоящее состояніе дѣлъ въ Европѣ требуетъ рѣшительныхъ и твердыхъ мѣръ, неусыпнаго бодрствованія и сильнаго ополченія, которое могло бы вѣрнымъ и надежнымъ образомъ оградить Великую ИМПЕРIЮ НАШУ отъ всѣхъ могущихъ противъ нее быть непріязненныхъ покушеній» (I, 1)
«Вшествіе врага въ царство и гордый помыслъ его» : Иер. 46: 7; Иов. 41: 15, 5, 12; Ис. 14: 13; Иез. 26: 7, 2, 3, 4, 7, 8, 10‐13, 18; Иер. 47: 2‐3.
«Разореніе Иерусалима»: Иер. 13: 27; Плач Иер. 1: 1, 4, 6, 10; 2: 2; 4: 11; 1: 10; 2: 2, 12, 13, 15; 4: 12;,
ифь 16: 3‐4; 14‐15; Пс. 64: 5‐6, 64: 7‐9; Ис. 11:
«Молитва Царева»: Плач Иер. 1: 20: Иуд 2; Пс. 17: 47, 3; «Гласъ съ небеси»: Пс. 90: 1‐6, 8, 7, 8‐13; «Воззваніе царя къ народу»: Иер. 46: 3, 9, 3, 14; Ос. 5: 8; Иер. 4: 5, 7; 49: 19; 23:
19; 6: 2 ак. 3: 20; 1: 1‐4; 3: 19‐21; Иер. 4
2; Пс. 54: 6; Иер. 6: 1; 1 Мак. 3: 43; Пс. 17: 38; 1 М6: 10; Пс. 23: 8; Ис. 13: 13‐14; 2 Цар. 1: 23; Ис. 34: 2‐3, 1; 40: 6‐8; «Паденіе кипариса»: Иез. 31: 3‐5, 8, 6, 10‐17, 19‐21; «Пророчество»: Пс. 97: 1‐7; Авв. 3: 11‐13; Пс. 143: 11; Вар. 5: 1‐2; Ис. 60: 1‐4;
Вар. 5: 5‐7; Ис. 60: 14; 2: 4; Мих. 4: 4; Ис. 60: 5‐6, 9, 8; 64: 11‐12; 143: 13; 64: 14, 13; 60: 18, 2014. Текст см. в Приложении 1.
Следует отметить, что Шишков не столько цитирует св. Писание, сколько создает из имеющихся выражений свой собственный текст. Это значит, что для него имели парадигматическое значение не события и персонажи библейской истории как прообразы совершающихся и грядущих событий, а сам славянский язык как образ понимания и оценки событий и персонажей текущей истории. Например в 1 Мак. слова и собра силу крѣпку зѣло, и начальствова надъ странами (1 Мак. 1: 4) относятся к Александру Македонскому. Кому как не Шишкову было знать, что Екатерина Великая, давая своему внуку имя Александр, имела в виду не столько его небесного патрона св. князя Александра Невского, сколько завоевателя мира и основателя новой мировой эллинской монархии Александра Македонского; и тем не менее эти слова он относит к Наполеону, поскольку они отвечают текущей истории.
2
Манифесты А. С. Шишкова «являются важнейшей частью литературного наследия Шишкова и заслуживают самого внимательного анализа»15. Всего за 1812‐1816 гг. было написано 115 манифестов от простых и вполне конкретных кратких приказов до развернутых воззваний к народу, в которых было выражено понимание сути присходящих событий16. В представлении Шишкова историософский смысл Отечественной войны 1812 года заключался в столкновении антихристовой Революции и христианской России, злочестивого французского народа и благочестивого русского народа.
Антитеза благочестия, то есть истинного Богопочитания и благоговения, и злочестия, то есть Богопротивных мыслей и дел, проходит через все манифесты; при этом глубина историософского осмысления происходящих исторических событи анифесту,
17. Слово неприязненный здесь совсем не случайно: Шишков, начитанный в св. Писании, знал, что в славянском языке слово неприязнь означало диавола, лукавого. См., например: неприязнь ‘зло, диявол’;
неприязненный ‘злый, худый, лукавый’. Мф. 13: 38 (Алексеев 2, 192). В истолковании притчи о плевелах (Мф. 13: 24‐30, 36‐43) Иисус Христос называет сынами неприязненными (в русском переводе — сынами лукавого; греч. o≤ u≤oπ toà
ponhroà) плевелы, посеянные врагом рода человеческого среди доброй пшеницы. В Евангелии от Иоанна (17: 15) Иисус Христос просит Бога‐Отца о своих учениках: Не молю, да возмеши ихъ отъ міра, но да соблюдеши ихъ отъ непріязни (в русском переводе — от зла; греч. œk toà ponhroà). Таким образом, неприязненные покушения есть не что иное, как попытки дьявола разрушить православную Империю; франц с л — есущие
5
тексте: Ядоша же и насытишася: и взяша избытки ук мь цъ (Мк. 8: 8). Враг не долго был в России, но «оставилъ по себѣ слѣды звѣрства и
лютости, которые въ бытописаніяхъ народовъ покроютъ соотечественниковъ и потомковъ его вѣчнымъ стыдомъ и безчестіемъ»; все дела его «богомерзкія»; «одна Москва представитъ намъ плачевный образъ неслыханныхъ злодѣяній», «мерзостей и неистовствъ» (XXXII, 50, 51, 54). Однако «пopyганіе святынь есть
уз кое войско в таком с учае это и есть н зло сыны неприязненные из евангельской притчи.
В последовавших за этим манифестах антитеза наполнялась новым содержанием, для выражения которого использовалась лексика с яркой церков й л юзии на библно окраской, прямые цитаты из св. Писания, а л ейские и богослужебные тексты.
1. Враг вступил в Россию, «надѣясь силою и соблазнами потрясть спокойствіе Великой сей Державы. Онъ положилъ въ умѣ своемъ злобное намѣреніе разрушить славу Ея и благоденствіе. Съ лукавствомъ въ сердцѣ и лестію въ устахъ несетъ онъ вѣчныя для ней цѣпи и оковы» (Х, 14). «Дьявольская» семантика слов злобный, лукавство в комментариях не нуждается; слова же соблазнъ и лесть в церковных книгах значили не то или не совсем то, что в современном русском языке. «Соблазнъ собственно значитъ претыканіе на пути, отъ чего человѣкъ иногда упадаетъ. Псал. 46: 139. Въ св: писаніи наипаче соблазнъ иносказательно приемлется за духовное преткновеніе, за петлю и сѣть, то есть, за такія вещи, кои насъ на пути жизни вѣчныя могутъ нѣсколько остановить, или вовсе препятствовать ко спасенію. Рим. 14: 13. А въ книгѣ великого Василія о скитахъ, т. е. о пустынножительствахъ соблазнъ есть то, что отводитъ человѣка отъ истины благочестія къ отступству или заблужденію, или пособствуетъ къ назиданію нечестія, или что возбраняетъ повиноваться закону Божію И ч ф 8: 7» ( в 3, 86‐87); «‘обманъ, хитрость, к
. Мк. 18: 7. ндѣ зна итъ ересь. М . 1 Алексее Лесть оварство’» (Алексеев 2, 81).
Неприятель пришел «съ мечемъ, на yбieнie насъ изощреннымъ», «съ пламенникомъ для воспаленія нашихъ домовъ, съ цѣпями для возложенія ихъ на выю нашу, съ кошницами для наполненія ихъ разграбленнымъ имуществомъ нашимъ»; он «св о ерзаетъ о лады съят татственною рукою д бдирать ок почитаемыхъ нами Святыхъ и чудотворныхъ Иконъ» (XXX, 48).
Изощренный — страдат. прич. от глагола изострить; несов. вид изощрять ‘делать острым, точить’ (СЦРЯ II, 121); это слово употребительно в св. Писании: Покрый мя отъ сонма лукавнующихъ, отъ множества дѣлающихъ неправду: иже изостриша яко мечъ языки своя, напрягоша лукъ свой, вещь горьку (Пс. 63: 3‐4). Слово кóшница ‘корзина’ (СС 292) употреблялось еще в древнейших списках Евангелия — Зографском, Мариинском, Савиной книге и других; см. в обиходном славянском рухъ, седкошни
самый верхъ безумія и развращенія человѣческаго. Посрамятся дѣла нечестивыхъ, и путь ихъ погибнетъ! Онъ уже и погибаетъ. Исполнилась мѣра злодѣянія, воспаленные храмы и дымящаяся кровь подвигли на гнѣвъ долготерпѣніе Божіе. <…> Низверженный въ бездну отчаянія, видя погибель свою, изрыга е
6
ъ неложную себѣ славу, оставимъ спокойствіе отомкам нашимъ, и благодать Вождя пребудетъ съ нами» (XXXII, 55‐57).
Поражение Наполеона в войне выражено при помощи библейского символа: «Рогь сильнаго сломленъ» (XLV, 87), благодаря чему историософское углубление темы достигает предела. Проведенный М. Ф. Мурьяновым анализ показал, что у многих восточных народов, как семитов, так и яфетидов, рог был символом силы, движущей историю
етъ в сь остатокъ ядовитой желчи своей, дабы еще единожды угрызть и погибнуть съ шумомъ» (XXXII, 54).
Слова «Посрамятся дѣла нечестивыхъ, и путь ихъ погибнетъ!» ‐ это аллюзия на Псалом 1: Яко вѣсть Гоподь путь праведныхъ, и путь нечестивыхъ погибнетъ (Пс. 1: 6), а слова «…погибнуть съ шумомъ» ‐ аллюзия на Псалом 9, написанный по поводу победы, одержанной царем Давидом над сирийцами: Врагу оскудѣ в к ъ а л бе яша оружія ъ онец , и гр ды разруши ъ еси: поги пам ть его съ шумомъ (Пс. 9: 7).
Размышляя о том, отчего все войско неприятеля было сборищем «изверговъ, грабителей, зажигателей, убійцъ невиности, оскорбителей человѣчества, поругателей и осквернителей самой святыни», Шишков приходит к мысли, что Наполеон не смог бы вдохнуть во французов «духъ ярости и злочестія», если бы их сердца уже «не были развращены и не дышали злонравіемъ»: «Гдѣ, въ какой землѣ весь Царскій домъ казненъ на плахѣ? Гдѣ, въ какой землѣ столько поругана была Вѣра и самъ Богъ? Гдѣ, въ какой землѣ самыя гнусныя преступленія позволялись обычаями и законами? Взглянемъ на адскія изрыгнутыя въ книгахъ ихъ лжемудрованія, на распутство жизни, на ужасы революцій, на кровь пролитую ими въ своей и чужихъ земляхъ: слыхано ли когда, чтобъ столѣтніе старцы и не рожденные еще младенцы осуждались на казнь и мученіе? Гдѣ человѣчество? Гдѣ признаки добрыхъ нравовъ? Вотъ съ какимъ народомъ имѣемъ мы дѣло! И посему должны разсуждать, можетъ ли прекращена быть вражда между безбожіемъ и благочестіемъ, между порокомъ и добродѣтелію? <…> Очевидный, исполненный мерзостями, пожарами Москвы осіянный, кровію и ранами нашими запечатленный примѣръ напослѣдокъ долженъ намъ открыть глаза, и увѣрить насъ, что мы одно изъ двухъ непремѣнно избрать долженствуемъ: или продолжая питать склонность нашу къ злочестивому народу, быть злочестивыми его рабами; или прервавъ съ нимъ всѣ нравственныя связи, возвратиться къ чистотѣ и непорочности нашихъ нравовъ, и быть именемъ и душею храбрыми и православными Россіянами. Должно единожды решиться между зломъ и добромъ поставить стѣну, дабы зло не прикоснулось къ намъ: тогда искусясь кровію и бѣдами своими, возстанемъ мы, купим д п ъ
18. Так, Псалмопевец неоднократно утверждал: Бог — рог спасения моего (Пс. 17: 3), яко похвала силы ихъ Ты еси, и во благоволении Твоем вознесется рогъ нашъ (Пс. 88: 18); сила врагов Божиих также выражается символом рога, но их рог будет сокрушен, отсечен, стерт, сломлен: Вся роги грѣшныхъ сломлю, и вознесется рогъ праведнаго (Пс. 74: 11). Наполеон поражен сатанинской гордыней: охваченный жаждой «всесвѣтнаго обладанія» (XXXVII, 68), он «дерзаетъ присвоить себе Богу единому приличную власть
располагать престолами Царей», однако Россия положила предел «безпр вл и н
7
я львовъ и тигровъ; соединитесь всѣ: со крестомъ въ сердце и съ оружіемъ въ рукахъ, никакія силы человѣческія васъ не одолѣютъ» (Х, 15).
Риторический дискурс апеллирует не столько к исторической реальности, всегда смутной и разноречивой, сколько к национальным святыням и к ее действительным историческим воплощениям, поэтому не стоит видеть в
едѣльному астолюбію аглости предпріятій его» (XLVIII, 95). Наглость — ‘дерзость, бесстыдство’ (САР IV, 466).
Поражение Наполеона осмысляется Шишковым как сбывшееся пророчество: «Да представятъ себѣ собранный съ дватцати царствъ и народовъ, подъ едино знамя соединенныя, ужасныя силы, съ какими властолюбивый, надменный побѣдами, свирѣпый непріятель, вошелъ въ НАШУ землю. Полмилліона пѣшихъ и конныхъ воиновъ и около полуторы тысячи пушекъ слѣдовало за нимъ. Съ симъ толико огромнымъ ополченіемъ проницаетъ онъ въ самую средину Россіи, распространяется, и начинаетъ повсюду разливать огнь и опустошеніе. Но едва проходитъ шесть мѣсяцовъ отъ вступленія его въ НАШИ предѣлы, и гдѣ онъ? Здѣсь прилично сказать слова Священнаго Пѣснопѣвца: видѣхъ нечестиваго, превозносящася и высящася, яко кедры Ливанскіе, и мимоидохъ, и се не бѣ, и взыскахъ его, и не обрѣтеся мѣсто его. По истиннѣ cie высокое изреченіе совершилося ко всей силѣ смысла своего надъ гордымъ и нечестивымъ нашимъ непріятелемъ» (XLVIII, 95‐96). Русское воинство выступило лишь орудием той действительной силы, которая карает зло и нечестие и о которой «божественный пророкъ сказалъ: дхнетъ духъ его и потекутъ воды, коснется горамъ и воздымятся (Пс. 147: 7). Исчезли силы врага, растаяли какъ воскъ, отъ лица гнѣва Божія» (LXXX, 144). Сравнение с воском заставляет вспомнить целый ряд библейских образов, например: Яко изчезаетъ дымъ, да изчезн ъ т я ѣ ницы отъ лица Б 2 .
утъ: яко тает воскъ о ъ лица огн , тако да погибнутъ гр шожия (Пс. 67: 3; см. также: Иудифь 16: 15, Пс. 57: 9, 96: 5, Ис. 64: )ама русская природа выступила против неприятеля и «мразами и
гладомСъ» (XLVIII, 96) гнала его от Москвы до пределов Рoccии. 2. В противоположность Наполеону, французам и французскому войску,
русски воинство преий царь, русский народ и его сполнены христианских добродетелей — благочестия, терпения, твердости, любви к Отечеству и Богу.
Русский народ — издревле «сильный и храбрый», любящий пребывать с соседями «въ мирѣ и тишинѣ» (I, 1), мерами «кротости и миролюбія» старавшийся избежать кровопролитной войны, был вынужден «коварнымъ» неприя ел н з щт ем «препоясаться а брань» (VII, 9), встать на а иту «Вѣры, Отечества, свободы» (VI, 8).
В десятом манифесте Шишков обращает читателя и слушателя к историческим образам поведения перед лицом врага: «Да найдетъ онъ на каждомъ шагѣ вѣрныхъ сыновъ Россіи, поражающихъ его всѣми средствами и силами, не внимая никакимъ его лукавствамъ и обманамъ. Да встрѣтитъ онъ въ каждомъ Дворянинѣ Пожарскаго, въ каждомъ духовномъ Палицына, въ каждомъ гражданинѣ Минина. Благородное дворянское Сословіе! Ты во всѣ времена было спасителемъ Отечества; Святѣйшій Синодъ и духовенство! вы всегда теплыми молитвами своими призывали благодать на главу Россіи; народъ Руской! Храброе потомство храбрыхъ Славянъ! ты неоднократно сокрушалъ зубы устремлявшихся на теб
риторических упражнениях Шишкова искажение истории или аберрацию исторической памяти, как это делал биограф Шишкова В. Стоюнин, иронизировавший по поводу дифирамбов русскому национальному характеру: «Скоро же забылъ почтенный авторъ пугачевщину!»
8
ть, мешкать’ (СЦРЯ III, 863); ср.: Грядый пріидетъ и не укоснитъ (Евр. 10: 37).
Еще одним примером употребления слова в особенном значении является глагол удивить: Господь Бог «располагаетъ судьбами царствъ, возноситъ славу народа, умудряетъ главу его, ополчаетъ десницу, укрѣпляетъ мышцы, ускоряетъ къ побѣдамъ стопы: во всемъ ономъ удивилъ Богъ милость свою надъ нами» (LXXX, 143). Удивить здесь значит ‘показать’; ср. укр. дивитися ‘смотреть, глядеть’
19, а за ним современный исследователь М. Альтшуллер: «Вопреки исторической истине (? — А. К.) Шишков создает идеальный образ “миролюбивого и кроткого”, но в то же время “сильного и храброго” русского народа, который “издавна любил со всеми окрестными народами пребывать в мире и тишине”»20. Для Шишкова воплощением народных святын о монаха А
пниь были имена купца Минина и князя Пожарског , враамия
Палицина и патриарха Гермогена, а не государственного престу ка Пугачева. Шишков устами Государя призывает народ и войско «воскипѣть новымъ
духомъ мужества и твердости и несомненной надежды, что всякое наносимое намъ врагами зло и вредъ обратятся напослѣдокъ на главу ихъ» (XXVI, 36), молит Господа: «Даруй поборающему по правдѣ вѣрному народу Твоему бодрость духа и терпѣніе» (XXVI, 39). Глагол поборати (побарати) в славянском языке значил ‘защищать’ (Алексеев 2, 308), ‘защищать, заступать, вспомоществовать’ (САР I, 294), ‘пособствовать в брани, соратовать; защищать. Господь по насъ побораетъ’ (СЦРЯ III, 235). Государь изъявляет благодарность и отдает «должную справедливость храброму, вѣрному и благочестивому народу Россійскому» (XXXV, 64): «Каковой примѣръ храбрости, мужества, благочестія, терпѣнія и твердости показала Pocciя! Вломившійся въ грудь ея врагь всѣми неслыханными средствами лютостей и неистовствъ не могъ достигнуть до того, что бы она хотя единожды о нанесенныхъ ей отъ него глубокихъ ранахъ вздохнула. Казалось съ пролитіемъ крови ея умножался въ ней духъ мужества, съ пожарами градовъ ея воспалялась любовь къ Отечеству, съ разрушеніемъ и поруганіемъ храмовъ Божіихъ утверждалась въ ней Bѣpa и возникало непримиримое мщеніе. Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народъ, словомъ всѣ Государственные чины и состоянія, не щадя ни имуществъ своихъ, ни жизни, составили единую душу, душу вмѣстѣ мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовію къ Отечеству, колико любовію къ Богу» (XLVIII, 95).
Противопоставление русского и французского войска выражено также при помощи антитезы: «Правда на нашей сторонѣ; а гдѣ правда, тамъ и Богъ. Какая разность между нашею и непріятелей нашихъ причиною брани! Мы умираемъ, какъ сыны Отечества, за собственную свою честь и свободу; а они какъ рабы, въ угодность единой корыстолюбивой и ненасытной воли; ихъ жизнь хуже нашей смерти» (LXXIV, 132‐133).
Если французы во главе с Наполеоном являются рабами похоти властолюбия, то русские чужды этой похоти, однако и не терпят над собою никакого чужевластия: «Чувство рабства незнаемо сердцу Россіянина. Никогда не преклонялъ онъ главы предъ властію чуждою. — Дерзалъ ли кто налагать иго? Некоснѣло наказаніе!» (LXXXIII, 154). Глагол коснѣти в славянском языке значит ‘медли
(Гринченко 1, 382). Такое употребление Шишков мог знать по обиходному молитвослову: Аще бо правѣдника спасeши, ничтоже вeліе: и аще чиcтаго помилуеши, ничтоже дивно: достойни бо сyть милcти твоея. Но на мнѣ, грѣшн
9
3
А. С. Шишков полагал, что после выдворения французов из пределов России война должна быть закончена, однако нельзя исключать того (хотя у нас нет для этого достоверных данных), что тот глубокий, исполненный метафизического смысла историософский взгляд на совершавшиеся события, выраженный им в целом ряде манифестов, сыграл не последнюю роль в формировании у Александра I идеи Священного союза — объединения на основе принципов веры и благочестия христианских государств для водворения прочного, если не вечного, мира в Европе. Как верно было замечено, Александр менее всего «готов был удовольствоваться национальной войной в пределах государственных границ. Речь шла о всемирно‐исторической и даже эсхатологической схватке, которая должна была полностью изменить все устройство мира»
ѣмъ, удиви милоcть твою (Молитва на сон грядущим св. Ионна Дамаскина).
Подводя промежуточный итог, после выдворения неприятеля из пределов России, совершившимся грандиозным историческим событиям, Шишков снова привлекает ресурсы славянского языка: «Толь великая на всемъ лицѣ земли перемѣна не могла совершиться безъ особливой на то власти Божіей. Его Всемогущая десница возноситъ и низлагаетъ судьбы народовъ и Царствъ. Обратимъ къ Нему умъ и сердце наше, не возгордимся дѣлами своими и не возмечтаемъ въ себѣ быть нѣчто высшее немощи смертныхъ. Что мы? Доколѣ рука Бога надъ нами, до тѣхъ поръ мудрость и сила съ нами. Безъ Него ни что же бысть, еже бысть (Ин. 1: 3). И такъ да умолкнетъ предъ Нимъ всякая слава человѣческая; да принесется она отъ каждаго изъ насъ во всесожженіе тому, кто даровалъ дамъ оную: истинная слава и честь наша есть благоговѣйное предъ Нимъ смиреніе. Мы увѣрены, что всякъ изъ вѣрноподданныхь НАШИХЪ всегда, наипаче же послѣ толикихъ изліянныхъ на насъ милостей Божескихъ, чувствуетъ cie въ глубинѣ души своей. Сего ради, внимая гласу собственнаго НАШЕГО и ихъ благоговѣнія, повелѣваемъ: да отворятся и нынѣ во всемъ пространствѣ области НАШЕЙ всѣ Божественные Храмы; да принесется во всѣхъ церквахъ торжественное молебствіе и колѣнопреклоненіе Всемогущему Творцу; да проліются отъ всего народа горячiя слезы благодарности за неизреченное Его къ намъ милосердіе: Онъ высокою мышцею Своею изъялъ насъ изъ хлябей бездны, и постав сла то досилъ на высоту вы. Ч воздадимъ Ему, кромѣ ра тныхъ слезъ и рыданій?» (LXXXI, 149‐150).
Окончательный итог своим историософским размышлениям, воплощенным в роде торжественного красноречія, Шишков подводит в манифесте № XCIII от 1 января 1816 года, который мы публикуем полностью в Приложении с сохранением авторской орфографии и пунктуации.
21. Во всяком случае Декларация о намерениях заключить Союз составлена в выражениях, которые по духу и стилю напоминают манифесты Шишкова: «Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы Их Величества..., восчувствовав внутреннее убеждение в том, сколь необходимо предлежащий державам образ взаимных отношений подчинить высоким истинам, внушаемым законом Бога Спасителя, объявляют
торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенные их непоколебимую решимость... руководствоваться... заповедями сея святыя веры, заповедями любви, правды и мира... На сем основании... I. соответственно словам священных писаний, повелевающих всем людям быть братьями, договаривающиеся монархи пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства... II. Единое преобладающее правило да будет...: приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа христианского, поелику союзные государи почитают себя аки поставленными от Провидения для управления единого семейства отраслями... исповедуя таким образом, что Самодержец народа христианского... не иной подлин , а в а
10
ойны 1812 года ка со стороны наполеоновской Франции, т и со стороны императорской России.
О том, что это было именно так, свидетельствуют современники происходивших событий. Выше были приведены воспоминания С. Т. Аксакова о впечатлении, произведенном манифестами Шишкова. Приведем еще одно свидетельство. Московский главнокомандующий Ф. В. Ростопчин рассказал, как слушало манифест Шишкова о начале войны московское купечество: «До прибытія государя, я, въ сопровожденіи Шишкова, пошелъ сначала въ ту галлерею, гдѣ собралось дворянство, а потомъ въ ту, гдѣ находилось купечество. Въ 1‐й галереѣ было около 1,000 человѣкъ, поспѣшившихъ со всѣхъ сторонъ, при извѣстіи о прибытіи государя. Тамъ все происходило въ порядкѣ и спокойствіи. Но во 2‐й галлереѣ, гдѣ собрались купцы, я былъ пораженъ тѣмъ впечатлѣніемъ, которое произвело чтеніе манифеста. Сначала обнаружился гнѣвъ; но когда
но есть к к Тот, кому собст енно прин длежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечные...».
Однако в дальнейшем для написания статей трактатов и договоров, которыми связывали себя главы европейских держав на Венском, Троппауском, Лайбахском и Веронском конгрессах, нужен был точный язык дипломатического протокола. Александр I , понимая, что языковые вкусы и навыки Шишкова в этой ситуации не применимы, призвал к исполнению этой роли литетурного противника Шишкова — Д. Н. Блудова, одного из основателей литературного общества «Арзамас», друга Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского, уже в течение двадцати лет служившего Отечеству на ниве дипломатии; по поручению Александра I он и руководил переводом с французского языка на русский всех документов названных конгрессов; но это уже другая история.
4
Манифесты А. С. Шишкова явились практическим доказательством правоты тех его умозрительных построений о единстве русского и славянского языков, которые он отстаивал в своих теоретических трудах 1803‐1811 годов. Оказалось, что славянский язык, если только язык понимать по‐шишковски, не как «систему знаков», а как органон мысли, орудие восприятия и осмысления действительности, как воплощение народного духа, — славянский язык, и только он, мог быть тем орудием, при помощи которого можно было выразить смысл и цель в к ак
Шишковъ дошелъ до того мѣста, гдѣ говорится, что врагъ идетъ съ лестью на устахъ, но съ цѣпями въ рукѣ — тогда негодованіе прорвалось наружу и достигло своего апогея: присутствующіе ударяли себя по головѣ, рвали на себѣ волосы, ломали руки; видно было какъ слезы ярости текли по этимъ лицамъ, напоминающимъ лица древнихъ. Я видѣлъ человѣка, скрежетавшаго зубами. За шумомъ не слышно было, что говорили (эти люди), но то были угрозы, крики ярости, стоны. Это было единственное, въ своемъ родѣ, зрѣлище, потому что русскій человѣкъ выражалъ свои чувства свободно и, забывая, что онъ рабъ, приходилъ въ негодованіе, когда ему угрожали цѣпями, которые готовилъ чужеземецъ, и предпочиталъ смерть позору быть побѣжденнымъ»
11
Вшествіе врага въ царство и гордый помыслъ его
Кто есть той, иже яко рѣка восходитъ, и яко рѣки воздвижутся волны его? (Иер. 46: 7) — Сердце его аки камень (Иов. 41: 15); окрестъ зубовъ его страхъ (Иов. 41: 5); очи горятъ яко угліе (Иов. 41: 12). Сей речетъ во умѣ своемъ: на небо всяду, выше звѣздъ небесныхъ поставлю престолъ мой, сяду на горахъ высокихъ, яже къ Сѣверу; взиду выше облакъ, буду подобенъ вышнему (Ис. 14: 13). Азъ есмь царь царей! (Иез. 26: 7) и се азъ на тя Росъ
22.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фрагмент из «Записок» А. С. Шишкова
(Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Т. 1. Берлин, 1870. С. 252-257)
«Скажу также любопытному читателю и о другомъ не упомянутомъ прежде случаѣ: Около того же времени, занимаясь чтеніемъ священныхъ книгъ, находилъ я въ нихъ разныя описанія и выраженія весьма сходныя съ нынѣшнею нашею войною. Я не перемѣняя и не прибавляя къ нимъ ни слова выписалъ и только сблизилъ ихъ одно съ друтимъ, изъ чего вышло полное описаніе нашихъ военныхъ дѣйствій. Я въ томъ самомъ видѣ прилагаю здѣсь оное.
23 (Иез. 26: 2), и приведу на тя языки многи, яко же восходить море волнами своими, и обвалятъ стѣны градовъ твоихъ, и разорятъ столпы твои, и развѣю прахъ ихь, и дамъ ихъ въ гладокъ камень (Иез. 26: 34). — Вниду съ коньми и колесницами и собраніемъ многихъ языковъ зѣло (Иез. 26: 7). — Сыны и дщери твои на поли мечемъ избію, и приставлю на тя стражбу, и огражду тя, и окопаю тя ровомъ, и сотворю окрестъ тебе острогь, и обставлю opyжіемъ, и кони своя прямо тебѣ поставлю (Иез. 26: 78). — Отъ множества всадниковъ моихъ покрыетъ тя прахъ ихъ, и отъ ржанія коней моихъ, и отъ колесъ колесницъ моихъ, потрясутся стѣны твоя. Копытами коней моихъ поперу вся стогны твоя, люди твоя мечемъ изсѣку, и составъ крѣпости твоея на землю повергну, и плѣню силу твою, и возьму имѣнія твоя, и разсыплю стѣны твоя, и домы твоя вожделѣнныя разорю, и древа твоя, и каменіе твое, и персть твою среди моря ввержу, и упраздню множество мусикій твоихъ, и гласъ пѣвницъ твоихъ не услышится въ тебѣ (Иез. 26: 1013). Отъ гласа паденія твоего, егда возстенутъ язвеніи твои, потрясутся вси прочие земли и острови, и снидутъ со престолъ своихъ вси князи, и языкъ морскій, и свергнутъ вѣнцы съ главъ своихъ, и ризы своя испещренныя совлекутъ съ себе, ужасомъ ужаснутся. На земли сядутъ и убоятся погибели своея, и возстенутъ о тебѣ, и примутъ о тебѣ плачъ,
глаголюще: како погиблъ и разсыпался еси граде хвалимый, иже быль крѣпокъ на земли и на мори, ты и живущіе въ тебѣ, иже даялъ еси страхъ твой всѣмъ обитающимъ на земли? и убоятся вси отъ дне паденія твоего, и грады возстенаютъ на суши и смятутся острови въ мори (Иез. 26: 1518). — Тако глаголющъ, яко потокъ наводняющій потопляетъ землю и исполненіе ея, грады и живущія въ нихъ: отъ шума устремленія его, отъ оружія ногъ его, отъ гремѣнія колесницъ и отъ звука колесъ его, вострепета земля (Иер. 47: 23).
12
P ерусалима.
Горе тебѣ Iерусалиме! (Иер. 13: 27) како единъ сѣдиши, градъ умноженый людьми? бысть яко вдовица во языцѣхъ; владѣяй странами бысть подъ властью! (Плач Иер. 1: 1) — Путіе твои рыдаютъ, яко нѣть ходящихъ по нихъ въ праздникъ. Вся врата твоя разорена, жрецы твоя воздыхаютъ, дѣвицы ведомы, и самъ огорчеваемъ въ себѣ (Плач Иер. 1: 4). Отъяся отъ тебе вся лѣпота твоя (Плач Иер. 1: 6). — Простре врагъ руку свою, ступаяй на вся вожделѣнная твоя (Плач Иер. 1: 10). — Вся красная твоя разори яростію своею; твердыни сверже на землю (Плач Иер. 2: 2), и оскверни храмы, возже огнь и пояде основанія твоя (Плач Иер. 4: 11). Видѣхъ бо языки вшедшіе во святыню твою, имъ же бы не подобало входити въ церковь твою (Плач Иер. 1: 10). Гласъ даша въ дому господни, яко въ день праздника (Плач Иер. 2: 7). — Матерѣмъ рекоша: гдѣ пшеница и вино? Внегда разслабленнымъ быти имъ, яко язвеннымъ на стогнахъ градскихъ! егда изливахуся въ лоно ихъ души младенцевъ ихъ! (Плач Иер. 2: 12) Кто тя спасетъ Iерусалиме? кто тя утѣшитъ? яко возвеличися чаша сокрушенія твоего, кто тя исцѣлить? (Плач Иер. 2: 13) восплеснуша рукама о тебѣ вси минующіи путемъ, позвиздаша и покиваше главою своею, рекуще: сей ли градъ вѣнецъ славы, веселіе всея земли? (Плач Иер. 2: 15) не вѣроваша цapie земстіи и вси жівущіи во вселенной, яко внидетъ врагъ сквозѣ врата твоя (Плач Иер. 4: 12).
aзopeнie I
Молитва Царева.
Виждь, Господи, яко скорблю! утроба моя смятеся во мнѣ, и превратися сердце мое, яко горести исполнися; отвнѣ обезчади мене мечъ, яко смерть въ дому (Плач Иер. 1: 20).— Пріиде врагъ издалече, пріиде во тьмахъ силы своея, ихъ же множество загради источники, и конница ихъ покры холмы, рече пожещи предѣлы моя, и юноши моя убити мечемъ, и ссущія моя положити въ помостъ, и младенцы моя дати въ расхищеніе, и дѣвы моя плѣнити (Иудифь 16: 34). Господи Вседержителю! посли еси духа твоего, и нѣсть, иже противостанетъ гласу твоему: горы бо отъ основаніи съ водами подвигнутся, каменіе же отъ лица Твоего яко воскъ растаетъ (Иудифь 16: 1415). — Святъ храмъ твой. Дивенъ въ правдѣ; услыши ны, Боже, Спасителю нашъ! (Пс. 64: 56) препоясанъ силою, смущаяй глубину морскую, шуму волнъ твоихъ кто постоитъ? смятутся языцы, и убоятся живущія въ концахъ земли отъ знаменій твоихъ (Пс. 64: 79). — Надъ боящимися тебе ты умилостивишися (Иудифь 16: 15). — Да почіетъ на мнѣ и на воинствѣ и на всемъ народѣ моемъ духъ твой, духъ премудрости и разума, духъ совѣта и крѣпости, духъ вѣденія и благочестія (Ис. 11: 2). — Живъ Господь и благословенъ Богъ! покоривый люди подъ мя, той избавитъ мя отъ врагъ моихъ гнѣвливыхъ, отъ мужа неправедна, спасетъ и вознесетъ мя (Пс. 17: 47). — Богъ мой помощникъ мой, и уповаю на него (Пс. 17: 3).
Гласъ съ небеси.
Гряди во имя мое. Азъ избавлю тя отъ сѣти ловчи, и отъ словесе мятежна: плѣщама своима осѣню тя, и подъ крылѣ свои воспріиму. Оружіемъ обыдетъ тя истинна моя. Не убоишися отъ страха нощнаго, отъ стрѣлы летящія во дни, отъ паденія бѣса полуденнаго (Пс. 90: 16). — Очима твоима воздаяніе грѣшникамъ узриши (Пс. 90: 8). Падетъ отъ страны твоея тысяща, и тьма одесную тебе, къ тебѣ же зло не пріидетъ, и рана не приближится (Пс. 90: 7); яко Ангеламъ своимъ заповѣдаю о тебѣ сохраиити тя во всѣхъ путѣхъ твоихъ; на pyкахъ возьмутъ тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою. На Аспида и Василиска наступиши и попреши льва и змія, яко на мя уповалъ еси (Пс. 90: 813).
13
Паденіе кипариса.
Се кипарисъ въ Ливанѣ, добръ отрасльми, и высокъ величествомъ, и часть покровомъ, и средѣ облакь бысть власть его. Вода воспита его, бездна вознесе его, рѣки приведе окрестъ кореній своихъ, и составы своя испусти во вся древеса полевая. Сего ради вознесеся величество его паче всѣхъ древесъ полевыхъ, расширишася вѣтвія его, и вознесошася отрасли его отъ воды многи, егда протяжеся (Иез. 31: 35). Сосны неподобны отраслямъ его, и еліе не бысть подобно
Воззваніе царя къ народу.
Возмите, чада моя, opyжіе и щиты (Иер. 46: 3), возсядите на кони, и устройте колесницы; и наляцающе лукъ изыдите (Иер. 46: 9) на брань (Иер. 46: 3). Соберитеся (Иер. 49: 14), возглаголите, возгласите трубою (Ос. 5: 8): да услышится (Иер. 4: 5) гласъ вашь. Да воздвигнется левъ отъ ложа своего (Иер. 4: 7), и да изыдетъ (Иер. 49: 19) отъ сѣвера (Иер. 6: 22) страхъ и трепетъ (Пс. 54: 6) и сотрясеніе велико (Иер. 1: 6). — Возстанемъ за истребленіе людей нашихъ, и ополчимся за чадъ нашихъ и за святыню (1 Мак. 3: 43). — Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращуся, дондеже скончаются (Пс. 17: 38). — Да не грядутъ отселѣ во множествѣ укоризны и беззаконія своего (1 Мак. 3: 20). Сей есть иже воцарися и состави брани многи, и одержи твердыни многи, и сверже цари земскія, и пройде даже до краевъ земли, и взя корысти многихъ языковъ, и умолче земля предъ нимъ, и возвысися, и вознесеся сердце его (1 Мак. 1: 13). И собра силу крѣпку зѣло, и возначальствова надъ странами (1 Мак. 1: 4), и покоришаса ему вси князи и владыки. Но да не убоится сердце ваше того (Пс. 26: 3): не во множествѣ воевъ одоленіе есть, токмо отъ небесе крѣпость. Сіи грядутъ во злобѣ и нечестіи, мы же ополчаемся за души наша, и законы наша (1 Мак. 3: 1921). День сей Господа Бога Вседержителя, день отмщенія врагамъ, и пожретъ я мечъ Господень, и насытится и упіется кровію ихъ, яко жертва Господу Вседержителю въ земли полунощной (Иер. 46: 10). — Kpѣпокъ и силенъ побораяй по васъ (Пс. 23: 8): земля потрясется отъ основаній своихъ въ день, въ онь же пріидетъ ярость его. И будутъ оставшія яко серна бѣжащая, и яко овца заблуждшая, и не будетъ собираяй (Ис. 13: 1314). Вы же паче орловъ легцы явитеся, и паче львовъ крѣпцы (2 Цар. 1: 23): зане ярость Господня на всѣ языки, и гнѣвъ на число ихъ, еже погубити ихъ и предати на закланіе, да взыдетъ отъ нихъ смрадъ и намокнутъ горы кровію ихъ (Ис. 34: 23). Приступите языцы и услышите князи; да слышитъ земля и живущіе на ней, вселенная и людіе, иже на ней (Ис. 34: 1): всякa плоть cѣно, и всяка слава человѣча яко цвѣтъ травный; изше трава и цвѣтъ отпаде, глаголъ же Бога нашего пребываетъ во вѣки (Ис. 40: 68).
вѣтвіямъ его (Иез. 31: 8), во отросляхъ его возгнѣздишася вся птицы небесныя, и подъ вѣтьвми его раждахуся вси звѣріе польніи. Подъ сѣнію его вселися все множество языковъ (Иез. 31: 6). И возгордеся величествомъ своимъ, и вознесеся сердце его, и далъ власть свою въ средину облакъ (Иез. 31: 10). — Тогда прогнѣвался на него Богъ, и предалъ его въ руцѣ князя, и сотворилъ ему пагубу по нечестію его (Иез. 31: 11), и погнаша и потребиша его, и повергоша на горахъ и во всѣхъ дебрѣхъ падоша вѣтви его, и сотрошася отрасли его на всякомъ полѣ, и снидоша отъ покрова его вси людіе языковъ, и разорили его (Иез. 31: 12). Въ паденіи его почиша вся птицы небесныя, и на стебліяхъ быша вси звѣри сельныя, яко да не возносятся величествомъ своимъ вся древеса, яже въ водѣ, и не дадятъ власти своея средѣ облакъ (Иез. 31: 1314). Плакася о немъ бездна, и померче о немъ Ливанъ (Иез. 31: 15). Отъ гласа паденія его потрясошася вся бывшая подъ сѣнію его древеса, и сведошася во адъ язвеніи отъ меча, и живущіи подъ покровомъ его среди жизни своей погибоша (Иез. 31: 1617). Тако возліяся на него бездна, и покры его вода многа (Иез. 26: 19), яко пустыню вѣчную: да не населится, ниже возстанетъ; да взыщется, и не обрящется во вѣкъ (Иез. 26: 2021).
14
Пророчество.
Господь воцарися: да радуется земля, да веселятся острови мнози! облакъ и мракъ окрестъ его. Огнь предъ нимъ предыдетъ и попалиъь враги. Освѣтиша молнія его вселенную, видѣ и воздвижеся вемля. Горы яко воскъ растаяша отъ лица Господня, отъ лица Господа всея земли. Возвѣстиша небеса правду его, и видѣши вси людіе славу его. Да постыдятся вси кланяющіися истуканамъ, хвалищіися о идолѣхъ своихъ (Пс. 97: 17). — Господи! се воздвижеся солнце, и луна ста въ чинѣ своемъ, яко изшелъ еси въ блистаніи молній твоихъ во спасеніе людей, спасти помазанныя твоя. Вложилъ еси во главы беззаконныхъ смерть (Авв. 3: 1113), яко уста ихъ глаголаша суету, и десница ихъ десница неправды (Пс. 143: 11). Ты же возстани, Iерусалиме, совлецы ризы плачевныя, и облецыся въ одежду правды, въ лѣпоту славы твоея. Забуди скорбь твою и возложи на главу твою вѣнецъ (Вар. 5: 12). Свѣтися, свѣтися, Iерусалиме, пріиде бо твой свѣтъ, и слава Господня на тебѣ возсія. Се тьма покрыла землю и мракъ на языки, на тебѣ же явится Господь, и слава его на тебѣ узрится. И пойдутъ царіе свѣтомъ твоимъ, и языцы свѣтлостію твоею. Се пріидоша сынове твои издалече (Ис. 60: 14): возстани, Iерусалиме, и стани на высоцѣ, и поглядай, и виждь собранная чада твоя отъ востокъ солнца до запада (Вар. 5: 5). Враги твои пріидоша къ тебѣ въ багряницѣхъ и на конѣхъ, и изыдоша отъ тебе наги и пѣши; совѣща бо Господь смиритися горѣ высоцѣй, и пасти отъ руки твоея въ ровень съ юдоліемъ (Вар. 5: 67). — Возрадуйся, яко пріидутъ къ тебѣ вси раздражившіе тя, и поклонятся слѣдамъ ногъ твоихь, и нарѣчишися: м и ръ п р а в ды и с л а в а б л а г о ч е с т і я (Ис. 60: 14); Возрадуйся, яко людіе твои раскують мечи своя на рало, и сулицы своя на серпы, и не возметъ языкъ на языкъ меча, и престанутъ воевати (Ис. 2: 4). И почіетъ кійждо подъ лозою своею, и кійждо подъ смоковницею своею, и не будетъ устрашающаго (Мих. 4: 4). — Возрадуйся, яко приложится къ тебѣ богатство морское, и пріидутъ къ тебѣ стада вельблудъ, носяще злато и ливанъ и камень честенъ (Ис. 60: 56). Се корабли фарсистіи (Ис. 60: 9) аки облацы къ тебѣ летятъ, и яко голуби со птенцы своими (Ис. 60: 8). — Бразды твоя упоятся и жита твоя умножатся. — Поля твоя исполнятся тука (Пс. 64: 1112), овцы будутъ многоплодни и волове твои толсти (Пс. 143: 13); удолія умножатъ пшеницу (Пс. 64:
14), пустыни возвеселятся и холмы радостію препояшутся (Пс. 64: 13). Не услышится неправда на земли твоей, ни сокрушеніе, ни бѣдность въ предѣлахъ твоихъ, но прозовутся забрала твоя c п a c e н i e, и врата твоя х в а л а (Ис. 60: 18). Не зайдетъ бо солнце тебѣ; и луна не оскудѣетъ тебѣ; будетъ бо Господь тебѣ свѣтъ вѣчны
15
кнетъ: е намъ, не амъ, Господи, н имени воему. Тако сохранится память о семъ въ роды родовъ.
Лютая, кровавая, разорительная, нынѣ промысломъ Всевышняго благополучно окончанная война, ни причинами своими, ни огромностію
й (Ис. 60: 20).
Сблизивъ сіи тексты, выбранные изъ разныхъ мѣстъ священныхъ писаній, находилъ я въ нихъ толь ясно и подробно описующими всѣ происходившія съ нами приключенія, что бывши послѣ съ докладами у государя попросилъ я у него позволенія прочитать ему сіи сдѣланныя мною выписки. Онъ согласился, и я прочиталъ ихъ съ жаромъ и со слезами. Онъ также прослезился, и мы оба съ нимъ довольно поплакали».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Манифест № 93 // Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов, Рескриптов, приказов войскам и разных извещений, последовавших в течении 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб, 1816. С. 194‐208.
/194/ XCIII.
БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ
МЫ АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
Всероссійскій
и прочая, и прочая, и прочая.
Возвѣщаемъ всенародно.
Событія на лицѣ земли въ началѣ вѣка сего въ немногіе годы совершившіяся суть толь важны и велики, что не могутъ никогда изъ бытописаній рода человѣческаго изгладиться. Сохраненіе ихъ въ памяти народовъ нужно и полезно для нынѣшнихъ и будущихъ племенъ. Рука Господня, Ему единому извѣстными, но явными очамъ смертнаго путями, вела ихъ, сорасполагала, сцѣпляла, устрояла, да исправитъ людскія неустройства, да утишитъ колеблющіяся волны умовъ и сердецъ, и да изъ недръ смѣси и боренія изведетъ порядокъ и покой. Богъ сильный низложилъ гордость; Премудрый разогналъ тьму; Источникъ милосердія и благости не допустилъ людямъ во мракѣ страстей своихъ погибнуть. И такъ пройдемъ кратко теченіе всѣхъ сихъ произшествій. Возвѣстимъ ихъ народу НАШЕМУ, не для тщеславія, но для пользы его и наставленія. Да прочтетъ дѣла и судъ Божій, во/195/спалится къ Нему любовію, и вмѣстѣ съ Царемъ своимъ во глубин сердца и души своей воскли Н н о Т да
16
ополченій, ни превратностію обстоятельствъ, не подобна ни какимъ извѣстнымъ доселѣ въ бытописаніяхъ войнамъ. Она есть особенное, небывалое на земномъ шарѣ приключеніе, и какъ бы нѣкоторое во внутренностяхъ ада предуготованное зло, на потрясеніе и пагубу всего свѣта возникшее и усилившееся до такой степени, до какой праведнымъ судьбамъ Всевышняго угодно было допустить оное. Начало и причину сей войны, безпрестанно тлѣвшей, многократно вновь и вновь возгаравшейся, потухавшей иногда, но для того токмо, дабы съ новою силою и лютостію воспылать, возвеличиться, усилиться и скоро потомъ изъ величайшей силы упасть, сокрушиться, опять возстать и опять низринуться, являютъ нѣчто непостижимое и чудесное. Она съ самаго начала своего, какъ нѣкое багровое, огнями и тлѣтворными дыханіями чреватое облако, возстала не изъ случайнаго состязанія одного Царства сь другимъ, возстала не съ тѣмъ, чтобъ погаснуть; но чтобъ, по истребленіи въ сердцахъ человѣческихъ всѣхъ Богомъ насажденныхъ добродѣтелей всѣми послѣдующи/196/ми изъ того бѣдствіями насытиться и не прежде, какъ въ пролитой крови всего рода смертныхъ утонуть. Она есть порожденное злочестіемъ нравственное чудовище, въ отпадшихъ отъ Бога сердцахъ людскихъ угнѣздившееся, млекомъ лжемудрости воспитанное, таинствомъ злоухищренія и лжи облеченное, долго подъ личиною ума и просвѣщенія изъ страны въ страну скитавшееся и медоточными устами въ неопытныя сердца и нравы сѣмена разврата и пагубы сѣявшее. Чудовище cie въ юности своей злобное, но лукавое; въ возрастѣ же лютое и наглое, изливаетъ первую ярость свою на гнѣздо, въ которомъ родилось. Народъ, возлелеявшій оное и зловреднымъ дыханіемъ его зараженный, поправъ вѣру, престолъ, законы и человѣчество, впадаетъ въ раздоръ, въ безначаліе, въ неистовство, грабитъ, казнитъ, терзаетъ самого себя, и кидаясь изъ бѣшенства въ бѣшенство, изъ злодѣянія въ злодѣяніе, оскверненный убійствомъ верховныхъ властей своихъ и всего, что было въ немъ лучшаго и почтеннѣйшаго, избираетъ себѣ въ начальника, потомъ въ Царя, простолюдина, чужеземца. Сей тако посреди пылкости страстей и Богоотступнаго народа воцарившійся чужеземецъ, съ начала лицемѣрствуетъ, выдаетъ себя за возстановителя благонравія и порядка, за истребителя того изрыгнутаго злочестіемъ и безвѣріемъ чудовища, которое тѣми же когтями угрожало растерзать цѣлый свѣтъ, которыми растерзало утробу матери своей, Франціи; но вскорѣ потомъ, вмѣсто истребителя онаго, являет/197/ся первѣйшимъ его воиномъ и поборникомъ. Сопрягшись съ нимъ душою и мыслями, надежный на успѣхи распространеннаго имъ безнравія, проложившаго ему путь къ возвышенію, напыщенный любовію къ одному ceбѣ и презрительнымъ хладнокровіемъ ко всему роду человѣческому, мощный многолюдствомъ, слѣпотою и дерзостію своего народа, собираетъ онъ великое воинство, и устремляется съ неимовѣрною яростію на разрушеніе сосѣдственныхъ и отдаленныхъ Царствъ. Успѣхи сопровождаютъ всѣ его шаги. Державы едина за другою предъ нимъ преклоняются. Pѣки пролитой крови доставляютъ ему господство. Онъ низвергаетъ съ престоловъ законныхъ Государей, дѣлитъ, слагаетъ новыя области, и поставляетъ надъ ними изъ семейства своего подъ именемъ Королей начальниковъ подъ собою. Начинаетъ войну, дабы расхищеніемъ имуществъ, обобраніемъ людей, занятіемъ крѣпостей и налогами сгарашныхъ даней, нетокмо разорить городъ иди область, но и въ мирѣ съ нею быть ея полнымъ повелителемъ. Мирится, вступаетъ въ союзъ, дабы, наруша договоры, безконечными требованіями и насильственными средствами
ослабить, истощить союзника, и новою потомъ войною наложить на него узы совершеннаго порабощенія. — Неслыханное дѣло: воюетъ съ однимъ Царствомъ, и въ тоже время людьми того Царства воюетъ съ другимъ! Даже часто вооружаетъ ихъ противъ собственнаго ихъ отечества, и вѣрность ихъ къ оному называетъ измѣною. Сими неистовыми, безчеловѣчными способами, при/198/совокупляя къ нимъ ужасъ казней, pacточеніе награбленныхъ корыстей, языкъ лжи и обмана, гласъ надменности и повелительства, достигаетъ до того, что дѣлается толико же силенъ оружіемъ, колико страшенъ наглостію и свирѣпствомъ. При всякомъ, кровопролитіемъ, или хитростію, или угрозами одержанномъ успѣхѣ, гордость его выше и выше возрастаетъ. Онъ предпріемлетъ присвоить себѣ, Богу токмо единому свойственное право единовластнаго надъ всѣми владычества. Предпріятіе безумное, безразсудное; но не меньше того кровавое, пагубное, ужасное: Богопочитаніе и вѣроисповѣданie угрожаемы были паденіемъ; поставленные отъ Бога Цари долженствовали отрещись отъ власти управлять своими подданными; народы осуждались не имѣть ни отечества своего, ни законовъ, ни языка, ни свободы, ни собственности, ни торговли, ни нравовъ, ни обычаевъ, ни добродѣтелей; просвѣщеніе, науки, художества, искуства, промышленность, словомъ всѣ трудолюбивыя дѣянія человѣческія, низвергались въ первобытный мракъ и невѣжество, изъ коихъ чрезъ толикіе вѣки, труды и опыты главу свою подъяли. Всеобщее рабство долженствовало произвесть всеобщую бѣдность и взаимное другъ друга истребленіе. Въ сихъ Богопротивныхъ помыслахъ, нещадящій ни какихъ потоковъ крови, не признающій ни какой законной власти, не уважающій ни какихъ правъ народн хъ
17
ствуетъ, злодѣйствуетъ, ругается надъ человѣчествомъ, надъ Святынею. Какая оставалась надежда къ спасенію? Когда великому злу сему, въ началѣ
еще возникающему, вся Европа не могла воспротивиться, то /200/ возможно ли было ожидать, чтобъ семужъ самому злу, толь высоко возросшему и силами всей Европы утучненному, единая, и та уже глубоко уязвленная Россiя могла поставить оплотъ? Но что воспослѣдовало? О провидѣніе! Мечь, сѣкира, гладъ и мразъ
ы , возмечталъ онъ на бѣдствіяхъ всего Свѣта основать славу свою, стать въ видѣ Божества на гробѣ Вселенной.
/199/ Съ сей высоты великихъ надеждъ и мечтаній своихъ обращаетъ онъ завистные взоры свои на Россію. Напыщенный побѣдами и покореніемъ многихъ земель, полагаетъ онъ ее удобопреодолимою, но еще для него страшною и могущею воспрепятствовать, или по крайней мѣрѣ воспротивиться, устремленнымъ на завладѣніе всего свѣта пагубнымъ его намѣреніямъ. И такъ, дабы сломить и расторгнуть сѣю единственную пеграду, напрягаетъ, совокупляетъ онъ всѣ свои силы, приневоливаетъ всѣ подвластныя и зависящія отъ него державы и народы соединиться съ нимъ, и съ симъ ужаснымъ, изъ дватцати Царствъ составленнымъ ополченіемъ, не преставая къ силѣ прилагать обманы и съ приготовленіемъ брани твердитъ о продолженіи мира, приближается къ предѣламъ Россійской Имперіи, и въ то же самое время, безъ всякаго объявленія войны, вторгается стремительно въ Ея области. Тако, на подобіе быстрой съ горъ водотечи, завоеватель сей, мощный силою, неукротимый злобою, течетъ, несется въ самую грудь. Ея. На пути, покупая каждый шагъ кровію, движется, грабитъ, истребляетъ села, пожигаетъ грады, разоряетъ Смоленскъ, и достигнувъ до Москвы, предаетъ ее хищенію и пламени. Торже
соединяются на пагубу пришедшихъ съ яростію и бѣгущихъ со страхомъ изъ Москвы враговъ. Не спасаетъ ихъ ни многочисліе, ни оборона, ни бѣгство. Месть Божія совершается надъ ними. Не помогаетъ имъ оставленіе всѣхъ орудій, всѣхъ колесницъ съ порохомъ, съ золотомъ, съ корыстями; кони ихъ падаютъ подъ ними; сколь велико было число войскъ ихъ при входѣ, столь велико число труповъ ихъ при выходѣ. Образъ истребленія и казни ихъ ужасаетъ природу: мертвыя снѣдаемыя вранами тѣла на окостѣнѣлыхъ лицахъ своихъ являли отчаяніе, и рука смерти не могла изгладить застывшихъ на нихъ при послѣднемъ издыханіи мучительныхъ чувствъ святотатства и злодѣянія. Тако всѣ умирали! Единый повелитель ихъ, избѣгшій отъ погибели и плѣна, съ немногими полководцами своими уходитъ въ свою землю. Россійскіе воины, спасшie Отечество свое, идутъ спасти Европу. Народы по неволѣ противъ нихъ ополченные, видя ихъ дружественно къ нимъ приближающихся, возникаютъ, востаютъ духомъ мужества, соединяются съ ними и единъ по единому, разрывая узы порабощенія, оружіе свое радостію на истиннаго врага своего обращаютъ. Онъ, какъ разбитая вѣтрами, но еще угрюмая и мрачная туча, скопляется, усиливается, /201/ исходитъ на брань. Новыя рѣки крови текутъ и никакія бѣдствія человѣческія не могутъ подвигнуть свирѣпой души его къ миролюбію. Гордость обладать всемъ свѣтомъ, и алчность къ истребленiю всего, не погасаютъ въ сердцѣ его даже и тогда, когда послѣ многихъ кровопролитныхъ битвъ пораженъ, расторженъ и разсѣянъ, утекаетъ онъ въ свою беззащитную столицу. Тамъ еще ополчается, еще собираетъ воинство, еще отвергаетъ миръ, и новыми усилиями и бранями доводить себя и народъ свой до совершеннаго изнеможенія, доводи ъ м
18
ть, и низвергается с похищеннаго и ъ Престола въ прежнее свое ничтожество.
Тако пріуготовляемая цѣлымъ вѣкомъ, возросшая семнатцатилѣтними успѣхами и побѣдами, сооруженная на кострахъ костей человѣческихъ, на пожарахъ и раззореніяхъ градовъ и Царствъ, исполинская власть, угрожавшая поглотить весь свѣтъ, падаетъ безъ возстанія во едино лѣто, и Россійскіе, какъ бы крылатые воины, изъ подъ стѣнъ Москвы, съ окомъ Провидѣнія на груди и со крестомъ въ сердцѣ, являются подъ стѣнами злочестиваго Парижа. Сія гордая столица, гнѣздо мятежа, разврата и пагубы народной, усмиренная страхомъ, отверзаетъ имъ врата, пріемлетъ ихъ, какъ избавителей своихъ, съ распростертыми руками и радостнымъ восторгомъ; имя чужеземнаго хищника изглаживается, воздвигнутые въ честь ему памятники низвергаются долу, и законный Ко/202/роль издревлѣ владѣтельнаго дому Бурбоновъ, Людовикъ XVIII, въ залогъ мира и тишины, по желанію народа возводится на прародительскій Престолъ. Тамъ — о чудное зрѣлище! — Тамъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ изрыгнутое адомъ злочестіе свирѣпствовало и ругалось надъ вѣрою, надъ властію Царей, надъ духовенствомъ, надъ добродѣтелію и человѣчествомъ; гдѣ оно воздвигало жертвенникъ и курило фиміамъ злодѣйству; гдѣ нещастный Король Людовикъ XVI былъ жертвою буйства и безначалія; гдѣ въ страхъ добронравію и въ ободреніе неистовству, повсюду лилася кровь невинности: тамъ, на той самой площади, посреди покрывавшихъ оную въ благоустройствѣ различныхъ Державъ войскъ, и при стеченіи безчисленнаго множества народа Россійскими священнослужителями, на Россійскомъ языкѣ, по обрядамъ православной нашей вѣры приносится торжественное пѣснопѣніе Богу, и тѣ самые, которые оказали себя явными отъ него отступниками, вмѣстѣ съ
благочестивыми сынами церкви, преклоняютъ предъ нимъ свои колѣна во изъявленіе благодарности за посрамленіе дѣлъ ихъ и низверженіе ихъ власти! Тако водворяется на землю миръ, кровавыя рѣки престаютъ течь, вражда всего Царства превращается въ любовь и благодарность, злоба обезоруживается великодушіемъ и пожаръ Москвы п т ѣ
19
зникло, отко ь толь высоко вознесло ядовитую свою главу. Таковъ былъ конецъ лютой, долговременной брани народовъ. Умолкъ
громъ орудія; престала литься кровь; потухли пожары градовъ и Царствъ. Солнце мира и тишины взошло и благотворными лучами освѣтило вселенную. Глава и предводитель сей ужасной войны, Наполеонъ Бояапарте, отрекшись отъ похищенного имъ престола, предается въ руки своихь противуборниковъ. Судъ человѣческій не могъ толикому преступнику изречь достойное осужденіе: не на/204/казанный рукою смертнаго, да предстанетъ онъ на страшномъ Судѣ, всемірною кровію обліянный, предъ лице безсмертнаго Бога, гдѣ каждый по дѣламъ своимъ получитъ воздаяніе! По таковому мнѣнію союзныхъ Державъ предложили онѣ безъ всякой мести дружелюбную руку Францускому народу, дали въ удѣлъ Наполеону Бонапарте, для всегдашняго пребыванія его, островъ Эльбу, и приступили къ утвержденію на прочномъ основаніи мира и къ приведенію въ порядокъ разстроенныхъ толикими войнами и насильствами Европейскихъ дѣлъ и обстоятельствъ. Но между тѣмъ какъ съ одной стороны благонамѣреніе пеклось о возстановленіи всеобщаго покоя и тишины, съ другой злонамѣреніе не преставало помышлять о разрушеніи оныхъ — Духъ злочестія и гордости не знаетъ раскаянія, не покидаетъ здыхъ своихъ умысловъ: лишенный власти, онъ таится въ сердцахъ развратныхъ людей; обезоруженный вооружается ухищреніями; низверженный силится возстать; пощада раждаетъ въ немъ новую злобу и месть. Бонапарте по тайнымъ крамоламъ и сношеніямъ со своими единомышленниками, уходитъ съ острова Эльбы, приплываетъ съ немногими cвoими приверженцами къ Францускимъ берегамъ. — При каждомъ шагѣ находитъ онъ новыхъ себѣ сообщниковъ. Посланныя противъ него, пріученныя имъ къ войнамъ и грабительствамъ, Королевскія войски, поощряемыя толико же развращенными предводителями къ измѣнѣ законному королю своему, предаются снова беззаконному /205/ хищнику. Народъ отчасти буйственный и мятежный, отчасти устрашенный и приневоленный, пріемлетъ и снова
отухае ъ въ ст нахъ Парижа. Кто человѣкъ, или кто люди, могли совершить cie высшее силъ
человѣческихъ дѣло? Hе /203/ ясенъ ли здѣсь промыслъ Божій? Ему, Ему единому слава. Забвеніе Бога, отпаденіе отъ вѣры воскормило сію войну, cie лютое чудовище, утучнѣвшее кровососаніемъ жертвъ, отрастившее черныя крылья свои, дабы, летая по свѣту, стрясать съ нихъ дождь бѣдствій и золъ на землю. Вѣчная правда Божія допустила возрасти оному, да накажется родъ человѣческій за преступленіе свое, да постраждетъ и научится изъ сего ужаснаго примѣра, что въ единомъ страхѣ Господнемъ состоитъ благоденствіе и безопасность людей. Но положивый тако въ праведномъ гнѣвѣ своемъ, не до конца гнѣвающійся Господь, видя чудовище cie готовымъ превзойти мѣру дерзновенія своего, обращаетъ на него взоръ прещенія: тогда власть его мгновенно преходитъ, сила разрушается, очарованіе исчезаетъ, и оно по всюду гонимое, растерзанное, притекаетъ погибнуть съ шумомъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ во и л
провозглашаетъ Императоромъ своимъ низверженнаго и отрекшагося навсегда отъ обладанія Франціею чужеземца. Король удаляется и столица Франціи отворяетъ врата свои бѣглецу съ Эльбы. Симъ образомъ вновь возникаетъ злочестіе, вновь возносится черная злодышущая туча, вновь возгарается толикою кpoвiю и бѣдствіями потушенная война. Но Богъ и здѣсь являетъ чудотворную благость Свою: зломысліе, мнившее возстановить прежнюю власть и величіе свое на разногласіи Союзныхъ Державъ, находитъ ихъ противъ чаянія своего единодушными. Всѣ силы ихъ неукоснительно обращаются на потушеніе сего внезапу вспыхнувшаго изъ пепла пламени. Новособранныя силы бѣглеца подъ собственнымъ его предводительствомъ поражаются кровопролитнымъ, но послѣднимъ ударомъ. Тако духъ брани и гордости вторично низлагается и умолкаетъ, послѣднія искры его погасаютъ, народное волненіе утихаетъ, Король Людовикъ XVIII возвращается въ Парижъ, Наполеонъ Бонапарте отвозится въ заточеніе на округленный пространствомъ Океана островъ Святыя Елены, и миръ, сеобщій миръ, къ радости и благоденствію всѣхъ народовъ процвѣтаетъ на мор и
20
етъ свѣту, чт мы ни кому нестрашны, но и никого не страшимся. Благочестіе, вѣpa и вѣрность твоя, Россійское Христолюбивое воинство и
народъ, ознаменовались милостію къ тебѣ Божескою. По краткомъ наказаніи за прегрѣшенія наши, Онъ, какъ праведный Судія сердецъ, обращается къ намъ милосердіемъ и покрываетъ насъ невечер/207/нимъ свѣтомъ славы. Въ щедротѣ Его является купно и спасительное для насъ поученіе. Да пребываетъ всегда въ памяти и предъ очами нашими претерпѣнное нами наказаніе и приводящая природу въ содроганіе, ужасная казнь, постигшая враговъ иашихъ. Она громче небесной трубы вопіетъ намъ: се плоды безбожія и безвѣрія. Сія страшная мысль, проницая во глубину душъ нашихъ, да преходитъ потомъ въ утѣшительное и радостное воспоминаніе о неизреченномъ къ намъ милосердіи Божіемъ, и слава, которою Онъ увѣнчалъ главы наши, да проливаетъ свѣтлѣйшій солнца свѣтъ свой въ чистыя сердца наши, воспаляя въ нихъ благодарность къ Богy и любовь къ добродѣтели. МЫ, послѣ толикихъ произшествій и подвиговъ, обращая взоръ
вяхъ на земли. Что изречемъ Россіяне, любезные НАШИ вѣрноподданные? Какими
преисполнимся чувствованіями послѣ толикихъ чудесныхъ coбытій? Па/206/демъ предъ Всевышнимъ; повергнемъ предь Нимъ сердца свои, дѣла и мысли. Мы претерпѣли болѣзненныя раны; грады и села наши, подобно другимъ странамъ, пострадали; но Богъ избралъ насъ совершить великое дѣло; Онъ праведный гнѣвъ свой на насъ превратилъ въ неизреченную милость. Мы спасли Отечество, освободили Европу, низвергли чудовище, истребили ядъ его, водворили на землю миръ и тишину, отдали законному Королю отъятый у него престолъ, возвратили нравственному и естественному свѣту прежнее его блаженство и бытіе; но самая великость дѣлъ сихъ показываетъ, что не мы то сдѣлали. Богъ для совершенія сего нашими руками далъ слабости нашей свою силу, простотѣ нашей свою мудрость, слѣпотѣ нашей свое всевидящее око. Что изберемъ? гордость или смиреніе? Гордость наша будетъ несправедлива, неблагодарна, преступна предъ Тѣмъ, Kто изліялъ на насъ толикія щедроты; она сравнитъ насъ съ тѣми, которыхъ мы низложили. Смиреніе наше исправитъ наши нравы загладить вину вашу предъ Богомъ, принесетъ намъ честь, славу, и покаж о
,
свой на всѣ состоянія вѣрноподданнаго НАМЪ народа, недоумѣваемъ въ изъявленіи ему НАШЕЙ благодарности. МЫ видѣли твердость его въ вѣрѣ, видѣли вѣрность къ престолу, усердіе къ отечеству, неутомимость въ трудахъ, терпѣніе въ бѣдахъ, мужество въ браняхъ. Наконецъ видимъ совершившуюся на немъ Божескую благодать; видимъ и съ НАМИ видитъ вся вселенная. Кто кромѣ Бога, кто изъ владыкъ земныхъ, и что можешь Ему воздать? Награда ему дѣла его, которымъ свидѣтели небо и земля. НАМЪ же, преисполненнымъ любовію и радостію о толикомъ народѣ, остается токмо во всегдашнихь къ Богу моленіяхь НАШИ
21
ХЪ призывать на него вся бла/208/гая: да славится, да процвѣтаетъ, да благоденствуетъ онъ подъ всесильнымъ Его покровомъ въ роды родовъ!
анъ въ С. Петербургѣ Генваря 1 го, въ лѣто отъ Рождества Христова 1816, Царств
Дованія же НАШЕГО въ пятоенадесять.
собственною На подлинномъ подписаноГО ИМПЕРАТОРСКАГО ЕЛИЧЕСТВА рукою тако: ЕВ
АЛЕКСАНДРЪ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ерковный слов . Ч. 1‐3. Изд. 2‐
Алексеев — Ц арь, сочиненный Петром Алексеевыме. СПб., 1794.
мГринченко — Грінченко Борис. Словарь украïньскоï ови. Киïв, 1907. САР — Словарь Академии Российской. Т. 1‐6. СПб., 1789‐1794.
кописям СС — Старославянский словарь (по ру X‐XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благоевой. М., 1994.
ЦРЯ — Словарь церковно‐славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии наук. Т. 1‐4. СПб., 1847.
С
1 вич Карамзин. Воспоминания К. С. Сербиновича // Русская старина.
1874. Т. Николай Михайло XI. № 10. С. 244. 2 Там же. С. 11
С. 11 7‐118. 3 8.
ассуждение о любви к Отечеству. СПб., 1812. С. 37. Там же. 4 Шишков А. С. Р5 Там же. 6 Там же. С. 43. 7 4. Там же. С. 43‐48 Там же. С. 48‐5
м же. С. 52. 0.
9 Та10 Шишков А. С нения и пер писка адмирала А.С. Шишкова. Т. I. Берлин, 1870. С.
121. [ .] Записки, м е
11 [Шишков А. С.] Записки… С. 123-124. 12 ксаков С. Т. Александре Семеновиче Шишкове // Аксаков С. Т. Собр.
соч. в 4‐ А Воспоминание об
х тт. Т. 2. М., 1955. С. 305‐306. 13 [Шишков А. С.] Записки… С. 252. 14 См.: там же. С. 252‐257. Позже, уже в Европе, Шишков прочел эти выписки Александру I, и
они произвели на него сильное впечатление. «Сблизивъ сіи тексты, выбранные изъ разныхъ мѣстъ священныхъ писаній, находилъ я въ нихъ толь ясно и подробно описующими всѣ происходившія съ нами приключенія, что бывши послѣ съ докладами у государя попросилъ я у него позволенія прочитать ему сіи сдѣланныя мною выписки. Онъ согласился, и я прочиталъ ихъ
22
съ жаромъ и со слезами. Онъ также прослезился, и мы оба съ нимъ довольно поплакали» (Там же. С. 257).
15 Альтшуллер М. Беседа любителей русского слова. У истоков русского славянофильства. М., 2007. С. 345.
16 Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов, Рескриптов, приказов войскам и разных и 6звещений последовавших в течении 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 181 . Римской цифрой указывается номер манифеста, арабской – страница издания.
17 Собрание Высочайших Манифестов, Грамот, Указов, Рескриптов, приказов войскам и разных и й после звещени довавших в течении 1812, 1813, 1814, 1815 и 1816 годов. СПб., 1816. Римской цифрой указывается номер манифеста, арабской — страница издания.
18 Мурьянов М. Ф. К семантическим закономерностям в лексике старославянского языка (рогъ и его связи) // Мурьянов М. Ф. История книжной культуры России. Очерки. Ч. 1. М., 2007. С. 336 и след.
19 Стоюнин В. Ал ч Шишков // Исторические сочинения В. Стоюнина. Ч. 1. СПб., 1880. С. 182.
ександр Семенови
20 Альтшуллер М. Указ. соч. С. 348. 21 я в России в
последн Зорин А. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеологие вой треи XIX века. М., 2004. С. 254.
Русская старина. 1889. № 12. С. 674й трети XVIII — пер
22 Записки гр. Ф. В. Ростопчина о 1812 г. // . 23 Ср. в оригинале: понeже рече Соръ на їерусалима; и се азъ на тя Росъ — переделка
Шишкова в духе его «этимологических» штудий.