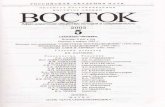Ряд особенностей археологического изучения тюркских...
-
Upload
archaeolog-ru -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ряд особенностей археологического изучения тюркских...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АРХЕОЛОГ»
ВЕРХНЕДОНСКОИ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ
СБОРНИК
Сборник научных трудов
Выпуск 5
Липецк 2010
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5. с. 198—207
РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В РОССИИ
© 2010 И. Л. Кызласов
Институт археологии РАН, Москва
Анатолий Захарович Ванников — настоящийпрофессор. Кроме прекрасных личных, по-настоящему человеческих и поистине мужскихкачеств, с первой же минуты знакомства ясных длякаждого, ему в полной мере присуща университет-ская аналитическая всеохватность, Егавные темывосточноевропейской археологической и истори-ческой медиевистики — славяноведение и кочев-никоведение — освоены им в полной источнико-ведческой мере: от личных раскопочных изысканийдо кабинетных обобщений и аудиторной, ко многимслушателям обращенной мысли.
Высоко чтя успешную собственную исследо-вательскую деятельность юбиляра, я, ученикС. А. Плетневой, не могу не вспомнить здесь и дру-гого его вклада, направленного на развитие архео-логической науки в целом и вызванного подлиннымблагородством натуры профессора Винникова.В результате его постоянного побудительного воз-действия и неизменной практической поддержкиСветланой Александровной был написан, а Воро-нежским университетом издан целый ряд ценней-ших по содержанию книг. И ныне, единственныйв стране, Воронежский университет имеет уникаль-ное полноценное учебное пособие «Кочевникиюжнорусских степей в эпоху средневековья», при-надлежащее перу С. А. Плетневой.
Эта широта помыслов и дел, присущая А. 3. Вин-никову, позволяет мне почтить его юбилей по-лекционному построенными и тезисно изложенныминаблюдениями над рядом общих особенностей архе-ологического изучения тюркских народов в России.
Насколько знаю, эта тема обобщенно в нашейлитературе пока не ставилась. Однако ясный обзордаже известных археологам фактов представляетсямне полезным не с одними лишь учебными целями.
1
В составе Российской Федерации сегодня про-живает много тюркских народов. По численности
они занимают второе место после славян. Поэтомудавний и глубокий интерес к культуре и историитюркоязычных народов всегда существовал в рос-сийской науке. Не может быть сомнения в том, чтоРоссия — страна классической тюркологии. Нов отличие от изучения языков и культуры, начав-шегося в XIX веке, целенаправленное изучениеархеологии тюркских народов страны, строго го-воря, ведется лишь с 30-х гг. XX века. Поначалуоно велось, главным образом учеными столичныхцентров—Москвы и Ленинграда. Ныне положениесильно изменилось. В России уже существуетмножество провинциальных научных центрови университетов, занимающихся археологией.В каждой современной республике РоссийскойФедерации есть своя академия наук и свои универ-ситеты. Можно сказать, что отличительной особен-ностью науки сегодня оказалось массовое обраще-ние самих тюркских ученых к археологическомуизучению тюркских народов. Однако профессио-нальных археологов всюду по-прежнему мало,и понятное нетерпение интеллигенции привелок осмыслению древностей едва ли не представите-лями всех прочих гуманитарных дисциплин и сферобщественной деятельности: историками и линг-вистами, фольклористами и литераторами, обще-ствоведами и государственными чиновниками. Этиже процессы бурно нарастают в соседних странах,активнее прочих, конечно же. — в тюркоязычныхреспубликах.
Такая ситуация привела к появлению не тольков публицистике или в непрофильных, я бы сказал,изданиях научных учреждений и университетов,но и в самой исторической и археологической на-уках множества разных подходов к задачам и ме-тодам исследования, а также и разных интерпре-таций получаемых материалов. Нам не за что су-дить дилетантов (в хорошем смысле этого слова —«любителей»), когда даже многие исследователи-гуманитарии не подозревают о существовании
198
РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ... 199
особой сферы и специальных процедурах архео-логического источниковедения. Важнее иметь яс-ные представления о том, что в этих условияхпроисходит в собственном научном хозяйстве.
Сегодня в России с особым, традиционным длянашей науки вниманием изучаются две областирасселения тюркских народов в раннем средневе-ковье: юг Восточной Европы и Саяно-Алтайскоенагорье в Южной Сибири. Важно было бы объеди-нить подходы и опереться на общие научные на-копления. И, учитывая, как много труда занимаету каждого из нас собственная специализация, я на-деюсь быть полезен своим товарищам в европей-ской части страны обзором достигнутого в азиат-ской ее части. И показом того, что иногда заметнопри взгляде оттуда на запад.
ляет связь древностей с памятниками тюркоязычныхписьменностей (из ранних прежде всего тех, кото-рые наука называет руническими). Второй признактюркоязычности — точная связь археологическихпамятников определенного вида с хронологически-ми и политическими границами каганатов, извест-ных по письменным источникам. Однако второйспособ далеко не такой надежный, как первый.
Разделяя культуры тюркских народов, россий-ская археология вместе с этим и в силу этого вы-деляет также те черты, которые являются общимидля этих разных культур средневековья. В резуль-тате такой работы мы находим ранние и, можетбыть, даже изначальные общие черты, которыерисуют нам признаки материальной культурыдревнего и древнейшего пратюркского мира.
Думая над тем, что сегодня нового в археологииРоссии, сначала нужно внести ясность в нашитермины. Будем исходить из того, что археоло-гия — самостоятельная наука, со своим предметоми своими методами изучения фактов. При этомусловии мы, прежде всего, увидим, что археологи-ческая систематика не может совпадать с лингви-стической классификацией. Это в языкознаниитермин «тюрки» условно объединяет все народы,говорящие на родственных друг другу тюркскихязыках. Историки и археологи знают другое: в ран-нем средневековье только один народ называл себяименем «тюрк», и было много других народов,говоривших на языках тюркской группы, но никог-да не называвших самих себя «тюрками».
И потому, работая с памятниками, которыеархеология связывает с тюркоязычиыми народами,не следует, в угоду условностям лингвистическойсистематики, искать аналогии только в культуренарода «тюрк» (или только, как еще иногда пишут:«на Алтае»). Не к Тюркскому каганату восходитвсе древнее многообразие культур тюркских на-родов и не одними его пределами исчерпывалосьих давнее расселение.
Археология в России сегодня работает над тем,чтобы внимательно и подробно разделить много-численные археологические культуры разных тюр-коязычных народов. Эта работа направлена на вы-явление конкретных особенностей не этно-, а куль-турогенеза, т. е. происхождения и развития разныхкультур и, в силу этого, разных народов, обладавшихими. Нужно учитывать, что не только имя, но и языкнарода археолог не может установить только поархеологическим данным. Определить язык позво-
Но общие черты в разных археологическихкультурах могут появиться не только из-за общегопроисхождения людей. Они могут сложиться и приобщей жизни разных народов в границах одногогосударства. Сегодня в российской археологиив отношении средневековых древностей появилосьпонятие «государственная археологическая куль-тура». Что это такое? Это единство металлическихизделий, применявшихся в мужском воинскомкостюме, другие предметы, характерные для про-фессиональных (если угодно, сословных) воинов-аристократов (серебряные и золотые пиршествен-ные сосуды, знаки власти и пр.), а также и дляснаряжения их верхового коня. Иными словами,это социально показательные изделия и характер-ная стилистика их оформления, демонстрирующиепринадлежность индивида к правящей части обще-ства. Такие изделия могут объединять в одну архе-ологическую культуру памятники, во всем прочемдруг на друга непохожие. Например, в ЕвропейскойРоссии давно выделена салтово-маяцкая культура,она объединяет древности Хазарского каганата. Но,кроме названных металлических предметов одно-го государственного стиля, все остальное на разныхобъединяемых ею землях не похоже друг на друга:ни обряд захоронений, ни глиняная посуда, ниформы жилищ. Такой же государственной архео-логической культурой (единой по изделиям дляверхушки общества и различной по остальнымпризнакам) являются археологические памятникиКимакского каганата, существовавшего в долинахреки Иртыш. Такова была и государственная куль-тура Кыргызского каганата (Древнехакасского го-сударства), родившегося на Енисее, но со временем
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
200 И. Л. КЫЗЛАСОВ
широко распространившего свою власть в разно-племенной Северной и Центральной Азии.
Так археология безотносительно к выводамисториков демонстрирует нам перекрывающиеэтносы, языки и культуры признаки общества, уженасквозь космополитическою в своей социальнойорганизации. Т.е. государства. Разумеется, историкотыщет пережиточные и разноукладные явленияв соответствующем письменном материале (будеттам и «род», и «племя», «патриархальная семья»,другая архаика), но вещный мир. подвергнутыйархеологическому анализу, проявит иную картину.В этом и состоит вклад нашей науки в изучениесредневековья.
Итак, археологу важно понимать, что государ-ства, возглавлявшиеся тюркоязычными народами,были населены людьми разных национальное гейи языков (не только тюркской группы, но и иранской,финно-угорской и др.). Поэтому в одной государ-ственной культуре соединяются не только разныетюркские культуры, но и многие другие. Быть может,особенно наглядно это демонстрируют древноститех земель, которые в определенное время оказалисьв Средней Азии под властью Первого Тюркского,а затем Западно-Тюркского каганатов. Во многихдревних городах лишь пришлые представителицентральной власти и их гарнизоны были от при-роды тюркоязычны. Однако их власть впрямуюсказалась на многих проявлениях местной матери-альной культуры. Более всего, его прежней аристо-кратии, служившей уже новым правителям, При этомнумизматические и эпиграфические данные свиде-тельствуют, что официальное делопроизводствонового государства даже нередко использовалостарую канцелярскую систему, письменность и пись-менный язык покоренной страны. Однако костюм,официальный облик этих чиновников, как и именаместных аристократов, становились иными — онибыли тюркскими даже у ираноязычного населения.
Подобным образом управлявшийся хазарскимтарханом таманский город не претерпел серьезныхизменений: оставался но населению, жилому об-лику и утвари преимущественно византино-грече-ским, но носил уже тюркское имя, по-греческивыговариваемое как Таматарха (а затем, согласнотрадиции, и по-русски — Тьмутаракань). Не былобы тюркоязычеой власти, не было бы у городаи общепринятого в ту пору тюркского имени.
Археологу важно понять, какие черты матери-альной культуры преобладали в таких случаях, т. е.были социально изменчивы или, иначе говоря,социально зависимыми. Тогда признаки государ-
ственной археологической культуры приобретутдолжное осмысление.
Понятно, что речь здесь не идет о государствен-ной консолидации общества, по большей части про-являющейся в общности духовной культуры: идео-логии, письменности, литературного языка и т. п.
4
Обратимся к различию тюркских археологиче-ских культур, выявленных археологией России. Мыне будем рассматривать предметы, найденные прираскопках, потому что число их быстро растет, нопринципиально нового для науки они приносятмало. Рассмотрим крупные категории памятников,характеризующие верования и обычаи разных на-родов. В этой области сегодня много новых данных,часто хорошо согласующихся со старыми резуль-татами или заметно дополняющих их.
Погребения. Давно выделены курганы народа«тюрк», создавшего Первый Тюркский каганат. Этокруглые каменные курганы (строительство которыхначиналось с крупных камней, уложенных в коль-цо). В глубоких квадратных ямах в этих курганахархеологи находят скелет человека и его коня. Такпогребены даже женщины и дети.
Курганы древних уйгуров (долго живших в со-ставе Тюркского каганата и ставших прямымиполитическими наследниками народа «тюрк») со-всем другие. Они чисто земляные. Их ямы имеютбоковые камеры (катакомбы), в которых и лежитскелет человека. Всегда без коня.
Курганы древних хакасов (кыргызов) — до за-воевания ими земель Уйгурского каганата, камен-ные и многоугольные, у каждого из углов вкопанвертикальный камень. Центральная квадратная ямаглубокая, в ней лежат кучки мелких костей умер-ших людей, сожженных на стороне до погребения.СIX—X вв. (с принятием манихейства) у кургановпропадают вертикальные камни и ямы, кости со-жженных людей лежат на самой поверхностивнутри кургана, воспроизводящего жилище, носооруженного из камня и, вероятно, имевшегошатровую деревянную крышу.
Курганы кимаков — заложенные камнями ква-дратные каменные ограды. К ограде с одним по-гребенным нередко примыкают другие, вытягива-ясь в общий ряд. Под курганами в узких ямах лежатскелеты. Лошадей с ними обычно нет.
Мы пока не знаем ранних захоронений кыпча-ков, но в XIII—XIV вв. скелеты в них лежат безконей. А западные кыпчаки (которых арабскиеи персидские авторы не отличали от восточных
ВЕРХНЕДОНСКОИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ... 201
и которых русские называли половцами), хоронилимертвых вместе с конем.
Ряд примеров можно продолжить, разнотипныхкурганов тюркских народов в России раскопаномножество.
В целом, вопреки расхожему мнению, легкозаметить, что сопровождавшее человека захороне-ние лошади, отнюдь не всеобщая для степняков,а редкая обрядовая особенность. Следовательно,она не должна нами прямо увязываться с кочевымскотоводством или с реально повсеместно бывшимв ту пору всадничеством. Раскопки показали, чтов VI X вв. у народа «тюрк» умершего сопрово-ждал оседланный конь с дорожным запасом в то-рочных сумах, а когда в могиле коней оказываетсядва, второй бывает только взнуздан. Т.е. второйконь оказывается заводным. Значит, по представ-лениям этих людей каждого из них за гробом жда-ла дальняя дорога, в которой, возможно, нужнобыло спешить (отсюда и сменная лошадь).
С иным условием в VI—VIII вв. пересекаличерту миров древние хакасы. Судя по находимомув каждом захоронении сопровождению — большо-му количеству бараньих костей (иногда от двухдесятков туш), крупной вазе для вина и набору из4 глиняных или драгоценных кубков, умершийдолжен был начать потустороннюю жизнь с пира.Мы не знаем, кого ему следовало угостить (ранееушедших родственников или определенных бо-гов — хранителей его нового обиталища), но, не-смотря на изменения погребального обряда, вплотьдо XIV в. число пиршественных кубков в набореоставалось постоянным, выявляя устойчивостьзастольного этикета.
Эти примеры позволяют понять, что даже одно-временные раннесреднековые культуры близкихпо языку и хозяйству соседствующих народов раз-делены серьезными различиями в идеологии. И от-падет необходимость использовать для пониманияконкретных древностей неких неразделенно вос-принятых черт «общей тюркской мифологии» илидаже «тюрко-монгольского единства». Посколькулишь отчленив особенное, можно будет в дальней-шем понять изначально общее.
Поминальная скульптура. Обычай ставить ка-менную статую в честь почившего воина-аристо-крата (т. е. далеко не каждого умершего) зналимногие тюркские народы средневековья. Нои в этом каждая культура имела свои особенности,поскольку все эти скульптуры отличаются друг отдруга по правилам изображения и месту, в которомизваяния ставили.
Вновь начнем с хорошо знакомых скульптурнарода «тюрк» VI—VIII вв. Умерший изображенс чашей вина, которую он всегда держит однойправой рукой. Левая опущена вниз, кисть лежит нарукояти меча, висящего на поясе. Такие изваянияустанавливались к востоку от квадратной каменнойоградки, спиной к ней. И только перед лицом такихскульптур народа «тюрк» к восходу тянутся цепоч-кой балбалы — необработанные вертикально за-рытые камни, по счету убитых витязем врагов.В богатых памятниках (типа комплексов Кголь-тегина, Бильге-кагана и подобных им) картиналишь принципиально такая же. Во многих чертахона другая: вид и состав этих мемориалов в значи-тельной мере возник под влиянием памятных со-оружений Китая. Разбирать их в нашем случаененужно. Важно учесть другое: многочисленныеизваяния, сделанные по тюркским правилам и сто-ящие у квадратных оград, ставились везде, где жилнарод «тюрк» в эпоху Первого Тюркского и Вос-точнотюркого каганатов (от Донбасса до Кореи).Земли, где их нет, не входили в каганаты тюрок. Поэтим археологическим признакам мы знаем, напри-мер, что земли Хакасии не были частью Тюркскихкаганатов.
Портретные скульптуры уйгуров (середи-на VIII — середина IX вв.) отличаются от тюркскихпрежде всего тем, что не имеют изображения ору-жия, а сосуд с вином держат у живота двумя рука-ми. Изваяния стоят в степи одиноко, без всякихсооружений и выкладок. Несколько скульптур та-кого канона, обнаруженных в Хакасии, указывают,что она попадала под влияние Уйгурского каганата.
Кыпчакские или кимакские скульптуры(мы пока не умеем их отличать и не можем точнодатировать) держат сосуд, как уйгурские, двумяруками. Но на этих изваяниях нет изображенийпоясов и другой одежды. На камне, почти не об-работанном, высечено только голова или одно лишьлицо. И эти лица— не портреты разных людей (каку тюрок и уйгуров), а одинаковые, условные изо-бражения. Скульптуры стоят в середине низкихкаменных курганов (круглых или квадратных) и непо одной, а группой — от 2 до 5—6 экземпляров.В этих курганах нет захоронений, перед нами раз-валы каменных поминальных сооружений.
В последние годы раскопки в Восточной Евро-пе позволяют понять, что к этому обычаю восходяти памятные комплексы половцев (западных кып-чаков). Каменные (или деревянные) бабы здесьтоже стояли внутри прямоугольных сооружений,стены которых были сложены из камней без рас-
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
202 И. Л. КЫЗЛАСОВ
твора. Так же, как скульптуры у восточных кыпча-ков, изваяния половцев ставились по несколькуэкземпляров и бывают закопаны в ямы (иногда наполную высоту). При этом сходстве вид самихскульптур у половцев совсем другой: лица всегдапортретны и не похожи друг на друга, из камнявысечено все тело (и костюм — с головы до пят,и оружие), фигуры сидят, не подогнув ноги кала-чиком (как иногда бывает или подразумеваетсяу кыпчаков и народа «тюрк»), а на сиденьях, свесивобе ноги вниз. От старого кыпчакского обычаяостались лишь горшковидыые сосуды, которыедержат на животе двумя руками. Как известно,в курганах с половецкими бабами также нет по-гребений самих половцев.
Древние хакасы, вообще не делали скульптур.Этот народ вершил поминки у могилы и потомуставил с восточной стороны кургана высокий вер-тикальный камень, символизировавший умершего.На этой-то стеле с VIII в. и высекались тамга и имяпокойного, а также его слова — плач по закончив-шейся жизни.
Сходным образом поступали и другие восточ-ные тюркоязычные народы, например, чики Тувы.Они просто ставили необработанный камень.Обычно -— у западной или северной стороны по-минального, а не погребального кургана. На камен-ной стеле чики иногда писали рунами только имяи титул умершего.
Следует учитывать также, что, согласно нашимсегодняшним знаниям, целый ряд тюркоязычныхнародов (таких, скажем как хазары, болгары илипеченеги) каменных поминальных знаков своимумершим вовсе не ставили.
Обдумывая культурные особенности памятниковэтого рода, мы видим не только различия определен-ных культур (из-за которого в конкретной работеархеологу, конечно, неловко писать о «тюркских из-ваяниях» вообще), но и те обрядовые черты, которыеобъединяют разные тюркоязычные народы раннегосредневековья, восходя к глубокой древности.
Прежде всего, вполне очевидно, что портретнаяскульптура как таковая принадлежит к поминаль-ным, а не к погребальным памятникам. Там, гдеона стоит (на Саяно-Алтае речь идет об урочищев целом), не бывает захоронений этой же культур-ной принадлежности. Или они бывают более позд-него времени, уже утратившего обычай сооруженияизваяний (как в случае с народом «тюрк» IX—X вв.).Еще яснее забвение первоначального обряда вы-являют скульптуры, поставленные у могилы илиуложенные в нее, как это бывает, например, на
Южном Урале. Здесь стоит подумать о смене этно-са или кардинальной ломке его мировоззрения.
Мы не знаем пока, откуда в тюркоязычный мирпришла идея лицевого портрета. Изначально онаявно не была ему свойственна. В нем не знали дажеизображения богов — по-настоящему древняякультура тюркских народов была аиконична. И этопродолжалось вплоть до принятия мировых рели-гий, большинство которых требует создание боже-ственных образов. Названное обстоятельство надоучитывать, увлекаясь поиском ликов Тенгри илиУмай в материалах раннего средневековья.
Портретная скульптура пришла к тюркскимнародам с возвышением в их обществах рыцарско-го духа. В ней отразилась конкретная форма осоз-нания роли отдельной личности воина-аристокра-та. Если не абсолютизировать сравнение с антич-ностью, индивидуальность каждого увековеченно-го в степях лика сомнения вызывать не может.Антропологи говорили мне, что с этим материаломможно даже работать. Отсюда следует, что рас-смотрение археологами скульптуры как обобщен-ного культа предков никак недостаточно, а для тойэпохи, вероятно, и уже глубоко архаично.
Рядом с аристократом появляется и его супруга-катун. Чем дальше мы идем по степям на запад,тем закономернее. Так, у народа «тюрк» скульпту-ра супруги отмечается только на мемориалах самойвысокой знати. У уйгуров женских изваяний небыло вообще. Не делали памятников для женщини древние хакасы. Однако для кыпчакской среды —и Казахстана, и южнорусских степей — парностьпоминальных изваяний практически обязательна.Возможно, в этих землях женские образы появля-ются и ранее, уже в эпоху первых каганатов. Онитоже портретны. Да, в конце концов, идея правящейпары в тюркоязычном мире богоданна. Ибо земнаяпара получает власть от пары небесной и уподо-бляется Тенгри и Умай (и только с приходом еди-нобожных мировых религий Тенгри остаетсяодинок; потому тенгрианство, как его рисуют нашимонотеисты и вышедшие из монотеизма атеисты,есть современный кабинетный конструкт). Архео-логу, помнящему, что тюркские культуры не созда-вали изображений божеств, парная скульптурапослужит источником понимания жизни земной.Хотя, разумеется, в обрядовом отражении.
Исконная и общая особенность тюркских куль-тур, явно проступающая в сфере поминальногокульта, это соединение духа умершего с камнем.К этому восходит портретная скульптура (оттогоповсюду столбообразная), это архаично сохраняют
ВЕРХНЕДОНСКОИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ... 203
воспроизводящие убитого врага камни-балбалыи необработанные вертикальные стелы с енисей-скими надписями, вопиющие голосом умершего.Такие поминальники из необработанных стел наСаяно-Алтае мы знаем со времени первого досто-верного появления там тюркоязычных народов,с г'унно-сарматского времени, например, в таштык-ской культуре. В этом окаменевании умершегопроступает миф первотворения: вселенная и пер-вые ее обитатели в глазах пратюрков были созданыне из ила морского или праха земного (из котороговышли и в который уйдем), они были сотвореныиз камня. Но эти культурные черты - уже оченьдалеки от раннего средневековья.
Сказанное объясняет, почему необработанныйкамень нередко заменяет скульптуру даже в куль-туре народа «тюрк». И побуждает понять, что на-зываемое нами «лицевой скульптурой» — камен-ный столб с одним лишь вырезанным ликом, от-нюдь не всегда и не во всех культурах характери-зует позднюю стадию развития изваяний. Именноэта форма оказывается семантически ближе прочихк первоначальной и древней идее. Таких лицевыхскульптур очень много, например, в культуре на-рода «тюрк» в VI — первой половине VIII в.
У меня есть попутная просьба к археологамВосточной Европы: не нужно именовать балбала-ми сами поминальные изваяния. Это — устаревшеесловоупотребление, ошибочность которого пока-зана для азиатских памятников уже полвека назад.
Надеюсь также, что все сказанное убедит спе-циалистов в невозможности всерьез сопоставлятьлюбые особенности азиатских поминальниковс погребальными памятниками европейских сте-пей: ровики курганных захоронений с ровикамикаганатских мемориалов, квадратные подкурган-ные конструкции (иногда даже деревянные) с, ар-хеологически говоря, открытыми комплексамикультовых каменных оградок (свойственных, по-вторюсь, только для культуры единственного на-рода по имени «тюрк») и т. п. Надо ли говоритьо том, что получаемые на этом основании языковыеи даже этнические определения погребенных немогут восприниматься всерьез? Перед нами со-вершенно разные категории культуры, очень стро-го, как видим, выдерживавшие соответствующиеканоны своего мира. Общеизвестно, что, выявляяосновы культурогенеза, сравнительную работудолжно проводить в рамках одной и той же кате-гории древностей. И восточноевропейские курга-ны, ради убедительности наблюдений, следуетсравнивать с захоронениями, которые (см. выше)
у тюркских народов Азии ни по форме, ни по кон-струкции, ни даже по расположению на местностине совпадают с их поминальными памятниками.Эти расхождения внутри азиатских культур рази-тельны. Осмыслить их — задача будущего, а учи-тывать — нужда археологической повседневности.
Петроглифы и тамги. Археологи России срав-нительно недавно научились узнавать рисунки,оставленные на скалах народом «тюрк». Эти пе-троглифы отличаются от древнехакасских и совсемдревних кыргызских (гяньгуньских) по особен-ностям рисования и стилю изображений. Не сме-шивать между собою рисунки разных народовпомогают и тамги, иногда вырезанные на нарисо-ванных лошадях. Тамги древних хакасов на петро-глифах такие же, как на стелах с енисейскими ру-ническими надписями. Тамги тюрок и уйгуровдругие. Сегодня уже можно составить их типоло-гические ряды. В результате становится ясно вид-но, что у всех этих трех народов тамги были неродовыми и не племенными, а фамильно-личными(сыновья сохраняли форму тамги отца, добавляяк ней одну черточку). Эту традицию мы хорошознаем, например, по геральдическим знакам Рю-риковичей на Руси. Собрав серию таких тамг наСаяно-Алтае или в иных землях «Дикого поля»,можно и должно вычертить генеалогическое древоразных аристократических семей. И даже составитькарту их земельных владений, поколение за поко-лением. В Хакасии и Туве такая работа уже про-ведена для IX—X веков. Идет сбор данных наГорном Алтае.
Очень интересна, но пока не объяснима, однаобщая особенность этого эпиграфического мате-риала в сравнении с нередко зооморфными илисвоеобразными геометрическими знаками гунно-сарматского времени, раннесредневековые тамгиЮжной Сибири и Центральной Азии вдруг одно-временно меняются. По имеющимся у нас нынеданным эти изменения происходят, начинаяс VIII в. Следовательно и здесь в сравнительнойработе невозможно с легкостью переступать хро-нологические и культурные границы.
Крепости, города и храмовая архитектура -и традиционная, и, одновременно, одна из самыхновых археологических тем в тюркологии России.Поиску поселений и неукрепленных городов в сте-пях ученым мешает восприятие тюркских народовкак чистых кочевников. Между тем, от войлочнойюрты внешних признаков не остается так же, как
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
204 И. Л. КЫЗЛАСОВ
и от срубной избушки. Именно наземными и дере-вянными или турлучньши и были по-большинствужилища раннесредневековых тюркских народов.Надо только начать и научиться их искать.
Средневековые персидские, арабские или ви-зантийские авторы дают указания на города кима-ков, карлуков, кыргызов (древних хакасов), хазарили болгар и других народов. Стремление решить,что было городом, а что им не было, можно осу-ществлять с разных исследовательских позиций.Одно дело выдвигать критерии, выработанныев науке нашего общества. Другое - постаратьсяпонять, что считали городом носители самих ран-несредневековых культур. Ведь в языке каждого изних, включая и тюркский мир, понятие «город» ужесуществовало. Нельзя все сводить к неверномупереводу старинных источников на русский язык.Для формирования необходимого историзма в вос-приятии этого культурного явления достаточно,думается, вникнуть в прозрачность этимологиисамого русского «города».
Сегодня, говоря об археологии России, мне не-чего рассказать о том. какими были поселениятюрок или кыпчаков (для последних много сдела-но лишь при изучении городов Золотой Орды,XIII—XIV вв.). Мы все еще не знаем, какие изгородов Хазарин были построены самими хазара-ми, а не покоренными ими народами. Но многоновых и ранних данных о крепостях и городахполучено для земель Южной Сибири. И эти мате-риалы опять показывают большие культурныеразличия, бывшие среди разных тюркских народовуже в раннем средневековье.
Уйгурские крепости и города, открытые в Тувев 1950—60-е годы (и с тех пор более серьезно неизучавшиеся) - это квадраты из толстых и высо-ких стен с башнями. Они сделаны из глины и мел-ких камней, как современный бетон. При строи-тельстве густая масса заливалась в опалубку сло-ями. Часто применялся уйгурами и прямоугольныйнеобожженный кирпич. На реках Енисей и Хемчик,к югу от горных хребтов Западною Саяна, однукрепость с другой соединяла длинная глинянаястена. Она тянется на 230 км. Такой была севернаяграница Уйгурского каганата, укреплять которуюпризывала руническая надпись кагана Боян-чора.Крепости и стена построены с помощью согдий-ских строителей в 750 г. для зашиты от древниххакасов. Но форму уйгурских городов, и системуразмещения ворот в них нельзя считать ни средне-азиатским, ни китайским влиянием. Они и отличи-мы, и самобытны.
У древних хакасов была иная стратегия обо-роны и крепости были совсем другими. На грани-це каменные стены перекрывали горные тропы.В обжитых же долинах никогда не строили укре-пленных поселений. Крепости из камня возводи-лись на вершинах соседних гор. В них никто нежил, там скрывались в момент опасности. Новыеисследования показали, что на Енисее сформиро-валась собственная школа инженеров-фортифика-торов — на строительстве горных крепостей рабо-тали специалисты: и проектировщики, и строителиприменяли отработанные, узнаваемые на разныхобъектах приемы. Выложенные на склонах кладкиуцелели поныне, не оползли, хотя не имеют скре-пляющего раствора. Такие крепости были малень-кими и очень большими (в горах Оглахтах стенаи ров тянутся на 25 км). Каменные крепости, по-строенные в VIII в., безо всякой серьезной поправ-ки помогали людям еще в XVII в., пока шла войнас русскими казаками, присоединявшими Сибирьк России.
В последние годы были найдены и большиегорода древних хакасов, о которых писали персыи арабы. Эти города не имели защитных стен. Рас-копки показали, что жилища были деревянными,следов от них не осталось. Города найдены по вы-соким буграм — развалинам храмов, построенныхв VIII—XII вв. и сложенным из необожженногокирпича. Здания оказались очень большими(их залы имели площадь 24x32 и 28x28 м), одинмонастырский комплекс в плане достигал размеров72x36 м, а в высоту — до 4 м. Планировка храмовне повторяла друг друга. Такое разнообразие от-личало манихейскую религию, в которой, вслед заастральной вавилонской традицией, геометрияхрама всякий раз зависела от почитавшегося в немкосмического тела или явления. Благодаря этомуканону, описанному арабами, удалось определить,какому из небесных божеств был посвящен каждыйиз раскопанных в Хакасии храмов: Солнцу, Луне,Марсу, Воздуху и Огню, Первопричине Мира и т. п.
Раскопки доказали официальное принятиеДревнехакасским государством манихейской рели-гии и создание на его землях крупных монастыр-ско-храмовых комплексов, непрерывно существо-вавших и развивавшихся в течение несколькихвеков. Эту религию, проводившую службу народных языках верующих, огромная сибирскаястрана, разросшаяся в середине IX в. после победынад Уйгурским каганатом, в течение 5—6 столетийраспространяла среди многих тюркских народов.
ВЕРХНЕДОНСКОИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ... 205
Ранее такой важный факт истории культуры небыл известен и не учитывался наукой при изучениираннесредневековых культур Евразии.
Между тем, овладев в Южной Сибири и в Вос-точном Туркестане умонастроениями и языкамиместных народов, манихейство в IX—X вв. ужес тюркоязычными миссионерами двинулось постепям на запад. Оно дошло до огузов Ибн-Фадлана(922 г.): «бир тенгри — бог един» заявил, как пом-ним, один из них багдадскому посольству, тольколишь несущему на Волгу мусульманскую веру. Непозднее XI в. манихейство распространилосьи у половцев ведь хан Боняк русских летописейу Анны Комниной именуется Маниаком, титуломманихейского священника, знакомого нам еще посообщениям Менандра Протектора.
Выходит, археологу, изучающему южнорусскиестепи домонгольского времени, полезно знатьи учитывать не только архаические языческиекульты или основы иудаизма, ислама и христиан-ства, но и манихейства — одного из наиболеекнижных и энциклопедичных вероучений тойэпохи.
Много нового принесло в историю культурыизучение археологами памятников руническойписьменности тюркских народов. Ранее этим за-нимались филологи, которых, естественно, инте-ресовали языковые особенности текстов. Редкихисториков занимали лаконично описанные собы-тия, судьбы государственных деятелей и не всегдаясные общественные реалии. В работе тех и у дру-гих главенствовали орхонские надписи. Археоло-гических взгляд, более полувека назад направлен-ный на рунические памятники, перевернул устояв-шиеся представления об орхонских и енисейскихнадписях (последние оказались позднее первых).Раскопки и систематизация тамг на енисейскихстелах установили их связь с археологическимикультурами и раннесредневековыми народамиСаяно-Алтая (древними хакасами и пиками), по-зволили построить датировку памятников с точно-стью до одного поколения. Этим были заложеныи основы рунической палеографии.
Новый этап в тюркской рунологии был такжесоздан приложением к ней принципов археологи-ческой систематики и сравнительно-типологиче-ского анализа. Направленный на выяснение пале-ографических основ, он открыл принадлежностьнадписей степной Евразии к разным алфавитамдвух совершенно независимых по происхождению
групп. Надписи Восточной Европы, сделанныев Хазарском каганате и Волжской Булгарии, оказа-лись близки алфавиту ряда надписей СреднейАзии, но у них не нашлось ничего общего с орхоно-енисейскими памятниками. Орхонское письмо,несомненно, родственно енисейскому, у них общиекорни, но это не один, а разные, отличающиеся другот друга алфавиты.
Такое деление руноподобных алфавитов Ев-разии впервые выявляет древнюю принадлеж-ность тюркских народов не к одному, а к двумкультурным центрам Азии. Эта ситуация неожи-данна для наших исторических знаний, но онаопределенна и в смысле археологии, и в отноше-нии эпиграфической палеографии. А с этим при-ходится считаться.
Для орхонского алфавита сохранились записиалфавита на бумаге, найденные в Турфанском оа-зисе. Их сравнение по-новому открывает проис-хождение рунического письма азиатской группы.Оно восходит к древней слоговой письменности,вероятно, родившейся еще в бронзовом веке. Судяпо некоторым особенностям, это древнее письмобыло создано не в тюркоязычном, а в семитскомобществе. Если это так, значит, тюркский мир оченьдавно заимствовал руническое письмо ПереднейАзии. Мы не знаем, когда, где, и каким народом этобыло сделано. Но новый археологический взглядна орхоно-енисейскую группу рун показывает намдревнейшие культурные связи тюркских народов.И, поскольку в те времена письма не могло бытьбез веры, эти связи, вероятно, относились к областирелигии. Мы еще и не задумывались пока над тем,какова была эта древняя религия.
Следует помнить: в Первом Тюркском каганатерунического письма не отмечается. Канцеляриювели согдийцы, и письменность была согдийской.Лишь Второй Восточнотюркский каганат (682—745 гг.) вводит у себя руническое орхонское пись-мо. Вероятно, в этом случае мы впервые видим,как в степях письменность становится символомнезависимости. Отказ от иероглифики и согдий-ского был намеренным: их применяли враги —Китай и тюргеши, енисейские руны — Древиеха-касское государство. На орхонских стелах деяниязнати продолжают подвиги предков от сотворе-ния мира и тюркских первоправителей. В этомзаключаются две главные идеи возрожденнойстраны: наследование Первому каганату и возвратдревних установлений. Первое объясняет устрой-ство и политику государства, второе — нашу воз-можность по орхонским текстам познать тюркскую
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
206 И. Л. КЫЗЛАСОВ
архаику. Из глубин истории было извлечено и саморуническое письмо, лишь к VIII в. получившеегосударственный статус и улучшенное.
В том же VIII в. появляются и монументальныепамятники енисейского рунического письма. Здесьглавенствующая причина государственно-религи-озна. Официально принятое страной манихейство,обожествлявшее письменность, сделала массовойбылую полусекретную жреческую грамотность.С расширением границ южносибирской державыбыстро распространялось и ее енисейское письмо.Именно с ним (строго говоря, с его алтайскимвариантом) в IX- X вв. двинулись на запад тюр-коязычные манихейские миссионеры. О том гово-рят характерные формулы и начертания буквв наскальных текстах, в последние годы открытыхв Киргизии и Казахстане. Становится ясно, чтопамятники таласского рунического письма — по-рождение манихейской культуры тюркских на-родов, а их скопления на валунах отмечают мани-хейские кладбища.
Также, видимо, на VIII в. приходится и рас-пространение кубанского рунического письма —наиболее широко и длительно бытовавшей руно-подобной грамоты Восточной. Европы. Связыватьего с культурой древних булгар сейчас наиболееправдоподобно. О том говорит сделанная в Биляренаходка, археологически относимая к рубежу XI—XII вв. Поздняя дата указывает на высокий и дав-ний авторитет кубанского рунического письмав местном обществе, поскольку его использованиесохранялось в городах страны, где уже более сто-летия исповедовался ислам с его собственнымсвященным языком и письменностью.
Предметы с кубанскими рунами найдены отПрикамья до Нижнего Дона, но алфавит получилсвое название по единственному пока скоплениюмонументальных надписей — Хумаринскому го-родищу, стоящему на Северном Кавказе в верхо-вьях знаменитой реки. Как видим, при учете рас-селения булгар в VII в. и позднее, весь ареалписьма не противоречит его предлагаемому опре-делению. Но если кубанское письмо связано с се-верокавказскими и волжскими булгарами, отчегоего памятников нет на землях Дунайской Болгарии?В отсутствии там кубанского письма сомнений нет,поскольку раниесредневековые древности на Бал-канах хорошо изучены, а эпиграфике и палеогра-фии болгарская наука уделяет неусыпное внимание.Остается думать, что к приходу Аспаруха и осно-ванию им нового государства (679 г.) та письмен-ность, которую мы называем кубанской, еще не
имела общеболгарского распространения. И свя-зывать ее утверждение с VIII в. (когда был, напри-мер, изготовлен кубок Афанасьевского клада, не-сущий вторичные кубанские надписи) или дажес несколько более поздним временем.
Так или иначе, но тем специалистам, которыевозьмутся расшифровывать это пока еще немоеписьмо, полезно, пожалуй, ориентироваться не навосточнотюркские языки средневековья, чьи руныимеют иные корни, а на известные особенностихазаро-булгарской речи, помимо давних письмен-ных памятников, сохраненными современнымичувашами.
Новыми археологическими работами открытыпрямые связи тюркских народов Южной Сибирис Восточной Европой, существовавшие в домон-гольское время. Выделение черт разных археоло-гических культур, о которых шла речь выше, при-вело к характеристике изделий аскизской археоло-гической культуры древних хакасов, сегодня из-вестной нам главным образом по материалам XIXIV вв. (но существовавшей до XVII в. включи-тельно). Части всаднического снаряжения, которыетогда делали на Енисее, часто были железнымии украшались набиванием тонких листиков сере-бра, реже — золота. Таких вещей другие народыне делали. Совершенно неожиданно для современ-ной науки изделия мастеров Саяно-Алтайскойстраны были обнаружены при раскопках городовРуси XI — первой трети XIII вв. и одновременныхгородов и поселков Волжской Булгарии. По со-ставу изделий и их многочисленности стало ясновидно, что в эти века в Восточную Европу регуляр-но приходили торговые караваны из Южной Си-бири, а в самих городах существовали фактории,в которых жили древнехакасские купцы и воины.Археологические находки, отражающие все этапыразвития вещевого комплекса аскизской культуры,указывают, что связь этих торговых и ремесленныхпоселений с далекой метрополией не прерывалась.Изделия аскизской культуры (прежде всего пред-меты всаднической гарнитуры) так понравилисьв Восточной Европе, что вызвали многочисленныеподражания среди местных древних финно-угор-ских (удмурты, марийцы, мордва), тюркских (волж-ские булгары) и славянских народов.
Так археологами был открыт Великий Сибир-ский путь — торговая дорога, веками проходившаяпо Евразии гораздо севернее Шёлкового пути.Движение, разумеется, не было односторонним:
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5
РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ... 207
под Омском открыто древнерусское поселе-ние XII в. (с керамикой и печами-каменками),волжско-булгарские изделия известны на Енисее,на западносибирском отрезке этого пути есть слу-чайные находки западноевропейского производстватого времени (каролингский меч под Новосибир-ском, лотарингская дарохранительница и др.).Именно по этой дороге позднее успешно продви-галось в Сибирь Московское государство, на этомпути и становясь Россией, затем по нему прошлаТранссибирская железная дорога, приводящая по-езда в Пекин.
После разгрома монгольскими армиямив XIII в. древние хакасы, вероятно, перестали ез-дить в Европу. Но их характерные изделия послу-жили образцом для многих типов изделий кыпча-ков, войдя одним из компонентов в официальный
художественный стиль Монгольской империи.И уже эти, отторгнутые от производителей изделияили новые подражания им распространились поВосточной Европе в конце XIII и в XIV в.
Как видим, излишне обобщенный взгляд надревности тюркских народов не свойственен рос-сийской археологической науке. Только благодаряисточниковедчески выверенной конкретности ар-хеологический поиск приводит к новым открытиями их историческому пониманию. Применяя соб-ственные методики, наша наука способна просле-дить многие особенности древней жизни, не от-меченные летописцами. Письменным источникамне дано исправить археологические данные, ноархеология может не только дополнить, но и опро-вергнуть утверждения ранних авторов.
ВЕРХНЕДОНСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. ВЫПУСК 5