Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 1 (6) 2014 Ежегодник Русско-польского...
Transcript of Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 1 (6) 2014 Ежегодник Русско-польского...
ROCZNIK INSTYTUTU POLSKO-ROSYJSKIEGO
ЕЖЕГОДНИК РУССКО-ПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
RADA REDAKCYJNA
NADIEŻDA BAGDASARIAN
ALEKSANDRA GUZIEJEWA
TATIANA KWIATKOWSKA
JĘDRZEJ MORAWIECKI
ANNA PASZKIEWICZ
JELENA SLOBODIAN
NATALIA SNIEGIRIOWA
REDAKTOR NACZELNY
RAFAŁ CZACHOR
REDAKTORZY TEMATYCZNI
LITERATUROZNAWSTWO
JELENA POLIEWA
JĘZYKOZNAWSTWO
OLGA ORŁOWA
HISTORIA
WŁADIMIR SZAJDUROW
POLITOLOGIA
RAFAŁ CZACHOR
SEKRETARZ REDAKCJI
IRINA POPADEYKINA
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
НАДЕЖДА Г. БАГДАСАРЬЯН
АЛЕКСАНДРА В. ГУЗЕЕВА
ТАТЬЯНА КВЯТКОВСКА
ЕНДЖЕЙ МОРАВЕЦКИ
АННА ПАШКЕВИЧ
ЕЛЕНА А. СЛОБОДЯН
НАТАЛЬЯ А. СНИГИРЁВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
РАФАЛ ЧАХОР
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕДАКТОРЫ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЕЛЕНА А. ПОЛЕВА
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ОЛЬГА В. ОРЛОВА
ИСТОРИЯ
ВЛАДИМИР Н. ШАЙДУРОВ
ПОЛИТОЛОГИЯ
РАФАЛ ЧАХОР
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ
ИРИНА В. ПОПАДЕЙКИНА
ADRES REDAKCJI АДРЕС РЕДАКЦИИ
UL. LEGNICKA 65
54-206 WROCŁAW
WWW.IP-R.ORG/ROCZNIK
PUBLIKACJA DOSTĘPNA NA LICENCJI CREATIVE COMMONS CC BY 3.0 „ATTRIBUTION” ПУБЛИКАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ЛИЦЕНЗИИ CREATIVE COMMONS CC BY 3.0 „ATTRIBUTION”
ISSN: 2084-1701
PODSTAWOWĄ WERSJĄ CZASOPISMA JEST WERSJA PAPIEROWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
SPIS TREŚCI / СОДЕРЖАНИЕ
ARTYKUŁY / СТАТЬИ
ИРИНА КАЛАНЧИНА, Поляки Восточного Казахстана в документах
1930–1950-х гг. ......................................................................................... 5
ДМИТРИЙ ГАФАРОВСКИЙ, Положение русских беженцев в Польше
в межвоенный период: политико-правовые и социальные аспекты
.................................................................................................................. 14
АЛЕКСЕЙ ЩЕРБИНИН, Родина как конструкт политической реально-
сти: советский опыт.................................................................................28
ЕВГЕНИЯ СТАРОСТИНА, «Родина», «Россия», «российский» в вер-
бальных ассоциациях носителей русского языка.................................42
ИННЕСА БАБЕНКО, Эстетические метаморфозы исторической досто-
верности: образ Марины Мнишек в раннем творчестве М. Цветаевой
...................................................................................................................52
ЯНА КАРПЕНКО, Лингвокультурологический анализ метафорики
поэзии Юнны Мориц в польскоязычных переводах ...........................62
ЕЛЕНА ЧЕРНЦОВА, Когнитивная семантика парентез оказалось, ока-
зывается в разных дискурсивных контекстах.....................................75
НАТАЛЬЯ СНИГИРЁВА, Фитонимические номинации в говорах севе-
ро-восточной Польши: к мотивации семантики………………...........83
ЮЛИАН СКОРЕК, Интонационная структура повествовательных вы-
сказываний русского, польского и немецкого языков (эксперимен-
тальные исследования)............................................................................94
ЛЮБОВЬ КАРПЕЦ, Пространство посткнижной культуры в современ-
ном коммуникативном процессе………………………….………….111
СВЕТЛАНА ДОМНИЧ, Социокультурная коммуникация в неклассиче-
ской парадигме: философско-антропологические аспекты ……….121
TANYA ALKHIMOVICH, BOZHENA BARANOVSKAYA, Rozwój umiejęt-
ności komunikacyjnych u dzieci dwujęzycznych w nowym środowisku na
podstawie wyników badań dzieci dwujęzycznych (języki rosyjski – pol-
ski) przeprowadzonych w warszawskich przedszkolach........…...….....143
RECENZJE / РЕЦЕНЗИИ
RAFAŁ CZACHOR: Дмитрий Тренин, Post-imperium: евразийская ис-
тория, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Москва
2012, ss. 326 ...........................................................................................155
ANNA FIGA, Krajobrazy pamięci, pejzaże wyobraźni. Uwagi na margine-
sach Leksykonu miast intymnych Jurija Andruchowycza (Jurij Andrucho-
wycz, Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki
i kosmopolityki, tłum. Katarzyna Kotyńska, Wydawnictwo Czarne, Woło-
wiec 2014) ..............................................................................................169
ANNA FIGA, Lista (nie)obecności. Notatki o Literaturze obecnej Tomasza
Mizerkiewicza (Tomasz Mizerkiewicz, Literatura obecna. Szkice o naj-
nowszej prozie i krytyce, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2013) ... 175
SKŁAD REDAKCJI I LISTA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH ROCZNIKA
W 2014 ROKU ......................................................................................... 181
СОСТАВ РЕДАКЦИИ И СПИСОК ВНЕШНИХ РЕЦЕНЗЕНТОВ ЕЖЕГОД-
НИКА В 2014 ГОДУ.................................................................................183
O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM ...................................................185
INFORMACJE DLA AUTORÓW................................................................186
О РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ...................................................187
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ ..............................................................188
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
5
Каланчина Ирина
Поляки Восточного Казахстана
в документах 1930–1950-х гг.
В статье приводятся данные о поляках, подвергшихся политическим ре-
прессиям и депортированных в 1930–1950 гг. в Казахстан. Документы, до не-
давнего времени хранившиеся на архивных полках под грифом «Совершенно
секретно», показывают, каким было состояние поляков, проживавших на тер-
ритории Восточно-Казахстанской области до и после второй мировой войны.
Ключевые слова: поляки; депортация; Казахстан; Восточно-Казахстан-
ская область.
Восточно-Казахстанская область в 2012 году отметила
своё 80-летие. За эти годы ее границы претерпевали различные
изменения. Так, Указом Президента Республики Казахстан от
3 мая 1997 г. упразднена Семипалатинская область, которая
в настоящее время входит в состав Восточно-Казахстанской
области (ВКО). История запечатлела немало страниц, связан-
ных с трудовыми и боевыми подвигами людей, проживающих
на этих территориях. Волею судьбы Восточный Казахстан стал
одним из регионов, куда высылали в 30–50-е годы 20 столетия
так называемых «спецпереселенцев». Среди народов, подверг-
шихся политическим репрессиям со стороны советского госу-
дарства, были поляки, ставшие заложниками мировой истории
и внутренней политики СССР.
Следует отметить, что количество поляков, депортиро-
ванных на территорию Семипалатинской и Восточно-Казах-
станской областей, значительно меньше, чем, скажем, на тер-
риторию южных и северных областей Казахстана. Однако не
стоит забывать, что за каждой цифрой, приведенной в сухих
отчетах, стоят человеческие жизни. Жесткий лемех истории
безжалостно прошелся по людям, перекроил политическую
карту и оставил неизгладимый след в судьбах народов.
Документы, до недавнего времени хранившиеся на ар-
хивных полках под грифом «Совершенно секретно», наглядно
показывают состояние лиц польской национальности, депорти-
рованных в Восточный Казахстан в 1930–1950-х годах во вре-
мя сталинских репрессий и в период второй мировой войны.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
6
Подавляющее большинство поляков, вывезенных с Ук-
раины, репрессировалось на основании двух государственных
постановлений: Совнаркома СССР «О переселении из Украин-
ской Советской Социалистической Республики в Казахскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику» от 23
января 1936 г. (№ 11 1–01) и «О выселении из Украинской Со-
ветской Социалистической Республики и экономическом обес-
печении в Карагандинской области Казахской АССР 15000
польских и немецких хозяйств» от 28 апреля 1936 г. (№ 776–
120).
В постановлении Казкрайкома ВКП(б) и СНК КазССР от
16 февраля 1936 г. «О переселенцах из Украины» предписыва-
ется:
«Установить следующий порядок и мероприятия по уст-
ройству переселяемых в Казахстан 15 тыс. немецких и поль-
ских хозяйств.
1. Из переселяемых хозяйств 12 тыс. устроить в сущест-
вующих колхозах и 3 тыс. во вновь организуемых самостоя-
тельных колхозах.
2. …В Восточно-Казахстанскую область в Шемонаихин-
ский район для развития свеклосеяния переселить 2 тыс. хо-
зяйств и в Кировский район – 500 хозяйств.
3. Просить ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР установить пе-
реброску переселенцев с рабочим и пользовательским скотом,
сельхозмашинами, сбруей и прочим инвентарем, а также, что-
бы переселяемые колхозники были обеспечены достаточным
количеством продуктов до нового урожая…
6. Признать необходимым для 80–85% переселяемых хо-
зяйств провести строительство новых домов, а для 15–20% хо-
зяйств предоставить отремонтированные старые дома»1.
Данная категория имела статус «спецпереселенцев» и на-
ходилась под жестким контролем органов НКВД. Приводим
выборочные сведения из справки сектора партстатистики
и партдокументов ЦК КП(б)К2 от 2 июля 1938 (Сов. секретно):
1 Из истории поляков в Казахстане (1936–1956 гг.). Сборник документов:
Архив Президента Республики Казахстан / Отв. ред. Л.Д. Дегитаева. –
Алматы: ТОО ИД «Казахстан», 2000. – C. 15–16. 2 Там же. – С. 61.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
7
Табл. О наличии в парторганизациях коммунистов западных национально-
стей:
№ п/п Наименование партор-
ганизаций Всего
В том числе по-
ляков
5 Восточно-Казахстан-
ская 54 14
6 В т.ч. г. Семипалатинск 20 8
7 Риддер (комбинат) 5 1
17 сентября 1939 г. части Красной Армии перешли гра-
ницу Польши и вступили на территорию Западной Украины
и Западной Белоруссии. В этих регионах начался процесс реор-
ганизации государственного устройства. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 ноября 1939 г. жители этих об-
ластей объявлялись гражданами СССР. Вся проводимая с насе-
лением работа была подчинена скорейшей «советизации»
вновь присоединенной территории и «очистке» ее от «неблаго-
надежного» элемента. Осуществлялась она методами, апроби-
рованными в предшествующие десятилетия, и сопровождалась
массовыми арестами, расстрелами и высылками населения.
В декабре 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР
приняли ряд постановлений3, касающихся порядка выселения
и трудового использования осадников (осадники – бывшие во-
еннослужащие польской армии, за заслуги в польско-советской
войне 1920 г. получившие по решению Польского сейма круп-
ные земельные наделы в восточных районах страны, заселен-
ных этническими украинцами и белорусами. Осадники выпол-
няли определенные административные функции в отношении
местного населения). Эту категорию граждан вместе с семьями
практически полностью выселили в глубинные районы страны.
Переселение осуществлялось в короткие сроки и при попрании
человеческих прав. В Казахской ССР их разместили в Восточ-
но-Казахстанской области4.
В годы войны численность польских граждан, их состав
менялись. В январе 1943 г. численность польских граждан на
3 Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940–1941 гг. // Репрес-
сии против поляков и польских граждан. – С. 114–136. 4 Из истории поляков в Казахстане (1936–1956 гг.).... – C. 6.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
8
территории КазССР составляла 103757 человек5. Поляки (быв-
шие польские граждане и советские граждане – спецпереселен-
цы, «отсеянные» при призыве в армию «по политико-мораль-
ным» соображениям) вместе со всеми советскими людьми раз-
ных национальностей в тяжелейших условиях военного време-
ни работали на шахтах Караганды, рудниках Восточного Ка-
захстана, на строительстве железных дорог, при сооружении
различных объектов.
Как видно из постановлений и отчетов, условия работы
и проживания спецпереселенцев были нелегкими. В Жана-Се-
мейском районе Семипалатинской области 14 из 26 колхозов
14 колхозов прислали в райотделение НКВД официальные от-
ношения с просьбой забрать от них спецпереселенцев.
Обратимся к постановлению ЦК КП(б) Казахстана от
23 ноября 1940 г. (Строго секретно. Особая папка) «О трудо-
устройстве спецпереселенцев, высланных из западных облас-
тей Украинской и Белорусской ССР». В нем зафиксировано
следующее:
«Произведенной проверкой трудоустройства спецпересе-
ленцев, высланных из западных областей Украинской и Бело-
русской ССР, размещенных в Актюбинской, Кустанайской, Се-
веро-Казахстанской, Павлодарской, Семипалатинской и Акмо-
линской областях Казахстана, установлены следующие факты
(выборочно):
1. Большая часть спецпереселенцев, размещенных в колхо-
зах и совхозах, до настоящего времени не трудоустроена, не
имеет не только постоянной, но даже временной работы…
3. Спецпереселенцы, размещенные для работы в промыш-
ленных предприятиях, на стройках и рудниках, поставлены
в неравное положение с остальными рабочими, не обеспечива-
ются необходимыми промтоварами, а иногда и продуктами
первой необходимости…
ЦК КП(б) Казахстана постановляет:
1. Обязать райкомы и обкомы КП(б)К не позднее 15 де-
кабря 1940 г. разместить всех спецпереселенцев для работы
в промышленные предприятия, колхозы, совхозы и МТС; для
5 Там же. – C. 8.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
9
размещения спецпереселенцев в колхозах и совхозах учиты-
вать наличие жилья и продовольственной базы в этих колхо-
зах, направляя их в первую очередь в те колхозы и совхозы,
в которых имеются партийные или комсомольские организа-
ции…»6.
Надзор за спецпереселенцами не прекращался и в годы
войны. Под грифом «Совершенно секретно» УНКВД по Вос-
точно-Казахстанской области высылает 3 августа 1941 г. на-
чальнику 1-го спецотдела НКВД СССР «Список лиц, репресси-
рованных на территории бывшей Польши, находящихся
в спецпоселках Восточно-Казахстанской области (осадники)».
В нем приводится 78 фамилий, среди которых 45 поляков
1891–1924 гг.р., рожденных в Виленской губернии7.
Согласно справке НКВД КазССР от 29 ноября 1941 г.
«О количественном составе спецпереселенцев из западных об-
ластей УССР и БССР и их размещении, трудовом устройстве
по областям КазССР» в Семипалатинской области в 8 из 13
районов размещено 7644 спецпереселенца, из них 5553 взрос-
лых, 810 стариков от 60 лет и выше, 1988 детей до 16 лет. Из
7644 переселенцев в совхозах трудоустроено 4367; в колхо-
зах – 1412, в промышленных предприятиях – 1570; в государ-
ственных учреждениях – 286.
Всего по областям Казахстана размещено 61092 пересе-
ленца.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 12
августа 1941 г. «Об амнистии польских граждан, находящихся
в спецпоселках и местах заключения по КазССР» было освобо-
ждено: в Восточно-Казахстанской области 123 мужчины, 176
женщин, 111 детей, всего – 410; в Семипалатинской области –
1638 мужчин, 3189 женщин, 2640 детей, всего – 7467.
По областям амнистировано: 6533 мужчин, 11696 жен-
щин, 16428 детей, всего – 47947.
6 Там же. – C. 111–113. 7 Там же. – C. 116–118.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
10
Осело в Казахстане амнистированных польских граждан
вместе с прибывшими из других областей (не считая Павлодар-
ской обл., т.к. сведений не поступило) – 51164 человек8.
Согласно секретной справке НКВД КазССР от 28 января
1942 г. «Об общем количестве польских граждан, размещен-
ных в Казахской ССР», наибольшее количество поляков разме-
щено в Южно-Казахстанской области – 25998, тогда как в Се-
мипалатинской – 9000, а в Восточно-Казахстанской – 4549.
Трудовое и бытовое устройство прибывших польских
граждан, как следует из постановления СНК КазССР от 5 фев-
раля 1942 г., оставляет желать лучшего. Данное постановление
обязывает исполкомы областных и районных советов депута-
тов трудящихся принять немедленные меры к расселению по
квартирам, трудовому и бытовому устройству прибывших
польских граждан; в декадный срок организовать дополнитель-
ную сеть столовых и увеличить количество отпускаемых обе-
дов; взять под особый контроль работу лечебных учреждений
в местах расселения польских граждан и обеспечить своевре-
менное проведение медико-санитарных мероприятий и сани-
тарной обработки прибывших; разрешить организацию за счет
средств польского консульства на территории Казахской ССР
восьми польских детских домов и одного дома для престаре-
лых польских граждан,… в т.ч. в Семипалатинской обл. – 1
дет. дом10
.
Количественный состав спецконтингента постоянно ме-
няется и находится под пристальным вниманием НКВД.
В справке от 7 октября 1943 г. под грифом «Совершенно сек-
ретно» «О наличии спецконтингентов в Казахской ССР по со-
стоянию на 1 октября 1943 г.» указывается, что в Восточно-Ка-
захстанской области – 702 поляка, Семипалатинской – 3943
(тогда как в Джамбульской – 12791!). Всего поляков в Казах-
стане, согласно данной справке, 6426711
.
После окончания Великой отечественной войны у лиц
польской национальности, проживавших на территории СССР
8 Там же. – C. 128–129. 9 Там же. – C. 141. 10 Там же. – C. 1466. 11 Там же. – C. 185.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
11
и имевших польское гражданство на 17 сентября 1939 г., появ-
ляется шанс вернуться на историческую родину. Увеличивает-
ся количество заявлений на выход из советского гражданства,
о чем Зам. Наркома ВД КазССР, комиссар милиции 3 ранга Бе-
люнов сообщает в сведениях НКВД КазССР от 7 января 1946 г.
Зам. Председателя СНК КазССР т. Кунаеву:
«При этом сообщаем сведения о принятых заявлениях на
выход из советского гражданства лиц польской и еврейской на-
циональностей, внесения этих заявлений на рассмотрение
спецкомиссий и рассмотренных комиссиями в разрезе областей
по состоянию на 1 января 1946 г. (выборочно)
№
Наименование об-
ластей
Количество за-
явлений, нахо-
дящихся в де-
лопроизводст-
ве в управле-
нии милиции
Количество за-
явлений, пере-
данных на рас-
смотрение
спецкомиссия-
ми
Количество
заявлений,
рассмотрен-
ных спецко-
миссиями
4
Восточно-
Казахстанская
732
468
302
14
Семипалатинская
1234
1910
1628
Всего по республике принято заявлений – 37512, из них
находится в производстве в Управлениях милиции – 18302, пе-
редано на рассмотрение в комиссии – 19210 и рассмотрено ко-
миссиями – 1570312
.
В итоговых данных о реэвакуации польских граждан
и членов их семей в Польшу, обозначенных в секретном доку-
менте от 25 июля 1946 г. Зам. председателя СНК СССР т. Ко-
сыгину А.13
, приводятся следующие сведения касательно поля-
ков, проживавших в Восточном Казахстане:
12 Там же. – C. 223. 13 Там же. – C. 245–246.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
12
Наименова-
ние областей
Ко
ли
чес
тво
уч
-
тен
ны
х п
ольск
их
граж
дан
Ко
ли
чес
тво
по
-
дан
ны
х з
аявле-
ни
й
Утверждено к выезду
Ко
ли
чес
тво
от-
пр
авлен
ны
х
в П
ольш
у
Взр
осл
ых
Дет
ей д
о 1
4
лет
Ито
го
Восточно-
Казахстан-
ская
1118 893 893 225 1118 1106
Семипала-
тинская
5123 3524 3518 1578 5096 4897
Наименование об-
ластей
Сколько
чел. оста-
лось
(взрослых)
По каким причинам
Восточно-
Казахстанская
12
Заболело 2 чел., отказ. 8 чел., арестова-
ны за растрату 2 чел.
Семипалатинская
51
Отказ. 39 чел., умерло 12 чел.
Общее количество выехавших из Казахской ССР
в 1946 г. составило 55527 человек.
Несмотря на все тяготы и лишения, поляки, проживаю-
щие в современном Казахстане, «выжили как самостоятельная
национальная группа»14. Проживающие на территории ВКО
поляки почти все являются уроженцами республики. Несмотря
на то, что для многих из них Казахстан – вторая родина, а рус-
ский язык является родным, поляки бережно относятся к своей
истории и культуре.
14 Петельская Н. Поляки Восточного Казахстана: прошлое и современность /
Н. Петельская, М. Резонтова М. – Усть-Каменогорск, 2009. – С. 74.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
13
POLES IN THE EAST KAZAKHSTAN
IN THE LIGHT OF ARCHIVES OF 1930–1950
The article is about Poles who were victims of political repressions and depor-
tations from 1930s to 1950s to Kazakhstan. Documents, which were recently archi-
ved and marked as "Classified", provide information about conditions under which
Poles lived in the East Kazakhstan region, before and after the Second World War.
Key words: Poles; deportations; Kazakhstan; East Kazakshtan oblast’.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Каланчина Ирина Борисовна,
библиотекарь.
Научная библиотека Восточно-Ка-
захстанского государственного уни-
верситета имени С. Аманжолова
(Казахстан, Усть-Каменогорск).
Область научных интересов:
краеведение.
ABOUT THE AUTHOR
Kalanchina Irina,
Librarian
Scholarly library of S. Amanzholov
East Kazakhstan State University
(Kazakhstan, Ust-Kamenogorsk).
Scientific interests: local history
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
14
Гафаровский Дмитрий
Положение русских беженцев в Польше
в межвоенный период:
политико-правовые и социальные аспекты
Статья посвящена положению русских беженцев в Польше в межвоенный
период. На основе данных польского правительства и неправительственных
организаций по делам беженцев проводится статистический анализ и раскры-
вается структура русских беженцев в межвоенной Польше. Особое внимание
уделено основным проблемам юридического статуса русских беженцев
в Польше, а в частности, вопросам, связанным с социальным обеспечением,
процедурой натурализации и высылки из страны, а также правом на прожи-
вание и трудоустройство.
Ключевые слова: русские беженцы; межвоенный период; Польша.
Введение
История человечества, насквозь пронизанная вооружен-
ными конфликтами, войнами и общественными катаклизмами,
всегда сопровождалась перемещением населения, которое
в поисках безопасности вынужденно было покидать свои дома
и устремляться в другие, наиболее безопасные места. Пробле-
ма беженства особенно обострилась в двадцатом веке, трагиче-
ские события которого потрясли все мировое сообщество. Дан-
ная проблема затронула большинство государств евразийского
континента. Исключением, к сожалению, не стала также и Рос-
сия.
Октябрьская революция в России, а также последовав-
шие за ней гражданская война и голод в 1921 г., предопредели-
ли появление одной из наиболее массовой в истории человече-
ства вынужденной эмиграции, которая составляла, по разным
подсчетам, от 1 до 3 млн. человек1. География русской эмигра-
ции «первой волны» чрезвычайно широка: она охватывает тер-
ритории от Австралии и Новой Зеландии до Канады и Латин-
ской Америки. Однако, первоначально, в связи с надеждой на
скорое возвращение домой, русские вынужденные переселен-
1 Ginsburgs G. The Soviet Union and the problem of refugees and displaced
persons 1917 – 1956 // The American Journal of International Law. – 1957. –
Vol. 51. – № 2. – C. 326.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
15
цы старались найти убежище недалеко от своей родины, пре-
имущественно в странах Европы и Ближнего Востока. Среди
первых европейских государств, принявших на своих террито-
риях беженцев из России, необходимо отметить Югославию,
Чехословакию, Германию, Финляндию и Польшу.
Настоящая статья посвящена положению русских бежен-
цев в межвоенной Польше. Особое внимание уделено основ-
ным проблемам юридического статуса русских беженцев
в Польше, и в частности, вопросам, связанным с социальным
обеспечением, процедурой натурализации и высылки из стра-
ны, а также правом на проживание и трудоустройство.
Статистические данные
Вопрос о численности русских беженцев в Польше
в межвоенный период достаточно сложен и до сих пор остается
открытым и спорным. По разным данным в первые годы после
революции на территории Польши пребывало от 150 тыс. до
1 млн. беженцев из России (см. таб. 1).
Табл. 1. Статистические данные: русские беженцы в Польше
Ам
ери
кан
ски
й к
рас
-
ны
й к
рес
т
Цен
трал
ьно
е ст
ати
-
сти
чес
ко
е у
пр
авле-
ни
е Б
об
ри
нск
ого
Дан
ны
е д
р.
Изю
мо
ва
Вер
хо
вны
й к
ом
исс
ар
(Do
c. A
. 23
, 1
92
9,
VII
)
Меж
дун
аро
дн
ое
бю
-
ро
им
. Ф
. Н
ансе
на
01.11.1920 01.01.1921 01.01.1922 1929 1936-1937
1 млн. 400 тыс. 150-200 тыс. 100 тыс. 80-100 тыс.
Источник: Simpson J. H. The Refugee Problem: report of survey. – London,
New York, Toronto: Oxford University Press, 1939. – C. 82, 559.
Расхождения в данных связаны, главным образом, с тем,
что регистрацией беженцев в Польше занимались разные орга-
низации, как правительственные, так и неправительственные.
Точный статистический учет беженцев из России в Польше
был затруднен, прежде всего, по нескольким причинам. Во-
первых, в условиях административной децентрализации
в Польше отсутствовал центральный статистический орган, от-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
16
ветственный за обработку всех данных2. Во-вторых, присутст-
вие на территории Польши многочисленного русского нацио-
нального меньшинства значительно усложняло разграничение
их членов от беженцев3. В-третьих, постоянное перемещение
фронта во время первой мировой войны, а также последующие
операции в Украине и советско-польская война оказывали
сильное влияние на феномен вынужденной миграции, которая
под воздействием вышеперечисленных факторов приобрела
в данном регионе неконтролируемый характер. Данное поло-
жение не позволяло адекватно отразить количество русских бе-
женцев в Польше. В-четвертых, многочисленный поток тран-
зитных беженцев, следующих через Польшу в страны западной
Европы и Америки, часто значительно завышал статистические
данные.
В 1921 г. в рапорте, предназначенном для Лиги Наций,
польские власти сообщили о пребывании на территории их го-
сударства около 550 тыс. русских беженцев4. Географическое
распределение внутри страны было неравномерным. Наиболь-
шее число беженцев из России было зарегистрировано в круп-
ных городах: Варшаве (60 тыс.), Лодзи (22 тыс.), Львове
(20 тыс.) и Вильнюсе (18 тыс.). Кроме того, около 280 тыс. рус-
ских беженцев поселилось в других частях страны, входивших
ранее в состав Российской Империи: около 110 тыс. – на дру-
гих территориях, принадлежавших ранее Австрии; около
35 тыс. – на других территориях, входивших ранее в состав
Пруссии. Согласно данным Вольтера Адамса, накануне второй
мировой войны количество русских беженцев, проживавших
на территории Польши и не получивших другое гражданство,
составляло 80 тыс. человек5.
2 Simpson J. H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 76, 361. 3 Roucek J. S. Minorities – A Basis of the Refugee Problem // The ANNALS of
The American Academy of Political and Social Science. – 1939. – Vol. 203. –
C. 14. 4 Simpson J. H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 76, 361. 5 Adams W. Refugees in Europe // The ANNALS of The American Academy of
Political and Social Science. – 1939, – Vol. 203. – C. 38–39.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
17
Структура и состав вынужденной эмиграции из России
Русские беженцы «первой волны», объединенные общей
причиной бегства – спасением от преследований со стороны
советской власти – весьма отличались друг от друга по своей
этнической, национальной, религиозной, социальной и полити-
ческой принадлежности. Национальный состав беженцев, при-
бывающих в Польшу из России, включал русских, евреев, ук-
раинцев, а также представителей многих других народов. Не-
обходимо отметить, что лица еврейского происхождения со-
ставляли 30% от общего количества русских беженцев в Поль-
ше6.
Наиболее значительную группу послереволюционной
вынужденной эмиграции составляли политические переселен-
цы, в частности, политические деятели царского режима, чле-
ны различных объединений, входившие в состав Временного
правительства 1917 г., а также служители русской православ-
ной церкви. Однако необходимо отметить, что представители
данных групп редко поселялись или оставались на длительный
срок в Польше, а чаще использовали ее территорию в качестве
транзитного коридора. В случае политических беженцев это
было связано, главным образом, с оказываемым на них давле-
нием со стороны властей, которые стремились прийти в отно-
шениях с СССР к определенному modus vivendi. Кроме того,
согласно многим источникам, после получения Польшей неза-
висимости ее правительство активно поддерживало кампанию,
направленную против русской культуры и религии, а также
гражданских прав русского населения7. Разумеется, антирос-
сийские и антиправославные настроения во Второй Речи По-
сполитой, которые привели к разрушению множества право-
славных храмов и преследованию православных духовных, не
создавали благоприятной обстановки для поиска убежища вы-
ходцами из России, особенно представителями русской право-
славной церкви. С другой стороны, географическая близость
6 Simpson J. H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 76. 7 Schaufuss T. The White Russian Refugees // The ANNALS of The American
Academy of Political and Social Science. – 1939. – Vol. 203. – C. 50–51.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
18
к Советскому союзу снижала чувство безопасности беженцев,
особенно в период советско-польской войны.
В изгнании оказалась также значительная часть военных,
входивших в состав формирований Белого движения и антисо-
ветских правительств. В период гражданской войны стратеги-
ческим местом локализации антисоветских военных отрядов
были территории приграничных государств. Крупный центр
белых отрядов, сформированных на базе беженцев, существо-
вал и в Польше. По имеющимся данным на территории Поль-
ши размещались отряды генерала Бредова (их численность со-
ставляла 9–10 тыс. человек), а также отряды генерала Булак-
Балаховича и 3-я русская армия генерала Перемыкина (общей
численностью 20 тыс. человек)8. После окончательного пора-
жения белого движения и завершения советско-польской вой-
ны представители военных формирований также предпочитали
искать убежище в более отдаленных странах Западной Европы.
Большинство беженцев, которые остались в Польше, бы-
ли аполитичны. Их целью было, прежде всего, обеспечить соб-
ственную безопасность и заработать средства на существова-
ние. Среди оставшихся в Польше беженцев были как обычные
рабочие, так и представители бизнеса, промышленности, фи-
нансовой сферы и других либеральных профессий.
Правовое положение
Отдельной проблемой было правовое положение русских
беженцев в странах, предоставляющих убежище. Связанно это
было с тем, что большинство беженцев имели паспорта или до-
кументы, выданные несуществующей на тот момент Россий-
ской Империей, а многие вообще не имели никаких докумен-
тов, удостоверяющих их личность. Поэтому принимающие
страны столкнулись с проблемой определения их юридическо-
го статуса. На первом этапе правовое положение русских бе-
женцев в отдельных государствах было сильно дифференциро-
вано и зависело, главным образом, от взаимоотношений стра-
8 Simpson J. H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 77.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
19
ны, предоставляющей убежище, с Советским союзом9. Госу-
дарства, которые не поддерживали дипломатические отноше-
ния с советским правительством и продолжали признавать кон-
сульские учреждения царской России (например, Болгария
и Сербия), относились к русским беженцам как к иностранным
гражданам, в связи с чем данные лица могли пользоваться все-
ми правами, предусмотренными внутренним законодательст-
вом данных стран для иностранцев. В других странах, заклю-
чивших перемирие с советским правительством, а также при-
знавших его не только de facto, но и de jure (включая Польшу),
правовой статус русских беженцев определялся согласно поло-
жениям мирных договоров или конвенциональным постанов-
лениям права о предоставлении убежища10
. Ярким тому под-
тверждением являются положения Рижского мирного догово-
ра, заключенного в 1921 г. между Польшей, Россией и Украи-
ной. В соответствии со статьей № VI частью № 1 данного До-
говора все находящиеся на территории Польши лица русского
происхождения (среди которых значительную часть составля-
ли беженцы), которые по состоянию на 1 августа 1914 г. имели
гражданство бывшей Российской Империи и были приписаны
или имели право быть приписанными к книгам постоянного
народонаселения бывшего Царства Польского, получили право
выбора российского гражданства11
, и, следовательно, возмож-
ность приобрести дипломатическую и консульскую защиту Со-
ветского союза. Лица, которые не признали правительство Со-
ветского союза и отклонили его защиту, могли воспользоваться
в Польше правом на убежище12
.
В связи с массовой вынужденной эмиграцией из России
в середине 1922 г. в Женеве была созвана межправительствен-
9 Holborn L.W. The Legal Status of Political Refugees, 1920–1938 // American
Journal of International Law. – 1938. – Vol. 32. – № 4. – C. 681–682. 10 Holborn L.W. The Legal Status of Political Refugees, 1920–1938 // American
Journal of International Law. – 1938. – Vol. 32. – № 4. – C. 682. 11 Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia
18 marca 1921 roku // Dziennik Ustaw. – 1921. – № 49. – poz. 300. – C. 823. 12 Holborn L.W. The Legal Status of Political Refugees, 1920–1938 // American
Journal of International Law. – 1938. – Vol. 32. – № 4. – C. 682; League of
Nations Official Journal. – 1921. – Annex 9; League of Nations Official Journal. –
November 1921. – Annex 7.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
20
ная конференция, результатом деятельности которой стало
подписание «Соглашения о выдаче удостоверений личности
русским беженцам»13
. Удостоверения личности, о которых го-
ворилось в Соглашении, получили название «нансеновских
паспортов». В Польше они выдавались исключительно рус-
ским беженцам, прибывшим на территорию государства не
позднее июля 1922 г. Остальные лица, прибывшие на террито-
рию страны в поисках защиты и убежища, могли ходатайство-
вать о получении так называемого titre d'identité de voyage, ко-
торый исполнял функцию удостоверения личности и проездно-
го документа иностранцев14
. Нансеновские паспорта и удосто-
верения личности иностранцев давали право их владельцам
пребывать на территории Польши исключительно в период
срока их действия15
.
Вопросы защиты беженцев в Польше находились в ком-
петенции Министерства внутренних и иностранных дел. Также
до 1934 г. на территории государства функционировал предста-
витель Нансеновского международного бюро. В последующий
период его обязанности перешли к Польскому красному кре-
сту, который, несмотря на ограниченные финансовые возмож-
ности, проделал огромную работу, направленную на оказание
защиты и предоставление помощи беженцам. В частности ор-
ганизация помогала беженцам в вопросах, связанных с предос-
тавлением пособий, помощью в получении виз и разрешений
на пребывание.
Институт высылки в польском законодательстве
Вопросы высылки в польском законодательстве регули-
ровались Постановлением Президента об иностранцах от 13 ав-
13 League of Nations. Arrangement with respect to the issue of certificates of
identity to Russian Refugees // League of Nations Treaty Series. – 1922. – Vol.
XIII. – № 355. [online] http://www.refworld.org/docid/3dd8b4864.html, [доступ:
7 II 2014]. 14 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 360. 15 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 270.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
21
густа 1926 года16
. Статья № 10 Постановления предусматрива-
ла возможность высылки иностранца за пределы республики,
если он не соблюдал положения данного законодательного ак-
та (часть а), представлял угрозу для безопасности государства
или общественного порядка (часть б). Высылка иностранцев,
которые пользовались в Польше правом постоянного пребыва-
ния, находилась в компетенции административной власти 2-ой
инстанции (статья № 11). Иностранцы, пребывающие на терри-
тории Польши временно, без регистрации и прописки или не-
легально пересекшие государственную границу, могли быть
высланы на основании решения административной власти 1-ой
инстанции (статья № 11). В случае принятия решения о высыл-
ке иностранца ему могло быть определено место принудитель-
ного пребывания до момента исполнения решения (статья
№ 11). Обжалование предусмотрено было лишь в отношении
решений 2-ой инстанции, т.е. исключительно по вопросам ино-
странцев, постоянно проживающих на территории страны. Об-
жалования рассматривались Министерством внутренних дел.
В остальных случаях выданные решения были окончательны-
ми и подлежали немедленному исполнению. Таким образом,
большинство русских беженцев были лишены права на обжа-
лование решения о высылке.
Дополнительно Постановлением Министра внутренних
дел от 8 ноября 1929 г.17
была принята более упрощенная про-
цедура высылки иностранцев, находящихся на территории
Польши без соответствующего разрешения или самовольно ос-
тавшихся на территории государства после окончания срока
действия предоставленного им права на пребывание (статья
№ 33). Высылка вышеуказанных иностранцев осуществлялась
на основании так называемого исполнительного порядка и на-
ходилась в компетенции административной власти округа (по-
вета), на территории которого было установлено пребывание
16 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1926 r.
o cudzoziemcach // Dziennik Ustaw. – 1926. – nr 83. – poz. 465. – C. 918–921. 17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1929 r.
o ruchu cudzoziemców, wydane co do §§ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21, 24, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 52 i 53 w porozumieniu z Ministrem Spraw
Zagranicznych // Dziennik Ustaw. – 1929. – nr 76. – poz. 575. – C. 1135–1148.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
22
такого иностранца (статья № 33). В рамках данной процедуры
иностранец мог быть принудительно перемещен на границу,
или же ему мог быть предоставлен дополнительный срок на
выезд с территории Польши. Во всех остальных случаях проце-
дура депортации иностранцев производилась на основании по-
становления о высылке (статья № 34), выдача которого находи-
лась в компетенции районной или областной административ-
ной власти (статья № 37). Исполнение решения о высылке мог-
ло осуществляться в форме постановления о необходимости
выезда из страны в определенный срок и в выбранном ино-
странцем направлении, или же в форме принудительного пере-
мещения на границу (статья № 35). В случае невозможности
немедленной депортации власти могли обозначить иностранцу
место принудительного поселения до момента исполнения ре-
шения о высылке (статья № 37).
По данным Дж. Х. Симпсона, в период 1918–1928 г. бы-
ло зарегистрировано огромное количество высылок русских
беженцев из Польши. Однако благодаря усилиям Управления
верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев, боль-
шинству высылаемых из Польши русских беженцев удавалось
получить французские визы. Когда возможности Франции по
принятию беженцев заметно сократились, польские власти ста-
ли принудительно расселять русских беженцев в небольшие
населенные пункты Познаньской и Торуньской областей18
. Не-
смотря на то, что в официальной декларации, предоставленной
Управлению высокого комиссара в 1928 г., польское прави-
тельство отрицало факт депортации русских беженцев в Совет-
ский союз, в постановлениях о высылке довольно часто содер-
жались угрозы о том, что в случае несоблюдения условий по-
становления иностранец будет принудительно перемещен на
советскую границу. По данным А. Голденвейзера, данная угро-
за в отношении русских беженцев была во многих случаях при-
ведена в действие19
.
18 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York,
Toronto: Oxford University Press, 1939. – C. 260. 19 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York,
Toronto: Oxford University Press, 1939. – C. 260.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
23
Право на трудоустройство
Высокий темп роста безработицы граждан в межвоенной
Польше вынудил власти принять защитные меры в области на-
ционального рынка труда. Постановлением Президента от
4 июня 1927 г.20
была введена необходимость получения разре-
шения на трудоустройство иностранцев (статья № 2). Положе-
ния законодательного акта не распространялись на иностран-
цев, постоянно пребывающих на территории Польши с 1 янва-
ря 1921 г. (статья № 8, часть 3). Иностранцы, трудоустроенные
на момент принятия Постановления, освобождались от необхо-
димости получения разрешения до окончания срока действия
трудового договора. Декретом Министра социальной защиты
от 19 марта 1937 г.21
в Постановление Президента были внесе-
ны изменения. Основное изменение касалось иностранцев,
проживающих постоянно на территории Польши с 1 января
1922 г. Для лиц данной категории было введено требование по-
лучения специального сертификата, позволяющего иностранцу
в период срока действия устраиваться на работу без необходи-
мости получения соответствующего разрешения.
Принятие вышеуказанных законодательных актов, на-
правленных на ограничение права на трудоустройство ино-
странцев в Польше, в значительной степени сказалось на поло-
жении русских беженцев, проживающих в данной стране. Как
подчеркивает Дж. Х. Симпсон, значительная часть русских бе-
женцев прибыла в Польшу до 1 января 1921 г. и поэтому поль-
зовалась привилегированным положением22
. Однако необходи-
мо отметить, что существовала также многочисленная группа
беженцев из России, которые прибыли в страну после указан-
ного срока. Для данных лиц принятые акты стали серьезным
20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o
ochronie rynku pracy // Dziennik Ustaw. – 1927. – nr 54. – poz. 472. – C. 741–
742. 21 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 marca 1937 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4
czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy // Dziennik Ustaw – 1937. – nr 23. – poz.
148. – C. 308–310. 22 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 280.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
24
препятствием на пути к поиску безопасных условий жизни, что
значительно усугубило и без того достаточно тяжелое их поло-
жение.
Социальное обслуживание
В соответствии с принятым 6 июля 1923 г. законом23
все
правовые положения, касавшиеся возмещения ущерба гражда-
нам в связи с несчастными случаями на работе, нетрудоспособ-
ностью, старостью, смертью, а также безработицей, были рас-
пространены на иностранцев. Исключение составили граждане
третьих государств, власти которых ограничили на своей тер-
ритории аналогичные права для граждан Польши (статья № 1,
часть № 2). Необходимо подчеркнуть, что это один из немно-
гих случаев, когда принцип взаимности не ухудшал положение
беженцев апатридов.
Вопросы получения социальной помощи в Польше регу-
лировались «Законом о социальной защите» от 16 августа
1923 года24
. В случае иностранцев также применялся принцип
взаимности, т.е. иностранные граждане могли пользоваться та-
кими правами, какие в их государстве были предусмотрены
для граждан Польши (статья № 15). Поскольку большинство
русских беженцев были апатридами, то к ним данный закон не
применялся. Тем не менее, некоторые общины и организации,
несмотря на их ограниченные материальные ресурсы, оказыва-
ли помощь беженцам в крайне тяжелых случаях. К тому же,
как отмечает Дж. Х. Симпсон25
, Министерство социальной за-
щиты Польши предоставляло ежегодные дотации для Союза
русских инвалидов войны.
Вместе с принятием «Закона о покрытии расходов на ле-
чение бедных в государственных больницах, находящихся на
23 Ustawa z dnia 6 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obywateli państw
obcych przepisów prawnych o odszkodowaniu z tytułu nieszczęśliwych wypadków
przy pracy, niezdolności do pracy, starości, śmierci, jakoteż braku pracy //
Dziennik Ustaw. – 1923. – nr 75. – poz. 587. – C. 873. 24 Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej // Dziennik Ustaw. –
1923. – nr 92. – poz. 726. – C. 1062–1064. 25 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 287.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
25
территории ранее принадлежавшей Российской Империи» от
29 марта 1926 г.26
беженцы получили возможность бесплатного
лечения. Однако на практике это положение принесло мало
пользы, так как больницы были переполнены, а их ресурсы бы-
ли очень малы27
.
Процедура натурализации
Как уже говорилось выше, определенные вопросы, свя-
занные с получением гражданства, регулировались положения-
ми Рижского мирного договора. На основе статьи № 6 части
№ 2 польское гражданство могли получить бывшие подданные
Российской Империи, которые имели право быть приписанны-
ми к книгам постоянного народонаселения бывшего Царства
Польского28
. Таким образом, беженцы, исполняющие данные
требования, могли получить польское гражданство на основа-
нии положений Договора. Большинство же русских беженцев
были лишены такой возможности. Единственным для них спо-
собом получения польского гражданства была обычная проце-
дура натурализации на основании внутреннего законодательст-
ва. Вопросы натурализации регулировались Законом от 20 ян-
варя 1920 г.29
, Постановлением от 7 июня 1920 г.30
и Постанов-
лением от 13 февраля 1924 года31
. Заявление о желании полу-
26 Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o pokrywaniu kosztów leczenia ubogich w szpi-
talach publicznych na obszarze b. zaboru rosyjskiego // Dziennik Ustaw. – 1926. –
nr 36. – poz. 214. – C. 413. 27 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York, To-
ronto: Oxford University Press, 1939. – C. 287. 28 Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia
18 marca 1921 roku // Dziennik Ustaw. – 1921. – № 49. – poz. 300. – C. 823. 29 Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego // Dzien-
nik Ustaw. – 1920. – nr 7. – poz. 44. – C. 82–83. 30 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wykonania usta-
wy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego // Dziennik
Ustaw. – 1920. – nr 52. – poz. 320. – C. 907–912. 31 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 1924 r. w spra-
wie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7
czerwca 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o
obywatelstwie Państwa Polskiego oraz rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Prus-
kiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 1921 r.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
26
чить польское гражданство могло быть подано лицом, прожи-
вающим на территории государства на протяжении 10 лет
и владеющим польским языком. Кроме того, необходимо было
заручиться поддержкой двух граждан Польши. Согласно дан-
ным А. Голденвейзера, несмотря на относительно высокую
стоимость и длительный срок процедуры натурализации
в Польше, большому количеству русских беженцев удалось по-
лучить польское гражданство32
.
Заключение
Польское государство в связи со своим географическим
положением сыграло важную роль в истории русской вынуж-
денной эмиграции в межвоенный период. Для большинства
русских беженцев территория Польши была своеобразным
транзитным коридором на пути в более отдаленные страны За-
падной Европы и Америки. Однако среди беженцев из России
была также значительная группа, которая по собственному же-
ланию или же по вынужденным обстоятельствам поселилась
на более или менее длительный срок в Польше.
Положение русских беженцев в Польше было крайне
сложным, особенно в первые годы после получения ею незави-
симости. Необходимо отметить, что польские власти, опасаясь
обострения в государстве конфликтов на национальной почве,
из года в год ужесточали иммиграционную политику, что су-
щественно усугубляло положение беженцев. Кроме того, анти-
российские и антиправославные настроения во Второй Речи
Посполитой, вызванные темными страницами истории русско-
польских отношений, не создавали благоприятной обстановки
для поиска в ней убежища выходцами из России. Кроме того,
тяжелое состояние экономики страны, которое вынудило пра-
вительство принять меры по защите национального рынка тру-
да, также отрицательно сказалось на положении беженцев
в Польше. Тем не менее, анализируя правовое положение рус-
ских беженцев в межвоенной Польше, в определенных сферах
w przedmiocie wykonania pomienionej ustawy na obszarze b. dzielnicy pruskiej //
Dziennik Ustaw. – 1924. – nr 22. – poz. 240. – C. 320. 32 Simpson J.H. The Refugee Problem: report of survey. – London, New York,
Toronto: Oxford University Press, 1939. – C. 602.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
27
можно все же констатировать положительные изменения. Осо-
бого внимания заслуживает принятие либерального законода-
тельства для иностранцев и беженцев в области социального
обслуживания. Ведение определенных исключений в законода-
тельство, регулирующее право иностранцев на трудоустройст-
во, оставило многим русским беженцам возможность само-
стоятельно зарабатывать на необходимые жизненные потреб-
ности своей семьи.
Необходимо также отметить, что само предоставление
польскими властями возможности пересечения своей границы
столь многочисленной группе беженцев из России по существу
является неоценимым подвигом, так как для большинства пе-
реселенцев это был единственный способ сохранить свою
жизнь и здоровье.
RUSSIAN REFUGEES’ SITUATION IN POLAND IN INTERWAR
PERIOD: POLITICAL, LEGAL AND SOCIAL ASPECTS
The present article focuses on the situation of the Russian refugees in Poland
during the interwar period. The present study aims to present a statistical analysis
of the Russian refugees and to throw light on the structure of the respective forced
emigration based on the data provided by the Polish government as well as non-
governmental refugee-oriented organizations. The significant attention is paid to
the main problems connected with the legal status of the Russian refugees in
Poland, particularly, issues related to social services, naturalization procedure,
expulsion and refoulement as well as refugees' rights to residence and
employment.
Key words: Russian refugees, interwar period, Poland.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Гафаровский Дмитрий, магистр,
аспирант.
Ягеллонский Университет, институт
России и Восточной Европы (Поль-
ша, г. Краков).
Область научных интересов: бежен-
ство и вынужденная миграция на
постсоветском пространстве; между-
народная экономическая интеграция
на постсоветском пространстве.
ABOUT THE AUTHOR
Gafarowski Dymitr, PhD student.
Jagiellonian University, Institute of
Russian and Eastern European Studies
(Poland, Cracow).
Scientific interests: refugees in the
post-Soviet countries; post-Soviet
economic integration.
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
28
Щербинин Алексей
Родина как конструкт политической реальности:
советский опыт1
В статье речь идет о состоянии политической культуры в России, а имен-но о феномене Родины, в частности, о возникновении советской нации. На
примере Советской России показано, как конструировалась данная полити-ческая реальность в середине 30-х годов прошлого века с помощью поли-тических игр для детей. Раскрыта индоктринационная роль политических
игр, их специфика, показано, к каким эффектам это приводило.
Ключевые слова: родина; политическая реальность; конструкт; полити-ческая игра; СССР.
События первой половины 2014 года, связанные с кризи-
сом на Украине, отразились не только на межгосударственных
отношениях соседних стран, изменили международный кли-
мат, но и вызвали неожиданный эффект, скрытый за сиюми-
нутными настроениями и потоком пропаганды. Речь идет о со-
стоянии политической культуры, прежде всего, в России,
а именно о феномене Родины, и в широком смысле слова
о признаках возникновения современной российской нации.
Парадокс здесь в том, что чувство Родины связано с внутрен-
ними ощущениями человека – это страна, которая «внутри не-
го». Поэтому мы можем фиксировать страны и периоды в их
истории, когда в обществе это состояние отсутствовало. В ча-
стности, на примере Советской России мы покажем, как конст-
руировалась данная политическая реальность в середине 30-х
годов прошлого века на примере лишь одной из технологий –
политических игр для детей.
Индивидуальный и коллективный смыслы прошлого, на-
стоящего и будущего крайне редко приходят из сферы рацио-
нального. Наша оценка, так или иначе, опирается на фантазий-
ную схему (или проект) интерпретации образа действительной
или примысленной реальности. Интерпретативные схемы, ини-
циируемые событиями или желаниями, даже опосредованные
1 Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-13-70001 региональ-
ного конкурса "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледови-
тым океаном" на 2014 г. «Визуальная антропология: модели социокультур-
ных коммуникаций».
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
29
самыми современными средствами коммуникациями, опирают-
ся, в конечном счете, на базовые модели интерпретации, уходя-
щие корнями в миф, сказку, клише и т.п.2. Нередко именно на
подобных нерефлексируемых основаниях базируется «единст-
венно верное» понимание. В этом плане ритуально-символиче-
ская трактовка становится основой конструирования, в том
числе, и актуальной политической реальности.
Игра, как одна из наиболее древних форм социальной
коммуникации, была, на наш взгляд, и одной из самых первых
форм осмысления окружающего мира, моделирования его в са-
мой доступной форме. Наряду с ритуалом игра является и са-
мым ранним сводом правил/законов, известных человечеству.
А принимая правила, ты принимаешь и навязанный смысл ми-
ра в его символическом представлении.
Осмысление мира связано с базовыми концептами, опре-
деляющими пространственно-временные координаты для чело-
века и общества. В игре освоение такого рода базовых концеп-
тов происходит в органичной форме. На примере одного из
них – концепта «Родина» – мы и рассмотрим работу этого ме-
ханизма. Даже если остаться в рамках поверхностных сравне-
ний, у современной России много общего с СССР середины 30-
х годов. Вновь поднимаются проблемы освоения Дальнего
Востока, Арктики, состояния российской границы. Более глу-
бокое прочтение этих тенденций показывает, что современная
Россия, подобно своему историческому предшественнику, пы-
тается вырваться из плена переходного периода, и одним из не-
пременных условий этого выхода является осмысленный и це-
ленаправленный процесс нациестроительства. Отсюда и иссле-
довательский интерес к концепту «Родина», который выходит
за рамки уже поднадоевших поверхностных «игр патриотов»,
если воспользоваться названием знаменитого романа Тома
Клэнси. На наш взгляд, анализ предшествующих конструкти-
вистских практик заслуживает самого пристального внимания,
разумеется, с поправкой на различие политических режимов.
Обратим внимание на то, что тема Родины на протяже-
нии практически двадцати лет после победы Советской власти
2 Больц Н. Азбука медиа. М.: Изд-во «Европа», 2011. с. 47.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
30
играла вспомогательную роль в осмыслении значения и пер-
спектив мировой революции. Более того, стоит отметить одну
важную особенность: как в официальном дискурсе, так и в по-
литико-игровом концепт «Родина» в 20-е – начале 30-х годов
не употребляется. «Родина» – это конструкт, относящийся, по
нашему мнению, уже к «Культуре Два», если воспользоваться
метафорой Владимира Паперного3. Карен Петроун в этой связи
пишет: «Понятие «Родина», которое использовалось в дорево-
люционной патриотической культуре, исчезло из советского
официального дискурса в 1920-х гг., но опять появилось в сере-
дине 1930-х гг.»4.
«Наша Родина – Революция/ Ей, единственной, мы вер-
ны» – пелось в песне А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова.
Конструкт «Родина-Революция» 20-х – начала 30-х годов име-
ет сложную временную структуру. Он, прежде всего, символи-
чески и ритуально корреспондировал с общим великим про-
шлым. И игры 20-х годов нам интересны как источники по по-
литико-временной ориентации пионеров и школьников. Для
исследования мы взяли подвижные игры, предлагаемые журна-
лом юных пионеров «Барабан» за 1925 и 1926 годы, а также на-
стольные игры-соревнования5. Отметим, что технически на-
стольные игры, как и подвижные, не отличались от своих «не-
политических» предшественников: в их основе лежали казаки-
разбойники, кошки-мышки, шашки, шахматы, лото и т.п. Со-
держательно, с тем или иным эффектом, они политически мар-
кировали новую реальность – реальность революции. Это мы
наблюдаем в подвижных играх типа «Красные и белые», «В
тылу у белых», «Взорвать пороховой склад белых», «Секрет-
ный документ», «Буденновцы», «Буденновец за махновцем»,
«Поймать банду атамана Маруськи», «Красноармейцы на ма-
3 Паперный В. Культура Два. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 2-е
изд., испр., доп. 4 Petrone K. Life has become more joyous, comrades: celebrations in the time of
Stalin. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2000. p. 54 5 Вишневский А.И. Настольные игры-соревнования. М.-Л.: Молодая гвардия,
1929.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
31
неврах» и т.п.6 Примером настольных игр, обращенных к рево-
люционному времени, может служить игра на основе шашек
«Гражданская война (Колчак)»7. Символика игры немудреная:
шашки белых – белые, шашки красных, соответственно, покра-
шены в красный цвет. Игровая доска расчерчена, на ней грани-
цей являются Уральские горы. Если шашка белых попадает
в Москву, она становится дамкой. То же происходит с красной,
добравшейся до Владивостока. Как видим, в 1929 г. у игровых
«белых» еще есть шанс. Чуть сложнее игра «Красный Пере-
коп», где один играет за Врангеля, а другой за Красную армию
(стараясь последовательно завоевать города противника).
Таким образом, перед нами своего рода пространствен-
ноподобная модель истории гражданской войны. И если взять
за основу ее осмысления модели «Культуры Один» и «Культу-
ры Два» В. Паперного, то антагонизм «красных» и «белых»
шашек фактически является примером, подтверждающим не
только горизонтально-плоскостную символику «Культуры
Один», но и сущностную качественную ее характеристику:
«Культура 1 в соответствии со своими эгалитарно-энтропийны-
ми устремлениями почти не выделяет отдельного человека из
массы, она его, в сущности, не видит»8. Точно такими же
«шашками» являлись шашки-«пионеры» и шашки-«беспризор-
ники» в игре «Всегда готов», где «те и другие стараются пере-
тянуть друг друга на свою сторону»9. Разумеется, здесь идет
борьба прошлого и будущего, но прошлое имеет свой шанс
(игровой), как и в играх «Гражданская война» или «Красный
Перекоп». И это еще раз подтверждает саморефлексию «Куль-
туры Один» в качестве начала истории10
. Добавим, что такой
тип культуры имеет смелость экспериментировать с этим нача-
лом, пока еще не осознавая конечности революционной эпохи.
Игры, уводящие в начало советской истории, были не
единственными в арсенале методистов-игротехников. Налицо
6 Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация как управление сознанием:
Учеб. пособие. Томск: Изд-во Том.ун-та, Томск, 2012. с. 43–44. 7 Вишневский А.И. Указ. соч. с. 119–120. 8 Паперный В. Указ. соч. с. 143. 9 Вишневский А.И. Указ. соч. с. 122–125. 10 Паперный В. Указ. соч. с. 59.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
32
в период «Культуры Один» были и игры иного типа. Посколь-
ку революция не закончилась, вокруг страны – враги, игры та-
кого рода тематически были связаны с активной деятельно-
стью Коминтерна, революционеров (зарубежных и наших) по
распространению мировой революции, противоборству фаши-
стам по всем фронтам. Среди них игры с названиями «Путеше-
ствие по Европе», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
«Делегация западных рабочих», «Прорвать кольцо блокады»,
«Красный летчик», «Агитаторы», «Срочная депеша», «Переход
границы». С борьбой западных трудящихся против собствен-
ных режимов связаны игры «Слепой жандарм» и, соответст-
венно, «Находчивый революционер», «Ловля организатора
школьной группы», «Поищи-ка», «Демонстрация», «Радиоде-
пеша».
Подвижные игры, как правило, предваряла краткая бесе-
да, а распределение ролей коммунистов и фашистов, красных
и белых шло на основании знаний политической/исторической
темы игры. Так какое же представление о политическом мире
навязывали детям игры того периода? Обращаясь в этой связи
к модели «Культура Один», мы видим, как конструируется ско-
рее не временная, а пространственная модель осмысления про-
шлого и будущего через принадлежность к советскому настоя-
щему. Окруженная врагами страна Советов – это настоящее, на
глазах превращающееся в лучшее будущее, а остальной мир –
это прошлое. Например, в «Путешествии по Европе» при пере-
сечении «поездом» «границы с Польшей» ребята фактически
погружаются в прошлое, получая первые знания об этом враж-
дебном мире. По ходу игры следует команда: «Граница – ос-
мотр». Все останавливаются, и один из октябрят производит
осмотр, а пионер по ходу рассказывает, для чего это делается
на границе». Дальше образование переходит на уровень безус-
ловных рефлексов. «Во время поездки через Польшу поезд
вдруг останавливается, а пионер кричит: «Штыки, спасайся».
Октябрята разбегаются по комнате и делают вид, что прячутся
от штыков». Дальнейшее путешествие продолжается на авто-
бусах, но вот в Германии они встречают отряд фашистов. «Раз-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
33
даются крики: «Фашисты, фашисты». Октябрята разбегаются
и собираются в каком-нибудь углу» и т.д.11
.
Спрашивается, зачем детям переходить границу? Соглас-
но Паперному, относящему феномен границы к «Культуре
Два», она «постепенно приобретает значение рубежа Добра
и Зла… Там, где границ не было, они возникают, а те границы,
которые существовали, например, государственные, приобре-
тают значение Главной Границы и Последнего Рубежа»12
. На
деле, как показывает наш анализ политических игр, все это
происходило уже в условиях «Культуры Один». Игра поясня-
ет – допустим, хотят перейти границу пионеры для празднова-
ния Международной детской недели. Но были и другие, более
«романтические» цели и способы пересечения границы. К при-
меру, в игре «Красный летчик» перед «коммунистами» ставит-
ся задача «пробраться через границу, охраняемую фашистами,
в город и похитить там с аэродрома военный самолет с бомба-
ми (в виде звеньевого флажка) и, возвращаясь на границу, ...
убивать фашистов по одиночке и по два...»13
. Игра учит четкой
классификации и это видно на рисунках, объясняющих прави-
ла: в нашей стране под символом звезды находятся рабочие,
коммунисты, а вражеские страны помечены свастикой – там
жандармы, шпики, фашисты с непременным атрибутом – тюрь-
мой. И вот уже перед двумя партиями «агитаторов», «посылае-
мых Коминтерном на запад и восток» стоит задача перебраться
в коммунистические ячейки Германии или Китая14
. Цель ком-
мунистов и пролетариев этих стран – поднять восстание, ока-
зывать сопротивление Системе и, конечно, воплотить в жизнь
главный лозунг коммунистов: «За границей врассыпную нахо-
дятся пролетарии, цель которых пробраться сквозь ряды бур-
жуазии и соединиться всем в СССР»15
. Так на уровне детского
сознания создавался образ Мекки и Медины мирового социа-
лизма. Однако по условиям игры, если за полтора часа игры
в СССР пробралось меньше половины «пролетариев», «то зна-
11 Путешествии по Европе // Барабан. М., 1925. № 13. – с. 19. 12 Паперный В. Указ. соч. с. 78. 13 Красный летчик // Барабан. М., 1925. №11–12. с. 19. 14 Агитаторы // Там же. 15 Пролетарии всех стран, соединяйтесь// Там же.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
34
чит, эта попытка соединиться всем пролетариям была неудач-
ной, так как капиталисты им помешали». В играх наша страна
всеми силами старается помочь западным рабочим хотя бы на
время проникнуть к нам: «Рабочие стараются проникнуть за
черту СССР, не будучи пойманными жандармами. Советские
пограничники стараются передать пропуска для гарантий по-
следних от ареста» (игра «Делегация западных рабочих»)16
.
Обратим внимание также и на то, что в «догеографиче-
ский» период (до 1934 года география была исключена из
предметов школьного образования) пространство СССР все же
отражалось, как в нейтральных играх на знание страны типа
«Путешествие на аэроплане по СССР»17
, «Складная карта»,
«Где вы родились»18
, так и в играх идеологизированных.
К примеру, «Путешествие в историю» предлагает тему «Жизнь
Ленина»: «Я путешествовал по России и встретил величайшего
из русских людей». Игрок, которому дан знак путешественни-
ком, говорит: «Ленина». Дальше надо было опознать город,
в котором Ленин родился, сказать, как он называется теперь.
Другие важнейшие события из жизни Ленина также обыгрыва-
ются на фоне знания о городах, где они происходили19
. Игра
«Путешествие на аэроплане по СССР» даже имеет карту-
вклейку страны, условно поделенной на губернии20
. Так или
иначе, игры формировали идентичность постреволюционного
поколения школьников со своей страной.
Более того, «Педагогическая энциклопедия», фиксируя
своеобразный итог игровой дидактики, достигнутый к концу
20-х гг., отмечала эмоционально-дидактические особенности
политической игры. «Политигры, составляясь из тех или иных
подвижных игр, ... являются верным средством эмоционально-
го воспитания. Цель политигры – в своем развитии естественно
передать участникам определенную политическую тему, со-
16 Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация как управление сознани-ем… с. 44–47. 17 Вишневский А.И. Указ. соч. с. 94–95. 18 Вишневский А., Панова Т. Игры юных пионеров. М.: ОГИЗ «Молодая гвар-
дия», 1934. с. 134,135. 19 Там же. с. 136. 20 Вишневский А.И. Указ. соч. с. 94–95.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
35
действуя в то же время физическому развитию пионера. В по-
литигре ребенок становится как бы участником революцион-
ных событий, чем мы достигаем того, что ребенок не только
понимает, но и переживает прорабатываемую тему. Пережива-
ние глубоко врезывается в душу пионера, оставляя в его памя-
ти прочные следы. Основным принципом политигры является
ее коллективность, массовость; это делает политигру могучим
средством спайки пионеров, их коллективистического воспита-
ния. Составление и подбор политигр дело весьма нелегкое, но
мы уже имеем некоторые достижения в этой области; есть ряд
сборников пионерских игр, специально подобранных со сторо-
ны их значимости как для физического, так и для политическо-
го развития пионера»21
.
К середине 30-х гг. задачи формирования единой совет-
ской нации (в ее надэтническом понимании) требовали проч-
ной связи конструкта – Родины и самого конструктора – Вождя
в контексте «Культуры Два». К. Петроун пишет: «Образ Роди-
ны создавал связь между государством и семьей. Как показано
в работе Катерины Кларк, посвященной соцреализму, одним из
центральных мифов Советского Союза 1930-х гг. была «вели-
кая семья». Советские публицисты часто представляли Совет-
ский Союз как семью со Сталиным в роли великого патриарха
и советских людей в роли детей Сталина. Например, песня той
эпохи представляла советские республика как «девять сестер»
советской семьи. Тем не менее, единственным материнским
образом была сама страна, Родина»22
. Это положение Петроун
можно проследить и по конструктам, транслируемым на детей.
В опубликованном в журнале «Мурзилка» стихотворении «Ко-
лыбельная» Л. Квитко рассказывается, как ребенку снится
страшный сон: в лесу на него нападают волки, он зовет маму,
однако там же во сне он получает помощь самого сильного
и могущественного человека: «Но Сталин узнал, что в лесу я
стою/ Прослышал, проведал про гибель мою./ И танк высылает
за мною./ И мчусь я дорогой лесною». Детский кошмар про-
21 Цит. по: Щербинин А.И. Тоталитарная индоктринация как управление со-знанием. с. 43. 22 Petrone K. Life has become more joyous, comrades. p. 55.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
36
должается: мальчик уже на море, от акул его спасает послан-
ный Сталиным гидроплан. Путешествие счастливо заканчива-
ется у стен Кремля. «Мамочка, мама, голубка моя!/ Настежь
открылись ворота Кремля./ Кто-то выходит из этих ворот, /
Кто-то меня осторожно берет,/ И поднимает, как папа, меня,/
И обнимает, как папа, меня./ Сразу мне весело стало./ Кто это
был? Угадала?»23
. Созданный взрослыми конструкт в том же
журнале мешается с детскими фантазиями в «самодельных»
стихах: «Я был недавно в Москве-столице,/ Летал в большой
железной птице./ Когда к Кремлю мы подлетали,/ То весь па-
рад мы увидали./ Но вдруг оркестры заиграли,/ И мы вождей
всех увидали./ А люди уж в ряды все встали,/ И вдруг я вижу,
входит СТАЛИН»24
.
Подобно Петроун, Виктория Боннелл, анализируя совет-
ский плакат в главах «Иконография вождя» и «Сталин и Роди-
на», отмечает те же смысловые связи и тенденции (автор их на-
зывает имперскими), характерные для СССР начиная с середи-
ны 30-х гг. и в течение последующих двадцати лет. Так, по по-
воду плаката «Да здравствует творец конституции свободных,
счастливых народов СССР, учитель и друг трудящихся всего
мира, наш родной Сталин!» (1936 г.), Боннелл пишет: «Термин
«родной» имеет тот же корень, что и слово «родина». Сам ко-
рень ‘род’ – является основой для всех слов, относящихся
к родственным отношениям по крови, например, род – кровные
родственники, семья, рождение; родить, родители, родственни-
ки, родной – той же крови, дорогой, любимый, очень близкий.
Применение прилагательного «родной» при описании Сталина
означает семейные отношения между ним и народом – в дан-
ном случае отношения отца и его детей»25
.
Судя по источникам, радость обретения Родины-матери
и Вождя-отца была практически одновременной – вторая поло-
вина 30-х годов. Но, на наш взгляд, стоит обратить внимание
на то, что Родина не вырастает из детского состояния Страны
23 Квитко Л. Колыбельная // Мурзилка. М., 1937. № 2. с. 14–15. 24 Мануилов М. Парад // Мурзилка. М., 1937. №7. С. 21. 25 Bonnell V. Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Sta-
lin. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1999.
p. 165–166.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
37
Советов «Культуры Один», а сразу возникает в славе. Глориа-
лизм конструкта Родины ранее отмечался нами в работе, по-
священной воздействию советской календарной модели, в том
числе и на сознание детей26
. Уже к двадцатилетию Октябрь-
ской революции журнал «Мурзилка» передовую статью полно-
стью, и по форме, и по содержанию, посвятил славе нашей Ро-
дины:
«Далеко на весь мир гремит слава нашей родины. По
всей земле знаменит СССР – единственная в мире страна, где
все – и власть, и богатство, и свобода, и счастье, и почет – при-
надлежат тем, кто трудится.
Наше государство славится великой дружбой народов,
самыми мудрыми, самыми справедливыми законами.
Добрая и грозная слава у нашей Рабоче-крестьянской
Красной армии, самой храброй и сильной в мире.
Веселая и звонкая слава у наших ребят, самых счастли-
вых на всей земле.
Высоко гремит слава наших советских летчиков, самых
смелых, настойчивых и умелых во всем небе.
Громко поют славу нашей родины советские артисты,
народные поэты, музыканты, самые лучшие, самые знамени-
тые в мире.
Великая слава нашей родины создана за двадцать лет со-
ветскими людьми, которых взрастили и воспитали ленинская
коммунистическая партия, наш вождь и учитель товарищ Ста-
лин.
И родина отмечает своих знатных питомцев знаками сла-
вы и уважения – орденами Советского Союза»27
.
Таким образом, к середине 30-х годов мы уже сталкива-
емся с конструированием новой политической реальности –
Родины. В данном случае речь идет не о тривиальной пропа-
ганде и даже не об индоктринации в ее механическом пони-
мании, а о комплексным конструировании образа Родины
26 Щербинин А.И. «Красный день календаря»: формирование матрицы вос-
приятия политического времени в России // Вестник Томского государствен-
ного университета. Философия. Социология. Политология. Томск, 2008. –
№ 2(3). 27 Слава нашей родины // Мурзилка. М., 1937. №10. С.2.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
38
как некоего предельного значения, и, следовательно, о базо-
вом конструкте сознания, в создании которого участвовала
и политическая игра. В этой связи спорными представляют-
ся некоторые выводы Карен Петроун, которая в главе «Об-
раз Родины» высказывает предположение по поводу того,
что игры советских детей в Чкалова, челюскинцев были не
естественным игровым процессом, а результатом официаль-
ной пропаганды:
«На тех, кто не получал государственных сообщений
о летчиках и полярниках посредством медиакоммуникаций,
воздействовали другими способами. По воспоминаниям одного
советского мальчика можно предположить, что хотя некоторые
советские дети воображали себя советскими героями, совет-
ские пропагандисты не могли всегда предвидеть результат…
Дети, играя в челюскинцев и в подобные игры, могли начать
принимать официально установленные идеалы героизма и об-
щества, но в игре они трансформировали эти модели, чтобы те
подходили их собственному социальному миру. В результате
было принятие множества изменчивых идентичностей, очень
слабо связанных с официальной культурой. Вдохновляя детей
на патриотические игры, советские пропагандисты создавали
спонтанность, которая могла существенным образом трансфор-
мировать государственные цели»28
.
Однако воздействие, о котором пишет К. Петроун, не
могло быть абсолютно информационно-пропагандистским, по-
скольку по своей природе игра является видом человеческой
деятельности, исключающим принуждение. Конечно, массови-
ки не упускали возможности регламентировать игру. Так,
в 1939 г. публикуется работа «По следам Папанинцев (массо-
вая игра)»29
. А Галина Орлова в своей интереснейшей статье
«Заочное путешествие»: управление географическим вообра-
жением в сталинскую эпоху», показывает, как игра-путешест-
вие превращается в один «из самых изощренных способов по-
28 Petrone K. Life has become more joyous, comrades. p. 52 29 По следам Папанинцев (массовая игра). М.: Б.и., 1939. 15 с.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
39
литического использования географических знаний», опреде-
ляемый автором как «интериоризированная география»30
.
С нашей точки зрения все это представляло разновид-
ность индоктринационной техники, нацеленной на формирова-
ние конструкта «Родина». В силу того, что в поле исследова-
ния Галины Орловой попал методический материал, относя-
щийся к 1947 г., можем заметить, что данная игровая тема уже
утратила конструктивистскую актуальность, превратившись
в методический материал по географии СССР. Точно также ге-
роический дрейф папанинцев инерционно включался в после-
военные учебники по русскому языку, хотя налицо уже были
другие, более актуальные герои и подвиги, как, заметим, и но-
вые черты в образе Родины, сложившиеся в ходе войны и в ре-
зультате Победы. Саму же проблему «географических» игр се-
редины 30-х годов невозможно объяснить сугубо географиче-
скими причинами. Это было важнейшее направление работы
по конструированию советской идентичности через одновре-
менно создаваемый конструкт Родины.
Игры в пограничников, Чапаева, Чкалова, папанинцев,
челюскинцев – естественная черта советской эпохи. Как писал
С. Маршак, «Дети нашего двора,/ Летчики, пилоты,/ И для вас
придет пора/ Боевой работы. / И взлетая на простор/ Или волны
роя,/ Вы припомните тот двор,/ Где живут герои». И новое по-
коление детей будет играть в героев другой войны, в космонав-
тов. Это были не придуманные методистами политические пе-
ределки из «кошек-мышек», а игры, идущие из фактов героиче-
ской эпохи, из фильмов, подобных «Чапаеву», «Александру
Невскому» и др. Согласимся с В. Боннелл, которая в рамках
своего предмета констатирует, что в итоге: «Патриотизм и им-
перский дух заменили класс в качестве основ преданности,
культивируемых советским режимом среди граждан. Можно
заметить, что отождествление с классом уже сошло со сцены
в середины 1930-х гг., а Сталин стал новым священным цен-
тром, заменившим пролетариат. В течение Второй мировой
30 Орлова Г. «Заочное путешествие»: управление географическим воображе-
нием в сталинскую эпоху // НЛО. – 2009. – № 100. http://magazi-
nes.russ.ru/nlo%20/2009/100/or21.html (дата посещения 10.12.2013).
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
40
войны священное имя Сталина стало неразрывно связываться
с «родиной» как объектом почитания. Прямым следствием вой-
ны стал тот факт, что Сталин и патриотизм стали двумя опора-
ми, на которых покоилась советская мифология»31
. Остатки
данной мифологии в сознании россиян прослеживаются и по-
ныне, и они тем заметнее, чем острее дефицит ощущения Роди-
ны, характерный для постсоветской России. Неудивительно,
что этот дефицит перманентно воскрешает и вторую фигуру
парного конструкта – Сталина. Разумеется, речь идет о разных
эпохах, различных политических режимах. Тоталитарный ре-
жим мог использовать пропагандистскую машину, и в кратчай-
шие сроки появлялись десятки и сотни песен о моряках, летчи-
ках, пограничниках, полярниках, бойцах и командирах, пионе-
рах и комсомольцах, где главной темой была Родина. Родина
стала ключевым концептом плакатов, как, впрочем, и учебни-
ков, выходивших миллионными тиражами. Обретение Родины,
слава Вождя и героического народа – стали идеологическим
стержнем советских праздников. Естественно, что политиче-
ские игры были лишь символической и семиотической «про-
винцией» общей тенденции.
Казалось бы, на первый взгляд, сегодня, даже в условиях
кратно возросших коммуникативных возможностей, в том чис-
ле, и государства, повторить эксперимент вряд ли по силам ны-
нешнему политическому режиму. И дело здесь даже не в от-
сутствии государственной идеологии. Как раз ее то и надо на-
чинать строить с осмысления и символического конструирова-
ния концепта Родины, а не с патриотизма, в нашем случае умо-
зрительного проекта, осуществляющегося в интересах несколь-
ких групп, небескорыстно и нерезультативно (с точки зрения
смысла) монополизирующих право на понимание самой идеи
и техник ее реализации. В условиях актуализации проблемы
в последние месяцы имеет смысл обратить внимание на потен-
циальную возможность игры как механизма конструирования
новой политической реальности в России.
31 Bonnell V. Iconography of Power. p. 256–257.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
41
MOTHERLAND AS A POLITICAL REALITY CONSTRUCT:
SOVIET EXPERIENCE
The paper deals with the political culture situation in Russia. Exactly the
author says about the Motherland phenomenon in particular about the Soviet
nation genesis. Through the example of Soviet Russia the author shows how this
reality was constructed in the mid 30s of the 20th century through the use of the
political games for children. The indoctrination role as well as the specificity of
political games are revealed in the article. The author shows their effects.
Key words: Motherland; political reality; construct; political game; USSR.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Щербинин Алексей Игнатьевич,
доктор политических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой полито-
логии.
Национальный исследовательский
Томский государственный универ-
ситет (Россия, г. Томск).
Область научных интересов: поли-
тическая культура и коммуникация,
тоталитарная индоктринация.
ABOUT THE AUTHOR
Sherbinin Alexey,
doctor of political sciences, professor,
head of the Department of Political
Sciences, National Research Tomsk
State University (Russia, Tomsk).
Scientific interests: civic political cul-
ture and communication, totalitarian
indoctrination
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
42
Старостина Евгения
«Родина», «Россия», «российский»
в вербальных ассоциациях носителей русского языка
В работе представлены результаты сопоставительного анализа ассоциа-
тивных полей «родина», «Россия», «российский». В качестве материала ис-
следования использованы результаты ассоциативных экспериментов и ассо-
циативные словари (Русский ассоциативный словарь, Славянский ассоциа-
тивный словарь, Русский ассоциативный словарь школьников).
Сопоставление различных источников (ассоциативных словарей, мате-
риалов других исследователей) показало следующее:
1. отношение носителей языка к своей родине, к России в последние годы
меняется. Абстрактное, идеологизированное восприятие родины постепенно
уходит, на смену ему приходит более конкретное восприятие родины как
родного города, деревни, определенного места рождения;
2. большее сходство наблюдается между ассоциациями испытуемых, жи-
вущих в одно время (независимо от их возраста), а ассоциации испытуемых
одного возраста, но собранные в разное время, различаются существеннее.
Следовательно, на изменение ассоциативных реакций влияет как возраст ис-
пытуемых, так и то время, та эпоха, в которую они живут. При этом фактор
времени или эпохи оказывает более сильное влияние, чем фактор возраста.
Ключевые слова: вербальные ассоциации; ассоциативный эксперимент;
ассоциативный словарь.
Предметом настоящего исследования являются вербаль-
ные реакции современных носителей русского языка на стиму-
лы «родина», «Россия» и «российский». Как отмечают многие
исследователи, изучение ассоциаций позволяет получить зна-
ния не только о языке, но и о мире. Так, Ю.Н. Караулов пишет,
что «ассоциативное поле – это не просто фрагмент вербальной
памяти (знаний) человека, фрагмент системы семантических
и грамматических отношений, но и фрагмент образов сознания,
мотивов и оценок русских».1
Метод исследования ассоциаций, использованный в дан-
ной работе – это метод построения фрейма, то есть выделения
структуры ассоциативного поля. Материалом исследования по-
служила электронная база ассоциаций, в которой собраны ре-
1 Русский ассоциативный словарь: В 2 т. Т. 1.Отстимула к реакции: Ок.
7000 стимулов / Караулов Ю.Н., Черкасова Г.А., Уфимцева Н.В. и др. – М.:
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – C. 6.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
43
зультаты свободных ассоциативных экспериментов с жителями
Саратова и Саратовской области в возрасте 17–55 лет (на сего-
дняшний день объем базы составляет 905 анкет, в которых со-
держатся 43402 реакции на 100 стимулов). Для сопоставления
привлекаются материалы различных ассоциативных словарей
русского языка – Русского ассоциативного словаря (РАС)2,
Славянского ассоциативного словаря (САС)3 и Русского ассо-
циативного словаря школьников (РАСШ)4, а также работы дру-
гих исследователей.
Фрейм «российский», полученный нами в результате
анализа ассоциативного материала, состоит из шести слотов.
На первое место по наполненности реакциями в нем выходит
слот, названный нами «символы России» (43,68%). Он пред-
ставлен такими частотными реакциями, как флаг, герб, гимн,
которые составляют почти половину всех реакций на стимул
«российский». Второе место занимает слот «неодушевленные
объекты и абстрактные понятия» (25,24%), куда входят частот-
ные реакции сыр, паспорт, шоколад, продукт, а также многие
единичные реакции. Высокая частотность реакций сыр (5,58%)
и шоколад (2,18%) объясняется тем, что слово «российский»
в данном случае является частью торговой марки и названия
продукта, хорошо известных всем носителям языка.
Третий слот – «семантические корреляты (квазисинони-
мы)» (12,13%) – представлен реакциями типа отечественный,
свой, родной, русский, государственный. Менее наполненными
оказываются четвертый и пятый слоты – «эмоции и оценки»
(6,79%) и «лица» (5,33%). Характерно то, что здесь негативные
оценки (дурацкий, некачественный, плохой, кошмарный, пале-
ный, коррумпированный, посредственность и др.) явно преоб-
2 Русский ассоциативный словарь: В 2 т. Т. 1. От стимула к реакции: Ок.
7000 стимулов / Караулов Ю.Н., Черкасова Г.А., Уфимцева Н.В. и др. – М.:
ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 784 с. 3 Cлавянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, ук-
раинский / Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулов, Е.Ф. Тарасов. –
М., 2004. – 800 с. 4 Русский ассоциативный словарь: ассоциативные реакции школьников I–
XI классов: В 2 т. Т.1. От стимула к реакции / В.Е. Гольдин, А.П. Сдобнова,
А.О. Мартьянов. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2011. – 500 с.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
44
ладают над положительными (наш, мой, родной, хороший). По-
следний, шестой узел фрейма, представлен наименьшим коли-
чеством реакций. Это ассоциации антонимического характе-
ра – американский и иностранный, которые составляют всего
0,73% от общего числа реакций.
Структура фрейма «Россия» достаточно схожа со струк-
турой фрейма «российский», однако степень наполненности
слотов фрейма реакциями различается. На первое место
в структуре фрейма «Россия» выходит слот «семантические
корреляты» (67,47%). Реакции типа родина, страна, держава,
государство составляют более половины всех реакций на дан-
ный стимул. Вторым по числу реакций выступает слот «симво-
лы России» (11,4%). В качестве символа России испытуемые
чаще всего называют флаг (триколор), также присутствуют ре-
акции поле, береза, герб, знамя, двуглавый орел.
Третий слот «эмоции и оценки» представлен почти та-
ким же количеством реакций (10,43%). Сюда входят такие час-
тотные реакции с положительной семантикой, как большая, ве-
ликая, гордость, люблю, родная, однако встречаются единич-
ные реакции негативного характера (беспорядок, грязь, лучше
за границу, не нравится). В целом количество положительно-
оценочных реакций значительно превышает количество отри-
цательных (в отличие от оценочных реакций фрейма «россий-
ский»).
Четвертый и пятый слоты – «неодушевленные предметы
и абстрактные понятия» и «лица» – представлены наименьшим
количеством реакций (по 1,69%). Необходимо также отметить
значительное количество прецедентных реакций на стимул
«Россия». Испытуемые дают такие реакции прецедентного ха-
рактера, как мать (0,73%), щедрая душа (0,49%), чемпион
(0,24%), священная наша держава (0,24%).
Структура фрейма «родина» полностью совпадает со
структурой фрейма «Россия». На первое место выходят семан-
тические корреляты, занимающие более половины всех реак-
ций (64,8%). Интересно то, что наряду с реакциями типа Рос-
сия, страна, отчизна, отечество достаточно часто встречают-
ся реакции, которые актуализируют значение «малой родины».
Для многих испытуемых родина – это место, где я родилась,
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
45
где я живу, родной город или деревня. Присутствуют также на-
звания конкретных городов – Камышин, Степное, Волгоград,
Пенза, Саратов, Стерлитамак.
Второе место, как и во фрейме «Россия», занимает слот
«символы родины» (22,57%). Сюда входят реакции типа дом,
земля, флаг, карта. Присутствует также прецедентная реакция
мать, которая занимает второе место после реакции Россия
и имеет частоту 11,41%. Однако в отличие от фрейма «Рос-
сия», других прецедентных реакций здесь не наблюдается. Тре-
тий слот «эмоции и оценка» (9,95%) представлен в основном
реакциями с положительной оценкой (любимая, родная, боль-
шая, любовь и т.п.), но присутствует незначительное количест-
во отрицательно-оценочных ассоциатов (глупость, отврати-
тельная, я не патриот). В слоте «неодушевленные объекты
и абстрактные понятия» представлены в основном единичные
реакции (3,39%) и слот «лица» содержит всего три реакции, со-
ставляющие 0,97% от общего числа реакций.
Таким образом, схожая структура рассмотренных фрей-
мов отражает связь понятий «Россия», «родина», «российский»
в сознании современных носителей русского языка. При этом
для всех трех стимулов наиболее значимыми оказываются та-
кие слоты фрейма, как «символы России/родины», «семантиче-
ские корреляты» и «эмоции и оценки». То, что на первый план
выходят именно эти слоты, свидетельствует о том, что понятия
родины и России носят для большинства испытуемых скорее
абстрактный, нежели конкретный характер, однако вызывают
определенные эмоции и чувства. При этом различия в характе-
ре реакций, заполняющих слоты, говорят о том, что понятие
«родина» для испытуемых более конкретно, чем понятие «Рос-
сия». Так, на данный стимул дается меньшее количество преце-
дентных реакций, реакции в слоте «семантические корреляты»
более конкретны. Если Россия для испытуемых – это, прежде
всего, родина, отечество, отчизна, а также страна, государ-
ство вообще, то родина – это не только Россия, страна, отече-
ство, отчизна, но и деревня, поселок, город, где я живу, роди-
лась, место жительства, рождения (то есть «малая родина»).
Необходимо отметить, что ассоциации на стимул «роди-
на» в современной лингвистике изучены достаточно подробно.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
46
Так, реакции взрослых испытуемых, живущих в начале 21 века,
описаны в работе В. Ждановой5. Реакции старшеклассников
начала 90-х годов подробно исследованы Р.М. Фрумкиной6.
Интересным представляется проследить, каким образом меня-
ется характер ассоциаций на этот стимул, какие закономерно-
сти можно выявить путем сопоставления результатов данных
исследований с результатами описания нашего материала.
В ассоциативном эксперименте В. Ждановой, который
проводился в 2001 г. среди студентов, для 40% опрошенных
родина оказалась связана с определенным идеологическим
блоком (давались реакции, называющие атрибуты школьного
«патриотического воспитания»). Из них 23% реакций связаны
с плакатом «Родина-мать зовет!». В нашем материале доля
реакции мать составляет всего 11,41%, то есть в два раза мень-
ше, чем в эксперименте В. Ждановой, а другие реакции «идео-
логического блока» встречаются редко и в основном единичны
(букварь, карта, война, школа).
Можно предположить, что отношение к родине может
быть различным у разных возрастных групп испытуемых (на-
пример, дети, студенческая молодежь и носители языка старше
25 лет) и меняться со временем. Возможно, определенное влия-
ние оказывает и форма проведения эксперимента (устно-пись-
менная или письменно-письменная). Так, в Русском ассоциа-
тивном словаре под ред. Ю.Н. Караулова (РАС) доля реакций
мать, зовет и других ассоциатов, актуализирующих связь
с плакатом «Родина-мать зовет!» составляет 31,7%, в русскоя-
зычной части Славянского ассоциативного словаря (САС) –
37,3%. Оба словаря составлены на материале ассоциативных
реакций студентов, эксперименты проводились в письменно-
письменной форме. Время проведения экспериментов – 1986–
1997 гг. для РАС и 1998–1999 гг. для САС.
5 Жданова В. Русская культурно-языковая модель пространства и особен-
ности индивидуальной ориентации в ней // Русские и «русскость»: Лингво-
культурологические этюды / Сост. В.В. Красных. – М: Гнозис, 2006. – С. 7–
178. 6 Фрумкина Р.М. Психолингвистика: Учеб. для студ. высш. учеб. Заведе-
ний. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – С. 194–206.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
47
В нашем материале среди ассоциаций испытуемых 17–25
лет доля реакции мать составляет 12,9%, а среди реакций ис-
пытуемых старше 25 лет – уже 10% (форма проведения экспе-
римента – устно-письменная). Поскольку ассоциативные экс-
перименты, результаты которых анализируются в данной ста-
тье, проводились в 2005–2008 гг., можно предположить, что
отношение носителей языка к своей родине, к России в послед-
ние годы меняется. Абстрактное, идеологизированное воспри-
ятие родины постепенно уходит, на смену ему приходит более
конкретное восприятие родины как родного города, деревни,
определенного места рождения.
Ассоциативные эксперименты с учениками старших
классов в начале 90-х годов проводила Р.М. Фрумкина. Среди
стимулов, реакции на которые исследовались, также присутст-
вовал стимул «родина». Как пишет исследователь, анализируя
результаты массовых ассоциативных экспериментов, мы имеем
возможность «осмыслить скрытые установки информантов
и структуру их ценностей через их ассоциации»7.
По мнению Р.М. Фрумкиной, ассоциации отражают со-
держание подсознательных слоев психики, поэтому нельзя рас-
суждать о том, что именно думают испытуемые о том или
ином явлении, стоящем за стимулом, но можно судить о том,
что они чувствуют по его поводу. Исследование показало, что
молодые россияне 90-х годов несут в себе очень сильный заряд
негативных эмоций в отношении всего, что связано с полити-
кой, с основными институтами власти.
Как отмечает Р.М. Фрумкина, для школьников родина –
это мать, Россия, государство, страна, деревня, поле, приро-
да, березка, величие, демократия, земля, небо и т.п. В реакциях
испытуемых нет персонализаций, то есть каких-либо имен, нет
слова патриотизм, поскольку оно, по мнению исследователя,
скомпрометировано частым «партийным» употреблением.
Поскольку исследователь не приводит полного списка
реакций, мы не можем в данном случае говорить о структуре
ассоциативного поля, но можем сопоставить наиболее частот-
ные реакции старшеклассников, живущих в разное время. Для
7 Там же, – С. 195.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
48
этого мы обратимся к материалам Русского ассоциативного
словаря школьников (РАСШ). Материалы РАСШ собирались
устно-письменным путем, реакции на стимул «родина» получе-
ны в 2001–2004 гг.
Если сравнить реакции старшеклассников начала 90-х го-
дов с реакциями школьников 9–11 классов начала 21 века, то
можно обнаружить достаточно большое сходство. Первые три
реакции – мать, Россия, страна – являются наиболее частот-
ными и для современных старшеклассников. Также частотны
реакции моя, отечество, отчизна. Как и в первом случае, в ре-
акциях нет ни имен, ни ассоциата патриотизм (он появляется
только у взрослых). Среди единичных реакций наблюдаются
прецедентные ассоциаты – Бодров, Брат-2, отсылающие к по-
пулярному в то время фильму «Брат-2».
Различия в ассоциатах незначительны и заключаются
в том, что у школьников начала 21 века отсутствует отрица-
тельная оценка родины, присутствуют только положительно-
оценочные реакции – любимая, люблю, уважаю.
На наш взгляд, интересные выводы позволяет сделать со-
поставление главных ассоциатов на стимул «родина», пред-
ставленных в различных ассоциативных словарях. Главные ас-
социаты – это наиболее частотные реакции, доля которых в об-
щем числе реакций составляет не менее 5%8.
Таблица 1. Главные ассоциаты на стимул «родина»
8 Гольдин В.Е., Сдобнова А.П. Русская ассоциативная лексикография: Учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Саратов: Научная книга, 2008. –
С. 47.
Источник
материала
Возраст
испытуемых
Время
сбора
материала
Главные ассо-
циаты и их доля
в процентах
РАСШ школьники
1–4 классов 2001–2004 гг.
Россия 19,6
моя 16,4
мать 6,5
РАСШ школьники
5–8 классов 2001–2004 гг.
моя 40,7
Россия 14,8
род 7,4
родная 7,4
РАСШ школьники 2001–2004 гг. мать 31,2
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
49
Как можно увидеть из таблицы, характер главных ассо-
циатов практически не меняется, во всех случаях в качестве
наиболее частотных выступают реакции Россия, мать, моя,
страна. Меняется ранг ассоциата в ряду других реакций. Так,
если в реакциях испытуемых 90-х годов первое место занимала
реакция мать, то в реакциях школьников начала 21 века она
выступает в качестве первой только у старшеклассников.
У младших и средних школьников первые места занимают ре-
акции Россия и моя. В реакциях всех групп испытуемых, яв-
ляющихся результатами нашего ассоциативного эксперимента,
на первое место выходит реакция Россия, а ассоциация мать
уходит на второе или третье место. Кроме того, только у этих
испытуемых ассоциат дом становится настолько частотным,
что входит в число главных. Это еще раз доказывает то, что от-
ношение испытуемых к родине в последние годы меняется, ро-
дина перестает восприниматься как некая идеологическая абст-
ракция, появляется понятие «малой родины», родного дома, го-
рода, деревни.
Также можно заметить, что большее сходство наблюда-
ется между ассоциациями испытуемых, живущих в одно время
9–11 классов Россия 12,8
страна 11
моя 10
РАС студенты
1–3 курсов 1986–1997 гг.
мать 31,7
моя 9,3
Россия 7,3
САС студенты
18–25 лет 1998–1999 гг.
мать 37,3
моя 9,5
Россия 6,9
Ассоциативный
эксперимент
испытуемые
17–20 лет 2005–2008 гг.
Россия 37,8
мать 13,5
страна 7,4
Ассоциативный
эксперимент
испытуемые
21–30 лет 2005–2008 гг.
Россия 33,6
мать 11,2
дом 7,7
страна 6,3
Ассоциативный
эксперимент
испытуемые
31–55 лет 2005–2008 гг.
Россия 19,8
страна 10,4
дом 9,4
мать 9,4
отчизна 6,6
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
50
(независимо от их возраста), а ассоциации испытуемых одного
возраста, но собранные в разное время, различаются сущест-
веннее. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что время
проведения эксперимента оказывает более существенное влия-
ние на характер ассоциативного реагирования, чем возраст ис-
пытуемых, особенно в том случае, если в качестве стимула вы-
ступают лексика общественно-политического характера. Это
еще раз подтверждает выводы, сделанные нами ранее: на изме-
нение ассоциативных реакций влияет как возраст испытуемых,
так и то время, та эпоха, в которую они живут. При этом фак-
тор времени или эпохи оказывает более сильное влияние, чем
фактор возраста9.
„MOTHERLAND”, „RUSSIA”, „RUSSIAN”
IN THE VERBAL ASSOCIATIONS OF RUSSIANS
The paper presents a comparative analysis of the associative fields ‘Mother-
land’, ‘Russia’ and ‘Russian’.
The research is based on the results of associative experiments and associative
dictionaries (the Russian Associative Dictionary, the Slavic Associative Dictionary
and the Russian Associative Dictionary of Schoolchildren). The methodological
basis of the research includes frame analysis method as well as the correlation met-
hod used on the main associates (i.e. reactions with a frequency greater than 5%)
of given associative fields.
The research has shown that the frame structures of these associative fields are
similar to each other, what means that the concepts ‘Motherland’, ‘Russia’ and
‘Russian’ are interrelated in minds of modern speakers of Russian. Besides, frame
slots with the highest frequencies are the same in all three associative fields – these
are ‘The Symbols of Russia/Motherland’, ‘Semantic Correlations’ and ‘Emotions
and Evaluations’. The fact that these slots show greater frequencies than the other
slots means that speakers of Russian have rather abstract than concrete concepts of
Motherland, Russia and Russian (which though evoke emotions and feelings). The
difference between responses in these slots show that the concept of Motherland is
more concrete compared to the concept of Russia.
Comparative analysis of the different sources (both associative data and rese-
arch papers) shows that:
- native speakers’ attitude towards their motherland, Russia, has undergone
certain changes in recent years: abstract, ideological perception of the motherland
9 Старостина Е.В. Исследование динамики ассоциативного мышления носи-
телей русского языка // Языковое сознание: парадигмы исследования. Сбор-
ник статей / Под ред. Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой. – М. – Калуга: ИП
Кошелев А.Б. (издательство «Эйдос»), 2007. – С. 119–124.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
51
gives way to the more concrete perception of the motherland as one’s hometown,
village, place of birth;
- verbal associations gathered at the same time period (regardless of speakers’
age) show more similarities than associative data received from speakers of the sa-
me age at a different time; though both subjects’ age and the time of experiment
can influence the change of associations, the time factor tends to have a more po-
werful impact than the age factor.
Key words: verbal associations; associative experiment; associative dictionary
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Старостина Евгения Владимиров-
на, доцент, кандидат филологиче-
ских наук.
Саратовский государственный уни-
верситет имени Н.Г. Чернышевского
(Россия, г. Саратов).
Область научных интересов: психо-
лингвистика, когнитивная лингвис-
тика.
ABOUT THE AUTHOR
Starostina Evgenia,
PhD in Philology,
National Research State Saratov
University (Russia, Saratov).
Scientific interests: psychlinguistics,
cognitive linguistics.
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
52
Бабенко Иннеса
Эстетические метаморфозы исторической достоверности:
образ Марины Мнишек
в раннем творчестве М. Цветаевой
В статье утверждается, что образ польской пани в русском культурно-ис-
торическом дискурсе сформирован под влиянием Марины Мнишек, непо-
средственной участницы событий Смутного времени. Историческое описа-
ние и оценка её личности даны в трудах Н.М. Карамзина, а эстетическая ин-
терпретация и трансформация образа – в драме А.С. Пушкина «Борис Году-
нов» и в поэзии М.И. Цветаевой. Марина Мнишек – одна из самых ярких ли-
рических героинь стихотворений раннего периода творчества М.И. Цветае-
вой. Образ Мнишек, созданный поэтессой, демонстрирует ключевую особен-
ность идиостиля автора – максимально сложно и неоднозначно эстетически
интерпретировать и трансформировать реальность.
Ключевые слова: культурно-исторический дискурс; эстетическая интер-
претация; лирическая героиня; поэтический идиостиль.
Марина Мнишек – жена Лжедмитрия I и II, непосредст-
венная участница и жертва событий Смутного времени России,
по признанию многих исследователей, например, Т. Агапки-
ной1, Е. Левкиевской
2, В.Н. Козлякова, К. Душенко и др., стала
прототипом образа польской пани в русской литературе
и культуре. К. Душенко пишет, что «этот образ существовал
в двух основных вариантах: демоническом, начиная с Марины
Мнишек в драме Державина “Пожарский” (1806), и лириче-
ском (хрестоматийный пример – Мария Потоцкая в “Бахчиса-
райском фонтане” Пушкина)»3. Историк В.Н. Козляков в книге,
посвященной Марине Мнишек, отметил, что «ненависть к ней
современников и потомков во многом несправедлива… Очу-
тившись в России, Марина Мнишек пропала, непонятая и от-
торгнутая людьми и временем. Только в облике колдуньи она
1 Агапкина Т. П. Образ женщины-польки в русской литературе 1940-х–нача-
ла 1970-х гг. / Россия – Польша. Образы и стереотипы в литературе и куль-
туре. – М: Индрик, 2002. – С. 201–216. 2 Левкиевская Е. Мужчина и женщина. Польские стереотипы. – [Электрон-
ный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.svobodanews.ru. 3 Душенко К. Зарубежная книга о России: ORLOWSKI J. Z dziejуw antypols-
kich obcesji w literaturze rosyjskiej: Od wieku XVIII do roku 1917. Warszawa /
Новый мир. – 1994. – №5.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
53
стала близкой и понятной своему новому народу, и он тут же
заточил ее навеки в Коломенскую башню»4.
Судьба польской красавицы и авантюристки была сколь
яркой, столь и трагической. Мнишек стала статисткой гранди-
озной драмы самозванства, существенно повлиявшей на ход
российской истории. В памяти народной, по свидетельству эн-
циклопедистов, Марина Мнишек приобрела демонические чер-
ты, став «поганою Царицею»5, «Маринкой безбожницей»,
«еретицей» и «колдуньей»: «А злая его (Лжедимитрия) жена
Маринка безбожница сорокой обернулася и из палат вон она
вылетела»6.
В культурно-историческом и научно-историческом дис-
курсе весьма сдержано оценивается роль Марины Мнишек
в событиях Смутного времени, принято считать, что она была
весьма честолюбивой особой, вовлеченной в авантюры госу-
дарственного масштаба. В опубликованных дневниковых запи-
сях и письмах Марина Мнишек скромно величает себя царицей
московской, поскольку была венчана на царство, то есть стала
Великой Государыней Марией Юрьевной, еще не став венчан-
ной супругою Самозванца. Она честно пишет в феврале 1610
года, обращаясь к тушинскому «воинству»: «я уезжаю, как для
защиты доброго имени, добродетели, сана – ибо, будучи вла-
дычицей народов, царицей московской, возвращаться в со-
словие польской шляхтенки и становиться опять подданной не
могу»7. Сыграв однажды роль русской властительницы, она так
вошла в роль, что даже угроза жизни не смогла остановить её
стремления вернуться на российский престол.
Отметим, что некоторые современные историки сомнева-
ются в подлинности этих дневниковых записей и считают не-
4 Козляков В.Н. Марина Мнишек / Биографии и мемуары: Жизнь замечатель-
ных людей. — М.: Молодая гвардия, 2005. – [Электронный ресурс] – Элект-
рон. дан. – Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=160059&p=93 5 Здесь и далее: Карамзин Н.М. История государства Российского. – [Элект-
ронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.karamzin.net.ru. 6 Энциклопедия Брокгауза и Эфрона. – [Электронный ресурс] – Электрон.
дан. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz. 7 Дневник Марины Мнишек. – [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Ре-
жим доступа: http://www.hrono.info.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
54
достоверными многие события её жизнеописания, например,
В.Н. Козляков отмечает: «Она была полькой, но осталась в па-
мяти русской царицей. Сохранился приписываемый ей «Днев-
ник», но страниц этого «Дневника» никогда не касалась ее ру-
ка. Она имела нескольких мужей, но они на самом деле не бы-
ли ее мужьями. Она жила в домах, в которых никогда не быва-
ла. Ее смерть связывают с заточением в «Маринкиной башне»
Коломенского кремля, но умерла она совсем в другом месте…
«Девка-иноземка» из народных песен, обернувшаяся сорокой,
она выступает в русских былинах подручницей Змея-Горыны-
ча – а ведь ее небесной покровительницей была Святая Дева
Мария! Всего девять дней пробывшая на русском престоле, она
в течение девяти лет – с 1605 по 1614 год – находилась в самом
центре своей эпохи»8.
Тем не менее, Н.М. Карамзин, заложивший традиции
восприятия и оценки образа и роли Марины Мнишек в россий-
ском историческом дискурсе, описывал Марину как юную пре-
лестницу, которая была честолюбива и легкомысленна до без-
рассудства, а основными мотивами, толкнувшими её замуж,
стали алчность и честолюбие её отца. Н.М. Карамзин, опираясь
на доступные ему исторические документы, подробно перечис-
ляет награды, обещанные Мнишеку в случае прихода Само-
званца к власти. Это и великолепные свадебные подарки,
и роскошные наряды Марины: «Марина, усыпанная алмазами,
яхонтами, жемчугом, была в Русском, красном бархатном пла-
тье с широкими рукавами и в сафьянных сапогах; на голове ее
сиял венец». Богатство подарков, помпезность церемонии вен-
чания Марины на царство, великолепие свадебной церемонии
и размах послесвадебных гуляний – всё это не помогло Марине
и Самозванцу стать в глазах москвичей истинными самодерж-
цами России. Историк писал: «Корона Мономахова на главе
иноземки, племени ненавистного для тогдашних Россиян, во-
пияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыс-
лил народ… Россияне видели, слышали и не прощали».
8 Козляков В.Н. Марина Мнишек / Биографии и мемуары: Жизнь замечатель-
ных людей. — М. : Молодая гвардия, 2005. – [Электронный ресурс] – Элект-
рон. дан. – Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=160059&p=93
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
55
Н.М. Карамзин весьма категоричен в своих оценках, его
неприятие вызывают все обстоятельства жизни Марины, на-
пример, историк пишет, что, получив подметную грамоту от
представителей Лжедмитрия второго, «Мнишек и Марина не
колебались. Отечество, безопасность, Вельможество и богатст-
во, еще достаточное для жизни роскошной, не имели для них
прелести трона и мщения; ни опасности, ни стыд не могли
удержать их от нового, вероломного и еще гнуснейшего союза
с злодейством».
Автор «Истории государства Российского» описывает
Марину, используя самые нелестные характеристики: «бес-
стыдная Марина с своею поруганною красотою», «срамная же-
на», «театральная Царица», «мнимая честь Марины», «высоко-
мерие Марины», «злосчастная Марина», «Марина вбежала
в горницу; пылая гневом, злословила, поносила Короля», «Ма-
рина, оставленная мужем и Двором, не изменяла высокомерию
и твердости в злосчастии» и т.д.
В драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» Марина Мни-
шек представлена не как роковая злодейка, а как романтиче-
ская авантюристка. Она прелестная и надменная красавица,
о которой один из кавалеров, присутствующих на балу в замке
воеводы Мнишека, отзывается нелестно: «Да, мраморная ним-
фа: // Глаза, уста без жизни, без улыбки...». Сама Марина, по
замыслу А.С. Пушкина, зная о своих достоинствах, мгновенно
выполняет поставленную отцом задачу – очаровывает знатного
гостя: «А какова, скажи, моя Марина? / Я только ей промол-
вил: ну, смотри! / Не упускай Димитрия!.. и вот / Все кончено.
Уж он в ее сетях». На тайном свидании она ждет от Лжедмит-
рия не признаний в любви и слов восхищения, а обсуждения
совместных действий по «возвращению» российского престо-
ла: «Стыдись; не забывай / Высокого, святого назначенья: / Те-
бе твой сан дороже должен быть / Всех радостей, всех оболь-
щений жизни, / Его ни с чем не можешь ты равнять. / Не юно-
ше кипящему, безумно / Плененному моею красотой, / Знай:
отдаю торжественно я руку / Наследнику московского престо-
ла, / Царевичу, спасенному судьбой». Полная решимости Ма-
рина представляет свою роль в грядущих событиях так: «я ре-
шилась / С твоей судьбой и бурной и неверной / Соединить
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
56
судьбу мою… / Чтоб об руку с тобой могла я смело / Пуститься
в жизнь – не с детской слепотой, / Не как раба желаний легких
мужа, / Наложница безмолвная твоя, / Но как тебя достойная
супруга, / Помощница московского царя». Она мыслит себя
равной мужу и достойной царской короны. Даже признание
Лжедмитрия в самозванстве не смущает её, а лишь усиливает
желание добиться заветной цели – трона московского. По
окончании тайного свидания Самозванец так отзывается о Ма-
рине: «И путает, и вьется, и ползет, / Скользит из рук, шипит,
грозит и жалит. / Змея! змея! – Недаром я дрожал. / Она меня
чуть-чуть не погубила». Нелестное сравнение Марины со зме-
ёй автор вложил в уста влюбленного в неё Самозванца, что
весьма показательно характеризует представление А.С. Пуш-
кина о человеческих достоинствах героини.
С традиционным, закрепленным в культурно-историче-
ском дискурсе и фольклоре представлением о Марине Мнишек
как о «безбожнице сороке», «колдунье», спорит А.А. Ахматова
в стихотворении «Невидимка, двойник, пересмешник». Поэтес-
са создает трагический образ испуганной и мятущейся птицы,
оплакивающей любимых и близких. Невидимка, двойник, пересмешник,
Что ты прячешься в черных кустах,
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни
«Я сегодня вернулась домой
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной
Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом.
Ещё более сложный и многомерный образ польской пани
создает М.И. Цветаева. Поэтесса трансформирует образ герои-
ни, делая его глубже и содержательнее, наделяя Мнишек чер-
тами не только трагическими, но и романтическими, приписы-
вая ей роль не статистки, а активной героини исторического
процесса – самостоятельной, сильной и неоднозначной краса-
вицы.
Притягательность образа польской авантюристки объяс-
няется и тем, что Марина Цветаева отчасти ассоциировала себя
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
57
с нею, считая, что названа в её честь: «панны польской / Я име-
нем зовусь»; «Как трех Самозванцев в браке / Признавшая тез-
ка»; «Такова у нас, Маринок, / Спесь, – у нас, полячек-то»;
«Правит моими бурями / Марина – звезда – Юрьевна, / Солн-
це – среди – звезд»; «Марина! Царица – Царю… Славное твое
имя / Славно ношу». Более того, польское происхождение ли-
рической героини или персонажей произведений раннего пе-
риода творчества М.И. Цветаевой неоднократно осмысливает-
ся как примета их избранности, особости: «Моих прабабушек-
полячек / Сказалась кровь»; «Но вал моей гордыни польской»;
«Из Польши своей спесивой / Принес ты мне речи льстивые, /
Да шапочку соболиную, / Да руку с перстами длинными, / Да
нежности, да поклоны, / Да княжеский герб с короною». Опи-
сывая Царь-Девицу в одноименной поэме, автор лишь однаж-
ды проговаривается о происхождении мучимой страстями ге-
роини: «Стоит полоняночка / На башенной вышечке. / Связа-
лась, беляночка, / С тем самым с мальчишечкой». Особенно яр-
кий образ двадцатилетней польки представлен в стихотворении
«Бабушке». «Продолговатый и твердый овал» «ледяного ли-
ца», «надменные губы», «Темный, прямой и взыскательный
взгляд. / Взгляд, к обороне готовый» – весь облик юной поль-
ки, запечатленный в поэтическом портрете, подчеркивает силу
её характера, мощь невоплощенных страстей: «Сколько воз-
можностей вы унесли, / И невозможностей – сколько? – / В не-
насытимую прорву земли / Двадцатилетняя полька!». Страсти,
продолжающие бушевать в душе внучки – лирической героини
М. Цветаевой: «– Бабушка! – Этот жестокий мятеж / В сердце
моем – не от вас ли?». Любопытно, что стремление барышень
рубежа 19-20 веков найти польские корни достаточно типично:
«Каждая красивая русская девушка утверждала, что ее бабуш-
ка была полькой. Мифическая польская бабушка была знаком
не только утонченной красоты, но и аристократизма»9.
Основу образа Марины Мнишек, созданного поэтиче-
ской фантазией М.И. Цветаевой, составляют традиционные для
русского культурно-исторического дискурса представления
9 Ерофеев В. Будь я поляком... / В. Ерофеев // Московские новости. – 1995. –
№ 36.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
58
о гордой, спесивой и свободолюбивой польской красавице. Од-
нако поэтесса интерпретировала перипетии судьбы Марины
Мнишек не исторически, а эстетически, создав сложный и тра-
гический образ лирической героини. Её глубина и многомер-
ность отражена в поэтическом цикле «Марина» и в отдельном
стихотворении «Димитрий! Марина!» (1915-1916 гг.).
В первом стихотворении цикла «Марина» поэтесса, на-
низывая метафорические эпитеты, создает идеальный образ ли-
рической героини, подчеркивает её абсолютную преданность
возлюбленному, готовность пожертвовать всем ради его благо-
получия: «Быть голубкой его орлиной! / Больше матери быть, –
Мариной! / Вестовым – часовым – гонцом –/ Знаменосцем –
льстецом придворным! / Серафимом и псом дозорным / Охра-
нять непокойный сон»; способность стать тенью любимого, со-
провождая его повсюду и разделяя с ним все тяготы жизни:
«Ногу в стремя! – сквозь огнь и воду! / Где верхом – где полз-
ком – где вплавь! / Тростником – ивняком – болотом… / Не
подругою быть – сподручным! / Не единою быть – вторым! /
Близнецом – двойником – крестовым / Стройным братом, ог-
нем костровым, / Ятаганом его кривым». Помимо этого герои-
ня наделяется чертами колдуньи, ведьмы: в дорогу она отправ-
ляется «сальных карт захватив колоду», а все препятствия спо-
собна преодолевать «черным вихрем летя беззвучным». Даже
в час смерти и в судный день она не может быть разлучена со
своим возлюбленным – все обстоятельства жизни и истории
должны подчиниться силе их любви.
Второе стихотворение разительно отличается от преды-
дущего, эстетическая интерпретация в данном произведении
подчинена требованиям исторической достоверности. Героиня
называется Лжемариной и это слово становится лейтмотивом
текста: она «трем Самозванцам жена, / Мнишка надменного
дочь», её история – история несбывшихся возможностей и не-
выполненного долга («Ты – гордецу своему / Не родившая сы-
на...», «Ты, гордецу своему / Не махнувшая следом»), история
предательства и трусости женщины, не способной на любовь
и самопожертвование («На роковой площади / От оплеух
и плевков / Ты, гордеца своего / Не покрывшая телом... / В мас-
ке дурацкой лежал, / С дудкой кровавой во рту. / – Ты, гордецу
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
59
своему / Не отершая пота...»). Такая женщина достойна, по
мнению поэтессы, лишь проклятья: «– Своекорыстная кровь! –
/ Проклята, проклята будь / Ты – Лжедимитрию смогшая быть
Лжемариной!».
Любовь Марины Мнишек и Григория Отрепьева (Лже-
дмитрия I) представлена в третьем стихотворении рассматри-
ваемого цикла как краткий миг («краткая встряска костей
о плиты») между встречей «– Сердце, измена! / – Но не разлу-
ка! / И воровскую смуглую руку / К белым губам» и смертью
героев «– И – повторенным прыжком – / На копья!».
Заканчивает цикл стихотворение, в котором изображена
узнаваемая по драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» сцена
тайного свидания Марины и Самозванца. М.И. Цветаева пред-
лагает эстетическую интерпретацию характеров героев, суще-
ственно отличающуюся от исторической и прецедентной. Ли-
рическая героиня, «ясновельможна панна», скромна («– Чем
заплачу за щедроты… Что-то ответило: – Жизнью!») и религи-
озна, мыслит свой выбор как служение Богу («В каждом при-
шельце гонимом / Пану мы Иезусу – служим...»). «Горсть не-
поддельных жемчужин» – бусы, которые она держала в руках,
вдруг рассыпаются, предрекая слезы героини. Выдает её ис-
тинные намерения лишь мнимое замешательство и зоркий,
цепкий взгляд из-под ресниц: «Мнет в замешательстве мни-
мом / Горсть неподдельных жемчужин… Каждой ресницей на-
целясь, / Смотрит, как в прахе елозя, / Их подбирает прише-
лец». Образ Самозванца, ползающего в прахе и собирающего
жемчужины – будущие слезы Марины, становится вызовом
пушкинскому сравнению Марины со змей, вложенному в уста
Самозванца.
В стихотворении «Димитрий! Марина!» поэтесса эстети-
чески интерпретирует историю, утверждая, что Марина Мни-
шек и Отрепьев соединены навек грешной любовью и мятеж-
ной судьбой, царской гордыней и даже одной «двусмысленной
звездой» над люлькой, над ложем, над троном: «Согласнее не-
ту ваших / Единой волною вскинутых, / Единой волною смы-
тых / Судеб! Имен!». Поэтесса воспевает «злую красу… Лик
без румянца» Марины Мнишек, которая, вопреки историче-
ской достоверности, разделила в этом стихотворении с Лже-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
60
дмитрием I судьбу и смерть. Чернокнижница Марина обрекла
себя на смерть ещё и тем, что отказалась от Божьей помощи
(«крест золотой скинула»), и тотчас ангел-хранитель покинул
её: «Знать, уже делать нечего, / Отошел от ее от плечика / Ан-
гел, – пошел несть / Господу злую весть: / – Злые, Господи,
вести! / Загубил ее вор – прелестник!». Преданные всеми
и принявшие мученическую смерть Марина и Лжедмитрий
достойны, по мнению поэтессы, прощения и поминовения:
«Марина! Димитрий! С миром, / Мятежники, спите, милые. /
Над нежной гробницей ангельской / За вас в соборе Архангель-
ском / Большая свеча горит».
В записях из черновых тетрадей М.И. Цветаевой есть
оригинальные размышления о мотивах, которыми руково-
дствовалась Марина Мнишек, соглашаясь на замужество и вен-
чание на царство. На заданный самой себе вопрос поэтесса от-
вечает, что Мнишек искала: «Власти несомненно, но – какой?
Законной или незаконной?». Последующие размышления на-
писаны с позиции представлений об исторической достоверно-
сти: «Если первой – она героиня по недоразумению, недостой-
на своей сказочной судьбы. Проще бы ей родиться какой-ни-
будь кронпринцессой или боярышней и просто выйти за како-
го-нибудь русского царя» и поэтической мифологии М. Цве-
таевой: «С грустью думаю, что искала она первой, но если бы я
писала... / (то написала бы себя, т. е. не авантюристку, не чес-
толюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать.
А скорее всего: себя – поэта.)… И возвращаясь к себе, с улыб-
кой: стремись я только к законной власти – ищи я только при-
ключений – держи я в глазах только ополячение Руси – непре-
менно – волей судеб (т. е. всей себя) я бы кого-нибудь из трех
самозванцев полюбила. / А м. б. и всех троих. / Точно мать мне
это имя дала – как противоядие»10
.
Яркая, бурная и короткая жизнь Марины Мнишек волну-
ет поэтессу и побуждает вновь и вновь обращаться к образу
прекрасной польки. Известная авантюристка обретает в поэти-
10 Цветаева М. Сводные тетради. Тетрадь первая. – [Электронный ресурс] –
Электрон. дан. – Режим доступа: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/tet-
radi/tetrad.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
61
ческом мире М.И. Цветаевой то черты демонической и холод-
ной красавицы, то страстной любовницы, то нежной романти-
ческой возлюбленной, то трагической жертвы обстоятельств.
Способность воплотить крайние проявления характера, изобра-
зить сильные чувства и яркие эмоции лирической героини –
вот отличительная черта поэтического идиостиля М.И. Цветае-
вой.
Очевидно, что поэтически осмысленный, эстетически
трансформированный и романтизированный образ Марины
Мнишек гораздо более интересен и многогранен, чем истори-
чески достоверный. В культурно-историческом дискурсе Ма-
рина Мнишек представляется лишь честолюбивой авантюрист-
кой, любовницей сомнительных личностей и статисткой гран-
диозной исторической драмы Смутного времени.
AESTHETIC METAMORPHOSES OF HISTORICAL AUTHENTICITY:
THE IMAGE OF MARINA MNISHEK
IN THE EARLY WORKS OF M. TSVETAEVA
The author argues that the image of the Polish ‘Pani’ in the Russian cultural-
historical discourse is formed under the influence of Marina Mnishek, the character
of Russian history of the early 17th century. Historical description and evaluation
of the individual are given in the works of N.M. Karamzin, aesthetic interpretation
and transformation of the image are presented in A.S.Pushkin’s drama ‘Boris Go-
dunov’ and in the poetry of A.A. Akhmatova and M.I. Tsvetaeva. The image of
Mnishek created in the early lyric of M.I.Tsvetaeva demonstrates a key feature of
author’s idiostyle, reality is difficult to interpret and transform aesthetically.
Key words: cultural-historical discourse, aesthetic interpretation, lyrical
heroine, poetic idiostyle.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Бабенко Иннеса Игоревна, доцент,
кандидат филологических наук, до-
цент кафедры теории языка и мето-
дики обучения русскому языку и ли-
тературе.
Томский государственный педагоги-
ческий университет (Россия,
г. Томск).
Область научных интересов: комму-
никативная стилистика текста, дис-
курс анализ, когнитивная лингвисти-
ка.
ABOUT THE AUTHOR
Babenko Innesa,
PhD in Philology,
Tomsk State Pedagogical University
(Russia, Tomsk).
Scientific interest: communicative
stylistics, discourse analysis, cognitive
linguistics.
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
62
Карпенко Яна
Лингвокультурологический анализ
метафорики поэзии Юнны Мориц
в польскоязычных переводах
Статья посвящена комплексному анализу метафорики в переводах стихо-
творений Юнны Мориц на польский язык в лингвокультурологическом ас-
пекте. В начале статьи оговариваются теоретические основы лингвокульту-
рологического подхода к рассматриваемым проблемам поэтического перево-
да и сложности в переводе метафор. В практической части выявляются и ана-
лизируются расхождения в смысловых пространствах оригинальных и пере-
водных текстов, появляющиеся в результате различий в национальных карти-
нах мира и проявляющиеся наиболее выразительно в метафорике переводи-
мых текстов.
Ключевые слова: лингвокультурология, переводоведение; метафора; кон-
цепт.
В последние годы развитие филологических дисциплин
в связи с антропоцентрической парадигмой научного знания
ознаменовалось объединением исследователей вокруг триады
«язык – человек – культура». Зародившееся в 90-е гг. XX века
направление филологических исследований – лингвокультро-
логия – уже к концу первого десятилетия XXI века оказалось
одним из наиболее интересных для лингвистов новой научной
генерации. Лингвокультурология вместила в себя методы ис-
следования, закрепившиеся ранее в лингвистике и культуроло-
гии, и позволила по-новому взглянуть на существующие явле-
ния и факты языка и культуры и проследить их непосредствен-
ную взаимосвязь. Исследованиями в области лингвокультуро-
логии занимаются, в частности, В.В. Воробьев, А. Вежбицкая,
В.В. Красных, Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костома-
ров, Е.М. Верещагин, В.А. Маслова, В.Н. Телия, С.Г. Тер-Ми-
насова, Н.Д. Арутюнова и др.
В свете лингвокультурологии совершенно иначе раскры-
ваются темы, уже знакомые ранее лингвистам. В частности,
проблема перевода, переводческой эквивалентности и перево-
дческих трансформаций представляет собой качественно но-
вый повод для исследований различных текстов. «Разные язы-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
63
ки по своей сути, по своему влиянию на познания и чувства яв-
ляются в действительности различными мировидениями»1.
В связи с этим нам представляется интересным сравнительно-
сопоставительный анализ поэтических текстов на двух языках,
русском и польском, с учетом различия национальных картин
мира носителей двух разных языков, коими являются и автор
текста-оригинала, и переводчик.
В связи с тем, что поэтический текст имеет свои особен-
ности, отличающие его от прозаического и заключающиеся
в насыщенной образности, особых правилах построения текста
и функционирования в нем слова, при создании текста на пере-
водящем языке переводчик вынужден прибегать к большому
количеству трансформаций. Несмотря на то, что проблема пе-
реводческих трансформаций занимает одно из центральных
мест в переводоведческой науке, подход к ним с позиции лин-
гвокультурологии относительно нов. Как правило, большинст-
во исследований, посвященных этой проблематике, ограничи-
ваются лишь определением того или иного типа трансформа-
ции при переводе текста, отрывков текстов, отдельных слов
и выражений, фразеологических единиц и т.д. Общим знамена-
телем мнений по этому вопросу практически всех исследовате-
лей является понимание трансформации как специального
приема, операции, производимой при переводе с целью переда-
чи эквивалентного смысла.
Анализируя метафорику в переводах поэзии Ю. Мориц
на польский язык, мы должны обратить особое внимание на
тот факт, что образные средства репрезентируют в языке осо-
бенности той или иной языковой картины мира, отражают спе-
цифическое видение мира представителей русской и польской
нации. Образное мышление связано с восприятием и интерпре-
тацией информации из внешнего мира, которое оказывается
неповторимым как на уровне целого народа и его ментально-
сти, так и на уровне индивидуально-авторском, т.е. на уровне
отдельно взятой языковой личности. Именно в метафорах, по
большей части, заложен тот культурно-семантический компо-
1 Гумбольдт В. Характер языка и характер народа / В. Гумбольдт // Гум-
больдт В. фон. Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – C. 370.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
64
нент, который сложнее всего передать при переводе и при этом
выбрать наиболее адекватный вариант. Адекватность перевода
понимается нами как «воспроизведение в максимально воз-
можной степени доминантной функции текста, формирующей-
ся на основе коммуникативной интенции отправителя сообще-
ния и нацеленной на обеспечение определенного коммуника-
тивного эффекта со стороны получателя сообщения»2.
Объект данного исследования – метафорика поэтическо-
го текста, создаваемая автором (в тексте-оригинале) и перево-
дчиком (в переводном тексте) под влиянием национальных
особенностей мышления.
Материалом для нашего исследования послужили 44 по-
этических текста (22 стихотворения из сборника Ю. Мориц на
польском языке “Ślad w morzu i inne wiersze” и оригиналы этих
текстов на русском языке).
Методом сплошной выборки мы определили, что мета-
фора в поэзии Ю. Мориц является доминантным образным
средством (нами было выявлено 108 метафор, из которых
48 сохранили свою образность в переводном тексте, а 60 в про-
цессе переводческой трансформации ее утратили). Под мета-
форой мы понимаем «троп или фигуру речи, употребление сло-
ва, обозначающего некоторый класс объектов, явлений, дейст-
вий или признаков, для характеризации или номинации друго-
го, сходного с данным класса объектов или индивида»3. Она
возникает при сопоставлении объектов разных классов, но свя-
занных между собой на ассоциативном уровне. Устойчивые
метафоры, функционирующие в языке, называются языковы-
ми. Дж. Лакофф и М. Джонсон в работе «Метафоры, которыми
мы живем» отмечают, что метафора – это не просто языковая,
но прежде всего понятийная конструкция. Дж. Лакофф опреде-
ляет метафору как некое выражение, где слово-концепт пред-
ставлено в нетипичном для него значении, чтобы выразить по-
добный ему другой концепт. Таким образом, метафора напря-
2 Сдобников В.В. Теория перевода / В.В. Сдобников, О.В. Петрова. – М.:
АСТ: Восток – Запад, 2006. – С. 202. 3 Арутюнова, Н. Д. Метафора / Н. Д. Арутюнова // Русский язык. Энциклопе-
дия / под ред. Ю.Н. Караулова. – М.: «Большая Российская энциклопедия»;
«Издательский дом «Дрофа», 1997. – С. 233.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
65
мую связана с концептосферой носителей языка. Национально-
культурное мировидение определяет и систему ценностей че-
ловека, и особенности его поведения, и призму взгляда на мир.
На их основе и происходит появление метафоры, когда поня-
тия одной категории соотносятся через мышление человека
с понятиями из абсолютно другой сферы, помогая лучше по-
нять саму суть явления, охватываемого метафорическим пони-
манием»4. Однако нужно отметить высокую степень неожидан-
ности метафорики Ю. Мориц, ее экспрессивность, что при дос-
таточно высоком количественном показателе присутствия ме-
тафор в одном поэтическом тексте оказывает значительное
влияние на экспрессивную окраску всего стихотворения в це-
лом.
Некоторые исследователи разграничивают образные
и концептуальные метафоры (Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия).
Оба вида метафор встречаются в исследуемых текстах Ю. Мо-
риц (вторые при этом близки к собственно языковым метафо-
рам, функционирующим в речи, а первые представляют собой
явление индивидуально-авторской метафорики, появляющееся
лишь единожды в одном произведении или несколько раз
в творчестве автора, что в этом случае позволяет говорить
о данной метафоре как характерной для этого поэта и творя-
щей его индивидуальную концептосферу). И образные, и кон-
цептуальные метафоры представляют интерес для нашего ис-
следования как единицы с ярко выраженным культурным ком-
понентом, при переводе которых неизбежно появятся значи-
тельные трансформации (что вызвано, прежде всего, несоот-
ветствием смыслового наполнения слов в двух языках). Даже
индивидуально-авторская метафорика не лишена культурных
коннотаций, за счет которых и происходит образование мета-
форы. Вслед за В.Н. Телия мы считаем, что культурная конно-
тация появляется за счет соотнесения ассоциативно-образного
основания тропа (и, в частности, метафоры) с культурно-на-
циональными стереотипами и эталонами.
4 Лакофф, Д. Метафоры, которыми мы живём / Д. Лакофф, М. Джонсон. –
М.: УРСС Эдиториал, 2004. – С. 387–415.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
66
Если обратиться к тем метафорам, которые не переведе-
ны адекватно на польский язык, то среди них можно выделить
три группы в зависимости от степени утраты в них образности.
К первой группе относятся те метафоры (в текстах-ори-
гиналах), которые при переводе сохранили образность, но из-
менили свое лексико-грамматическое оформление, что позво-
ляет нам ставить вопрос о том, является ли такой перевод экви-
валентым, поскольку трансформация затрагивает все компо-
ненты метафорического переноса в переводческой единице
(напр., в стихотворении «Осень» метафора «за истреблением
обличья» переводится словосочетанием «zza rozmytych twarzy»
(«из-за размытых лиц»). Ко второй группе метафор, подверг-
шихся значительной трансформации, мы относим такие, кото-
рые в переводе заменяются единицами со стертой метафори-
кой, например, когда индивидуально-авторские метафоры за-
меняются узуальными (языковыми) метафорами (в стихотворе-
нии «Вечерний свет» оригинальное «Пела нежная валторна»
заменяется языковой метафорой «Dźwięki waltorni spływały»).
К третьей группе образных средств мы относим фактически
большинство трансформированных переводческих единиц,
полностью утративших образность при переводе. При этом,
как правило, переводчик прибегает к таким видам трансформа-
ции, как опущение, компенсация или замена членов предложе-
ния (термины по классификации Л.С. Бархударова5).
Несомненно, наибольшую трудность при переводе пред-
ставляют метафоры индивидуально-авторского характера,
в том числе и значимые для концептосферы поэзии Ю. Мориц.
Метафорические переносы значений, создающих наиболее яр-
кие образные единицы, в текстах Ю. Мориц, как правило, бази-
руются на ассоциативных семах семантической структуры сло-
ва. Часто метафора сливается с другим тропом – эпитетом или
олицетворением, что еще больше усиливает уровень метафори-
ческой абстракции при переносе значения по сходству. Значи-
тельная часть метафор Ю. Мориц эксплицирует концепты, зна-
чимые как для поэзии автора, так и для русской и польской
5 Бархударов, Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перево-
да) / Л.С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
67
лингвокультур в целом. Так, в исследуемых нами текстах вы-
деляются группы метафор (и других образных средств), имею-
щих непосредственное отношение к концептам «душа», «вре-
мя, «судьба» и «жизнь».
В стихотворении «На стоянке» метафора «ткань судь-
бы», восходящая, по-видимому, к древнегреческим мифам
о мойрах, в польском варианте полностью отсутствует. В при-
веденной метафоре ткань – символ природы, силы жизни;
ткань связана с идеей паутины. В культурологическом смысле
ткань жизни – это сложное переплетение смертного с бес-
смертным. В мифологии ткань судьбы плетут мойры – богини
судьбы. В оригинальном же стихотворении сама лирическая
героиня как будто держит в руках «ткань» своей судьбы, саму
свою жизнь: «Я снаружи и с изнанки / Ткань судьбы перебира-
ла». В польском варианте эта метафора переводчиком опуска-
ется.
В этом же тексте жизнь представляется автору как путь,
дорога – «стоять посерединке жизни» как посередине дороги
(в тексте: «Я как раз посерединке / Жизни собственной стоя-
ла»). В польском переводе видим: «Zatrzymałam się wpół drogi /
od wieczora do poranka» («я задержалась на полпути от вечера
к утру»). В переводном тексте утрачивается концептообразую-
щая метафора «жизнь = дорога», что приводит к обеднению
польского текста с культурологической и образной точки зре-
ния. Таким образом, утрата в переводном тексте сразу двух
концептообразующих для данного стихотворения метафор ве-
дет к утрате важнейших смыслов, необходимых для понимания
концептуальной сферы стихотворения.
В другом стихотворении – «След мамонта» – метафора
«жизнь по-своему права», граничащая с олицетворением, так-
же теряет в польском варианте изначальную образность.
Жизнь в этом стихотворении наделяется функциями Творца,
вершителя судеб (тем самым сакральное начало выводится из
персонифицированного представления, характерного для куль-
тур христианского типа, в область представления о судьбе как
о роке, властным над каждым): «Он разве знал, великий одиноч-
ка, / Что эта жизнь по-своему права, / Что после смерти вы-
рывает строчка / Отпущенные гению права?». В приведенном
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
68
примере текст перевода утрачивает такой компонент семанти-
ки концепта «жизнь», характерный для Мориц, как «жизнь =
рок».
Однако в семантической паре «жизнь = творчество» (на-
пример, репрезентируемой в стихотворении «Скрижаль» им-
плицитно, метафорически в строках «Никто не знает, как
длинна дорога / От первого двустишья до второго, / Тем более
до страшного суда», где процесс творчества ассоциируется
с течением самой жизни) перевод выполнен, на наш взгляд,
удачно, так как переводчику удается сохранить и образность
переводческой единицы, и лексические средства, которыми эта
единица выражена (в польском переводе видим: «Nic pewnego /
W tej drodze od wersetu do wersetu, / A cóż dopiero – aż do Dnia
Sądnego»).
Концепт «душа» в русской лингвокультуре, пожалуй, яв-
ляется одним из основных для понимания особенностей нацио-
нальной ментальности. Этому концепту посвящено огромное
количество исследований. Так, В.А. Маслова в книге «Лингво-
культурология» пишет, что «славяне признавали в человече-
ской душе проявление той творческой силы, без которой невоз-
можна жизнь на земле» 6.
В стихотворении «Побережье» слово «душа» во втором
четверостишии олицетворяется и метафизируется: «Его души
неопытное зренье / Предпочитает сумрак тайны знанью, /
И детскому мерещится сознанью, / Что в темноте прекрас-
нее горенье». В переводе отсутствует лексема «душа» и, как
следствие, метафора «зрячей» души в целом, хотя и сохраня-
ются другие важные семантические центры этой строфы:
«Niedoświadczone, jak to dzieci, / Bardziej od ścisłych prawd
docenia / Mrok tajemnicy. Blask płomienia / Ciekawiej mu
w ciemnościasch świeci».
Душа в мифолого-религиозном сознании русского чело-
века имеет огромное количество метафорических переносных
и символьных значений. Например, душа – alter ego человека;
душа – высшее духовное начало, связывающее человека с Бо-
гом; душа – двойник человека; душа – доля, судьба; душа –
6 Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: 2001. – С. 140.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
69
частица, искра небесного огня. Совокупность всех этих конно-
таций подчеркивает важность и значимость концепта «душа»
и его лексических репрезентантов в исследуемых нами текстах.
Учитывая, что этот текст (стихотворение «Побережье») поэти-
ческий, метафорика души приобретает огромное значение,
причем в данном тексте – одно из самых центральных мест.
Душа представлена автором как живая, реально существующая
субстанция, которая может видеть («души неопытное зренье»).
То есть видит не сам лирический герой, а его душа, причем
«зрение» ассоциируется автором со «знанием», несмотря на
«неопытность» души. Кроме того, в русской лингвокультуре
существует большое количество метафор и фразеологизмов,
связанных с мифологемой «душа = маленький ребенок». Это
проявляется и в исследуемом тексте («души неопытное зре-
нье»). Душа неопытна, мала и юна, как и тот, кому она принад-
лежит (лирический герой текста – «дитя»; в первом четверо-
стишии читаем: «Дитя с миндалевидными глазами / Вбегает на
приморскую веранду»). Таким образом, в тексте-оригинале сти-
хотворения «Побережье» образ души прирастает дополнитель-
ными культурными коннотациями, проявленными с помощью
метафоры. В переводном тексте метафора, связанная с концеп-
том «душа», отсутствует (равно как и даже сама лексема «ду-
ша»), переводчик прибегает к опущению этого тропа.
Характерная для метафорики Ю. Мориц антропоморф-
ность проявляется практически во всех метафорах и эпитетах,
репрезентирующих концепт «душа». Душа не просто наделяет-
ся свойствами и чертами, присущими человеку, но и зачастую
даже является одним из лирических субъектов стихотворения.
Что немаловажно – лирический герой ведет диалог с душой
как полноправным собеседником, обращается к ней. Стихотво-
рение «Побег» начинается строками: «Давай, душа, давай – /
Проникнем за ограду...». Польский перевод сохраняет обраще-
ние лирического героя к душе: «O, duszo moja…».
Интересен с точки зрения эквивалентности и адекватно-
сти перевода текст стихотворения «Стихи о феврале», в кото-
ром концепт «душа» репрезентируется через само слово, назы-
вающее концепт, причем душа в данном тексте олицетворяет-
ся: «Едва ль моя душа могла бы временами / Кормиться и кор-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
70
мить плодами словаря», «Едва ль моя душа была бы в состоя-
нье / Смутить, ошеломить и с толку сбить меня», «Едва ль
моя душа смогла бы сделать выбор...», «Едва ль, едва ль, едва
ль, на стебель меж камнями / Душа моя была способна, как
земля». Во всех случаях в польском варианте лексема «душа»
заменяется на «serce» («сердце»), при этом переводчик также
использует олицетворение: «Czy umiałoby serce moje tygodniami
/ Owocami pękatych słowników się karmić?», «Czyż umiałoby serce
me uczynić wybór, / Przełamać stereotyp, preferować chaos?»,
«Czyż umiałoby serce me tak się ośmielić, / By zbić mnie z tropu,
oszłomić, przejąć lękiem?», «Czyż puściłoby pędy między
kamieniami / Serce moje, czy zdolne by było do tego?».
В стихотворении «Воспоминание к дождю» репрезенти-
рованы оба рассматриваемых нами концепта – «душа» и «вре-
мя», а также концепт «жизнь». Душа снова олицетворяется ав-
тором («душа не забыла»), однако польский перевод утрачива-
ет образный компонент при его переводе и заменяет лексему
«душа» на «pamięć» – «память» («Skoro w pamięci odżyło»), так
же, как и «прежняя жизнь», из которой душа «помнит» опи-
сываемую далее в тексте лирическую ситуацию, в польском ва-
рианте переведена неточно – «prehistoryczna egzystencja»,
«праисторический опыт». Лирическая ситуация в тексте суще-
ствует в двух временных пластах – в как бы текущем, настоя-
щем времени, в котором лирический герой повествует о своих
воспоминаниях из «прежней жизни», о которых еще «помнит»
его душа, и в прошлом времени, «В прошлой жизни моей, до
знакомства с модерном». Жизнь в настоящем, текущем момен-
те отделяется от «прошлой жизни» некоей переломной точкой,
делящей временное пространство текста на два отрезка. Такое
«деление», репрезентированное в тексте синтаксической конст-
рукцией с существительным в родительном падеже и предло-
гом «до» (как в оригинале – «до знакомства с модерном»),
в польском переводе отсутствует, а временное пространство
текста-перевода является неделимым. Это отличие переводно-
го текста от оригинального затрудняет интерпретацию текста
в польском варианте, т.к. именно лексически выраженная точ-
ка, разделяющая время в тексте на два отрезка – «до знакомст-
ва с модерном» – позволяет нам интерпретировать смысл сти-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
71
хотворения как рефлексию автора на объективно текущее вре-
мя, в котором пришлось жить и работать Ю. Мориц и особен-
ности которого нашли свое отражение в тексте стихотворения.
Концепт «время» в поэтических произведениях Ю. Мо-
риц также тесно связан с концептами «жизнь», «судьба», «ду-
ша». Метафора «пряжа циферблата» в стихотворении «Снег
в ноябре» восходит опять-таки к древнегреческой мифологии,
а именно – к мифу об Ариадне, прядущей нить судьбы, с помо-
щью которой, согласно древнегреческой мифологии, из лаби-
ринта смог выбраться Тесей. «Пряжа» в оригинальном тексте
ассоциируется с этой нитью, а циферблат предстает символом
времени (часы – способ узнать время). Ход времени невозмож-
но остановить, но в стихотворении выступает олицетворение –
«В углу веретено / Журчит, разматывая пряжу циферблата».
Эта метафора семантически дополняется описанной выше ме-
тафорой «ткань судьбы». В польском переводе видим следую-
щую трансформацию интересующей нас метафоры: «I przędza
mierzy czas nad prędkim cyferblatem». В переводе внимание ак-
центируется на быстром ходе времени – «быстром цифербла-
те» («nad prędkim cyferblatem»), а пряжа лишь «отмеривает»
(«mierzy») это время. То есть в польском варианте циферблат
как бы существует отдельно от веретена, эта два разных пред-
мета, которые лишь изображаются в едином лирическом про-
странстве текста. В русском же варианте видим, что автор уси-
ливает семантику самостоятельности хода событий, бега вре-
мени и даже течения судьбы, независимости его от человека
(поскольку даже «веретено» олицетворяется, а лирическая си-
туация происходит без участия человека. «Веретено журчит,
разматывая пряжу циферблата» само по себе. Лирический ге-
рой появляется лишь в следующей строке, причем в абсолютно
другом действии, не связанном с веретеном). Однако цифер-
блат и веретено сливаются в едином образе, веретено, разматы-
вая пряжу, само по себе символизирует часы, а движение их
стрелок здесь – как «разматывание пряжи». Таким образом, ис-
ходная образность рассматриваемой нами переводческой еди-
ницы незначительно трансформируется в польском варианте,
однако в целом не разрушает представление концепта «время»
в данном поэтическом тексте.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
72
Другой случай лексической репрезентации концепта
«время» мы находим в стихотворении «Осень», где в послед-
нем четверостишии Ю. Мориц пишет: «Любови к нам – такое
множество, / И времени – такая бездна, / Что только полное
ничтожество / Проглотит это безвозмездно». В данном слу-
чае метафора «бездна времени» – узуальная, функционирую-
щая в русском языке и за пределами данного поэтического тек-
ста. В польском варианте это словосочетание переведено так
же – «otchłanie czasu». В переводе сохранена и исходная мета-
форика этого образа, и его лексико-грамматическое выраже-
ние. В этом же стихотворении без применения трансформации
переведено и выражение «час природы» («czas przyrody»).
И хотя лексическая единица в переводе здесь – дословно обо-
значает «время», семантически она совпадает со значением
слова «час» в узуальной метафоре «час природы», что позволя-
ет нам говорить не только о сохранении в переводе образности,
но и об адекватности самого выбора переводческой единицы
в переводящем языке.
Таким образом, выявленные нами образные средства, ре-
презентирующие концепт «время» в сборнике Ю. Мориц
«След в море и другие стихотворения», при переводе на поль-
ский язык сохраняют образность. Оба случая употребления ав-
тором узуальных метафор переведены в польском варианте
также с использованием метафоры, закрепленной в языке, что
является свидетельством близости узуальной метафорики
в польском и русском языках.
Проанализированные нами метафоры в оригинальных
текстах стихотворений Ю. Мориц репрезентируют так назы-
ваемые базовые концепты русской языковой картины мира, ко-
торые являются вместе с тем ключевыми и для индивидуально-
авторского концептуального пространства. Концепты «время»
и «душа», представленные в исследуемых текстах, лексически
репрезентированы с помощью тропов, образных средств, среди
которых доминируют метафоры. Метафора, будучи продуктом
особого способа познания человеком окружающего мира во
всей его полноте и во всем разнообразии, соизмеряет мир с че-
ловеческим знанием и представлением о нем. В метафорике
той или иной национальной концептосферы проявляются все
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
73
особенности культуры этноса, его взгляд на мир, на отношение
человека к миру и его месту в нем. Человек в метафорическом
осмыслении окружающего мира – мера всех вещей. И культур-
ные различия, существующие между разными этносами, нахо-
дят в метафорах свое прямое воплощение. Столь же велико
и значение метафоры для отдельно взятой, индивидуальной
концептосферы поэта.
На наш взгляд, опущение метафоры при переводе поэти-
ческого текста, ее замена описательным способом или узуаль-
ной метафорой с пониженной образностью неизбежно приво-
дит к потере смысла, причем не просто к разнице в семантиче-
ской наполненности оригинального и переводного текста, но
к принципиально значимой утрате сем, связанных как с базо-
выми концептами русской лингвокультуры, так и с концепта-
ми, играющими большую роль в понимании концептуального
видения мира конкретного автора.
Среди метафор, не переведенных адекватно в польских
вариантах стихотворений Ю. Мориц, можно выделить 3 груп-
пы (критерием выделения этих групп является степень утраты
образности в переводном тексте):
метафоры, сохранившие исходную образность, но из-
менившие свое лексико-грамматическое оформление;
образные средства, замененные лексическими едини-
цами со стертой метафорикой (например, замена индивидуаль-
но-авторской метафоры узуальной);
метафоры, подвергшиеся при переводе таким транс-
формациям, как опущение, компенсация или замена членов
предложения, в результате которых переводческая единица
в тексте на польском языке полностью утрачивает образность.
Практически во всех случаях опущению подверглись ин-
дивидуально-авторские метафоры, образованные на основе ас-
социативного сходства признака с объектом, подвергающимся
в поэтическом тексте метафоризации. Однако сходство узуаль-
ной метафорики в русском и польском языках позволяет пере-
водчику не прибегать к трансформациям, если в поэтическом
тексте используется именно языковая метафора (что мы выяви-
ли на примере лексических репрезентаций концепта «время»
в стихотворениях Ю. Мориц). Причина такой близости нам ви-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
74
дится в родственных связях двух языков, принадлежащих
к славянской группе.
Поскольку в образных средствах языка содержится зна-
чимый для смыслового пространства текста культурный ком-
понент, переводы проанализированных нами стихотворений
в значительной мере не совпадают с оригиналами в своей куль-
турологической нагрузке. В этом смысле переводчик не просто
«передает» текст на одном языке с помощью лексических
средств другого языка, но и в некоторой степени является соз-
дателем абсолютно нового поэтического текста с индивидуаль-
ной концептосферой внутри него и новым образно-семантиче-
ским наполнением.
Таким образом, можно сделать вывод, что междисципли-
нарный подход к исследованию переводческих трансформаций
(с учетом лингвокультурологических факторов) позволяет вы-
явить расхождения в смысловых пространствах оригинальных
и переводных текстов, появляющиеся в результате различий
в национальных картинах мира и проявляющиеся наиболее вы-
разительно в метафорике переводимых текстов.
LINGUO-CULTUROLOGICAL ANALISYS
OF METAPHORS IN POETRY BY YUNNA MORITZ
IN THEIR TRANSLATION INTO POLISH
The article is devoted to a complex analysis of of metaphor in translations of
poetry by Yunna Moritz into Polish in the linguo-culturological aspect. In the pra-
ctical part there are identified and analyzed differences in semantic spaces in ori-
ginal and translated texts that appear as a result of differences in the worldview
and there are most impressively manifested in metaphorics of translated texts.
Key words: linguoculturology; theory of translation; metaphor; concept.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Карпенко Яна Игоревна, магистр,
аспирант.
Вроцлавский университет (Польша,
г. Вроцлав).
Область научных интересов: перево-
доведение, лексикология и фразео-
логия русского и польского языков,
лингвокультурология.
ABOUT THE AUTHOR
Karpenko Yana
Masters Degree, PhD student at the
University of Wroclaw, Institute of
Slavic Studies (Poland, Wroclaw)
Scientific interests: linguoсulturology;
theory of translation; Russian and Po-
lish lexicology and phraseology.
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
75
Чернцова Елена
Когнитивная семантика парентез
оказалось, оказывается
в разных дискурсивных контекстах
В статье рассматривается когнитивная семантика парентез оказалось,
оказывается в дискурсе. Анализ показывает, что когнитивная семантика парен-
тез воплощается в таких компонентах ментального сценария: субъект; мен-
тальная деятельность по выведению «знания»; содержание «знания» (выво-
да); эмоциональная реакция удивления, вызванная новым содержанием. В ре-
зультате ментальной операции соотнесения пресуппозиции (ранее предпола-
гавшееся) с ассерцией (содержание вновь узнанного) субъект получает но-
вую информацию, которая наделяется статусом факта. Парентезы маркируют
результат рефлексии говорящего.
Ключевые слова: парентеза, субъект, когнитивная семантика, рефлексия,
персуппозиция, ассерция, дискурс, коммуникативный регистр, нарративная
стратегия.
В современной лингвистике вводные слова (слова-парен-
тезы) рассматриваются как эгоцентрические: в диалогической
речевой ситуации они связаны с говорящим и играют важную
роль в организации нарратива1. Специфическая семантика
и коммуникативный статус парентез изучается в работах лин-
гвистов2.
Статья посвящена исследованию дискурсивных значений
парентез оказалось, оказывается, их функций в диалоге и нар-
ративе. Дискурсивный анализ предполагает изучение смысло-
вого соответствия слова целям и установкам говорящего. Пара-
метры исследования языкового материала в терминах «дискур-
сивный тип контекста», «информативный коммуникативный
регистр», «коммуникативная стратегия (диалогическая / нарра-
тивная)» отражают установки говорящего и когнитивные осно-
вы его речи. Материал, использованный в статье, составили
1 Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида
в русском языке; Семантика нарратива) / Е. В. Падучева. – М.: Школа «Язы-
ки русской культуры», 1996. – C. 320. 2 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М.: «Языки рус-
ской культуры», 1999. – I–XV. – C. 411–440; Янко Т.Е. Коммуникативные
стратегии русской речи / Т.Е. Янко. – М.: Языки славянской культуры,
2001. – C. 326–336.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
76
контексты обыденного дискурса из Национального корпуса3
русского языка.
Известно, что парентезы оказалось, оказывается семан-
тически связаны с безличными глагольными предикатами ока-
заться, оказываться. Эти парентезы наследуют фактуальную
семантику предикатов, организующих высказывания коммуни-
кативного информативного регистра4. В контексте этого реги-
стра разворачивается такой ментальный сценарий: ‘Субъект
имел некоторые представления об определенном положении
дел; в силу дополнительной информации, обстоятельств и т. п.
он усомнился в точности этих представлений или же в справед-
ливости / обоснованности собственного мнения. В итоге он из-
меняет свое мнение / представление об этом положении дел’.
В семантической структуре высказывания происходит «сбор-
ка» и перераспределение пресуппозитивной и ассертивной час-
тей смысла: ‘сначала субъект заблуждался (пресуппозиция),
а потом выяснил «истину» (ассерция)’. Ср.: (1) Я уже было ре-
шила, что перевелись режиссеры, которые способны снять
фильм о любви. Оказалось — нет. Сцены динамичны, диалоги
лаконичны. (Джейн Остин / коллективный форум, 2007–2011).
Предварительное (пресуппозитивное) суждение (было реши-
ла...) оценивается как не соответствующее действительному
положению дел (оказалось – нет). Говорящий в новом прагма-
тическом контексте (Вижу, что сцены динамичны, диалоги ла-
коничны) меняет мнение, что формирует такую импликатуру:
‘Увиденное позволяет утверждать: настоящие режиссеры есть’.
Ассертивный смысл высказывания формулируется так: ‘гово-
рящий переосмыслил свою первоначальную позицию’. Подоб-
ное переосмысление собственной позиции изменяет локус го-
3 http://www.ruscorpora.ru/ 4Информативный регистр предлагает сообщения о фактах, событиях, свойст-
вах, поднимающиеся над наблюдаемым в данный момент, отвлеченные от
конкретной длительности единичного процесса, не прикрепленные к едино-
му с перцептором хронотопу. Это сфера не прямого наблюдения, а знания,
полученного в результате логических, мыслительных операций. Высказыва-
ния информативного регистра могли бы быть заключены в модусную рамку
«Я знаю, что…», «Известно, что…» (Золотова Г.А. Коммуникативная грам-
матика русскогоязыка / Г. А. Золотова, Н.К. Онипенко, М. Ю. Сидорова [под
общей ред. доктора филол. наук Г.А. Золотовой].– М., 2004. – C. 29].
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
77
ворящего: субъект смотрит на себя со стороны, сравнивая ‘из-
начальное’ и ‘актуальное на момент речи’ мнение, оценивая
и делая вывод о несоответствии одного из них реальному поло-
жению дел. В рассматриваемом когнитивном сценарии разво-
рачивается процесс рефлексии говорящего, разные фазы кото-
рого соотнесены с разными смыслами – пресуппозитивным
мнением, ассертивным знанием (информацией) и окончатель-
ным выводом. Рефлексия говорящего нередко сопрягается
с той или иной эмоцией: удивлением, радостью, разочаровани-
ем, досадой и т.п.
Пресуппозитивный смысл может быть представлен экс-
плицитно в предтексте, а может вноситься парентезой в выска-
зывание имплицитно. Покажем это экспериментально, исклю-
чив парентезу и сопоставив семантику полученного высказы-
вания с исходным. Ср.: (2): У нас, оказалось, окна на чистый
север выходят и солнышка совсем не бывает (Беременность:
Планирование беременности / форум, 2005) и (2а): У нас окна
на чистый север выходят и солнышка совсем не бывает. Как
видим, элиминация парентезы меняет контекст: он стано-
вится описательным. Описательный контекст (2а) не со-
держит пресуппозитивного смысла – ‘ожидалось иное’, как
и ассертивного смысла – ‘несоответствие обнаруженного
ожидаемому’. Эти смыслы привносит в контекст парентеза
оказалось, выполняя роль маркера когниции говорящего – его
оценки ‘несоответствия действительного ожидаемому’. Парен-
теза оказалось, маркируя рефлексию говорящего, относит ее
составляющие к разным «возможным мирам». Акт «открове-
ния» связан с несоответствием этих «миров» друг другу, как
и конституирующих их знаний.
Этот акт всегда эмоционально окрашен. Ср. (3): У меня
тоже был со Степой очень неприятный случай, я ему поверила
от чистого сердца, а оказалось, он просто соврал (Наши дети:
Дошколята и младшие школьники / форум, 2005). В приведен-
ном контексте оценочная номинация неприятный случай отно-
сится, собственно, к акту откровения – ценностные установки
миров Говорящего (верила) и Другого (соврал) не соответству-
ют друг другу. Контекст «несоответствия» не является очевид-
ным, требует размышления, а нередко и (само)разоблачения,
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
78
основанного на знании или опыте другого человека. Ср. (4):
Оказалось, он проверял, пойду я за него заступаться или нет
(Наши дети: Дошколята и младшие школьники / форум, 2005).
Таким образом, в нарративных контекстах парентеза ока-
залось маркирует результат когнитивного процесса – измене-
ние степени осведомленности говорящего, его возросшую ком-
петентность. Коренной перелом в знаниях переживается гово-
рящим, и сообщение, как правило, сопровождается выражени-
ем эмоций: удивлением, возмущением, сожалением, разочаро-
ванием. Та или иная эмоциональная окраска высказывания за-
висит от содержания ‘нового знания’, идеологической точки
зрения говорящего, его взгляда на рассматриваемую ситуацию
и положительной или отрицательной оценки. Вся эта информа-
ция содержится в нарративном контексте или выводится из не-
го.
Учитывая, что наши парентезы семантически связаны
с предикатами оказаться, оказываться, сопоставим значения
оказалось и оказывается. Все рассмотренные контексты с па-
рентезой оказалось построены по одной и той же когнитивной
схеме: рефлексия говорящего следует за тем или иным событи-
ем / ситуацией / положением дел. Прошедшее время, запечат-
ленное во внутренней форме5 парентезы оказалось, формирует
значение – ‘переживания субъекта’, как и то ‘новое, что неко-
гда поразило его’, связаны с прошлым. Все это становится фак-
тами в «мире» говорящего.
Парентеза оказывается, в силу настоящего времени ее
внутренней формы, отражает актуальность эмоциональных пе-
реживаний субъекта: в момент речи говорящего продолжает
волновать сообщаемое. Языковой материал Национального
корпуса русского языка показывает, что хотя эта парентеза ча-
ще встречается в нарративных контекстах настоящего времени,
есть контексты, в которых описываемые события отнесены
к плану прошлого. В этом случае эмоциональная реакция гово-
рящего моделируется как происходящая в настоящем ситуа-
ции, о которой идет речь. Ср. (5): Позвонила народу спро-
5 В данном случае внутренняя форма представляет собой застывшую грамма-
тическую форму безличного глагола – время и вид.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
79
сить―что опять случилось. Оказывается, ВВП всё еще в го-
роде. Как-то тихо-тихо и незаметно. (...Всех задержива-
ем... /форум, 2005–2007).
Отражая когнитивную деятельность говорящего, парен-
теза оказывается эксплицирует временной интервал между 1)
моментом в прошлом, когда происходило событие; 2) последо-
вавшим за этим моментом (тоже в прошлом), когда говорящий
осознал, что произошло; 3) моментом наррации – временем,
которое моделируется в нарративном дискурсе как актуальная
когниция воспоминания. Парентеза отражает актовость (собы-
тийность) мышления как такового. Такую семантику Э. Гус-
серль назвал ноэтическим аспектом выражения самих актов
сознания в языке. Парентеза оказалось, напротив, – знак когни-
ции, утратившей актуальность в момент речи. Как правило,
в этом случае говорящий не испытывает эмоций по поводу со-
бытия, не пытается переосмыслить свое впечатление от собы-
тия и связанные с ним выводы. Это уже не мыслительное со-
бытие, но факт.
Сопоставление нарративных контекстов показывает, что
парентезы оказалось и оказывается функционируют как мар-
керы одного и того же когнитивного сценария, но с различной
фокусировкой речевой стратегии говорящего. Так, оказывает-
ся может маркировать ироническую позицию говорящего в от-
ношении того, что противоречит «здравому смыслу», сущест-
вующим представлениям о мире или же нормам поведения, ср.
(6): Оказывается, комары служат делу борьбы с всемирным
потеплением. (Признание в.... Ненавижу блин! /форум, 2006–
2007). В силу актуальности сообщаемого парентеза оказывает-
ся тяготеет к риторической позиции и часто отражает установ-
ку говорящего на выразительность или языковую игру. Ср. (7):
[A-mag, nick] Спустя какое-то время (после того как книги по-
слали) я получил от вас письмо о том, что из них, оказывает-
ся, нужна только одна (прикольно) (Книга жалоб и предложе-
ний / форум, 2004–2006). Приведенный контекст фиксирует
возмущение говорящего, представленное как ироничная репли-
ка (прикольно). Если изъять из контекста парентезу и встав-
ку, его эмоциональный план смягчается и, в лучшем слу-
чае, содержит намек на досаду говорящего.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
80
Оказывается нередко вводит критическую точку зре-
ния рассказчика. Информативно-описательный регистр
в соотнесении с такой риторической установкой дает нуж-
ный иронический эффект: говорящий предъявляет непря-
мые претензии адресату. Не случайно в обыденном обще-
нии6 для выражения эмоционального отношения к сообщаемо-
му носители языка используют парентезу оказывается (а не –
оказалось). Оказывается может маркировать и неожиданность
для говорящего того или иного положения дел, усиливать его
эмоции, нередко обнаруживая истинные основания самих эмо-
ций – зависть или обиду. Введение маркера оказывается в от-
ношении обыденных ситуаций наделяет последние особой зна-
чимостью, что и должно по замыслу произвести особое впечат-
ление на собеседника. Ср. (8):
[Сережа, муж, 34] Угу. Пожалуйста.
[Таня, жен, 21] Машка. Машка / оказывается / в солярий хо-
дит у нас.
[Сережа, муж, 34] Да-а-а?
[Таня, жен, 21] Я говорю / зачем тебе? «Ну так…» (Разговоры
на рынке, 2008).
Рассматриваемый нами когнитивный сценарий разыгры-
вается в диалоге на уровне иллокуции речевых актов, а в нар-
ративе он реализуется на локутивном, информативном уровне
(содержания рассуждения рассказчика). Иллокутивный сцена-
рий отражает коммуникативную тактику говорящего, стремя-
щегося удивить собеседника экстраординарной, по его мне-
нию, информацией.
Отрицательная оценка обсуждаемой ситуации в диалоги-
ческих контекстах обыденного дискурса встречается довольно
часто. Так, фрагмент диалога (9) имплицирует возмущение со-
беседника и неодобрительную оценку действий третьего лица:
[Катя, жен, 19] Он у меня.
[Ирина, жен, 44] А / у тебя.
[Анна, жен, 23] Ты все забрала / да?
6 Именно это показывает анализ материала устного корпуса непубличной ре-
чи Национального корпуса русского языка.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
81
[Ирина, жен, 44] Половник / оказывается / у неё. Папсик ей
отвез. Нет бы спросить / какой половник взять! Взял и отвез!
(Домашние разговоры // Из материалов Ульяновского универ-
ситета, 2007). Как видим, парентеза маркирует те же эмоцио-
нальные смыслы, о которых речь шла выше. Пафос говоряще-
го, а также его оценка направлены на собеседника и отражают
желание приобщить к этой оценке последнего. В этой установ-
ке отражается универсальное свойство диалогических отноше-
ний: говорящий ищет в собеседнике единомышленника.
Диалог (10) фиксирует процесс получения новых знаний
в on-line режиме:
[№ 1, жен, 18] Морские путешествия финикийцев.
[№ 2, жен, 18] Вот тут все клево написано / а там в осталь-
ном все такая это / немножко они позавоевали / позавоевыва-
ли / немножко они поторговали и вот морские путешествия.
Обогнули Африку / сплавали в Британию. Первые люди / дос-
тигшие британских берегов / оказывается финикийцы! Кто
бы мог подумать! [смех] А какого черта мы их не изучали то-
гда / этих финикийцев долбанных? Вот точно то же самое /
как с твоим колесом / да. (Об учебе // Из материалов Ульянов-
ского университета, 2007). В данном контексте оказывается
употребляется в синонимичном контексте – Кто бы мог поду-
мать! Комментарий говорящего отражает его удивление и да-
же возмущение (А какого черта мы их не изучали тогда / этих
финикийцев долбанных?). Все это подтверждает общую законо-
мерность: кардинальное изменение в знаниях переживается го-
ворящим эмоционально.
Проведенный анализ позволяет сделать такие выводы:
1. Когнитивную семантику парентез можно представить
в таком сценарии:
в пресуппозитивном множестве ‘начальное состояние
знаний’ говорящего не содержалось необходимых сведений.
Впоследствии говорящий неожиданно для себя выяснил нечто
совершенно новое. Это стало откровением для говорящего. Ас-
сертивное множество ‘приобретенных знаний’ оценивается им
как значимое для собеседника / читателя; говорящий хочет по-
делиться ‘новыми знаниями’ с адресатом. Факт осознания го-
ворящим изменения состояния своих знаний (рефлексия) ценен
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
82
для самого субъекта. Эта оценка призвана воздействовать на
адресата, привлечь его внимание, внушить ему доверие к ‘при-
обретенным знаниям’.
2. В нарративном контексте с парентезой оказалось / ока-
зывается разворачивается процесс рассуждения: говорящий
демонстрирует способность к самоанализу, самоотчету об из-
менении характера своих знаний.
3. В диалоге говорящий либо непосредственно выражает
эмоции – удивление, возмущение, разочарование, либо в струк-
туре прескрипционного речевого акта парентеза оказывается
маркирует установку говорящего на убеждение собеседника.
Рефлексивный акт откровения представлен как особый источ-
ник знания говорящего.
THE COGNITIVE SEMANTICS OF PARENTESISES ОКАЗАЛОСЬ, ОКА-
ЗЫВАЕТСЯ IN THE DIFFERENT DISCOURSE CONTEXTS
The article studies the cognitive semantics of parentesises оказалось,оказыва-
ется in the discourse. The analysis shows that the cognitive semantics of parente-
sisis embodied in such components of the mental script: the subject; subject's men-
tal activity on deduction of «knowledge»; a content of «knowledge» (conclusion);
the emotional reaction of surprise caused by a new content. As a result of mental
correlation of the presupposition (assumed earlier) with the assertion (a new con-
tent is learned) the subject receives the new information which is allocated with the
status of the fact. Parentesis marks the result of subject’s reflection.
Key words: parentesis, subject, cognitive semantics, reflection, presupposition,
assertion, discourse, communicative register, narrative strategy.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Чернцова Елена Вадимовна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка.
Харьковский национальный универ-
ситет имени В.Н. Каразина (Украи-
на, г. Харьков).
Область научных интересов: комму-
никативный синтаксис и cемантика,
дискурсивный анализ.
ABOUT THE AUTHOR
Cherntsova Elena,
PhD in Philology, Faculty of Russian
Language.
V.N. Karazin Kharkiv National Uni-
versity (Ukraine, Kharkiv).
Sceintific interests: communicative
syntax and semantics, discourse analy-
sis.
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
83
Снигирёва Наталья
Фитонимические номинации
в говорах северо-восточной Польши:
к мотивации семантики
Статья посвящена исследованию т. наз. эксклюзивных изоглосс белорус-
ско-польской ареальной общности. Предметом изучения являются диалект-
ные названия подорожника skou ojžak, skou ojža, skou ojźak, отмеченные в северо-
восточной части Польши. Сопоставительный анализ ареально-типологических,
лингвогеографических, структурно-семантических и этимологических данных по-
зволяет установить происхождение и причины появления инноваций.
Ключевые слова: изоглосса; инновация; фитоним.
Согласно опубликованным материалам «Общеславянско-
го лингвистического атласа» (далее – ОЛА), говоры северо-
восточной Польши выявляют значительное количество т. наз.
эксклюзивных изоглосс. Отмеченные в северо-восточных поль-
ских говорах оригинальные диалектные лексемы, неизвестные
другим языкам Славии, представляют особый интерес для
польско-белорусского сравнительного языкознания. С точки
зрения ареальной лингвистики специфика зарождения таких
явлений может быть обусловлена не только общими внутри-
структурными закономерностями развития славянского языко-
вого континуума, но и особенностями локализации в контакт-
ной (в широком понимании) польско-белорусской зоне, про-
дуктивно генерирующей инновации. Известно, что «на возник-
новение многих северо-восточных ареальных инноваций
в польском языке повлияли процессы, которые протекали на
белорусской территории более интенсивно и охватили боль-
шую в сравнении с Польшей площадь. При этом инициирован-
ные их воздействием инновации могут значительно отличаться
от явления-стимула, однако сохранять связь с ним»1. Белорус-
скоязычное влияние может быть не только прямым, когда цен-
тры иррадиации инноваций локализированы на территории Бе-
ларуси, но и опосредованным, когда стимул для возникновения
инноваций исходит из белорусских говоров.
1 Снигирёва Н.А. Северо-восточные ареальные инновации в польском языке //
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego. – 2013. – № 2 (5). – S. 66.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
84
Изучение лексики растительного мира, зафиксированной
ОЛА, показывает, что большинству славянских наименований
подорожника свойственно определённое типологическое сход-
ство. На их фоне деэтимологизация фитономов skou ojžak,
skou ojža, skou ojźak2 ‘подорожник’, распространённых исключи-
тельно на территории северо-восточной Польши, выделяется оче-
видной эвристической ценностью и требует специального исследо-
вания. Значимость отдельно выделенных из общей массы диалект-
ных явлений бесспорно доказана многими славистами: «каждое
слово представляет собой индивидуальный в определённом смыс-
ле продукт истории развития и географического распределения
форм...»3, «... каждая фактическая подробность в тот момент, когда
её попробовать проанализировать и интерпретировать, перестаёт
быть подробностью изолированной и находит своё место на фоне
определённого единства»4. Спорадические названия часто могут
указывать на зарождение изменений и тенденции развития
в говорах5, поэтому сопоставительный анализ лингвогеографи-
ческих, структурно-семантических, этимологических данных
о польских ареальных инновациях с белорусским, в первую
очередь, а также с другим славянским материалом даст воз-
можность проследить динамику разноуровневого межъязыко-
вого взаимодействия.
В соответствии с данными карты, составленной
П.Ю. Гриценко для ОЛА, распространение лексико-семантиче-
ских образований skou ojžak, skou ojža, skou ojźak ‘подорожник’
в северо-восточных говорах Польши оформлено в островной
и сплошной, вертикально ориентированный ареал, размещён-
ный практически параллельно в отношении польско-белорус-
ской границы (см. карту-схему 1): слово skou ojžak отмечено
2 Здесь и далее написание анализируемых польскоязычных лексем подаётся
в соответствии с принципами фиксации в ОЛА. 3 Трубачёв О.Н. Лингвистическая география и этимологические исследова-
ния // Труды по этимологии: слово, история, культура : в 2 т. Т. 1. – М.: Нау-
ка, 2004. – С. 212. 4 Doroszewski W. Przedmiot i metody dialektologii // Studia i szkice językoznaw-
cze. – Warszawa, 1962. – S. 427. 5 Basara A., Basara J. Nazwy śnieci (Tilletia) w gwarach polskich // Wokół języka:
rozprawy i studia poświęcone pamięci prof. Mieczysława Szymczaka / kom. red.:
M. Basaj [et al.] ; PAN, Kom. Słowianoznawstwa. – Wrocław [etc.], 1988. – S. 47.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
85
в п. № 273 (Лысэ, Варшавское в-во), skou ojža – в п. № 274
(Флеше, Белостокское в-во), skou ojźak – в п. № 285 (Высоче,
Варшавское в-во)6,7
.
Конфигурация, размер и характер расположения ареала
в северо-восточной Польше свидетельствует о его инновацион-
ности и позволяет предположить, что стимул для возникнове-
ния либо центр иррадиации формально отдалённых от узкой
пограничной полосы инноваций skou ojžak, skou ojža, skou ojźak
гипотетически находится на территории Беларуси. Подчерк-
нём, что речь идёт не об инфильтрации на соседнюю языковую
территорию, а о «таком воздействии соседнего языка на систе-
му другого языка, которое вызывает к жизни явление, что су-
щественным образом отличается от явления-стимула»8. В связи
с этим необходимо установить происхождение названных фи-
тонимов, локализировать их центры иррадиации, а также опре-
делить пути (способы) адаптации к польскоязычной среде и на-
правления возможного влияния на польский язык.
Установление происхождение инноваций осложнено тем,
что лексемы skou ojžak, skou ojža, skou ojźak не выявляют струк-
турно-семантического сходства с другими славянскими (лите-
ратурными и региональными) наименованиями подорожника.
Так, для Польши наиболее распространённым названием явля-
ется babka, для Беларуси – трыпутнік и прыдарожнік, для Рос-
сии – подорожник, для Украины – подорожник и др.9, 10, 11
. Отсут-
6 Общеславянский лингвистический атлас = Агульнаславянскі лінгвістычны
атлас. Серия лексико-словообразовательная / Междунар. ком. славистов, Ко-
мис. Общеслав. лингвист. атласа, НАН Беларуси, Ин-т языкознания им.
Я. Коласа ; редкол.: А.А. Кривицкий, Л.П. Кунцэвич ; гл. ред. А.И. Подлуж-
ный. – Минск: Мин. печат. ф-ка, 2000. – Вып. 3: Растительный мир. –
С. 131. – Карта № 52. 7 Матэрыялы Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа. Раслінны свет /
Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН
Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2009. – С. 170. 8 Цыхун Г.А. Славянскія прыналежныя канструкцыі з займеннікавай кліты-
кай (Да методыкі вызначэння інавацый) // Беларуская лінгвістыка / Акад. на-
вук БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. – 1981. – Вып. 20. – C. 65. 9 Общеславянский лингвистический атлас = Агульнаславянскі лінгвістычны
атлас. Серия лексико-словообразовательная / Междунар. ком. славистов, Ко-
мис. Общеслав. лингвист. атласа, НАН Беларуси, Ин-т языкознания им.
Я. Коласа ; редкол.: А.А. Кривицкий, Л.П. Кунцэвич ; гл. ред. А.И. Подлуж-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
86
ствие в славянских языках устойчивых, регулярных и типичных
этимологических признаков для анализируемой группы названий
подорожника skou ojžak, skou ojža, skou ojźak обуславливает необ-
ходимость выяснить первичные признаки для данного понятия.
Как правило, лексика наименований растений является номи-
нативной по своей природе и тесно связана с окружающей дей-
ствительностью, отражая реальные свойства растений: форму,
цвет, вкус, характер цветения, использования и т.д.12
. Согласно
мнению В.А. Меркуловой, для народных названий растений, кото-
рые имеют большое количество синонимов, характерно «наличие
определённой семантической модели, которая постоянно воссозда-
ётся во времени и пространстве»13
. Поэтому при раскрытии этимо-
логии фитонимических номинаций skou ojžak, skou ojža, skou ojźak
может быть использована «аналогия как формальная, так и се-
мантическая. С точки зрения семантики это аналогия устойчи-
вых семантических переходов»14
.
Прежде всего, такая аналогия может быть актуализирована
в формально-семантических связях лексем skou ojžak, skou ojža,
skou ojźak со славянскими производными от *kъlz- / *skъlьz-15
,
поскольку подорожник имеет гладкие широкие листья с «жилками-
сосудами, которые придают растению большую прочность и помо-
ный. – Минск: Мин. печат. ф-ка, 2000. – Вып. 3: Растительный мир. –
С. 131. – Карта № 52. 10 Раслінны свет : тэмат. слоўн. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя
Я. Коласа; склад.: В.Дз. Астрэйка [і інш.]; навук. рэд.: Л.П. Кунцэвіч,
А.А. Крывіцкі. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – С. 120. 11 Dubisz S. Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich. – Wroc-
ław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1977. – S. 79. – (Studia Warmińsko-Mazurskie;
№ 11). 12 Меркулова В.А. О некоторых принципах этимологии названий растений //
Этимология. Принципы реконструкции и методика исследования: сб. ст. /
Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз.; отв. ред. О.Н. Трубачёв. – М., 1965. – С. 83. 13 Там же, с. 76. 14 Там же, с. 81. 15 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т.; пер. с нем.
и доп. О.Н. Трубачёва. – 4-е изд., стер. – М.: Астрель: АСТ, 2004. – Т. 3. –
С. 646.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
87
гают противостоять вытаптыванию»16
, а «слизистая оболочка се-
мян позволяет ему прилипать (курсив – Н. С.) к обуви человека,
к копытам и лапам животных и таким образом переноситься на
большие расстояния»17
. Ср. бел. коўзацца, коўзкі, коўзка, русск.
скользить, скользкий, скользко, укр. ковзатися, ковзати, сковзький,
ковзький, сковзько и др. Так, бел. глагол коўзацца объясняется как
‘кататься по скользкой поверхности’18
. Слова коўзка и коўзкасць
используются для описания слізкай дарогі ‘скользкой дороги’ во
время дождя или гололёда, а также обозначают свойства “коўзкага”
‘скользкого’19
, в связи с чем необходимо отметить, что подорож-
ник обычно растёт при дорогах (ср. бел. диал. прыдарожнік,
дарожнік, русск. подорожник)20
. Само же понятие коўзкі характе-
ризуется как разговорное: «совсем гладкий, который создаёт трение
и на котором тяжело удержаться; скользкий»21
.
Кроме того, на территории Беларуси распространены такие
однокоренные польским инновациям слова, как скóўзка (скоўско)
‘скользко’ (Гродн.)22
, скоўзко ‘скользко’, скоўзнуць ‘соскользнуть’
(Тур.)23
, коўзь ‘про скольжение, катание’ (Мстисл. р-н)24
, каўзель
16 Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Этно-
лингвистический аспект (Традиционная духовная культура славян. Совре-
менные исследования). – М.: «Индрик», 2009. – C. 198. 17 Там же, с. 198. 18 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 5. К–Л / Уклад. В.У. Мартынаў,
І.І. Лучыц-Федарэц; Рэд. В.У. Мартынаў. – Мн.: Навука і тэхніка, 1989. –
С. 104. 19 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. Т. 2. Г – К / Акад. навук
БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэд. А.Я. Баханькоў. –Мінск: Бела-
рус. Сав. Энцыкл., 1978. – С. 717. 20 Раслінны свет : тэмат. слоўн. / НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя
Я. Коласа ; склад.: В.Дз. Астрэйка [і інш.] ; навук. рэд.: Л.П. Кунцэвіч,
А.А. Крывіцкі. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – С. 121. 21 Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. Т. 2. Г – К / Акад. навук
БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; рэд.А.Я. Баханькоў. – Мінск: Бела-
рус. Сав. Энцыкл., 1978. – С. 717. 22 Цыхун А.П. Скарбы народнай мовы: з лексічнай спадчыны насельнікаў
Гродзенскага раёну: кніга-слоўнік. – Гродна: Гродзен. дзярж. ун-т, 1993. –
С. 130. 23 Тураўскі слоўнік : у 5 т. Т. 5. / Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства імя
Я. Коласа ; склад.: А.А. Крывіцкі [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987. –
Т. 5. – С. 47.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
88
‘расчищенное от снега место для катания’ (Гродн.)25
, коўзанка ‘ка-
ток’26
и др. Ср. родственные бел. скабзáцца ‘кататься по льду’,
укр. скóбзатися ‘скользить, кататься’, чеш. диал. sklouzat se
‘скользить’, словац. диал. sklzat’ sa ‘тс’, словен. диал. skuzek
‘скользкий, склизкий’27
, бел. склéзень ‘малый, небольшой; дитя,
несмышлёныш; мелюзга, мелкота’28
, склез ‘откос; отлогость,
склон, скос; косогор’ с польск. sklez ‘тс’: sklezią, na skleziu ‘от-
косом, на склоне, на косогоре’29
, бел. склíзкі ‘слізкі’, сб.-х.
склűзак, клűзак ‘склизкий’30
, склізóк ‘голец’31
.
В смоленских и брянских говорах известны лексемы
сколзикъ ‘поползень, птица, относящаяся к семейству дятлов’32
,
скальзота, склізота, слізота ‘гололёдица’33
. В русских диалектах
встречаются ещё сколзянка ‘каток’34
, скользéлица ‘слякоть’
(Брянск., Орл.), скользкой ‘гладкий, который легко скользит’ (Арх.),
скóльзом ‘вскользь’35
. В. Даль сравнивает слова скользень, ковзень,
сколзанка, глездалка ‘ледяная горка’ с глаголом скользить: склиз-
24 Юрчанка Г.Ф. Аддзеяслоўныя і гукапераймальныя выклічнікі з адной вёскі //
Народная лексіка : [зборнік] / Акад. навук БССР, Ін-т мовазнаўства імя
Я. Коласа ; рэд.: А.А. Крывіцкі, Ю.Ф. Мацкевіч. – Мінск, 1977. – С. 177. 25 Калоша Н. З лексікі вёскі Лукі // Матэрыялы да слоўніка народна-дыялект-
най мовы / пад рэд. Ф. Янкоўскага ; Мін. пед. ін-т, М-ва выш., сярэд. спец.
i праф. адукацыі БССР. – Мінск, 1960. – С. 155. 26 Сцяцко П.У. Мовазнаўчы досвед : выбр. тв.: у 2 ч. / П.У. Сцяцко; М-ва аду-
кацыі Рэсп. Беларусь, Гродзен. дзярж. ун-т. – Гродна: ГрДУ, 2005. – Ч. 2 :
Культура мовы. Тэрміналогія. – С. 49. 27 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 12. С / уклад. Р.М. Малько,
Г.А. Цыхун; гал. рэд. Г.А. Цыхун. – Мінск: Беларус. навука, 2008. – С. 97. 28 Там же, с. 138. 29 Там же, с. 138. 30 Там же, с. 139. 31 Там же, с. 140. 32 Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. – Смоленск: Тип.
П.А. Силина, 1914. – С. 836. 33 Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины: материа-
лы для истории словарного состава говоров / Акад. наук БССР, Ин-т языко-
знания им. Я. Коласа; ред. Е.М. Романович. – Минск: Наука и техника,
1973. – С. 241. 34 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т.; пер. с нем.
и доп. О.Н. Трубачёва. – 4-е изд., стер. – М.: Астрель : АСТ, 2004. – Т. 3. –
С. 646. 35 Словарь русских народных говоров / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз. – М.;
Л. : Наука, 1965– . – Т. 38. – С. 67.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
89
нуть, слизнуть (ослизнуть), с(к)лизъть ‘делаться склизким, слизи-
стым, мокнуть, делаться скользким, покрываться слизью’: “Дороги
скользковаты”36
. Последняя иллюстрация подтверждает гипотезу
о том, что анализируемые существительные можно рассматривать
в контексте аналогий и ассоциаций с характерными признаками до-
рог, вдоль которых часто растёт подорожник. Ср.: др.-польск.
skiełzać się ‘наклоняться к чему-нибудь’, наречие skiełzem ‘кри-
во, косо’, что имеют имитативный характер происхождения;
бел. “междометье коўзь!, которое может быть старой дериваци-
онной основой слова”37
; бел. слізíць ‘сочиться’, ‘мокнуть (про
рану)’, слíзіць ‘тс’, словац. slizit’ ‘пропускать жидкость’, прасл.
*slizъkъ (с суф. -ъkъ)38
; бел. слíзкі ‘гладкий, такой, на котором
тяжело удержаться, устоять, либо который тяжело удержать’,
‘покрытый слизью’, укр. слúзкий, польск. ślizki, чеш. slizký,
slzký, словац. slizký, словен. slízek, балг. слúзък, ст.-слав.
сльзъкъ ‘липкий, сочный’39
.
Опыт этнолингвистического исследования некоторых на-
именований подорожника, проведённого В.Б. Колосовой, свиде-
тельствует, что «во всех группах славянских языков отмечается та-
кая характерная особенность подорожника, как произрастание
вдоль дорог, которая реализуется с наибольшим разнообразием
корней в русских говорах, причём также во всех группах наблюда-
ется деэтимологизация фитонима при сближении с числительным
три»40
. Как известно, названия дорог и тропинок в славянских язы-
ках часто передаются отглагольными образованиями от *kъlz- /
*skъlьz-: ср.: русск. диал. колозúна ‘колея’, очевидно, связанное
с кóлзаться ‘скользить’41
. То, что на территории славянских земель
36 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : соврем. напи-
сание: в 4 т. / В.И. Даль. – М.: АСТ [и др.], 2006. – Т. 4. – С. 200. 37 Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 12. С / уклад. Р.М. Малько,
Г.А. Цыхун; гал. рэд. Г.А. Цыхун. – Мінск: Беларус. навука, 2008. – С. 148. 38 Там же, с. 185. 39 Там же, с. 186. 40 Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Этно-
лингвистический аспект (Традиционная духовная культура славян. Совре-
менные исследования). – М. : «Индрик», 2009. – C. 210. 41 Куркина Л.В. Из наблюдений над некоторыми названиями дорог и тропи-
нок в славянских языках // Этимология, 1968 / Акад. наук СССР, Ин-т рус. яз.;
отв. ред. О.Н. Трубачёв. – М., 1971. – С. 103.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
90
дороги действительно находились продолжительное время в очень
плохом состоянии, нашло отражение также в использовании для их
обозначения именных основ, производных от глаголов *padati
и *pъlzati. Ср. чеш. úpad в значении ‘скользкий путь’, словен. на-
речное образование на -l- pádalica ‘скользкий путь’, аналогично об-
разованное словен. рólzgalica ‘ледяная дорога, каток’, półzalica
‘скользкое место; ледяная дорога’, с которыми косвенно связано
русск. диал. полозновúца ‘колея, след полозьев на снегу’, полóзница
‘проложенная, зимняя санная дорога’)42
. Однако, кажется малове-
роятным, что наименования skou ojžak, skou ojža, skou ojźak могли
быть даны растению, общеизвестному в польском литературном
языке под названием babka ‘подорожник’, по аналогии с устойчи-
выми, типичными признаками дорог. Такая интерпретация сомни-
тельна: зимой, когда дороги наиболее скользкие, подорожника не
увидеть.
На наш взгляд, именно способ распространения, который
обусловил близость подорожника к путям перемещения людей
и транспорта, может быть диагностирующим критерием решения
вопроса о причинах возникновения инноваций skou ojžak, skou ojža,
skou ojźak. Ср. русск. диал. последник (Астрах.) ‘подорожник’, что
«растёт по следам человека, к обуви приклеивается»43
[41]. По-
скольку в условиях междиалектных и межъязыковых контак-
тов на территории польско-белорусского пограничья встреча-
ются разные типы мотивационных отношений, можно предпо-
ложить, что на смысловое развитие лексических единиц
skou ojžak, skou ojža, skou ojźak большое влияние оказало ассоциатив-
ное сближение исконного понятия и заимствованной производной
основы. Поэтому правдоподобной является версия о том, что инно-
вации образовались в результате “закрепления” в северо-восточ-
ных говорах Польши такого выразительного семантического при-
знака производной основы *kъlz- / *skъlьz-, как ‘скользкий / склиз-
кий / ослизлый’: слизистая оболочка семян подорожника позволяет
прилипать, она скользкая. В соответствии с приведёнными выше
фактами, данное преобразование может быть квалифицировано как
42 Там же, с. 102. 43 Колосова В.Б. Лексика и символика славянской народной ботаники. Этно-
лингвистический аспект (Традиционная духовная культура славян. Совре-
менные исследования). – М.: «Индрик», 2009. – C. 200.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
91
аналогия устойчивого семантического перехода. Его воссоздание
стало причиной появления локальных инноваций, сформирован-
ных под опосредованным белорусским влиянием.
На возникновение в польском языке северо-восточных ре-
гионализмов skou ojžak, skou ojža, skou ojźak повлияли процессы, ко-
торые протекали на белорусской территории наиболее интенсивно
и охватили большую в сравнении с Польшей площадь. Инновации,
возникшие под влиянием этих процессов, значительно отличаются
от явления-стимула, однако сохраняют связь с ним. Механизмы
формирования диалектных образований, зафиксированных в севе-
ро-восточных говорах Польши, указывают на то, что центр ирра-
диации инноваций, вероятно, локализируется в границах белорус-
ско-польской контактной зоны. Новые характерные наименования
подорожника были инспирированы закономерностями ареального
взаимодействия в контактной межъязыковой зоне и распространи-
лись в северо-восточной Польше в результате активизации и про-
дуктивного использования белорусских лексико-семантических ре-
сурсов.
Северо-восточные польские ареальные инновации
skou ojžak, skou ojža, skou ojźak демонстрируют потенциал для рас-
пространения: проанализированным инновационным особенно-
стям свойственна высокая степень проявления. Рассмотренный
материал является разнообразным с точки зрения словообразова-
тельной структуры и фонетической вариантности, что свидетельст-
вует не только об адаптации лексических инноваций в языке-реци-
пиенте, но и об экспансии соответствующего ареала. Среди спосо-
бов закрепления лексических инноваций в польском языке, прежде
всего, следует отметить фонетические трансформации.
Инновации skou ojžak, skou ojža, skou ojźak являются отличи-
тельными ареально обусловленными признаками существования
белорусско-польской зональной общности. Поэтому представляет-
ся целесообразным дальнейшее ареально-типологическое изучение
польско-белорусского пограничья как части славянского диалект-
ного континуума.
Список сокращений
Языки: болг. – болгарское, бел. – белорусское,
польск. – польское, прасл. – праславянское, русск. – русское,
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
92
сб.-х. – сербохорватское, словац. – словацкое, словен. – сло-
венское, др.-польск. –древнепольское, ст.-слав. – старославян-
ское, укр. – украинское, чеш. – чешское.
Области, регионы, районы: Арх. – Архангельская, Аст-
рах. – Астраханская, Брянск. – Брянская, Гродн. – Гродненская,
Мстисл. – Мстиславский, Орл. – Орловская, Тур. – Туровщина.
в-вo – воеводство, диал. – диалектное.
PHYTONYMICAL NOMINATIONS
IN DIALECTS OF THE NORTH-EASTERN POLAND:
TO MOTIVATION OF SEMANTICS
The article is devoted to research of so-called exclusive isoglosses of the Bela-
rusian-Polish areal community. The subject of studying is specificity of dialect na-
mes of a plantain skou ojžak, skou ojža, skou ojźak noted in the north-eastern part of
Poland. The purpose of the article is to find out reasons caused changes of seman-
tic nature of mentioned dialect names and also to determine how intensively areal
innovations skou ojžak, skou ojža, skou ojźak were developing in Polish and connected
with other Slavic languages.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
93
The research was conducted with the application of comparative, comparative-
historical, descriptive-analytical and areal-typological methods, and also onoma-
siological analysis elements. The central nature of appearance of this phenomenon
in Belarusian- language space allows to tell about its distribution to the Polish ter-
ritory where areal innovations skou ojžak, skou ojža, skou ojźak feel Belarusian influen-
ce and create considerable specifics of Slavic continuum. For the innovational phe-
nomena in the Polish dialectal language the author provides her own interpretation
based on the analysis and systematization of selected material as well as study of
local and foreign sources on the subject of the research.
The results of the research will find application in the field of Slavic compara-
tivistics, can be useful in the following cases: areal-typological learning of Slavic
languages, preparation and practice of teaching of courses in Polish and Belarusian
dialectology in higher educational institutions, holding of special seminars in Sla-
vic linguistics, creation of textbooks and workbooks in corresponding disciplines.
Key words: isogloss; innovation; phytonym.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Снигирёва Наталья Александров-
на, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник.
Национальная академия наук Бела-
руси, Государственное научное уч-
реждение “Центр исследований бе-
лорусской культуры, языка и лите-
ратуры НАН Беларуси”, филиал
“Институт языка и литературы име-
ни Якуба Коласа и Янки Купалы”
(Республика Беларусь, г. Минск).
ABOUT THE AUTHOR
Snigiriova Natalia,
Candidate of Philological Scien-
ces, senior research scientist.
The National Academy of Scien-
ces of Belarus, Public research
institution "Center of Researches
of Belarusian Culture, Language
and Literature of the National
Acаdemy of Sciences of Belarus",
"Institute of Language and Litera-
ture named after Yakub Kolas and
Yanka Kupala", lexicology and
lexicography department (Repub-
lic of Belarus, Minsk).
e-mail:
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
94
Скорек Юлиан
Интонационная структура
повествовательных высказываний
русского, польского и немецкого языков
(экспериментальные исследования)
Результаты, полученные в процессе экспериментальных исследований,
позволяют сделать вывод о том, что интонационная структура русских, поль-
ских и немецких повествовательных высказываний является тождествен-
ной. Интонационные компоненты, несмотря на существующие в языках фо-
нетические, морфологические, семантические и синтаксические различия, то-
ждественны. Гласный сегмент супрематического ударения в этих языках ха-
рактеризуется следующими признаками: нисходящее направление, низкий
тон, увеличение длительности и падение уровня интенсивности. Словесное
же ударение является вариантным. Направление движения тона может быть
разным: восходящим, нисходящим, ровным или восходяще-нисходящим. На
вариантное направление движения тона наслаиваются высокий тон, сокра-
щение длительности и рост уровня интенсивности. Таким образом, интона-
ционные компоненты, которые образуют словесное ударение, являются вари-
антными и лингвистически нерелевантными.
Супрематическое ударение в своей фонологической функции становится
супрематической фонемой, которая в плане содержания образует высказы-
вание. Супрематическая фонема характеризуется коррелятивным набором
интонационных компонентов, сочетание которых имеет инвариантный, лин-
гвистически релевантный и конститутивный характер.
Таким образом, интонационная структура повествовательных высказыва-
ний русского, польского и немецкого языков показывает полую коррелятив-
ность.
Ключевые слова: супрематическая фонема; инвариантность; вариант-
ность; релевантность; конститутивность; коррелятивность; детерминант.
Сопоставительный анализ структуры супрематического
ударения
1. Компонент направления движения тона 1.1. Русский язык
Основной компонент структуры интонационной едини-
цы (супремы) – это направление движения тона. В структуре
сочетаний интонационных компонентов словесного и супрема-
тического ударения направление тона является определяющим
(детерминантом). Так, гласному сегменту слога супрематиче-
ского ударения русских повествовательных высказываний (да-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
95
лее РПС1) свойственно нисходящее направление движения то-
на (см. рис.1, сегм. -o- слова работали).
Рис. 1. Тонограмма высказывания Люди работали. Низкий женский голос
ВДС2.
В высказывании Туда не пойду супрематическое ударе-
ние падает на слово пойду. Ударный сегмент -у- слога -ду- ха-
рактеризует нисходящее направление движения тона (см.
рис. 2).
Рис. 2. Тонограмма высказывания Туда не пойду. Низкий женский голос ВДС.
1 РПС = Р – русская, П – повествовательная, С – супрема (единица интона-
ционной структуры) 2 Употребленные в подписях под рисунками сокращения являются
инициалами дикторов, например ВДС – В.Д. Самойлова, Ф.А.Н – Ф.А. Ново-
жилова, J.W. – Jolanta Wilczyńska, K.Sz. – Katarzyna Szot, I.S. – Irene Sper-
feld, AR – Anna Romer.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
96
Нисходящее направление свойственно всем гласным
сегментам слога супрематического ударения повествователь-
ных высказываний русского языка. Их кривые являются совпа-
дающими. Согласно принятой методологии, «совпадающие
кривые линии считаются лингвистически релевантными, не-
совпадающие показывают вариантность»3.
1.2. Польский язык Супрематическое ударение польских повествователь-
ных высказываний (далее ППС4) также является нисходящим,
то есть в сравнении с русским эквивалентным компонентом
показывает инвариантную коррелятивность5. Так, в высказы-
вании Noc była cicha супрематическое ударение характеризует
нисходящее направление движения тона (см. рис. 3, сегм. -i-
слова cicha и сравни с рис. 2, сегм. -у- слова пойду).
Рис. 3.Тонограмма высказывания Noc była cicha. Низкий женский голос KB.
1.3. Немецкий язык
3 И.Г. Леонтьева (Торсунва), Функциональная теория интонации. Специаль-
ность Nr 10.02.14 Общее языкознание, Диссертация на соискание учёной сте-
пени доктора филологических наук, Москва 1976, с. 160–160. 4 ППС = П – польская, П – повествовательная, С – супрема. 5 J. Skorek, Właściwości suprasegmentalne rosyjskich, białoruskich i polskich
jednosuprematycznych wypowiedzeń oznajmujących / Podstawowe jednostki
intonacji języków: rosyjskiego, białoruskiego i polskiego, s. 23–52.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
97
Супрематическое ударение немецких повествователь-
ных высказываний (далее ГПС6) не отличается от русских
и польских эквивалентов. Так, в высказывании Auf der Chaus-
see ist es still гласный сегмент слога супрематического ударе-
ния характеризуется нисходящим направлением (см. рис. 4,
сегм. -i- слова still и сравни с рис. 1, 2)7.
Рис. 4. Тонограмма высказывания Auf der Chaussee ist es still. Низкий женский
голос АР.
Таким образом, супрематическое ударение в РПС, ППС
и ГПС является тождественным. Направление движения тона
в гласном сегменте слога супрематического ударения характе-
ризуется нисходящим направлением. Его кривые линии в ин-
тонационных системах отдельных языков совпадают. Соглас-
но принятой методологии, совпадающие кривые являются ин-
вариантными, лингвистически релевантными и фонологически
конститутивными, т.е. такими, которые принимают участие
в образовании определённой единицы высказывания8.
2. Компоненты высоты тона, времени и уровня ин-тенсивности 2.1. Русский язык
6 ГПС = Г – германская, П – повествовательная, С – супрема. 7 E. Szarek, Podstawowe jednostki intonacyjne języka niemieckiego w Konfrontacji
z polskimi ekwiwalentami (badania eksperymentalne), rozprawa doktorska napisa-
na pod kierunkiem dr. hab. Juliana Skorka, prof. UZ, Opole 2008, s. 29–50 8 Подробнее на эту тему см. Ю. Скорек, Конститутивная функция фонемы
в коммуникативной системе русского языка // Rocznik Instytutu Polsko-Ro-
syjskiego, Nr 2 (5), с. 73–83.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
98
Лингвистическим пространством, в котором тон гласно-
го сегмента слога супрематического ударения русских повест-
вовательных высказываний движется с нисходящим направле-
нием, является низкая полоса диапазона ЧОТ9. Движется он
с удлинением гласного сегмента и с падением уровня интен-
сивности (см. рис. 5, сегм. -о- слога -ком-)10
.
Рис. 5. Тонограмма высказывания Я пойду пешком. Низкий женский голос
ВДС.
В высказывании Я слышу супрематическое ударение
падает на слово слышу. Его ударный сегмент характеризует
инвариантное нисходящее направление, на которое вполне за-
кономерно наслаивается низкий тон, сокращение длительности
и рост уровня интенсивности (см. рис. 6).
9 ЧОТ = Ч – частота, О – основного, Т – тона. 10 Ю. Скорек, Г. Юзвяк, Интонация современного русского языка (экспери-
ментальные исследования), Zielona Góra 2002, c. 35–48.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
99
Рис. 6. Тонограмма высказывания Я слышу. Низкий женский голос ФАН.
2.2. Польский язык
Такое же сочетание интонационных компонентов мы
наблюдем в эквивалентных повествовательных высказываниях
польского языка. Так, супрематическое ударение высказыва-
ния I poszli do pracy показывает инвариантное размещение ин-
тонационных компонентов. Гласный сегмент -а- слова pracy
характеризует нисходящее направление, на которое, в свою
очередь, наслаивается низкий тон, увеличение длительности
и падение уровня интенсивности (см. рис. 7). Такой корреля-
тивный набор сочетания инвариантных компонентов в слоге
супрематического ударения свойственен всем польским пове-
ствовательным высказываниям11
.
Рис. 7. Тонограмма высказывания I poszli do pracy. Низкий женский голос
ЙВ.
2.3. Немецкий язык Аналогичную коррелятивность размещения интонацион-
ных компонентов в лингвистическом пространстве и времени
показывают немецкие повествовательные высказывания. Су-
прематическое ударение в немецком языке характеризуется
следующим признаками: нисходящее направление, низкий тон,
увеличение длительности и падение уровня интенсивности (см.
11 J. Skorek, Intonacja współczesnego języka polskiego w dyskursie lingwistycznym
tekstu (badania eksperymentalne) // Annales Universitatis Marie Curie-Skłodow-
ska. Sectio FF. Philologie –2012, vol. XXX, 1, s. 129-133.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
100
рис. 8, дифтонг -ei- и сравни с рис. 5, сегм. -о- слога -ком-
и рис. 7 слог pra).
Рис. 8. Тонограмма высказывания Das ist so eine. Низкий женский голос СМ.
Таким образом, супрематическое ударение русских,
польских и немецких повествовательных высказываний харак-
теризует коррелятивность интонационных компонентов. В рас-
сматриваемой интонационной единице они показывают инва-
риантность, релевантность и в своей лингвистической функ-
ции – конститутивность. Гласному сегменту слога супремати-
ческого ударения в этих языках присущи: 1) нисходящее на-
правление, 2) низкий тон, 3) увеличение длительности, 4) паде-
ние уровня интенсивности.
3. Лингвистическая функция словесного ударения 3.1. Русский язык
Результаты инструментального анализа позволяют нам
сделать вывод, что направление движения тона в словесном
ударении является компонентом вариантным, а следователь-
но, лингвистически нерелевантным. Возьмем для примера вы-
сказывание Он шёл пешком. Сегмент -о- слова он имеет восхо-
дящее направление (см. рис. 9), а сегмент -ё- слова шёл – ров-
ное направление (см. рис. 9). Итак, направление движения тона
в сегменте слога словесного ударения не является компонен-
том совпадающим, а следовательно, показывает вариант-
ность и лингвистическую нерелевантность. На вариантность
направления тона закономерно наслаивается высокий тон, со-
кращение длительности, рост уровня интенсивности до 12 дб.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
101
Рис. 9. Тонограмма высказывания Он шёл пешком. Низкий женский голос
ВДС.
В состав супрематической пропозиции высказывания
Мы вас не пустим входят три однослоговых слова. Их словес-
ные ударения в отношении направления движения тона прояв-
ляют вариантность. Так, ударный сегмент показывает: ровное
движение (см. рис. 10, сегм. -ы- слова мы), восходящее движе-
ние (см. рис. 10, сегм. -а- слова вас), восходяще-нисходящее
движение тона (см. рис. 10, сегм. -е- слова не).
Рис. 10. Тонограмма высказывания Мы вас не пустим. Низкий женский голос
ВДС.
На вариантность направления движения тона в сег-
менте слога словесного ударения закономерно наслаивается
высокий тон, сокращение длительности и рост уровня интен-
сивности. Таким образом, направление движения тона в сло-
весном ударении РПС является компонентом вариантным
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
102
и лингвистически нерелевантным. Фонологические соотноше-
ния компонента движения тона в русских повествовательных
высказываниях12
изображает формула 1:
[1]:
3.2. Польский язык Словесное ударение в польских повествовательных вы-
сказываниях характеризуется коррелятивностью интонацион-
ных компонентов. Как в польских, так и в русских эквивалент-
ных высказываниях сегмент словесного ударения характеризу-
ется вариантностью направления движения тона. Это может
быть ровное, восходящее, восходяще-нисходящее, нисходящее
направление. Так, супрематическая препозиция высказывания
Chłopcy szli do szkoły содержит три слова, в которых словесное
ударение имеет разное направление: восходящее (см. рис.11,
сегм. -о- слова chłopcy), нисходящее (см. рис.11, сегм. -i- слова
szli), ровное (см. рис.11, сегм. -o- слова do).
Рис. 11. Тонограмма высказывания Chłopcy szli do szkoły. Низкий женский го-
лос ЙВ.
12 Подробнее на эту тему см. Ю. Скорек, Конститутивная функция фонемы
в коммуникативной системе русского языка // Rocznik Instytutu Polsko-Ro-
syjskiego Nr 2 (5), с. 71–97.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
103
В высказывании Noc była cicha сегмент слога словесного
ударения также характеризуется разным направлением движе-
ния тона: восходяще-нисходящим (рис.12, сегм. -o- слова
noc), ровным (рис.12, сегм. -y- слова była).
Рис. 12. Тонограмма высказывания Noc była cicha. Низкий женский голос
BM.
Супрематическое ударение высказывания I poszli do pra-
cy содержит несколько другую вариантность направление
движения тона. Сегмент слога словесного ударения имеет
здесь нисходящее направление (рис.13, слово i), восходящее
направление (рис.13, сегм. -о- слова poszła), ровное направле-
ние (рис.13, сегм -o- слова do).
Рис. 13. Тонограмма высказывания I poszli do pracy. Низкий женский голос
BM.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
104
Итак, компонент направления движения тона в гласном
сегменте слога словесного ударения характеризуется вариант-
ностью, следовательно, он является лингвистически нереле-
вантным и в своей фонологической функции – неконститутив-
ным. Фонологические соотношения компонента движения тона
в польских повествовательных высказываниях изображает
формула 2:
[2]
Вариантный способ размещения компонентов в слоге су-
прематического ударения характеризует все повествователь-
ные высказывания польского языка13
. На вариантное направ-
ление движения тона закономерно и нормативно наслаивается
высокий тон, сокращение длительности и рост уровня интен-
сивности (см. рис. 11-13 и сравнении с рис. 9-10).
Таким образом, интонационные компоненты польских
и русских сегментов словесного и супрематического ударения
характеризует полная корреляция (ср. формулы 1 и 2).
3.3. Немецкий язык Словесное ударение в немецких повествовательных вы-
сказываниях показывает аналогичную вариантность и корре-
лятивность интонационных компонентов. Так, супрематиче-
ская препозиция высказывания Ich weiß es selbst nicht содержит
четыре слова, в которых словесное ударение имеет разное на-
правление: ровное (см. рис.14, сегм. -i- словa ich), восходяще-
нисходящее (см. рис.12, дифтонг -ei-), нисходящее (см.
рис.14, сегм. -е- словa es), восходящее (см. рис.14, сегм. -е-
словa selbst). На вариантное направление движения тона на-
слаивается высокий тон, сокращение длительности и рост
уровня интенсивности.
13 J. Skorek, Intonacja współczesnego języka polskiego w dyskursie lingwistycznym
tekstu (badania eksperymentalne) // Annales Universitatis Marie Curie-Skłodow-
ska. Sectio FF. Philologie –2012, vol. XXX, 1, s. 129–133.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
105
Рис. 14. Тонограмма высказывания Ich weiß es selbst nicht. Низкий женский
голос ИС.
Высказывание Das ist Frau Evans – это яркий пример ва-
риантности, а также инвариантности интонационных компо-
нентов немецких повествовательных высказываний. Сегменты
супрематического ударения являются сочетанием инвариант-
ных компонентов. Это: 1) нисходящее направление, 2) низкий
тон, 3) удлинение, 4) рост уровня интенсивности (см. рис. 15,
сегм. -е- слова Evans). Словесное же ударение – это пучок14
ва-
риантных компонентов: восходяще-нисходящее направление,
высокий тон, сокращение длительности, рост уровня интенсив-
ности до 19 дб (см. рис.15, слово das), восходящее направле-
ние, высокий тон, сокращение длительности, рост уровня ин-
тенсивности до 20 дб (см. рис.15, слово ist), нисходящее на-
правление, высокий тон, сокращение длительности, рост уров-
ня интенсивности до 18 дб (см. рис.15, дифтонг au слова Frau).
14 Т.М. Николаева, Фразовая интонация славянских языков, Издательство
«Наука», Москва 1977, с. 20.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
106
Рис. 15. Тонограмма высказывания Das ist Frau Evans. Низкий женский голос
СМ.
Таким образом, инструментальный анализ немецких по-
вествовательных высказываний15
позволяет нам обнаружить
компонент направления тона в структуре интонационных еди-
ниц и наглядно показать его движение (см. формулу 3).
[3]
Итак, интонационные компоненты слога супрематиче-
ского ударения в РПС, ППС и ГПС совпадают. Согласно при-
нятой методологии совпадающие элементы считаются инвари-
антными, лингвистически релевантными и фонологически кон-
ститутивными. Несовпадающие – считаются вариантными,
лингвистически нерелевантными, а следовательно, неконститу-
тивными, т.е. такими, которые не принимают участия в образо-
вании определённой единицы высказывания.
Таким образом, сравнительный анализ акцентных соот-
ношений в исследованных языках позволяет обнаружить инто-
национный компонент, играющий главную роль. Этим компо-
нентом является направление движения тона голоса говоряще-
15 Подробнее на эту тему см. E. Szarek, Intonacja niemieckich i polskich wypo-
wiedzeń oznajmujących w procesie kształcenia nawyków mownych // Literatura,
języka, dydaktyka, Szkice humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 273–383.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
107
го. На него закономерно наслаиваются такие компоненты, как:
высота тона, длительность, уровень интенсивности. На инва-
риантный нисходящий тон, который характеризует супрема-
тическое ударение в РПС, ППС и НПС, наслаиваются низкий
тон, увеличение длительности и падение уровня интенсивности
(см. таб.1, № 1-4, III). Следовательно, компонент супрематиче-
ского ударения русских, польских и немецких повествователь-
ных высказываний является лингвистически релевантным.
На вариантность направления тона словесного ударе-
ния (см. таб.1, № 1-4, II) наслаиваются высокий тон, сокраще-
ние длительности и рост уровня интенсивности. Из-за вариант-
ности направления движения тона словесное ударение образу-
ет пучок несовпадающих компонентов, а следовательно, явля-
ется сочетанием компонентов вариантных и лингвистически
нерелевантных.
Итак, структура повествовательных высказываний, кото-
рые мы подвергли экспериментальному исследованию, показы-
вает коррелятивность интонационных компонентов (см. табли-
цу 1).
Таб. 1. Повествовательные высказывания русского, польского и немецкого
языка
Однако следует заметить и подчеркнуть, что словесное
ударение польских повествовательных высказываний может
характеризоваться нисходяще-восходящим направлением
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
108
движения тона (см. рис. 16, сегм. -i- слога -ci-, сегм. -y- слога -
szy-)16
.
Рис. 16. Тонограмма высказывания W głębokiej ciszy coś ostrzega. Низкий жен-
ский голос ЙВ.
В другом случае структуру словесного ударения образу-
ют два слога, в которых гласные сегменты характеризуются:
1) нисходяще-восходящим направлением, 2) низко-высоким
тоном, 3) сокращением длительности, 4) ростом уровня интен-
сивности (см. рис. 17, сегм. -у- и сегм. -е- слова słyszeć).
Рис. 17. Тонограмма высказывания Dały się słyszeć ciche kroki. Низкий жен-
ский голос KSz.
Такое сочетание интонационных компонентов свойст-
венно исключительно польскому языку. Оно не характерно для
16 Подробнее на эту тему см. J. Skorek, Intonacja współczesnego języka polskie-
go w dyskursie lingwistycznym tekstu…, s.131–132.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
109
словесного ударения русских и немецких повествовательных
высказываний. Фонологическая формула в ППС – это пять зна-
ков направления тона (см. формулу 4):
[4]
4. Заключение
Ведущим компонентом супрематического ударения рус-
ских, польских и немецких повествовательных высказываний
является направление движения тона, на которое закономерно
наслаиваются его высота, длительность и уровень интенсивно-
сти. Супрематическое ударение характеризуется коррелятивно-
стью интонационных компонентов. Гласный сегмент слога су-
прематического ударения характеризует сочетание инвариант-
ных, лингвистически релевантных компонентов, которые со-
ставляют маркированный член (+) фонологической оппозиции.
Гласные же сегменты словесного ударения, выступающие в су-
прематической препозиции, характеризует вариантность. Они
могут характеризоваться восходящим, нисходящим, ровным,
восходяще-нисходящим направлением, а в польских высказы-
ваниях также нисходяще-восходящим движением тона. На ва-
риантное направление движения тона закономерно наслаивает-
ся высокий тон, сокращение длительности и рост уровня ин-
тенсивности. Вариантные направления в сегментах словесно-
го ударения образуют его немаркированный член (-).
Таким образом, если вариантность компонентов словес-
ного ударения – это явление нормативное, закономерное, то
для супрематического ударения нормативным является инва-
риантность. Набор компонентов в пределах супрематического
ударения имеет не только нормативный, закономерный харак-
тер, но также и релевантный и конститутивный характер. Су-
прематическое ударение в своей фонологической функции ста-
новится супрематической фонемой, которая в плане содержа-
ния образует единицы языковой коммуникации.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
110
THE INTONATION STRUCTURE OF RUSSIAN, POLISH AND
GERMADECLARATIVE UTTERANCES
(EXPERIMENTAL RESEARCHES)
Obtained by analysis of instrumental studies led to the conclusion, that the
Russian, Polish and German declarative structure is characterized by the complete
adequacy of intonation. For its structure does not affect the properties of both pho-
netic, morphological, semantic and syntax. The supreme accent and a word in the-
se languages are characterized by full correlation components of intonation.
In the assembly of intonation components of the supreme accent includes: slo-
ping mileage, low tone, increasing and decreasing in intensity. These invariant
components, linguistically relevant. The word stress in studied languages shows
the option of a low intonation.The denunciations of Russian and German team ma-
ke the direction of the variant components: growing, sloping, equal or low – slo-
ping tone. The vowel segment in Polish accent may have a descending and gro-
wing tone. At the direction of the variant there is a normative manner: high tone,
off-time shortening and increasing in intensity.
The supreme accent in its linguistic function becomes a supreme phoneme, that
in the plan of its content is a set of relevant components of intonation that constitu-
tes correlative notice – units of communicative system of studied languages. In this
case, the supreme phoneme constitutes some terminations of the languages: Russ-
ian, Polish and German.
Key words: suprematic phoneme; relevance; invariants; determinants.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Скорек Юлиан Мартинович, док-
тор лингвистических наук, профес-
сор Зеленогурского университета.
Зеленогурский университет (Поль-
ша, Зелёна гура).
Область научных интересов: вопро-
сы интонации русского, белорусск-
ого, украинскго, польскго, лужицко-
го и немецкого языков в сопостави-
тельном плане, методика русского
и польского языка как иностранного.
ABOUT THE AUTHOR
Skorek Julian,
Professor in linguistics.
University of Zielona Góra (Poland,
Zielona Góra).
Scientific interests: comparative inves-
tigation of intonation in Russian, Bela-
rusian, Ukrainian, Polish, Sorbian and
German language, methods of teaching
Russian and Polish as a foreign langu-
age.
e-mail: [email protected].
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
111
Карпец Любовь
Пространство посткнижной культуры
в современном коммуникативном процессе
В статье рассматриваются особенности посткнижного пространства, от-
мечается изменение акцента современного восприятия реальности сквозь
призму визуальности, которой предшествует объективная экспрессия, един-
ство и последовательность в искусстве, поэзии и т.д. Доказано, что простран-
ство посткнижной культуры формирует специфические смыслы, своеобраз-
ные ценности и приобретает новые черты.
Ключевые слова: пространство, посткнижная культура, печатное про-
странство.
В современном мире проблемы, связанные с переходом
культуры на новую стадию цивилизационного развития, рас-
сматриваются на разных уровнях философской рефлексии.
«Время вербальной цивилизации заканчивается на наших гла-
зах», – отмечает композитор и философ Владимир Мартынов.
На смену эпохи Слова пришло Время Алисы – время молчания
и созерцания. Слово перестает быть смыслом, в который мы
привыкли «смотреться», – теперь, чтобы обрести смысл, через
Слово нужно пройти, как кэрроловская Алиса проходит сквозь
зеркало. По мнению Мартынова, в искусстве существует мно-
жество практик, позволяющих приблизиться к «молчанию» как
необходимому условию достижения знания. Может ли сегодня
печатное слово, книга противостоять телевизору и другой ви-
зуальной технике? Общая тотальная девальвация слова приве-
ла к тому, что книжная культура перестала восприниматься как
пространство осуществления писаного слова.
Сегодня благодаря технологическим разработкам в сфере
компьютерных технологий преобладает визуальная культура.
Внимание исследователей направлено на разработку информа-
ционного пространства и процессы интенсификации обмена
информации в обществе. Следует отметить, что трансформа-
ция охватывает и видоизменяет различные сферы жизнедея-
тельности человека и общества, в том числе современные обра-
зовательные технологии. Феномены пространства посткниж-
ной культуры постепенно вплетаются в реальность повседнев-
ной жизни личности, трансформируются в социальном, эконо-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
112
мическом, политическом и идеологическом уровнях базового
компонента жизненного пространства, часто воспроизводя их
в киберпространстве, формируя виртуальное пространство со-
циума и личности.
Цель данной статьи – проанализировать особенности
пространства посткнижной культуры и его роль в коммуника-
ции. Целесообразно рассмотреть эволюцию культурного про-
странства вербальной цивилизации с позиции коммуникатив-
ного подхода, через взаимосвязь с социальным и жизненным
пространством человека. Пространство посткнижной культуры
характеризуется через процессы глобализации, виртуализации
культурного пространства. Формирование гипертекстуальной
реальности частично освобождает индивида от власти печатно-
го текста.
Собственно, сам пространственный подход в гуманитар-
ных науках проявился еще в античности, когда Гиппократ об-
ратил внимание на то, что пространство существенным обра-
зом влияет на человеческий характер1. В дальнейшем про-
странственный детерминизм возникает в работах М. Монтес-
кье, но наибольший интерес эта проблема вызвала лишь
в ХХ в., когда была поднята такими мыслителями, как В. Ка-
зиш, Ф. Ратцель, Э. Хантингтон, Т. Гриффин и др. В рамках
поссибилизма пространственный подход анализировался в тер-
минах возможности вероятности воздействия на человека, был
в центре научных интересов Л. Февра.
Первым, кто занялся исследованием восприятия челове-
ком окружающего пространства, был А. Гумбольт. Он считал,
что природу нужно изучать в двух аспектах: во-первых, в объ-
ективном, как реальный феномен, а во-вторых, в субъектив-
ном – в том, как она отражается человеком. Понятие социаль-
ного пространства получило глубокую методологическую
и теоретическую разработку в работах западных и отечествен-
ных исследователей. Особое место данное понятие занимает
в работах П.А. Сорокина, П. Бурдье, П. Бергера, М. Кастельса,
1 Кантерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен: учебное посо-
бие для вузов / А.И.Кантерев. – М.: ИПО Профиздат, 2002. – С. 45.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
113
В.И. Ильина, В.И. Добренькова, А.И. Кравченко, В.Ф. Анурина
и др.
Социальное пространство многомерно и дифференциро-
ванно, что определяется его способностью к самоорганизации
в условиях нестабильности. Дифференция при этом отражает
разнообразие социальных практик, которые соответствуют ка-
ждой системе пространства и социальной деятельности в це-
лом. При определении культурного пространства существует
необходимость остановиться на выделении нескольких основ-
ных подходов, представленных в работах различных исследо-
вателей. Одним из них является субстанциональный подход,
характеризующий пространство через наполнение его процес-
сами, фактами, вещами и явлениями, условием развития
и функционирования которых оно есть. С другой стороны,
можно говорить о функциональном подходе к определению
культурного пространства как своеобразного механизма, спо-
соба, с помощью которого происходит процесс окультурива-
ния природного пространства2.
Опираясь на исследования западных и отечественных
философов, социологов и культурологов, можно традиционно
выделить три основных периода в развитии культуры и соот-
ветствующие им этапы эволюции культурного пространства.
В качестве методологической базы выступает информационно-
коммуникационный подход, в рамках которого можно выде-
лить определенные эпохи в эволюции культурного пространст-
ва, сформировать представление об истории, без которой, по
мнению П. Бурдье, феномены пространства не приобретут ле-
гитимной силы, поскольку они не вписаны в логику истории.
Изменение социальной коммуникации с точки зрения данного
подхода становится основой формирования последовательной
смены различных исторических эпох. Необходимо соотнести
исторические этапы развития коммуникации с периодами, вы-
деленными в эволюции культуры и культурного пространства.
Изменение коммуникативных систем и соответствующих им
2 Силкина Л.В. Место пространства в культуре // Жизненное пространство
человека и общества. Саратов. Издательство Саратовского университета,
1996. – С. 108.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
114
культурных пространств происходит благодаря периодически
возникающим ситуациям кризиса, когда каналы перестают
удовлетворять коммуникационным потребностям отдельных
индивидов и общества в целом. Вследствие этого возникает не-
обходимость изменения типа коммуникации и соответствую-
щего ему культурного пространства.
Для первого периода развития культуры, определенного
М. Маклюэном как устный период, характерно восприятие че-
ловеком мира преимущественно аудиально и тактильно. Слу-
ховое пространство в примитивном обществе представляет со-
бой всеобщее поле симультанных отношений, т.е. одновремен-
ное восприятие окружающей реальности с помощью всех орга-
нов чувств. Акцент остается на слуховом восприятии, что под-
черкивается М. Маклюэном и Карпентером в понятии «акусти-
ческого пространства». Данный тип пространства организуется
преимущественно благодаря устному слову. Слово имеет опре-
деленную магическую власть над мышлением и поведением
людей, неизбежно влияет на человека. В бесписьменном обще-
стве господствует представление о том, что слово есть живая,
звуковая, активная природная сила, которая играет основопо-
лагающую роль в ритуале и магии. Живя в мире звука, прямо
и непосредственно обращенного к слушателю, человек вклады-
вает в него элемент личной эмоциональной обращенности. Для
М. Маклюэна мир ушей – это гиперэстетичный, горячий, эмо-
циональный, наполненный мир. «Устное слово драматически
захватывает все человеческие чувства, тогда как высоко гра-
мотные люди склонны говорить как можно более связно и буд-
нично. Чувственное вовлечение, естественное для культур,
в которых письменность не является преобладающей формой
опыта...»3. Звуки в акустическом пространстве представляют
собой определенные «динамические вещи» или «индикаторы
динамических вещей». Любое движение, событие, действие со-
провождается индикаторами подобного рода, благодаря кото-
рым человек ориентируется в реальности. Для представителя
3 Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / Пер. с англ.
В.Николаева. – М.; Жуковский: «Канон-пресс-Центр», «Кучково поле»,
2003. – С. 87.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
115
бесписьменных культур характерно доверительное отношение
не к сфере видимого, а скорее, наоборот, к сфере того, что слы-
шится и провозглашается, что порождает эффект «включенно-
сти» индивида в устное пространство, где одновременно могут
происходить десятки событий, сопровождающихся своими зву-
ковыми индикаторами.
В устном пространстве социума сохранение идей и тра-
диций опирается на живую память людей, а потому много вре-
мени и умственной энергии тратится на запоминание и частое
повторение. Индивидуальные способы выражения, новые идеи
и сложные структуры доказательств занимают незначительное
место в таких культурах по причине трудности их запоминания
(даже для того, кто их выдвинул) и потому, что их практически
невозможно передать значительному количеству людей.
Структура и объем памяти человека той эпохи радикально от-
личается от памяти членов общества, в котором письменность
доминирует. Точность и упорядоченность материала, стремле-
ние избежать противоречий и алогизмов – это характерные
признаки письменной культуры. Информация и знания, хра-
нившиеся только в человеческой памяти, не были зафиксирова-
ны в письменном виде и отчуждены от сознания, а поэтому
продолжают подвергаться постоянной переработке.
Письменное пространство представляет собой, по наше-
му мнению, переходный тип, который в течение веков демон-
стрировал, что визуальность еще не до конца отделилась от
тактильности, хотя значительно уменьшила влияние слуха на
организацию мышления человека. Работа с рукописными тек-
стами была слишком медленной и прерывистой, не могла обес-
печить фиксированной точкой зрения отвлеченного наблюда-
теля. Огромный переворот в культуре, по мнению Маклюэна,
осуществило изобретение печатного станка, отдельные компо-
ненты которого были известны ранее, но все вместе совершили
настоящую революцию мышления и образа коммуникации. Пе-
чатная культура осуществляет крупномасштабное влияние на
политические, экономические, социальные, культурные сферы
деятельности человека и общества. Письменная культура пре-
вратилась в книжную, реализовав, таким образом, свои внут-
ренние возможности, а мир превратился в «галактику Гуттен-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
116
берга», в которой господствующая визуальность приводит
к расщеплению личности и фрагментации человеческой психи-
ки.
Психологический тип, сформированный печатной техно-
логией, М. Маклюэн называет «типографским человеком», ко-
торый «однообразным для всех образом научен быть индиви-
дуальностью». Книга, которая тиражировалась и стала обще-
доступной, позволила людям преодолеть культурные и истори-
ческие границы, стала главным аппаратом в образовании
и науке и, наконец, стала критерием, обусловливающим уро-
вень интеллектуального развития индивида. Печатное про-
странство в отличие от устного и письменного пространства
наделено гомогенностью, однородностью и воспроизводимо-
стью, поскольку «печатный текст был не только первой, массо-
во воспроизводимой вещью, но и первым однотипным воспро-
изводимым товаром»4. Общество с изобретением печатного
станка вступило в первый период эпохи потребления. Подарен-
ный человеку принцип систематической линейности стал осно-
вой для организации всех других видов деятельности, прежде
всего, экономической и культурной. Печатным текстом пред-
ставление о гомогенности и воспроизводимости экстраполиро-
валось на другие сферы деятельности. По аналогии с линейным
печатным текстом появлялись представления о линейности,
выраженные по-разному, например, в линейности соображе-
ний, причинно-следственной связи событий, в идее прогресса.
Начинает преобладать аналитическое мышление, основанное
на том, что любое многообразие может быть представлено ог-
раниченным количеством базовых элементов в различных ком-
бинациях по аналогии с печатными текстами, которые состав-
лены из ограниченного набора букв алфавита. Основными чер-
тами такого мышления являются непрерывность, единообразие
и повторяемость. Девизом становится «Место для всего и все
на своем месте». Наиболее ярко все эти черты проявлялись
в научном мышлении с его акцентом на анализ и строгую клас-
сификацию явлений. От одновременного мира звука письмен-
4 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной культу-
ры / М.Маклюэн. – Киев: Ника-Центр, 2003. – С. 187.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
117
ные культуры движутся к лозунгам «одно дело в одно время»
и «одна после второй». Мышление образованного грамотного
человека отходит от ощущения жизни как повторяющейся по-
следовательности природных циклов и продвигает образ по-
стоянных линейных изменений и улучшений. Печатное про-
странство формирует фиксированную позицию читателя, так
называемую «точку зрения», как способ изложения знания, ко-
торое стало основой сегментации и гомогенизации культуры.
На раннем этапе развития книгопечатания, когда оно представ-
ляло оппозицию рукописной культуре, были некоторые взаи-
модействия между различными сферами знания и дисциплина-
ми. Но когда рукописная культура прекратила свое существо-
вание и перешла в разряд сопровождающих образовательных
технологий, а книгопечатание достигло монопольной власти,
умер также и диалог, несмотря на существование различных
«точек зрения».
В рамках книжной культуры и соответствующего ей пе-
чатного пространства проявляется тенденция, связанная со
ссылкой индивидуализма и роли личности в социальной
и культурной жизни общества. Присущая тексту ценностно-
ориентационная функция стала использоваться для достижения
социально-прагматических целей. Печатная книга стала оруди-
ем светского просвещения, власть стала использовать книгу
для пропаганды своих идей и привлечения сторонников. В ре-
зультате массового воспроизведения ценностей культурного
меньшинства происходит демократизация в сфере культуры.
С другой стороны, происходит формализация человеческих от-
ношений, поскольку коммуникация между людьми осуществ-
ляется уже не только лицом к лицу, но, в основном, с помощью
печатного текста. В процессе роста массового производства пе-
чатной продукции происходит постепенное поглощение лично-
сти своим частным жизненным пространством, что неизбежно
ведет к отчуждению человека.
Третий этап эволюции культурного пространства опира-
ется на появление новых способов коммуникации и передачи
информации на расстоянии. Происходит развитие «новой элек-
тронной технологии» и создание «электронного пространства».
Благодаря открытию электромагнитных волн и появлению та-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
118
ких средств распространения информации, как телеграф, ра-
дио, телевидение, общество снова вступает в слуховое беспись-
менное пространство, представляющее собой «всеобщее поле
симультанных отношений». Эти тенденции возникают не
в мыслях и точках зрения людей, которые постоянно, еще со
времен Декарта, подвергают все критической рефлексии, а воз-
действуют через повседневную жизнь, где формируются и про-
являются основные типы мышления и поведения. Современная
эпоха проявляет беспрецедентный интерес ко всему, что связа-
но с примитивной культурой, характеризующейся одновремен-
ностью человеческих действий, благодаря чему человеческий
род теперь существует в условиях «глобальной деревни»5. Это
не только констатация того, что уже произошло, но и того, что
все время происходит, наращивая скорость. Иначе говоря, по
мере информатизации общества понятие «глобальная деревня»
все больше соответствует его природе.
Конечно, сейчас ни у кого не возникает сомнений, что
компьютер по сравнению с телевидением предоставляет воз-
можность более интеллектуальной коммуникации, развивает
элементарную грамотность и учит работать с текстовым мате-
риалом, то есть, так или иначе выводит на передний план вер-
бальный печатный текст. Но, вместе с тем, коренным образом
меняется способ построения текстового пространства – проис-
ходит изменение одномерного текста в многомерный электрон-
ный гипертекст. Именно эта качественная трансформация са-
мой природы текста указывает на вхождение в посткнижное
пространство – текст более не может мыслиться исключитель-
но в качестве линейно выстроенного, имеющего определенную
направленность, структуру и границы, то есть он перестает со-
ответствовать принципам, наложенным как станком Гутенбер-
га, так и мировоззрением книжной культуры и индустриально-
го общества. В современную эпоху электроника создает усло-
вия в высшей степени тесной взаимосвязи в глобальном мас-
штабе, человек стремительно возвращается в аудиальный мир
одновременных событий и всеобщего сознания. Тем не менее,
5 Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: сотворение человека печатной куль-
туры / М.Маклюэн. – Киев: Ника-Центр, 2003. – С. 47.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
119
навыки грамотности сохраняются в нашем языке, в нашей чув-
ственности, в организации пространства и времени нашей по-
вседневной жизни. М. Маклюэн считает, что без кардинально-
го изменения, например, глобального катаклизма, письмен-
ность и визуальные привычки могут еще долго существовать
и сопротивляться электроэнергии и созданию «единого поля».
Появление радио и электроэнергии для всех аудиальных куль-
тур было знаменательным событием, в то время как культуры
с долгим письменным прошлым сопротивлялись слуховой
культуре всеобщего «электрического поля».
Пространство посткнижной культуры, по нашему мне-
нию, находится в процессе активного и динамического форми-
рования базисных структурных компонентов. Оно начинает
формировать собственные специфические смыслы и одновре-
менно ценности, характерные для новоевропейской и христи-
анской печатной культуры. Новые коммуникативные средства
в настоящее время дополняют книжную культуру, но не заме-
няют ее. Пока что не существует достаточно серьезных пред-
посылок для преодоления традиций, связанных с печатным
текстом и ценностными и смыслообразующими доминантами,
поскольку сознание современного человека все еще нераздель-
но связано с печатным текстом как базисом не только для по-
лучения информации, но и для формирования духовной плат-
формы для генезиса личности и ее способности распознавать,
оценивать и выбирать различные явления жизненного и куль-
турного характера. В данном аспекте проявляется «агонистиче-
ский» характер культурного пространства, которое постоянно
находится в состоянии борьбы, в данном случае борьбы, про-
исходящей между средствами коммуникации пространства пе-
чатной культуры.
Таким образом, историческая эволюция культурного
пространства и эволюция социальных коммуникаций очень
тесно взаимосвязаны, а в рамках коммуникационного подхода
практически совпадают, поскольку коммуникация есть органи-
ческая часть культуры. Следует отметить, что стадии измене-
ния типов коммуникации совпадают со стадиями духа культур-
ного пространства. Различают три исторических типа культур-
ного пространства: вербальное, печатное, посткнижное. Пере-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
120
ходным в данном контексте является письменное пространст-
во, поскольку оно синтезирует черты, характерные для устной
и книжной культуры. Изменение типа коммуникации и соот-
ветственно культурного пространства носит антагонистиче-
ский характер, поскольку в нем часто видятся не только поло-
жительные, но и негативные тенденции, которые влияют как на
социум, так и на личность. Появление письменности разруши-
ло баланс между индивидуальной памятью и общественным
знанием. Печатная технология десакрализовала письменный
текст, породила массовое производство культурных ценностей,
индивидуализацию, национализм и отчуждения личности от
социальных структур. В отношении посткнижной культуры
пессимистические настроения выражаются в возможности по-
тери человеком смысложизненных ориентаций, которые вопло-
щаются в книге. Под воздействием новых информационных
технологий происходит формирование нового текстового про-
странства. Сегодня посредством сети Интернет осуществляется
обратный переход от имиджевого к вербальному восприятию
информации. Если телевидение, ориентирующее на зритель-
ный образ, ведёт, в конечном счете, к упадку грамотности, то
компьютер так или иначе предполагает работу с печатным тек-
стом, возвращая людей в мир письменной коммуникации.
POST-BOOK CULTURE IN CONTEMPORARY
COMMUNICATIVE PROCESSES
The article deals with the features of the post literary space; it is noted the mo-
difying of accent of modern perception in the light of visualization which is prece-
ded by objective expression, unity and succession in the art, poetry and the like. It
is proved that the post literary space culture form specific meanings, original valu-
es and acquire new features.
Key words: space; post literary culture; printing space.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Карпец Любовь Анатольевна, кан-
дидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой украинского
и иностранных языков.
Харьковская государственная акаде-
мия физической культуры (Украина,
г. Харьков).
Область научных интересов: фило-
софия образования.
ABOUT THE AUTHOR
Karpec Lyubov, PhD in Philology, head of the Faculty
of Ukrainian and Foreign Languages,
Kharkiv State Academy of Physical
Culture (Ukraine, Kharkiv).
Scientific interests: philosophy of edu-
cation.
e-mail:[email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
121
Домнич Светлана
Социокультурная коммуникация
в неклассической парадигме:
философско-антропологические аспекты
В статье рассматриваются философско-антропологические аспекты со-
циокультурной коммуникации в неклассической парадигме, а также новое
философское понимание социокультурной коммуникации, обусловленное
коммуникативным поворотом в современном гуманитарном знании, расши-
ряющимся полем социокультурной коммуникации и глобальными процесса-
ми, которые невозможны без философского осмысления её моделей.
Ключевые слова: социокультурная коммуникация; неклассическая пара-
дигма; герменевтические концепции; философско-антропологические аспек-
ты; диалог культур.
В ХХI веке обсуждение проблематики социокультурной
коммуникации занимает центральное место в современной со-
циальной, политической и культурной жизни, включая научное
знание. Потребность в исследовании социокультурной комму-
никации с каждым годом возрастает в условиях трансформа-
ции современного украинского общества, которое стремится
к формированию своей социокультурной идентичности и соб-
ственной системы социальной организации. Это связано с тем,
что в украинском обществе происходят интегративные процес-
сы, возникает конгломерат различных по истории, традициям,
языку и религии культурных социумов, которые развиваются,
взаимодействуют и влияют друг на друга, т.е. имеют место
процессы межкультурной коммуникации.
Данная проблематика нашла своё отражение в исследо-
ваниях таких зарубежных исследователей, как М. Хайдеггер,
Х.-Г. Гадамер, Н. Луман, Ю. Хабермас, М.М. Бахтин, М. Бу-
бер, В.С. Библер, М. Мак-Люэн, А. Крёбер, Б.В. Марков,
Ф.И. Шарков, М.А. Василик, И.М. Быховская, А.Я. Флиер,
Ю.И. Мирошников, А.В. Назарчук и др.
В украинской философской мысли проблемы социокуль-
турной коммуникации нашли своё отражение в монографиче-
ских работах Л.А. Ситниченко, Д.И. Руденко, А.М. Ермоленко,
А. Карася, С.А. Заветного, Я. Любимого и др., а также в иссле-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
122
довательских работах Л.А. Усановой, И.В. Усанова, А.А. Цви-
бель, А.Ю. Бобловского, М.И. Бойченко, А.А. Машталер,
В.Г. Табачковского, А.М. Грекова, А.П. Артеменко, Н.В. Попо-
вой, Е. Быстрицкого и др.
Значительное внимание проблемам социокультурной
коммуникации уделено в работах Ю.И. Мирошникова. Ученый
справедливо отмечает, что «комммуникация обратила на себя
внимание философов сравнительно недавно в связи с кризисом
классического рационализма, заложенного еще в античной фи-
лософии и непрерывно развиваемого в европейской культуре
вплоть до периода немецкой классической философии. Конец
классической философии, обозначившийся в первой половине
ХIХ века, отразил нарастающее сомнение философов в само-
достаточности того, что они делали до сих пор. … Цена чистых
истин резко понизилась, их было слишком много. … они были
далеки от жизни, от интересов большинства, занятого практи-
ческими делами, а не теоретическими измышлениями. Филосо-
фы не могли не заметить этого нового контекста существова-
ния философии, не могли не откликнуться на призыв быть бли-
же к простому человеку»6.
Актуальность темы обусловлена коммуникативным по-
воротом в современном гуманитарном знании, расширяющим-
ся полем социокультурной коммуникации и глобальными про-
цессами, которые невозможны без самой социокультурной
коммуникации.
Целью статьи является рассмотрение социокультурной
коммуникации в философско-антропологическом измерении.
Понятие «социокультурная коммуникация», как и поня-
тия «коммуникация» и «социальная коммуникация», не имеет
единого определения в связи с тем, что существуют его множе-
ственные интерпретации, которые основаны на различных ме-
тодологических парадигмах.
Чаще всего понятие «социокультурная коммуникация»
определяется как совокупность средств передачи социальной
6 Мирошников Ю.И. Социокультурный смысл коммуникации. Текст // Науч-
ный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Рос-
сийской академии наук. Екатеринбург: ИФиПУрОРАН, 2002. – Вып. 3. –
С. 29–54.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
123
информации, которые образуют базу для становления и разви-
тия «информационного общества» (технократически рациона-
листический подход), или как способ достижения понимания
одного человека другим, т.е. как механизм «вживания», «вчув-
ствования» (феноменологическая интерпретация)7.
Как отмечают культурологи, понятие «социальная ком-
муникация» приобретает новый смысл: «поскольку коммуни-
кативные процессы осуществляются в контексте определенной
культуры и являются внутренним механизмом её реализации,
то принято говорить о социокультурной коммуникации. Имен-
но она обеспечивает саму возможность формирования соци-
альных связей, управления совместной жизнедеятельностью
людей, накопления и передачи социального опыта, понимания
между людьми»8.
Альфред Крёбер, автор книги «Конфигурации развития
культуры», фрагменты которой были впервые опубликованы
на русском языке в 1997 году (перевод В.Г. Николаева), дает
такое определение данному понятию: «социокультурная ком-
муникация – совокупность процессов социального взаимодей-
ствия, в ходе которого происходит обмен информацией по-
средством принятых в данной культуре знаковых систем
и средств их использования»9. Это определение является со-
звучным тому, которое представлено в книге «Культурология.
ХХ век. Энциклопедия»: «социокультурная коммуникация –
процесс взаимодействия между субъектами социокультурной
деятельности (индивидами, группами, организациями и т. п.)
с целью передачи и обмена информацией посредством приня-
тых в данной культуре знаковых систем (языков), приёмов
и средств их использования» (И.М. Быховская, А.Я. Флиер)10
.
На наш взгляд, данная дефиниция более точно определяет спе-
7Высшая школа культурологии – Культурологический словарь. – www.gu-
mer.info 8 Культурология.– Курск: Региональный финансово-экономический инсти-
тут, 2010. – С. 108. 9 Крёбер Альфред. Конфигурации развития культуры. – Санкт-Петербург,
1997. – 724 с. 10 Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 1. – СПб.: Университетская кни-
га; ООО «Алетейя», 1998. – 447 с.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
124
цифику социокультурной коммуникации, поскольку отражает
момент межкультурного взаимодействия между субъектами
социокультурной деятельности с целью передачи и обмена ин-
формацией посредством принятых в данной культуре знаковых
систем.
В научной литературе отмечено, что социокультурная
коммуникация – это явление системного порядка, включаю-
щее: субъектов культуры (отдельные индивиды, группы лю-
дей, организации и т. д.); средства социокультурной коммуни-
кации (вербальные и невербальные средства коммуникации;
носители информации; материальные и духовные ценности
и т.д.); цель социокультурной коммуникации (установление
взаимопонимания, согласование и объединение усилий, реали-
зация социокультурных смыслов, мотивов, стимулов, упорядо-
чение действительности); систему действий социокультурной
коммуникации (извлечение информации, объяснение, сообще-
ние, убеждение, внушение, координация; поиск, обработка, ко-
дирование и т.д.); результат социокультурной коммуникации
(установление договорённости, частичное достижение согла-
шения, осложнение ситуации, разрыв); объектов социокуль-
турной коммуникации (отдельные индивиды, группы, институ-
ты, общество, общности, организации людей и т.д.).
Необходимо также подчеркнуть то, что в системе наблю-
дается наличие двух уровней: горизонтального и вертикально-
го (Аверьянов А.Н.), с помощью горизонтального уровня уста-
навливается специфическая взаимосвязь между элементами
системы 11
, а вертикальный уровень отражает связь элементов
с источником своего существования (информационным, веще-
ственным и др.).
Специфической чертой социокультурной коммуникации
является четкая иерархичность в её структуре, в которой за
каждым элементом (средство коммуницирования) строго за-
креплена определенная функция, выполняющая общую задачу
по передаче культурной информации в специфической форме.
11 Философия общения: монография / В.Г. Кремень, Д.И. Мазоренко, С.А. За-
ветный, С.Н. Пазынич, А.С. Пономарёв. – Харьков, ХНТУСХ им. П. Васи-
ленко, 2011. – С. 19.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
125
К таким основным элементам системы относятся: семантемы
(черты культурных форм определенного объекта, явления или
процесса), сообщение и текст (единицы социокультурной
коммуникации: культурные формы определенного объекта, яв-
ления и процесса), а также специализированная культурно-се-
мантическая подсистема (отрасль знания или деятельности
в её информационном аспекте), локальная культурно-семанти-
ческая система (этническая культура, национальный язык),
глобальная семантическая система (межнациональные спе-
циализированные языки).
Содержание социокультурной коммуникации определя-
ют её виды: 1) инновационная (дает субъектам культуры новые
знания, обучает социальному опыту сообщества или человече-
ства в целом); 2) ориентационная (помогает субъектам культу-
ры ориентироваться в природном и социальном окружающем
пространстве; оказывает помощь субъектам культуры в ин-
культурации их в системе жизненных ценностей, характерных
для данного периода времени и задает критерии оценочных су-
ждений); 3) стимуляционная (воздействует на субъекты куль-
туры, формируя у них стремления к получению новых знаний
с помощью активизации их внутреннего потенциала и ресур-
сов); 4) корреляционная (выступает в качестве помощника,
уточняющего отдельные составляющие культурной деятельно-
сти; обновляет уже имеющиеся знания путем детализации
и конкретизации более частных аспектов знаний, ориентаций
и стимулов). «Собственно культурную специфику эта инфор-
мация приобретает постольку, поскольку регулирует представ-
ления людей об уровне социальной приемлемости тех или
иных способов осуществления любого вида деятельности, ин-
теллектуальных оценок и позиций, чем, в конечном счете,
и определяется функциональная нагрузка этих знаний и пред-
ставлений как инструментов обеспечения социального взаимо-
действия людей» (И.М. Быховская, А.Я. Флиер)12
.
Важно отметить, что сама по себе социокультурная ком-
муникация выступает средством осуществления социокультур-
ного взаимодействия субъектов культуры и их коллективов.
12 Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т. 1 …. – 447 с.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
126
В этом и состоит её основная социальная функция. В связи
с этим правомерно назвать основные характерологические осо-
бенности социокультурной коммуникации: 1) коммуникатив-
ная заинтересованность, выражающаяся в потребности в обще-
нии и реализации целей, замыслов коммуниканта; 2) мотива-
ция и стимулирование коммуникационного социокультурного
взаимодействия; 3) резонансное воздействие социокультурной
информации, проявляющееся в правильной социокультурной
и пространственной организации социокультурного воздейст-
вия; 4) коммуникативная адаптация субъектов социокультур-
ного взаимодействия, которая заключается в правильном вос-
приятии и понимании апперцепционной базы субъектов социо-
культурного взаимодействия; 5) стратегия социокультурного
взаимодействия, основанная на принципах и нормах коммуни-
кативной культуры, что позволяет достичь максимальной эф-
фективности коммуникативного воздействия.
Рассмотрение коммуникационных процессов в период
становления и развития общества осуществлялось с разных
подходов. Поскольку классически-рационалистический подход
базируется на рассмотрении взаимодействия личности и обще-
ства, в такой ситуации происходит приписывание обществу
(социальной группе) типового сознания и поведения, где в ка-
честве так называемых «носителей» уже выступают отдельные
личности, а это уже дает основание рассматривать социокуль-
турную коммуникацию с точки зрения философско-антрополо-
гического подхода, который ориентирован на рассмотрение
субъектов коммуникации.
Опираясь на классическую парадигму, можно осущест-
вить лингвистический анализ знаковой коммуникации с куль-
турно-семантической точки зрения, в которой познание и ком-
муникация рассматриваются в рамках теории речевой деятель-
ности, где познавательный процесс равнозначен речемысли-
тельному, поскольку язык влияет как на мышление, так и на
поведение. Акты общения приравниваются к речевым актам,
а в состав самой речи входят «атомарные» речемыслительные
акты (сообщения). Сам речевой акт, прежде всего, есть целена-
правленное речевое поведение в соответствии с принятыми
правилами. Речевой акт характеризует намеренность как кон-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
127
кретная коммуникативная установка сообщения; целеустрем-
ленность как настойчивое желание осуществить воздействие
на собеседника с помощью экспрессивных средств передачи
и оценки информации; конвенциональность как согласование
с речевыми нормами, принятыми в данном обществе. Отметим,
что речемыслительные акты, в свою очередь, являются куль-
турными текстами, которые несут информацию о собственных
атрибутивных признаках и функциональной нагрузке. В ре-
зультате чего вся культура в целом, каждый её артефакт (как
отдельный элемент) и процесс коммуникативного взаимодей-
ствия выступают в качестве средств социокультурной комму-
никации.
С позиций неклассической парадигмы в новой, изменен-
ной картине мира окружающая действительность получает бо-
лее глубокое осмысление, здесь в фокусе внимания находится
внутренняя целенаправленность, интенциональность знакового
общения, в которой язык выступает в качестве средства обо-
значения предметов, выражения чувств, является неким «кар-
касом» мира, «символической иммунной системой, защищаю-
щей своё от воздействия чужого»13
.
Согласно М. Хайдеггеру «язык есть дом бытия, живя
в котором человек экзистирует, поскольку, оберегая истину
бытия, принадлежит ей»14
. В концепции Хайдеггера язык вы-
ступает в качестве сущностного свойства человеческого бытия.
Именно тотальный характер языка делает его особенно значи-
мым в рамках философской антропологии: «Поскольку мы,
люди, чтобы быть тем, что мы есть, встроены в язык и никогда
не сможем из него выйти, чтобы можно было обозреть его
и как-нибудь со стороны, то в поле нашего зрения существо на-
шего языка оказывается всякий раз лишь в той мере, в которой
мы сами оказываемся в его поле, вверены ему»15
. Таким обра-
зом, отношение М. Хайдеггера к языку включает: рассмотре-
ние языка как активного начала по отношению к носителям
13 Марков Б.В. Человек и язык // Человек. – М., 2011. – № 1. – С. 95. 14 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. – М.: Республика,
1993. – С. 203. 15 Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие. – М.: Республика, 1993. –
С. 272.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
128
языка; рассмотрение языка как всеобъемлющего начала; рас-
смотрение языка как пространства, в котором осуществляется
бытие и открывается истина. Так происходит возрождение по-
нятия герменевтического круга в новом онтологическом смыс-
ле: истолкование текста не через его части, а частей – через це-
лое.
Как человеческое существование с его различными мо-
дусами (мышление, речь, работа и т.д.) представляет собой ус-
ловие открытия истины, так и открытие истины есть условие
осуществления человека. «Разговор о языке должен быть вы-
зван его существом. Как он способен к чему-то подобному, сам
не отдавшись сначала слышанию, сразу достигающему до его
существа? … Носитель вести должен уже исходить из вести.
Он, однако, должен заранее быть уже и близок к ней»16
. Исходя
из этого, М. Хайдеггер использует понятие «коммуникация»
как определенную модель человеческого существования для
прояснения многих вопросов онтологии. Согласно М. Хайдег-
геру, это существование не является только личным делом от-
дельного человека, оно включено в тотальный процесс откры-
тия истины в присутствии глобальной коммуникации между
внимающим человеком и говорящим, вещающим бытием.
Поскольку только с помощью языка возможно понима-
ние, то феномен понимания выступает связующим звеном ме-
жду человеком и миром. Это и вызывает глубокий интерес
к языку, к проблемам смысла и перевода. «Буквы указывают на
звуки, звуки – на душевные переживания, а душевные пережи-
вания указывают на вещи, предметы, которые, так или иначе,
затрагивают нас. Язык (речь, но в особенности письмо) пред-
стаёт «слепком» реальности. Слова относят нас к вещам
и предметам; у означающего всегда есть конкретное означае-
мое» 17
. Превращение человека в субъект познания, обозначе-
ние субъективности приводит к тому, что человек становится
также и субъектом языка.
16 Там же. – С. 268. 17 История философии: Энциклопедия. – Минск: Интерпресссервис; Книж-
ный Дом, 2002. – С. 1228.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
129
Язык, представляющий собой знаковую систему, высту-
пает в качестве средства выражения человеческого мышления.
В этой связи знаковой является интерпретация языка в трактов-
ке Х.-Г. Гадамера: «Мышление всегда движется в колее, прола-
гаемой языком. Языком заданы как возможности мышления,
так и его границы». Далее Гадамер отмечает, что «о том же са-
мом говорит и опыт интерпретации, которая, в свою очередь,
имеет языковой характер»18
. В то же время язык является
и средством общения. Информация, выраженная с помощью
средств языка (как вербальных, так и невербальных) одним че-
ловеком, усваивается другим, в результате чего происходит
процесс понимания, возникающий в ходе коммуникативного
процесса в диалоге. А диалог, как известно, является важней-
шей составляющей языкового общения (мышления и понима-
ния).
Большое значение для теории коммуникации приобрела
система категорий, разработанная герменевтикой, поскольку
такие категории, как «понимание» и «интерпретация» и сейчас
получают многочисленные неоднозначные философские тол-
кования. Под пониманием имеют в виду поиск смысла или зна-
чения чего-либо, под интерпретацией – истолкование текстов,
которое раскрывает их смысловое содержание, что, на наш
взгляд, является особенно важным при рассмотрении именно
социокультурных текстов.
Основатель современной философской герменевтики Х.-
Г. Гадамер определял понимание как способ существования
познающего и оценивающего субъекта, в основе которого ле-
жат «опыт жизни», «опыт истории» и «опыт искусства»19
.
Главные составляющие опыта формируются через язык, благо-
даря которому человек ориентируется в мире. В качестве зна-
чимой категории, связанной с проблемой языка, для Х.-Г. Гада-
мера выступает категория «предпонимание», включающая со-
вокупность «предрассудков», «предсуждений», «предмнений»,
«предвосхищений», которые определяются традицией «гори-
18 Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного: Пер с нем. – М.: Искусство,
1991. – С. 24. 19 Владимирова Т.Е. Призванные в общение: Русский дискурс в межкультур-
ной коммуникации. – М.: КомКнига, 2007. – С. 138.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
130
зонт пониманий», тогда как язык выступает в качестве струк-
турного элемента культурного целого. С точки зрения Х.-Г. Га-
дамера язык есть мир, который окружает человека, без языка
невозможны ни жизнь, ни сознание, ни мышление, ни чувства,
ни общество, ни история и т.д. Все, что связано с человеком,
находит свое отражение в языке. Х.-Г. Гадамер продолжил раз-
вивать идеи о коммуникации, высказанные М. Хайдеггером.
Язык – способ бытия человека, его сущностное свойство, кото-
рое выступает в роли условия познавательной деятельности че-
ловека. «Таким образом, понимание из модуса познания пре-
вращается в модус бытия. Принципом и источником действи-
тельного понимания и взаимопонимания является диалог, раз-
говор, коммуникация»20
.
Х.-Г. Гадамер говорит не об истине, которая открывается
в языке, а о диалоге, как об «уззрении некой сути дела», кото-
рый и становится условием понимания: «Понять означает, пре-
жде всего, понять само дело и лишь во вторую очередь – выде-
лить и понять чужое мнение в качестве такового. Наипервей-
шим из всех герменевтических условий остается, таким обра-
зом, предпонимание, вырастающее из нашей обращенности
к тому же делу»21
. По мнению Х.-Г. Гадамера, язык предстает
перед нами как уже общий язык, это язык взаимопонимания
и диалога. «Язык всегда является языком диалога. Никто не
может сознавать того, что язык, на котором люди говорят
с давних пор, уже осуществил подготовительную работу их
собственного мышления» 22
. Язык взаимопонимания возможен
благодаря «истине общего дела», поэтому структура процесса
понимания такова: понимаемый текст не рассматривается как
продукт индивидуальной речевой деятельности, но выступает
как общее во множестве частных ситуаций понимания (пони-
мание, истолкование, применение). Понимание – операция по
переводу текста во внутреннюю речь интерпретатора, приме-
20 Основы теории коммуникации [под ред. проф. М.А. Василика]. М.: Гарда-
рики, 2003. – С. 83. 21 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М.:
Прогресс, 1988. – С. 349. 22 Гадамер Х.-Г. Деконструкция и герменевтика // Герменевтика и деконст-
рукция. – СПб., 1999. – С. 215.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
131
нение – операция по переводу текста на язык наличной ситуа-
ции, а истолкование – операция по переводу текста на язык,
объединяющий речь текста, ситуации и самого интерпретатора.
Такая концепция является аналогичной общелингвистической
концепции отношения знака и значения, поэтому можно ска-
зать, что «язык» – это знак «истины», а значит значения.
«Наша способность к языку не исчерпывается соблюде-
нием правил логики и грамматики, – справедливо утверждает
Б.В. Марков, – а предполагает чувствительность к тончайшим
оттенкам смысла»23
. Поэтому правомерно говорить о том, что
речевая коммуникация представляет собой не только общение
с помощью звуков, мимики, жестов, но и «вместе с тем, … вер-
бальное общение. … Таким образом, в ходе развития культуры
формируется понятийная речь, в которой уже не тональность,
а значение слов становится ещё более важным»24
. Поэтому
«язык» понимания соотносится с языковой семантикой, то есть
со значениями слов и синтаксических конструкций, которые
ассоциируются с определенными выражениями у всякого носи-
теля данного языка. «Язык» применения – это референциаль-
ные индексы, которые позволяют слушающему определить,
имеет ли говорящий в виду некоторое реальное положение ве-
щей или рассуждает в отвлечении от такового (здесь важна фи-
гура коммуникатора, т. е. автора). А «язык» истолкования – это
абстрагированное представление базовой семантической
структуры, являющейся инвариантной для множества выраже-
ний, объединенных по определенному признаку выражения
данной структуры. Отметим, что эта структура дает возмож-
ность применения как для выражения при помощи семантиче-
ских средств естественного языка, так и для применения этой
структуры к единичной ситуации или множеству аналогичных
ситуаций.
Однако следует особо отметить, что Г.-Х. Гадамер не
принимает «техницистского», «формального» подхода к пере-
воду сообщений. По его мысли, «опыт постижения истины»
намного выше того, что контролируется научной методикой,
23 Марков Б.В. Человек и язык…, с. 96–97. 24 Там же.– С. 98.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
132
поскольку проблема понимания возникает в ненаучных тек-
стах, а в повседневной жизни, в искусстве, литературе. В связи
с этим он обращается к таким способам, которые есть в фило-
софии, искусстве, истории.
Проблема понимания у Г.-Х. Гадамера связана, прежде
всего, с интерпретацией и с жизненным опытом («возвышен-
ность опыта»), что дает возможность осмысления этого опыта
для постижения истины, а истина, в свою очередь, включает
как объективное содержание знания, так и субъективный опыт
переживания. Именно возможность понимания является «осно-
вополагающим оснащением человека» (Гадамер Г.-Х.) в его
жизни с другими людьми, в общении с Другим. «По Гадамеру,
понимание означает в первую очередь не идентификацию,
а способность поставить себя на место Другого и рассмотреть
оттуда себя самого»25
. Данный тезис интересен для исследова-
ния социокультурной коммуникации и речевых практик в меж-
культурном взаимодействии, поскольку он затрагивает аспекты
понимания реципиентом одной культуры текстов, созданных
в рамках другой культуры. А культура – это сложная система,
охватывающая некоторую конкретно-историческую организа-
ционную структуру, которая объединяет в неделимое целое ка-
кую-то группу людей, где происходит общение, так как люди
являются не безличными элементами системы, а инициативны-
ми существами (чем выше уровень культуры, тем интереснее
и значимее становятся интерпретационные речевые практики).
В процессе межличностной речевой коммуникации происходит
социальное взаимодействие, диалог, поскольку человек выска-
зывает суждения и воспринимает слова, которые были озвуче-
ны другими людьми.
«Общество и культура создают социокультурные миры,
точнее социокультурные системы – общества, включенные
в тесную сеть контактов и взаимодействий, строящие полный
противоречий, но единый человеческий мир, раскрывающие
разнообразие человеческой деятельности» 26
. А источником
25 Коткавирта Ю. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера // Герменевтика
и деконструкция. – СПб., 1999. – С. 51. 26 Греков А.М. Системность социокультурных факторов и их функции //
Практична філософія. – К., 2010 (№ 37). – № 3. – С. 117.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
133
жизнеспособности и условием самодостаточности этого соци-
ального организма – человеческого мира – выступает социо-
культурная коммуникация.
Социокультурная коммуникация как социальное взаимо-
действие, что уже отмечалось нами ранее, не может существо-
вать сама по себе, без общества и вне культуры этого общест-
ва, поскольку сама социальная реальность определяется фак-
том коммуникации, где коммуникативные процессы, осуществ-
ляемые в контексте определенной культуры, выступают в каче-
стве внутреннего механизма её реализации. Коммуникация –
социально обусловленный процесс, ибо он осуществляется
в конкретно-исторических формах, а общение представителей
различных социальных групп всегда имеет свои специфиче-
ские черты. В то же время из факта общения, связи, коммуни-
кации формируется социальность.
Таким образом, именно социокультурная коммуникация
оказывает помощь в формировании социальных связей,
в управлении совместной жизнедеятельностью людей, в накоп-
лении и передаче социального опыта, в понимании между
людьми, а также в сохранении традиций и культурного опыта.
На разработку антропологической позиции целостности
большое влияние оказала герменевтика благодаря феноменоло-
гической, персоналистской и экзистенциальной онтологии, ко-
торая сформировалась из-за противостояния классической фи-
лософии с ее субъект-объектной дихотомией. Результатом ис-
следования межличностного дискурса стало введение понятия
«жизненного мира» (Э. Гуссерль) как целостности, которая бы-
ла предпослана субъект-объектному членению, где человеку
предстоит обрести «органическое мировоззрение» (Н. Лос-
ский). В рамках этого направления было разработано понима-
ние личности как «экзистенции, открывающейся в коммуника-
ции» (К. Ясперс), как трансцендентального «Я» и «бытия в ми-
ре» (М. Хайдеггер). Впервые личностное общение было опре-
делено как высшая цель и назначение человеческого существо-
вания: каждый индивид «имеет цель в себе и в то же время во
всех» (Э. Левинас).
С интерсубъективным понятием дискурса связано имя
немецкого философа и социолога Ю. Хабермаса, идеи которо-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
134
го на протяжении многих десятилетий ХХ века находились
в центре внимания философской дискуссии, связанной с анали-
зом роли, норм и значения коммуникации в современном ему
обществе. Ю. Хабермас пишет: «Дискурс – это та форма обще-
ния, которая не связана с контекстом опыта и деятельности
и структура которой уверяет нас: заключения в скобки, обосно-
ванность утверждений, рекомендаций или предупреждений яв-
ляются особыми предметами дискуссии; участники, темы
и степень активности не ограничиваются, за исключением тех
моментов, которые имеют непосредственное отношение к про-
верке обоснованности обсуждаемых утверждений; нет лучшей
силы, чем обоснованный аргумент, любые другие мотивы, кро-
ме желания совместно доискаться до истины, исключаются»27
.
По мнению философа, для того, чтобы происходило формиро-
вание гражданского общества, необходимо вести разумный
диалог со всеми другими путем развития коммуникативных от-
ношений и рационализации систем массовых коммуникаций.
Концепция, созданная Ю. Хабермасом28
на основе тео-
рии речевых актов, разработанной в философии языка
Дж.Л. Остином и Дж.Р. Серлем, представляет собой «дис-
курс» – «идеальную речевую ситуацию» – особую коммуника-
цию, при которой в процессе критического обсуждения и обос-
нования различных взглядов и действий коммуникантов дости-
гается «интерсубъективное понимание» или взаимопонимание.
Как отмечает А.В. Назарчук, «ключевым в этой концепции ос-
тается связывающий эффект, которым обладает языковая ком-
муникация благодаря своей конвенциональной природе в рам-
ках коммуникативного акта взаимосогласования»29
.
В «Теории коммуникативного действия» Ю. Хабермаса
важнейшим системообразующим элементом является концепт
речевого действия или речевой акт (непосредственное общение
со слушателем). Смысл теории речевых актов раскрыт в словах
Дж. Остина: «Слово как действие», что значит: посредством
27 Habermas J. Legitimation Crisis. – Boston: Beacon Press, 1975. – P. 107–108. 28 Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt a.M.
1981. – P. – 35. 29 Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. – М.: Про-
гресс-Традиция, 2009. – С. 72.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
135
выражений мы не просто передаем сообщения, а совершаем
действия, которые изменяют положение дел во внешнем мире.
Язык встраивается в структуру действия как такового и тем са-
мым приобретает свое место в системе действий социальных.
В социальной коммуникации произнесение слов является само-
достаточным действием, а произнесение выражений – осущест-
влением сложносоставного речевого акта. «Формулируя праг-
матические универсалии, или нормативные требования комму-
никативной правильности, Хабермас реконструирует «идеаль-
ную речевую ситуацию», т.е. ситуацию речевого действия, не
отягощенного никакими иными мотивами, кроме стремления
к взаимопониманию»30
. Взаимопонимание характеризуется как
условие и идеал коммуникативной рациональности. Коммуни-
кативная рациональность с точки зрения формальной прагма-
тики трактуется как совокупность структур, позволяющих
прийти к взаимопониманию. Среди этих формальных структур
можно выделить такие структуры субъекта: структуры дейст-
вия; структуры интерсубъективности; структуры ситуации.
Субъект, по Хабермасу, обладает способностями к языку
и действию. В отношении к субъекту под рациональностью по-
нимается потенциальная возможность субъективности генери-
ровать структуры рациональности. Философ выделяет характе-
ризующие субъекта коммуникативную, когнитивную и телео-
логическую формы рациональности. Ответственность за спо-
собность субъекта приобретать знания в процессе практическо-
го освоения внешнего мира и коммуникативной практики не-
сет когнитивная рациональность; способность субъекта к целе-
направленной деятельности связана с телеологической рацио-
нальностью, а коммуникативная рациональность (разработана
Хабермасом в теории понимания) проявляется в объединяю-
щей силе взаимопонимания речи. Ученый справедливо отмеча-
ет, что «фокус исследования смещается от когнитивно-инстру-
ментальной к коммуникативной рациональности. Для него па-
радигматично не отношение обособленного субъекта к чему-то
в объективном мире, что можно представить и чем можно ма-
нипулировать, а интерсубъективная связь, которую устанавли-
30 Там же.– С. 75.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
136
вают субъекты, обладающие языковой компетентностью
и компетентностью действия, договариваясь о чем-то друг
с другом»31
.
«Теория коммуникативного действия Хабермаса пред-
ставляет собой попытку объяснения социального порядка пу-
тем совмещения двух подходов – понимающего и структурно-
функционального»32
. Для этого Ю. Хабермас вводит понятие
«жизненного мира», адекватное концепции коммуникативного
действия. Именно понятие «жизненного мира» является опре-
деляющим для основания и границ горизонта коммуникации.
Философ считает, что границы горизонта коммуникации фор-
мируют языковые картины мира, которые дают коллективные
представления о действительности. Жизненный мир имеет
и передает предшествующий опыт интерпретативных практик
и культур. Для Ю. Хабермаса «жизненный мир» – это «абсо-
лютно известное знание», имеющее интерсубъективную значи-
мость и обусловливающее возможность беспроблемной комму-
никации между членами языкового сообщества.
«Жизненный мир» – это совокупность интуитивных зна-
ний, социальных норм, ценностей, традиций, которые функ-
ционируют как основание для взаимопонимания между людь-
ми. По мнению Ю. Хабермаса, важно то, что этот рациональ-
ный мир формируется благодаря языковой коммуникации.
«Жизненный мир», являясь источником коммуникации и ра-
ционализации, может существовать только в коммуникативной
среде.
Как утверждает А.В. Назарчук, «коммуникативное дейст-
вие, по Хабермасу, есть ключевой механизм социальной инте-
грации, инструмент, связывающий жизненные миры между со-
бой. Поэтому и осуществлению стратегического действия все-
гда предшествует обращение к жизненному миру как к источ-
нику коммуникативного понимания его участников. … для Ха-
бермаса жизненный мир – область реальных коммуникатив-
ных практик, схожих с «языковыми играми» Витгенштейна.
Хабермас социологизирует понятие жизненного мира, говоря
31 Habermas J. Theorie des kommunikativen…, p. 524. 32 Назарчук.А.В., Указ. соч., с. 87.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
137
скорее о «жизненных мирах», отграниченных друг от друга
и сообщающихся друг с другом каналами живой коммуника-
ции»33
.
Необходимо также отметить, что с точки зрения Ю. Ха-
бермаса «жизненный мир» нельзя трактовать в рамках теории
систем, где происходит социализация индивида, усвоение и пе-
редача культурных ценностей. Культурные процессы необхо-
димо воспроизводить исключительно через коммуникативные,
поскольку связь между участниками этих процессов основана
на взаимопонимании и не может быть функциональной взаи-
мозависимостью. Философ много рассуждает о пространствен-
но-временной и социальной структуре «жизненного мира». Он
считает, что коммуникативные действия происходят в измере-
нии «жизненного мира», включая семантическое поле симво-
лических содержаний, социальное пространство и историче-
ское время.
«Коммуникативное действие представляет собой круго-
вой герменевтический процесс»34
, который включает в себя
культурное воспроизводство, социальную интеграцию и социа-
лизацию и соответствующие им структурные компоненты жиз-
ненного мира: культуру, общество, личность.
Итак, по мнению Ю. Хабермаса, коммуникативная прак-
тика включает в себя коммуникативные действия и дискурсы,
которые были описаны философом в соответствующих теори-
ях: теории речевых актов (реконструкция всеобщих структур
коммуникативного действия для координации социальных дей-
ствий) и теории аргументации (обоснование или «оправдание»
(Хабермас Ю.) выдвигаемых в речи значимых претензий). Це-
лью коммуникативного действия и аргументации или целью
дискурса является достижение соглашения относительно пред-
мета коммуникации: интерсубъективная общность понимания,
разделяемое знание, взаимное доверие и согласие друг с дру-
гом (понимание, истина, правдивость и правильность) по пово-
ду действующих норм. В связи с этим приведем точку зрения
современного украинского ученого А.М. Ермоленко, которую
33 Там же. – С. 88. 34 Там же.– С. 90.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
138
мы разделяем: «Жизненный мир является, так сказать, комму-
никативно-врожденным опытом, и составляет это поле взаим-
ности»35
.
Таким образом, у Ю. Хабермаса речь, которая исследова-
на с помощью теории речевых актов и с учетом феноменологи-
ческой герменевтики, помогает раскрыть три основные пробле-
мы философии: «метатеоретическую» проблему рациональ-
ности вообще; «методологическую» проблему понимания
смысла (затрагивает внутренние отношения между значением
и значимостью языкового выражения); «эмпирическую» про-
блему описания культурно-цивилизационных процессов мо-
дернизации общества. Так устанавливаются отношения между
языком и реальностью; языком, познанием, пониманием и ин-
тересом; языком, коммуникацией и социальным взаимодейст-
вием.
Говоря о социокультурной коммуникации, необходимо
заострить внимание также и на философских размышлениях
о человеке, раскрывающемся в диалогических отношениях
с другими, а именно, на философии диалога, получившей в ХХ
веке широкое распространение.
Диалогическая философия или философия диалога («диа-
логизм») – в отношении Я – Ты – рассматривается как фунда-
ментальная характеристика положения человека в мире. По
мнению М.А. Василика, «диалогическая философия полемиче-
ски заострена против трансцендентальной философии созна-
ния, отправной точкой которой выступает автономное
(и в этом смысле – «монологическое») Я» 36
. Представители
философии диалога обращают внимание на то, что вне этого
отношения человеческий индивид вообще не может сложиться
в качестве «самости». Несмотря на то, что в ХIХ веке к диало-
гизму уже не раз обращались многие философы-мыслители, та-
кие, например, как Л. Фейербах, диалогическая философия
сложилась только в 20-е годы ХХ века. Яркими представителя-
ми ее по праву можно считать М. Бубера, Ф. Розенцвейга,
35 Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. – К.: Лібра, 1999. –
С. 43. 36 Основы теории коммуникации [под ред. проф. М.А. Василика]…, с. 77.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
139
А. Гарнака, Ф. Гогартена, Г. Марселя, Э. Левинаса, М.М. Бах-
тина и многих других.
В работе «Я и Ты» М. Бубер разработал «диалогический
принцип», указывающий на два типа человеческих отношений
с миром: отношения с миром вещей (Я – Оно) и отношения
с другими людьми (Я – Ты). Рассматривая отношения Я – Оно,
философ считает, что человек находится перед миром вещей,
т.е. объектов познания и использования. При рассмотрении от-
ношений Я – Ты мыслитель утверждает, что человек внедряет-
ся в жизнь Я и изменяет ее своим присутствием. В паре Я –
Оно Я является индивидуальностью и достигает осознания се-
бя как субъекта, а в паре Я – Ты Я предстает как личность
и достигает осознания себя как субъективности. В понимании
М. Бубера индивидуальность проявляется тогда, когда отлича-
ется от других индивидуальностей, а личность проявляется по-
стольку, поскольку вступает в связь с другими личностями. Не-
обходимо также отметить, что в другой своей работе «Пробле-
ма человека» М. Бубер пишет: «Рассматривая человека-оди-
ночку, как он есть, видишь человека настолько, насколько мы
видим месяц на ночном небе; образ полного круга составит
лишь человек с человеком. Рассматривая совокупность как та-
ковую, увидишь человека настолько, насколько мы видим
Млечный путь, ибо завершенная форма – это только человек
с человеком. Рассматривая человека с человеком, всякий раз
увидишь динамическую двойственность, которая вместе с тем
есть сущность человека: тут и дающий, и приемлющий, тут
и наступательный порыв, и защитное действие, тут и исследо-
ватель, и его оппонент – и всегда то и другое в одном допол-
няющем обоих и составляющем человека взаимопроникнове-
нии. … Мы приблизимся к ответу на вопрос «что есть чело-
век?» после того, как научимся видеть в нем существо, в чьей
динамической природе и органической способности быть вдво-
ем совершается и опознается встреча Одного и Другого»37
. Та-
ким образом, можно сказать, что «встреча одного с другим», по
М. Буберу, образует диалогику или «бытие человека с челове-
ком», что является особым высшим типом коммуникации.
37 Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. – С. 232.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
140
Важную роль в понимании речевой коммуникации и дис-
курса как «речевого целого» сыграли работы русского филосо-
фа и мыслителя, теоретика европейской культуры и искусства
Михаила Михайловича Бахтина38
.
М.М. Бахтин, основатель всемирно известной диалогиче-
ской школы, придает слову как высказыванию смысл и значе-
ние. М.М. Бахтин пишет: «Оно всегда создает нечто до него
никогда не бывшее, абсолютно новое и неповторимое, притом
всегда имеющее отношение к ценности (к истине, к добру, кра-
соте и т.п.)»39
. Философ считал, что необходимым признаком
любого высказывания, его смыслом является его обращен-
ность, наличие адресата и его завершенность, что приобретает-
ся только лишь в контексте. По мнению Т.Е. Владимировой,
которое мы целиком разделяем, «ученый выявил приемы, с по-
мощью которых говорящий: 1) презентует себя и выражает от-
ношение к адресату, предмету речи, к действительности
и к важнейшим бытийным ценностям; 2) привлекает внимание
слушающего, обращаясь к нему и подчеркивая связь своего вы-
сказывания с актуальными проблемами, а также новизну в ин-
терпретации предмета, о котором идет речь; 3) устанавливает
контакт и обеспечивает ответную реакцию слушающего, спе-
циальным образом режиссируя свое высказывание и включая
в него фрагменты высказываний адресата и/или третьих лиц;
4) выражает оценку результативности высказывания, соотнося
его с замыслом»40
. В таком понимании возникает триада <адре-
сант – нададресат – адресат>, вызывающая интерес, в которой
находит свое выражение целостность межличностной комму-
никации: она выводит речевое общение за пределы простого
обмена информацией, где происходит «тесная связь с внутрен-
ней духовной деятельностью» (В. фон Гумбольдт)41
. Используя
понятие высшего «нададресата», в качестве которого могут вы-
ступать Бог, Абсолютная истина, совесть, народ, суд истории,
наука и т.п., М.М. Бахтин рассматривает его как существенный
38 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – 445 с. 39 Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т. 5. – Работы 1940–1960 гг. – М., 1997. –
С. 330. 40 Владимироа Т.Е., Указ. соч., с. 14. 41 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – С. 69.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
141
признак целого высказывания или речевого общения42
. А это
и есть «русский межличностный дискурс, предпосланный род-
ным языком и отечественной культурной традицией» (Влади-
мирова Т.Е.).
Таким образом, говоря о социальных факторах речевой
коммуникации, представленных в работах М.М. Бахтина, сле-
дует отметить, что философ наряду с данными параметрами
истинности, новизны, событийности, значимости и вырази-
тельности высказывания, представлениями о смене речевых
субъектов и диалоговых установках ввел так называемый прин-
цип взаимности, что и послужило позднее основой для совре-
менного анализа разговорной речи, которая находится под при-
стальным вниманием лингвистов, психологов, культурологов
и философов.
В дальнейшем процесс воздействия социокультурных
факторов на речевую коммуникацию с использованием ситуа-
ционных моделей был продолжен современными учеными
(П. Вундерлих, Ю.Н. Караулов, Н.Д. Арутюнова, В.В. Петров),
которые изучали высказывания, где реализуется установка со-
беседника. Ученые полагали, что благодаря взаимодействию
посредством символов (символьной интеракции) люди переда-
ют друг другу знания, духовные ценности, образцы поведения,
а также управляют действиями друг друга. Мышление также
понималось как оперирование символами. Люди живут в мире
символов, постоянно созидая их и обмениваясь ими с другими
людьми.
Таким образом, взаимодействия между людьми рассмат-
риваются как непрерывный диалог, в процессе которого проис-
ходит наблюдение, осмысление намерений и желаний друг
друга, а затем осуществляется реакция на них.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что
понятие социокультурной коммуникации в философской ан-
тропологии носит универсальный и целостный характер, ком-
муникация в своём детерминированном аспекте включает две
важнейшие причины: социум и культуру в целом. На наш
взгляд, именно в таком измерении происходит прояснение как
42 Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. – Т. 5..., с. 227–228.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
142
самой сущности социокультурной коммуникации, так и от-
дельных её концепций.
SOCIO-CULTURAL COMMUNICATION
IN A NONCLASSICAL PARADIGM:
PHILOSOPHY-ANTHROPOLOGICAL ASPECTS
The paper investigates the philosophy-anthropological aspects of socio-cultural
communication in a nonclassical paradigm ,as well as new philosophical con-
ception of socio-cultural communication determined by communicative changes in
the modern humanitarian knowledge, extending field of socio-cultural communi-
cation and global processes.
The methodological base of research includes the usage of various theoretical
and methodological approaches to investigate socio-cultural communication in
a nonclassical paradigm through philosophy-anthropological parameters.
The results of the work: 1) the concepts of Martin Heidegger, Hans-George
Gadamer, Jurgen Habermas in a context of socio-cultural communication models
are discussed; 2) the potential of hermeneutical concepts in relation to socio-cultu-
ral communication is investigated; 3) the conception of the dialogue of cultures
theory (M. Buber, M. Bakhtin) and its application to intercultural dialogue are spe-
cified.
To conclude, the reference to a problem of socio-cultural communication in
a nonclassical paradigm has some aspects for practical implementation. First, the
analysis of general theoretical and methodological approaches for understanding
a problem of socio-cultural communication helps with the perfection of the
scientific analysis of this area of researches. Secondly, the research results can be
used for improving the theoretical methodological base of researches in social
philosophy, philosophy of the culture, concerning socio-cultural communication
problems, social management, as well as in the area of intercultural cooperation.
Key words: socio-cultural communication; nonclassical paradigm; hermeneuti-
cal concept; philosophical and anthropological aspects; the dialogue of cultures.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Домнич Светлана Павловна, стар-
ший преподаватель.
Центр международного образования
Харьковский национальный универ-
ситет имени В.Н. Каразина (Украи-
на, г. Харьков).
Область научных интересов: социо-
культурная коммуникация, меж-
культурная коммуникация.
ABOUT THE AUTHOR
Domnich Svetlana,
senior lecturer
Center of International Education,
V.N. Karazin Kharkiv National
University (Ukraine, Kharkiv).
Scientific interests: sociocultural com-
munication, cross-cultural communica-
tion.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
143
Alkhimovich Tanya
Baranovskaya Bozhena
Rozwój umiejętności komunikacyjnych
u dzieci dwujęzycznych w nowym środowisku
na podstawie wyników badań dzieci dwujęzycznych
(języki rosyjski – polski)
przeprowadzonych w warszawskich przedszkolach
Artykuł jest poświęcony dwujęzyczności oraz zagadnieniu związanemu
z wpływem tego zjawiska na rozwój umiejętności komunikacyjnych u dzieci
w wieku przedszkolnym. Kluczowy aspekt pracy dotyczy potencjalnego zagroże-
nia, jakie może stwarzać dwujęzyczność w procesie rozwoju jednostki.
Artykuł opiera się na analizie wyników badań przeprowadzonych w wybra-
nych warszawskich przedszkolach wśród dzieci wychowywanych w dwóch języ-
kach: polskim i rosyjskim. Podstawą badań było doświadczenie rodzin wychowu-
jących dwujęzyczne dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Analizie poddano zachowania
dzieci i dorosłych, badane za pomocą różnorodnych metod o charaterze socjologi-
cznym i psychologicznym.
Główne aspekty badawcze skupiały się wokół następujących kwestii: jakie jest
tempo kształtowania się umiejętności komunikacyjnych u dzieci dwujęzycznych
w porównaniu z dziećmi monojęzycznymi; jaki wpływ ma dwujęzycznść na Spo-
łeczny, poznawczy i emocjonalny rozwój jednostki.
Autorki doszły do wniosku, że dwujęzyczność jest raczej zaletą niż wadą
procesu rozwojowego oraz ma znikomy wpływ na pojawienie się różnorodnych
problemów u dziecka.
Słowa kluczowe: rozwój osobowości; umiejętności komunikacyjne; psycho-
logia rozwoju; dwujęzyczność.
Mimo rozpowszechnionej opinii o monojęzyczności, więk-
szość ludzi na świecie jest dwujęzyczna lub nawet wielojęzyczna.
Według danych przytoczonych przez Rodolfo Stavenhagena1 od 5
do 8 tysięcy różnych grup etnicznych zamieszkuje około 160
państw. Co więcej, naukowcy szacują, że istnieje ponad 5000 róż-
nych języków, którymi posługują się mieszkańcy tak małej liczby
państw. Z powyższego wynika, że niewiele jest państw monoet-
nicznych lub monojęzycznych. Poza tym każde z państw świata po-
1 R. Stavenhagen, The ethnic question: Conflicts, development, and human rights,
Tokyo 1990.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
144
siada grupy osób żyjących w jego granicach, ale korzystających
w życiu codziennym z języków innych niż język urzędowy.
Definicje dwujęzyczności i wielojęzyczności
Większość osób słyszących termin „dwujęzyczny” wyobraża
sobie osobę doskonale mówiącą w dwóch językach. Dla nich osoba
„naprawdę dwujęzyczna” to dwóch native speakerów w jednym.
Odnoszą wrażenie, że taka osoba potrafi mówić, rozumieć, czytać
i pisać w dwóch językach na najwyższym poziomie. Jednak dla
niektórych pojęcie „dwujęzyczny” ma całkowicie inne znaczenie.
Za przykład może posłużyć nazywanie dwujęzycznymi dzieci imig-
rantów, które dopiero zaczynają naukę w amerykańskich szkołach.
W takim przypadku omawiany termin stosowany jest w znaczeniu
„słaby, małowykształcony” i odnosi się go do dziecka, które nie
funkcjonuje jeszcze w dwóch językach: jest tylko użytkownikiem
pierwszego języka i wcale nie posiada wiedzy lingwistycznej z zak-
resu drugiego, nowego. Podsumowując, termin „dwujęzyczny” słu-
ży do przekazywania szerokiego pola znaczeniowego, różnie opisy-
wanego przez językoznawców2.
Dwujęzyczność i wielojęzyczność są skomplikowanymi pa-
radygmatami międzydyscyplinarnymi. Jak wynika z samej nazwy,
fenomen dwu- i wielojęzyczności odnosi się do wytwarzania, prze-
twarzania i rozumienia odpowiednio dwóch albo więcej języków.
Niemniej jednak potocznie termin „dwujęzyczny” stosowany jest
jako synonim zarówno dwu- jak i wielojęzyczności3. Mimo faktu,
iż takie stosowanie terminu „dwujęzyczność” jest sprzeczne ze ściś-
le etymologicznymi podstawami, to bardzo rozpowszechnioną
praktyką od momentu powstania tej dziedziny jest stosowanie go
zarówno dla opisu wielojęzyczności, jak i dialektów w tym samym
języku. Zatem w niniejszej pracy pod pojęciem „dwujezyczność”
rozumiana jest zarówno dwu- jak i wielojęzyczność. Warto pod-
2 Por. Guadalupe V., Multilingualism, http://www.linguisticsociety.org/resou-
rce/multilingualism [odczyt 15.12.2013] 3 Por. Bhatia T., Bilingualism and Multilingualism, http://www.oxfordbibliogra-
phies.com/view/document/obo-9780199772810/obo-9780199772810-0056.xml
[odczyt: 15.12 2013]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
145
kreślić, że badanie dwujęzyczności jest obecnie szybko rozwijającą
się dziedziną językoznawstwa, opartą na interdyscyplinarnym po-
dejściu oraz wielości ram koncepcyjnych. Dwujęzyczność w dużej
mierze zawdzięcza swoje pochodzenie językoznawstwu diachro
nicznemu oraz socjolingwistyce, które wiążą się głównie z zagad-
nieniami kontaktów językowych oraz zmian w języku. Jednak
z przyczyn teoretycznych i metodologicznych, przed rewolucją lin-
gwistyczną Noama Chomsky’ego i po niej, dwujęzyczność była
i wciąż jest postrzegana jako problematyczny obszar językoznawst-
wa.
Poza granicami językoznawstwa dwujęzyczność jest ściśle
związana ze środowiskiem imigrantów oraz grupami marginalizo-
wanymi, a także ich problemami ekonomicznymi oraz edukacyjny-
mi. Za przykład może tu posłużyć debata z pierwszej połowy
XX wieku o związkach pomiędzy dwujęzycznością a inteligencją
jednostki. Prekursorska faza badań nad dwujęzycznością w języko-
znawstwie rozpoczęła się w II połowie XX wieku od prac Uriela
Weinreicha, Einara Haugena, Alisona Mackey’a oraz Romana Ja-
kobsona. Od tamtej pory badania na różnych polach dwujęzycznoś-
ci zyskały wymiar interdyscyplinarny.
Wśród głównych obszarów badawczych dwujęzyczności
można wymienić:
przedstawianie i przetwarzanie języków w dwujęzycznym
umyśle;
nauka języka przez dzieci i dorosłych;
dwujęzyczne zaburzenia mowy;
dwujęzyczność i mieszane systemy językowe;
wpływ dwujęzyczności na jednostki i społeczeństwa;
dwujęzyczność a wyzwania edukacyjne;
stopień zagrożenia (np. wymieranie) języków.
Najstarsze opisy dwujęzyczności sięgają do gramatyki san-
skrytu Paniniego oraz do tekstów religijnych (Biblia). O dwuję-
zyczności w kontekście normatywności językowej, kontaktów języ-
kowych i rozprzestrzeniania języków4można także znaleźć wzmian-
4 Ibidem.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
146
ki w językach klasycznych, takich jak grecki i łacina
Wraz z rozwojem myśli lingwistycznej pod koniec XIX wie-
ku dwujęzyczność stała się przedmiotem teorii językoznawstwa.
Wilhelm von Humboldt, Ferdinand de Saussure, Aleksandr Potieb-
nia i inni naukowcy stworzyli językowe i metodologiczne podstawy
badań w kwestii dwujęzyczności. Tak więc można powiedzieć, że
badania naukowe dwujęzyczności ewoluowały od zakresu społecz-
no-historycznego dydaktyki do językoznawstwa, a dwujęzyczność
jako problem językowy charakteryzuje się pewną dynamiką w mo-
delu badawczym5.
Mimo że dwujęzyczność może być klasyfikowana ze wzglę-
du na dobór pary języków, którymi posługuje się osoba, Weinreich
określa trzy rodzaje dwujęzyczności. Podział ten odnosi się do spo-
sobu, w jaki pojęcie o języku może być zakodowane w mózgu oso-
by: dwujęzyczność współrzędna, złożona i podporządkowana6. Ist-
nieją również inne typologie dwujęzyczności. Jedna z nich zawiera
mówi o dwujęzyczności wymuszonej, elitarnej, przyuczonej,
w końcu wywołanej geograficznie lub społecznie7. Istnieje także ty-
pologia, według której występuje dwujęzyczność indywidualna
i społeczna (badana prowadzone przez Joshuę Fishmana). Ponadto
jedna z bardziej interesujących typologii opisuje dwujęzyczność
pionową, poziomą i przekątną. Dodatkowo wyróżnia się także
wczesny i późny bilingwizm8.
Warto wspomnieć również o pojęciu „semilingualizmu”.
Zwykle dwujęzyczna osoba zna przynajmniej jeden język w ca-
łości. Istnieją jednak przypadki, w których komunikacja z poszcze-
gólnymi użytkownikami języka ojczystego jest ograniczona, a po-
ziom integracji komunikatywnej z użytkownikami języka dominu-
jącego w społeczeństwie jest niski. W tej sytuacji dobra znajomość
5 М.Ф. Кондакова, Языковой контакт в ряду других смежных явлений,
http://frgf.utmn.ru/last/No15/text01.htm [odczyt: 7.11.2013] 6 Ibidem. 7http://www.fsc.yorku.ca/york/rsheese/psyc1010/wiki/index.php/Does_bilingualis
m_in_early_childhood_development_affect_various_components_of_intelligence
%3F [odczyt: 5.04.2012] 8 H. Baetens Beardsmore, Bilingualism: Basic Principles, Clevedon 1986, s. 153.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
147
języka ojczystego jest zatracana, a drugi język opanowany jest tyl-
ko w ograniczonym zakresie. Zjawisko to nazywane jest półjęzycz-
nością (ang. semilingualism). Poznanie leksykalnej struktury obu
języków jest w takich przypadkach ograniczone i uproszczone, po-
dobnie dzieje się ze strukturą gramatyczną. Formy specjalne półję-
zyczności tworzone są w okolicznościach, w których dwa języki
pochodzą z tej samej grupy językowej9.
Dwujęzyczność a rozwój jednostki
Według ocen statystycznych, liczba dzieci wychowujących
się w środowisku dwujęzycznym jest zbliżona do liczby jednostek
rosnących w kontakcie z jednym językiem10
. Mimo to dziecięca
dwujęzyczność nie jest postrzegana najlepiej, czasami nawet spoty-
ka się ze sporym sceptycyzmem.
Ze względu na brak wiedzy o tym zjawisku już od wczesne-
go dzieciństwa dwujęzycznego dziecka rodzice, nauczyciele i spe-
cjaliści mogą wyrażać wątpliwości dotyczące jego dwujęzyczności.
Bywa, że spodziewają się negatywnych konsekwencji ucze-
nia się dwóch języków przez dzieci w wieku przedszkolnym. Warto
także podkreślić, że naukowcy stosunkowo niedawno zaczęli wyra-
żać opinie inne niż negatywne na temat osobowości i rozwoju spo-
łecznego dzieci dwujęzycznych11
. Przez dłuższy okres dwujęzycz-
ności zarzucano, że powoduje ona takie problemy, jak zaburzenia
umysłowe i emocjonalne, niedostosowanie społeczne oraz zaniżoną
samoocenę. Nie ma żadnych wątpliwości, że zawsze da się znaleźć
osobę dwujęzyczną oceniającą własną dwujęzyczność jako prob-
lem.
Z badań przeprowadzonych przez Grosjena wynika jednak, iż
większość osób dwu- i wielojęzycznych nie odnajduje żadnych nie-
9 N. Suprunchuk, Encyklopedia dla uczniów i studentów w 12 t. Т. 1: Społeczeńst-
wo informacyjne. XXI wiek, Minsk 2009, s. 111–115 10 Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta, http://rekruta-
cja.langusta.edu.pl/onas.php [odczyt 22.04.2014] 11 Shelter Offshore: Helping Your Children to Adapt to a Bilingual Environment,
http://www.shelteroffshore.com/index.php/living/more/helping-children-adapt-bi-
lingual-environment-10969 [odczyt 13.01.2014]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
148
dogodności w możliwości mówienia w dwóch oraz więcej języ-
kach. Niewątpliwie istnieje wiele korzyści wynikających z bycia
osobą dwujęzyczną. Są jednak także problemy powodowane dwuję-
zycznością. Zatem podstawowe pytania nie powinny ograniczać się
do ,faktu istnienia dzieci dwujęzycznych, które posiadają problemy
w komunikacji z innymi, gdyż wśród osób dwujęzycznych, tak jak
i mówiących w jednym języku, zawsze będą dzieci z takiego rodza-
ju problemami12
. Natomiast pytanie, na którym naszym zdaniem
warto się skupić, brzmi: czy faktycznie dwujęzyczność jest głów-
nym bądź jedynym źródłem takich problemów.
W celu odpowiedzi na powyższe pytanie przeprowadzono
badania, dotyczące problemów i specyfiki zachowań oraz nawyków
komunikacyjnych dzieci dwujęzycznych, które zaczynają edukację
przedszkolną. Najbardziej interesowały nas następujące kwestie:
- w jakim tempie rozwijają się nawyki komunikacyjne
u dzieci dwujęzycznych w porównaniu z rozwojem dzieci funkcjo-
nujących w jednym języku;
- jaki wpływ wywiera dwujęzyczność na rozwój poznawczy,
społeczny i emocjonalny dziecka.
Z własnego doświadczenia jednej z autorek można wywnios-
kować, że na początku procesu adaptacyjnego w środowisku mó-
wiącym w innym języku, takie dzieci charakteryzują się dużą iloś-
cią czasu spędzanego samodzielnie. Nieraz też cechują je przejawy
agresji, które są wskaźnikiem braku możliwości komunikowania się
w poprawny sposób.
Zagadnienia związane z rozwojem mowy były i są badane na
całym świecie, między innymi przez Scherba i Chomsky’ego. Nie-
wiele jest jednak badań, które dotyczą społecznych i psychologicz-
nych aspektów zachowań dzieci dwujęzycznych. Istnieje kilka zna-
nych w tej dziedzinie prac, napisanych przez polskich naukowców,
między innymi Psychologiczne aspekty dwujęzyczności Idy Kurcz,
Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedago-
gicznej Elżbiety Czykwin i Doroty Misiejuk, Dziecko w środowisku
12 Por. C. Baker, S. Prys Jones, Encyclopedia of bilingualism and bilingual educa-
tion, Multilingual Matters 1998.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
149
dwujęzycznym i jego komunikacja międzykulturowa Katarzyny Kai-
nacher. Poza tym Ewa Haman z Uniwersytetu Warszawskiego zaj-
muje się badaniami międzyjęzykowymi i międzykulturowymi13
,
a Uniwersytet Jagielloński posiada Laboratorium psychologii języ-
ka i dwujęzyczności14
. Warte uwagi są też badania pod nazwą
„Dwujęzyczność na wczesnych etapach edukacji w Polsce”, któ-
rych dokonała Małgorzata Rocławska–Daniluk z Uniwersytetu
Gdańskiego. Ponadto można także wspomnieć dzieła Fishmana,
Lamberta, Haugena oraz Hornby’ego15
.
Mówiąc o sferze komunikatywnej, należy pamiętać o istnie-
niu różnych punktów widzenia odnoszących się do tego, jak nie-
mowlęta i dzieci uczą się komunikowania. Istnieje kilka teorii, któ-
re traktujemy w tej pracy jako podstawę pomagającą zrozumieć eta-
py rozwoju dziecka celem wnioskowania o tym, czy dwujęzyczność
wpływa na sferę komunikacyjną, a jeśli tak jest, to w jakim stopniu16
. Są to teorie: George’a Herberta Meada, społeczno-kulturowa
teoria L.Vygotsky’ego, behawioralna teoria Johna Locke'a, która
została opracowana przez Pawłowa oraz teoria Jeana Piagetta, doty-
cząca etapów rozwoju poznawczego dziecka, później opracowana
i poszerzona przez Noama Chomsky’ego17
.
Gdy mowa o teoriach społeczno-kulturowych, podkreśla się
w nich związek między językiem i rozwojem poznawczym. Osoba
uczy się języka ze względu na potrzebę zrozumienia środowiska
i tworzenia interakcji społecznych z innymi18
. Dlatego zadaniem
dorosłego jest dostarczenie kontekstu społecznego, w którym może
13 Wydział Psychologii UW, http://hal.psych.uw.edu.pl/nowyprofil.cgi?pracow-
nik=45 [odczyt: 20.12.2013] 14 Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności LangUsta, http://rekrutacja.-
langusta.edu.pl/onas.php [odczyt: 20.12.2013] 15 Por. C. Baker, A Parents' and Teachers' Guide to Bilingualism, Clevedon 2007. 16 H. Humphrey, Social Interaction Theories, http://www.ehow.com/about_6504822_so-
cial-interaction-theories.html [odczyt: 22.12.2013] 17 A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012, s. 67–106. 18 Dyglosja i dwujęzyczność, http://s0ci0.ru/osnovnye-ponyatiya-sociolingvisti-
ki/74-diglossiya-i-dvuyazychie.html [odczyt: 23.02.2014]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
150
powstać taki rodzaj komunikacji19
.
Zdecydowanie zgadzamy się z teorią interakcji społecznych
ze względu na przykład własnego dziecka jednej z autorek. Przez
kilka miesięcy jedynymi ludźmi, z którymi dziewczynka miała kon-
takt, byli członkowie jej rodziny i kilku rosyjskojęzycznych znajo-
mych. Gdy zaczęła uczęszczać do przedszkola, spotkała wiele osób
dorosłych oraz dzieci w jej wieku, z którymi mogła się komuniko-
wać. Niestety na początku nie wiedziała w jaki sposób to czynić,
wynikiem czego były głębokie frustracje z powodu problemów ję-
zykowych, zanikające jednak powoli wraz z doskonaleniem umie-
jętności językowych. Uważamy zatem, że potrzeba socjalizacji po-
woduje potrzebę komunikowania się, co z kolei prowadzi do zrozu-
mienia przez dziecko świata znajdującego się wokół niego.
Badania dzieci dwujęzycznych
Słowiańska grupa językowa składa się z trzech podgrup:
wschodniej (białoruski, rosyjski, ukraiński), zachodniej (górnołu-
życki, kaszubski, dolnołużycki, połabski, polski, słowacki, czeski)
i południowej (bułgarski, bośniacki, macedoński, serbski, słoweńs-
ki, cerkiewno-słowiański, chorwacki)20
. Zatem język polski i ro-
syjski – jak wynika z powyższego zestawienia – należą do tej samej
grupy językowej. Ponadto kultury narodów słowiańskich mają wie-
le wspólnego. W związku z tym ciekawa wydaje się specyfika ko-
munikacji między dziećmi tych narodów, na przykład między
dziećmi polskimi, rosyjskimi i białoruskimi.
Jesteśmy przekonane, że w celu wyciągnięcia wniosków
o rozwoju umiejętności komunikacyjnych trzeba skupić się na kilku
aspektach. Powinniśmy dowiedzieć się o okolicznościach, w jakich
dziecko zaczyna rozumieć język polski. Ponadto, warto odnotować
moment, w którym dziecko zaczyna się posługiwać nowym języ-
kiem oraz ten, w którym zaczyna się komunikowanie z dziećmi –
nosicielami języka. Naszymi badaniami starałyśmy się objąć takie
19 Kondakova M., Yazikovoj kontakt v ryadu drugih smieznyh yavlenij,
http://frgf.utmn.ru/last/No15/text01.htm [odczyt: 7.11.2013] 20 Suprunchuk N., Encyklopedia dla uczniów i studentów w 12 t. Т. 1: Społeczeń-
stwo informacyjne. XXI wiek / red. Strazev, Minsk 2009, s. 111–115.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
151
zagadnienia, jak tworzenie się kompetencji językowych, specyfikę
poznawczego i emocjonalnego rozwoju dzieci dwujęzycznych oraz
specyfikę adaptacji przedszkolnej. Wydaje się nam bowiem, że roz-
wój umiejętności komunikacyjnych może być badany tylko poprzez
głęboką analizę wyżej wymienionych czynników.
Przeprowadziłyśmy nasze badania w środowisku warszaws-
kim – obecnie znacznie bardziej wielokulturowa wielokulturowym
niż w przeszłości. Coraz więcej imigrantów przenosi się tu na stałe
i przywozi ze sobą swoje rodziny, czego wynikiem staje się ko-
nieczność komunikowania się w świecie przedszkolnym dwuję-
zycznych dzieci z innymi. Imigranci mieszkający w Warszawie
i okolicach mogą wysyłać swoje dzieci do kilku szkół przeznaczo-
nych specjalnie dla nich. Istnieją sieci przedszkoli językowych.
Dwujęzyczne dzieci uczęszczają do przedszkoli prywatnych i pub-
licznych. W Warszawie istnieje około 280 prywatnych przedszkoli,
natomiast liczba publicznych jest dwa razy większa. Okres przed-
szkolny jest znany jako wrażliwy czas rozwoju umiejętności języ-
kowych dziecka. Jak często twierdzą psychologowie, dziecko
w tym wieku jest jak „czysta karta papieru”. Popularne jest stwier-
dzenie, że wiedza nabyta przez dziecko w wieku przedszkolnym
będzie najbardziej skuteczna i zostanie z nim do końca jego życia.
Obiektem naszych badań było 10 rodzin, które wychowują
dzieci w wieku od 3 do 7 lat i jednocześnie mówią w obu językach:
rosyjskim i polskim. Badałyśmy dwujęzyczność współrzędną i zło-
żoną, korzystając z metod socjologicznych i psychologicznych, któ-
re obejmowały: wywiady z rodzicami, w tym gromadzenie danych
wywiadu; rozmowy z nauczycielami w przedszkolach; metody ob-
serwacji, socjometrii (jeżeli było to możliwe w przypadku małych
dzieci). Ponadto stosowałyśmy metodę psychologiczną zwaną ryso-
waniem projekcyjnym. Chcemy podkreślić, że tylko kombinacja
metod socjologicznych i psychologicznych dała nam informacje
potrzebne do analizy i wnioskowania.
Podczas naszych badań planowałyśmy sprawdzić pewne za-
łożenia. Główne z nich opierało się na tym, że dwujęzyczność jest
raczej wyzwaniem, które dziecko pokonuje według jego cech oso-
bowych. Mimo zarzutu, iż dwujęzyczność u dzieci w wieku od 2 do
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
152
4 lat powoduje „przeciążenie poznawcze”, chcemy podkreślić, że
istnieją pewne dowody na to, że problemy takiego rodzaju u dwuję-
zycznych dzieci są jedynie tymczasowe21
. Mimo że dwujęzyczne
dzieci zaczynają mówić później niż jednojęzyczne, zwykle doga-
niają rówieśników, mogą szybko i sprawnie przejść z jednego języ-
ka na inny. To raczej nie cechy osobowe, lecz indywidualne tempo
adaptacji ma wpływ na komunikowanie się.
Z powodu konieczności radzenia sobie z wyzwaniami, dwu-
języczne dzieci szybciej się uczą i są bardziej otwarte na nowe sy-
tuacje. Mówiąc o aspekcie związanym z komunikacją takiego
dziecka oczywisty jest fakt, że dzieciństwo dwujęzyczne ma różne
zalety: korzyści poznawcze i kulturowe oraz zalety dotyczące ko-
munikacji, tolerancji dla innych kultur i języków. Umiejętność
przełączania się z jednego języka na inny pozwala na komunikowa-
nie się z różnymi ludźmi w różnych językach. Mówiąc o zdolności
konwersacyjnego rozumienia dzieci dwujęzycznych udowodniono,
że dwujęzyczność zapewnia zdolności do „doceniania skutecznych
odpowiedzi komunikacyjnych”22
. Mimo istnienia także pewnej licz-
by krytycznych poglądów na temat pozytywnych efektów dwuję-
zyczności, możemy udowodnić że w przypadku umiejętności ko-
munikacyjnych dwujęzyczność jest atutem.
Przez społeczeństwo bilingwizm często jest uważany za coś
nieprawidłowego. Zakładamy jednak, że negatywne przyczyny
dwujęzyczności mogą pojawić się w przypadkach, gdy dziecko nie
jest przyzwyczajone do kultury większości, gdy jest ono odrzucone
przez rówieśników lub gdy pojawiają się uprzedzenia. Dlatego bar-
dzo ważna jest obserwacja otoczenia, przedszkola, w którym dziec-
ko rozwija swoje umiejętności komunikacyjne23
. W rzeczywistości
podejście nauczycieli do takich dzieci też jest warte sprawdzenia.
Ważne, aby dowiedzieć się, czy w takich placówkach stosuje się
indywidualne podejście do dziecka. Zaobserwowałyśmy również,
21 Por. Baker C., Op. cit. 22 http://www.fsc.yorku.ca/york/rsheese/psyc1010/wiki/index.php/Does_bilingua-
lism_in_early_childhood_develop-
ment_affect_various_components_of_intelligence%3F [odczyt: 5.04.2012] 23 Por. Baker C., Op. cit.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
153
w jaki sposób dwujęzyczne osoby były uspołecznione w środo-
wisku przedszkolnym, jak komunikowały się z innymi dziećmi.
Istnieje wiele aspektów, które powinny być oszacowane i za-
obserwowane. Niemniej jednak z naszych badań wynika, że nieza-
leżnie od tego, czy dzieci uczą się jednego, czy dwóch języków jed-
nocześnie, ryzyko znacznych negatywnych skutków społecznych
jest takie samo. Zatem każdy rodzic, któremu kiedykolwiek zdarzy
się możliwość wychowywania dziecka w środowisku dwujęzycz-
nym, powinien z takiej możliwości skorzystać.
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS
OF BILINGUAL CHILDREN IN THE NEW ENVIRONMENT
CONSIDERING THE EXAMPLE OF BILINGUAL (RUSSIAN-POLISH)
CHILDREN IN THE KINDERGARTENS IN WARSAW
The main issue of the article is the following: whether bilingualism is the cause
of various problems in the development of personality and social skills of children.
This article is the result of studies in field of communicative skills of bilingual
children who begin to attend kindergarten. What we are interested in are such
problems as: how quickly these skills are formed in comparison with monolingual
children, what the impact of bilingualism on early socio-cognitive and socio-
emotional development of a child is.
While making our research we studied 10 families who are raising children
between 3 and 7 years and speak both Russian and Polish languages. We studied
Coordinate Bilinguals and Compound Bilinguals and use both sociological and
psychological methods. During our research we observed and estimated various as-
pects and checked various assumptions. We observed how bilinguals were socia-
lized in kindergarten environment, how they communicated with other children.
Our main assumption was that regardless of whether children learn one or two lan-
guages at a time, the risk for significant negative social outcomes is the same.
Thus, according to the results of our research we can claim that our assumption
was true. It’s rather personal characteristics that don’t help to communicate.
We believe this article can be useful for both teachers and parents having
contact with bilingual children.
Key words: development; communicative skills; children; psychology;
bilingualism.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Альхимович Татьяна Юрьевна,
аспирант.
Польская академии наук, институт
экономики (Польша, Варшава).
Область научных интересов: психо-
ABOUT THE AUTHOR
Alkhimovich Tanya,
PhD student, Department of Economy
of the Polish Academy of Sciences
(Poland, Warsaw).
Scientific interests: psycholinguistics,
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
154
лингвистика, детская психология,
психология развития, экономическая
психология.
Барановская Божена Игоревна,
студент.
Варшавский университет, факультет
журналистики и политических наук;
педагогический факультета (Поль-
ша, Варшава).
Область научных интересов: связи
с общественностью, межкультурная
коммуникация, анимационная дея-
тельностью.
child psychology, developmental psy-
chology, economic psychology.
e-mail: [email protected]
Baranovskaya Bozhena,
student, Department of Journalism and
Political Science of the University of
Warsaw (specialization: journalism
and social communication), student of
the Pedagogical Department of the
University of Warsaw (specialization:
social and cultural animation), War-
saw, Poland.
Scientific interests: public relations/
social communication, intercultural
communication, animational activity
public relations.
e-mail: [email protected]
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
155
Czachor Rafał
Дмитрий Тренин, Post-imperium: евразийская история, Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Москва
2012, ss. 326.
Pierwsza dekada XXI stulecia była czasem, gdy świat obser-
wował rosyjskie dążenia do odbudowy utraconej wraz z dezintegra-
cją Związku Radzieckiego pozycji w stosunkach międzynaro-
dowych. Mówiło się o próbach restauracji dawnego potencjału oraz
ambicji powrotu do grona światowych mocarstw. Tymczasem woj-
na sierpniowa w 2008 roku, kryzys syryjski w 2013 roku oraz konf-
likt wokół Krymu i wschodniej Ukrainy w bieżącym roku udowod-
nił, że Rosja jest sprawniejsza i skuteczniejsza niż wydawałoby się
wielu postronnym obserwatorom sytuacji międzynarodowej.
Niejako na marginesie walki z problemami społecznymi i ekono-
micznymi, a także wciąż niezrealizowanego postulatu modernizacji
państwa, Rosja odbudowuje swoją pozycję na arenie światowej.
Jednocześnie niespełnione pozostały nadzieje na jej demokratyzację
oraz porzucenie obecnego w polityce zagranicznej Kremla paradyg-
matu stref wpływu i geopolitycznej rywalizacji. Proces ten dokonał
się na tyle szybko i niespodziewanie, że zasadne staje się pytanie,
czy ogłoszone w końcu 1989 roku przez Michaiła Gorbaczowa
i George’a Busha zakończenie „zimnej wojny” nie było przed-
wczesne.
Fenomen upadku ZSRR i przemian systemowych w postra-
dzieckiej Rosji staje się przedmiotem pogłębionych badań politolo-
gicznych1. Uprawnia ku temu zarówno upływający czas a wraz
z nim pojawienie się młodego pokolenia, które nie pamięta okresu
komunizmu, jak i petryfikacja w Rosji systemu politycznego
o właściwych sobie cechach, określanych mianem „suwerennej de-
mokracji”. Procesowi przemian w rosyjskiej polityce „okresu turbu-
lencji” poświęcona została najnowsza praca Post-imperium: euraz-
jatycka historia autorstwa Dmitrija Trenina, znanego badacza, dy-
rektora moskiewskiego biura Centrum Carnegie, która to książka
1 Szczególnie godna odnotowania jest praca: Д. Фурман, Движение по спирали.
Российская политическая система в ряду других систем, Москва 2010.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
156
została wydana w języku angielskim oraz rosyjskim (w tym drugim
języku przez uznane wydawnictwo Rosyjska Encyklopedia Poli-
tyczna). W potoczystej narracji rosyjski badacz zabiera Czytelnika
w podróż przez minione dwudziestolecie, dzieląc się cennymi ob-
serwacjami na temat zmian w życiu politycznym Rosji, działań na
rzecz odbudowy jej pozycji w środowisku międzynarodowym,
zwłaszcza w przestrzeni WNP. Na książkę składa się obszerne
wprowadzenie, 5 rozdziałów problemowych i zakończenie. Ma ona
charakter raczej popularnonaukowy, jednak ze względu na rzetel-
ność autora, celność jego obserwacji i wywodów, może być waż-
nym materiałem uzupełniającym badania nad współczesną Rosją
i przestrzenią postradziecką.
Jak stwierdza sam autor, jest to praca o tym, jak rozwijała się
Rosja i przestrzeń postradziecka po rozpadzie ZSRR w 1991 roku.
Trenin zaznacza, że upadek radzieckiego imperium przyjął, podob-
nie jak i wielu innych jego obywateli, z nadziejami, jednak dynami-
ka przemian i ich głębokość szybko spowodowały, że optymizm
ustąpił miejsca niepewności. Lata 1990-1991 przyniosły tworzącej
rdzeń ZSRR Rosji okres bezprecedensowego upadku i wewnętrzne-
go wstrząsu, przede wszystkim w wymiarze prestiżowego upadku
autorytetu na arenie międzynarodowej. Kolejne lata oznaczały nie-
jednokrotnie wewnętrzne sprzeczne poszukiwanie dróg odbudowy
statusu w społeczności międzynarodowej oraz kształtowania nowe-
go systemu politycznego. Poprowadzona wartkim językiem narra-
cja odnosi się właśnie do tych dwóch zjawisk.
We wprowadzeniu rosyjski politolog nie odnosi się do prze-
słanek dezintegracji Związku Radzieckiego, koncentrując się na
wskazaniu głównych etapów szybkiej utraty pozycji na arenie świa-
towej przez to państwo. Co istotne, autor zaznacza, że Rosja nie
szuka dróg odbudowy swojego potencjału – dąży raczej do jego
potwierdzenia poprzez rzucanie wyzwania Zachodowi, m.in. rosz-
czenie sobie prawa do politycznego i gospodarczego kontrolowania
obszaru byłego ZSRR.
Sam proces rozpadu państwa radzieckiego Trenin porównuje
do szybkiego zatonięcia „Titanica”: od wyprowadzenia wojsk z Af-
ganistanu do ostatecznego rozwiązania ZSRR minęły zaledwie 34
miesiące. Mimo peryferyjnych konfliktów, które rozgorzały w mo-
mencie dezintegracji państwa radzieckiego (m.in. wojna w Górskim
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
157
Karabachu, Abchazji, wojna czeczeńska, wojna domowa w Tadży-
kistanie), proces rozpadu dawnego imperium dokonał się stosunko-
wo sprawnie (s. 31). Nie licząc konfliktu karabaskiego i wojny
sierpniowej w 2008 roku, przestrzeń postradziecka ponad dwie de-
kady nie doznawała większych wstrząsów i perturbacji, a społecz-
ność międzynarodowa nie musiała się obawiać m.in. niekontrolo-
wanego rozprzestrzeniania się dawnego radzieckiego arsenału jąd-
rowego. Dmitrij Trenin przyczyn tego faktu upatruje w tym, że pro-
cesy dezintegracyjne były kontrolowane przez dawną metropolię –
Rosję. Rosyjskie władze powstrzymały się w latach 90. od wznieca-
nia nastrojów separatystycznych na Krymie czy w północnym Ka-
zachstanie. Jednocześnie płonne okazały się nadzieje, że wszystkie
republiki postradzieckie z sukcesem dokonają demokratyzacji
i wpiszą się w Fukuyamowski „koniec historii”. Badacz zaznacza,
że choć rozpad ZSRR wynikał z wewnętrznych uwarunkowań, to
jego główne ogniwo, Rosja, nie została pokonana w wojnie, nie od-
niosła istotnych strat ludnościowych i gospodarczych. Rosja, jako
rdzeń ZSRR, przegrała bipolarną rywalizację światową, jednakże
nie została na tyle zdezorganizowana i rozbita, by rezygnować
z chęci utrzymania więzi i wpływów na przestrzeni dawnych repub-
lik związkowych. Oznacza to, że zachowywała określony potencjał
działalności na niwie międzynarodowej, ale także unaocznia, że
przeprowadzenie pod koniec lat 80. właściwych reform mogłoby
poprowadzić Gorbaczowa w kierunku chińskiego modelu politycz-
no-ekonomicznego (s. 35). Procesy emancypacji narodowej oraz
wykształcenie się elit narodowych (nawet w warunkach radzieckiej
monopartyjności), które weszły w sojusz z potrzebującym wsparcia
w walce z ortodoksyjnymi komunistami Gorbaczowem, przyczyni-
ły się do nieoczekiwanego rozpadu państwa. W latach 1990–1991
wydarzenia wymknęły się spod kontroli władz i doprowadziły do
upadku państwa. Był to jednak upadek dość specyficzny, różniący
się od wcześniejszych upadków mocarstw, takich jak Austro-Węg-
ry, III Rzesza czy kolonialna Portugalia. Radzieckie imperium się
rozpadło, jednak pozostał jego trzon – Rosja, którą w nowych wa-
runkach geopolitycznych Trenin nazywa „postimperium” (s. 39).
Rosyjskie „postimperium” wychodzi, zdaniem autora książ-
ki, ze stanu imperialnego i przeformułowuje imperialną świado-
mość. W jego przekonaniu Rosja nie stanie się już nigdy imperium,
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
158
aczkolwiek wciąż zachowuje właściwe mu cechy, w tym „neocars-
ki” system polityczny oraz postrzeganie innych państw postradziec-
kich jako strefę wyłącznych wpływów. To napięcie pomiędzy sta-
nem faktycznym a świadomością i ambicjami determinuje rosyjską
politykę po 1991 roku. Spośród największych trudności wymienia
on pozostawanie Rosji na marginesie europejskich procesów integ-
racyjnych i niezrealizowane wyzwanie modernizacyjne. Przyczyn
porażki w tej materii Trenin upatruje w specyficznym, peryferyj-
nym położeniu Rosji, która w szczególnie ważnym okresie tworze-
nia zrębów państwowości znajdowała się pod jarzmem tatarsko-
mongolskim, nie miała większych kontaktów z Europą, w tym
z europejskimi prądami kulturowymi i intelektualnymi. Aby przetr-
wać, Rosja wytworzyła silnie zcentralizowany system rządów, spe-
cyficzną świadomość mocarstwowości i szczególną misję politycz-
no-cywilizacyjną (idea „trzeciego Rzymu”). Jak konstatuje badacz,
cała historia Rosji to seria imperiów nie znajdujących sobie odpo-
wiedników w świecie (s. 44). Jedną z jej form był ZSRR, określany
przez niego mianem radzieckiego imperium rosyjskiego.
W momencie upadku państwa sowieckiego Rosjanie stosun-
kowo szybko pogodzili się z utratą tak egzotycznych sojuszników-
satelitów jak Kuba czy Mozambik. Zgodę na wyjście Europy Środ-
kowej spod kontroli Kremla wiązano z gwarancjami jej pozostania
poza NATO, zaś odłączenie się Ukrainy i Białorusi, historycznych
części składowych „trójjedynej Rusi”, traktowano jako aberrację,
krok zupełnie nieuzasadniony (s. 53). Fakt ten dał o sobie znać
w 2008 roku: dysponująca petrodolarami, niezadłużona za granicą
i dążąca do pozycji lidera w grupie państw BRIC Rosja, wdała się
w otwarty konflikt z Gruzją, rzucając tym samym wyzwanie Zacho-
dowi. Przypominane przez obserwatorów polityki rosyjskiej słowa
Władimira Putina z 2005 roku, że rozpad ZSRR był największą ka-
tastrofą geopolityczną stulecia, miały nabrać nowego, złowieszcze-
go kontekstu. Trenin nie widzi tu jednak zawoalowanej groźby pod
adresem Zachodu, twierdzi, że władze rosyjskie dawały tym samym
do zrozumienia, że Rosja pretenduje do samodzielności, nie będzie
podążać za wzorcami zachodnimi i żąda nieingerencji w swoje
wewnętrzne sprawy (s. 54). Atmosfera konfrontacji pomiędzy Ro-
sją a Zachodem zaczęła narastać przed szczytem NATO w Buka-
reszcie w 2008 roku, na którym Ukraina i Gruzją nie zostały zapro-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
159
szone do Sojuszu, jednak dano im na to nadzieję w przyszłości.
Wojna sierpniowa, za którą autor pracy wini awanturniczą politykę
Saakaszwili, stała się katalizatorem konfliktu Rosji z Zachodem. Je-
go zdaniem gruzińska agresja na Cchinwali była potwierdzeniem
rosyjskich obaw odnośnie do polityki George’a Busha i jego inten-
cji wobec Rosji (s. 56). Znaczenia wojny sierpniowej dla polityki
rosyjskiej dowodzą słowa ówczesnego prezydenta Dmitrija Mied-
wiediewa, który nazwał ją „rosyjskim 11 września”. Trenin argu-
mentuje, że antygruzińska kampania w sierpniu 2008 roku była wy-
ważona i przemyślana, nie doszło do przesadnego użycia siły, nie
było znaczących strat w infrastrukturze i ludności cywilnej – przy-
niosła mniej szkód niż atak NATO na Jugosławię Slobodana Milo-
szevicia w 1999 roku. Uznanie niepodległości Abchazji i Osetii Po-
łudniowej było w tym kontekście nie tylko rewanżem za oderwanie
Kosowa od Serbii, ale i środkiem powstrzymującym amerykańską
eksplorację Kaukazu Południowego. Rosyjska polityka nabrała no-
wych cech, a jej celem było anulowanie postrzeganych jako sukce-
sy Zachodu osiągnięć demokratyzacji na obszarze postradzieckim,
w tym efektów „kolorowych rewolucji” na Ukrainie, w Gruzji
i Kirgistanie. Pojawienie się nowej administracji waszyngtońskiej
Baracka Obamy oraz niespodziewany światowy kryzys gospodar-
czy przyczyniły się do spadku zainteresowania Kaukazem oraz sta-
ły się punktem wyjścia do „resetu” relacji rosyjsko-amerykańskich.
Nie trwał on jednak długo, gdyż wydarzenia 2014 roku dowodzą,
że atmosfera konfrontacji wciąż dominuje w relacjach bilateral-
nych.
Dmitrij Trenin konstatuje, iż pojęcie „przestrzeń postradziec-
ka” straciło uzasadnienie. Wymienia on kilka etapów odejścia
Moskwy od postrzegania państw dawnego ZSRR jako jednego ob-
szaru, wspólnego bloku: przyjęcie polityki „rynkowego pragmatyz-
mu” w 2003 roku, „rewolucja róż” w Gruzji w 2003 roku „poma-
rańczowa rewolucja na Ukrainie” w 2004 roku, urynkowienie cen
gazu dla odbiorców w republikach postradzieckich w 2006 roku,
wojna pięciodniowa w 2008 roku oraz konflikty z Białorusią w la-
tach 2010 i 2011 (s. 65). Na jej miejscu pojawiły się trzy obszary
geopolityczne: Europy Wschodniej (Ukraina, Białoruś, Mołdawia),
Kaukaz Południowy i Azja Środkowa. Fakt ten Trenin wykorzys-
tuje do uzasadnienia swojej tezy, że odbudowa dawnego imperium
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
160
na gruzach ZSRR jest niemożliwa. Jednocześnie utraciwszy status
imperium eurazjatyckiego, Rosja – wbrew oczekiwaniom zachod-
nich badaczy – nie stała się państwem europejskim, nie wyzbyła się
ambicji do bycia autokratyczną potęgą. Odmawiając Rosji prawa do
bycia imperium w przyszłości, politolog wyznacza jej nowy status
i nową rolę – mocarstwa. Oznacza to, że przed nią, ale i przed spo-
łecznością międzynarodową, stoją nowe wyzwania i konieczność
ułożenia stosunków na nowo.
Pierwszy rozdział recenzowanej monografii nosi tytuł Od im-
perium do stanu postimperialnego stanowi rozwinięcie tez zawar-
tych w rozbudowanym wprowadzeniu. Autor wychodzi od stwier-
dzenia, że percepcja ZSRR w świadomości Rosjan jest zgoła od-
mienna od percepcji obywateli innych państw, zwłaszcza zachod-
nich, dla których było ono „imperium zła”. Dla współczesnych Ro-
sjan ZSRR to konglomerat wspomnień zarówno o totalitarnych re-
presjach i podboju kosmosu, jak i nostalgii za „małą stabilizacją”
i państwowym paternalizmem. Lata rządów Gorbaczowa i dekadę
Jelcyna wspominają oni jako czas chaosu, w związku z czym od-
biór najnowszej historii państwa jest w społeczeństwie dalece nie-
jednoznaczny. Z perspektywy interesów państwowych rozpad
ZSRR przyniósł, zdaniem badacza, szereg pozytywnych konsek-
wencji: pozwolił na jasną delimitację granic Rosji, zrzucił z niej ba-
last półkolonialnych zobowiązań czy kontrolowania „niepokor-
nych” mieszkańców republik bałtyckich. Jednocześnie Rosja zacho-
wała kontrolę nad swoim rdzeniem państwowotwórczym: Moskovią
i Syberią, ma dostęp do Bałtyku, Morza Czarnego, Kaspijskiego,
Oceanu Spokojnego i Lodowatego.
Autor pracy opisuje proces regulacji kwestii granicznych
z poszczególnymi sąsiadami Rosji, wskazując na szczególne zna-
czenie granicy z Chinami, gdzie za cenę porozumienia z Pekinem
Rosjanie zgodzili się na przekazanie Chińczykom spornych wysp
na Ussuri, które były przedmiotem konfliktu w okresie istnienia
ZSRR. Uwagę przykuwa fragment dotyczący granicy z Ukrainą
i okoliczności regulacji jej statusu, zwłaszcza w kontekście tego-
rocznych wydarzeń (s. 77–79). Trenin celnie zauważa, że już na
szczycie NATO w Bukareszcie W. Putin sugerował, że Rosja bę-
dzie akceptować integralność terytorialną Ukrainy, dopóki ta będzie
zachowywać neutralność i nie zgłosi aspiracji do członkostwa
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
161
w strukturach euroatlantyckich (s. 79). Niezwykle ważny jest fakt,
że wszystkie powstałe na gruzach ZSRR państwa przetrwały do
dzisiaj – co na początku lat 90. nie było takie oczywiste – a ich gra-
nice, z wyjątkiem Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu i ostatnio Ukrai-
ny, pozostały bez zmian. Głównych problemów w budowie państw
postradzieckich autor monografii upatruje zatem nie w zakresie po-
lityki międzynarodowej, lecz wewnętrznej.
Dotyczyło to zwłaszcza Rosji, w składzie której funkcjonuje
szereg jednostek autonomicznych. Na początku lat 90. niemalże
wszystkie zostały objęte tendencjami emancypacyjnymi. „Pełzającą
decentralizację” zatrzymał w zasadzie dopiero W. Putin, dokonując
centralizacji władzy w czasie swojej pierwszej prezydentury. To-
warzyszyło temu ograniczenie roli Rady Federacji, wyższej izby
parlamentu, która przestała być reprezentantem rzeczywistej woli
ludności poszczególnych podmiotów wchodzących w skład państ-
wa rosyjskiego. Badacz podkreśla szczególny charakter zjawisk za-
chodzących na Północnym Kaukazie – region ten nie tyle „oddziela
się od Rosji, co od niej oddala, tworząc wewnętrzną zagranicę”
(s. 85) – oraz znaczenie Syberii. Bez niej Rosja byłaby tylko Mos-
kovią (s. 88). Dla bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Rosji
istotny jest fakt, iż mieszkańcy Dalekiego Wschodu podróżują
szybciej i taniej do Chin czy Korei niż Moskwy i w sensie ekono-
micznym coraz więcej wiąże ich z partnerami azjatyckimi niż włas-
ną stolicą. Próby utrzymania integralności terytorialnej kraju skut-
kowały programami rozwoju regionalnego, a te zaś powstawaniem
lokalnych ośrodków gospodarczo-naukowych. W rezultacie tych
zjawisk w Rosji mamy do czynienia z nowym regionalizmem: czy
to w Kazaniu, Tiumeniu czy Władywostoku.
Współczesne procesy narodowotwórcze dotyczyły wszyst-
kich narodów, które zyskały własne państwa w wyniku dezintegra-
cji ZSRR, jednakże nabrały szczególnego charakteru w Rosji, gdzie
rosyjska świadomość narodowa musiała być gruntownie zredefinio-
wana. Istotnym problemem politycznym stało się funkcjonowanie
zwartych skupisk Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej w młodych
republikach bałtyckich, na Ukrainie, w Kazachstanie czy Turkme-
nistanie. Pojawiające się tam ogniska irredentyzmu nie zostały jed-
nak poparte przez Kreml. Co więcej, współczesna Rosja, jak nigdy
wcześniej, zyskała szansę, by być państwem narodowym, gdyż
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
162
udział etnicznych Rosjan w społeczeństwie wynosi 75% (s. 95).
Trenin zaznacza, że wraz z rozpadem ZSRR dezintegracji uległo
dawne radzieckie makrospołeczeństwo, a to znacznie utrudniałoby
ewentualne procesy reintegracyjne byłego ZSRR. Również społe-
czeństwo rosyjskie ulega atomizacji, elity polityczne odrywają się
do mas, co skutkuje spadkiem potencjału mobilizacyjnego. Zaled-
wie 6% obywateli Rosji na pierwszym miejscu stawia interesy pań-
stwowe, zaś 80% własne (s. 100).
Badacz słusznie podkreśla, że rządy Putina opierają się na je-
go osobistej popularności w społeczeństwie. Prezydent wyciągnął
wnioski z rządów Gorbaczowa i Jelcyna, którzy w czasie swoich
kadencji szybko tracili popularność i posiadaną władzę. Atomizacja
społeczeństwa przy popularności spersonalizowanej władzy jest
zdaniem Trenina warunkiem stabilności obecnego systemu poli-
tycznego Rosji. Jego zdaniem współczesna Rosja porzuciła w prak-
tyce federacyjną formę rządów, zaś jakakolwiek modernizacja pań-
stwa nie będzie możliwa bez przejścia od imperialnej (w domyśle –
autorytarnej) formy rządów do demokracji (s. 110). Autor wskazuje
na podobne problemy z demokratyzacją w innych państwach byłe-
go ZSRR, w tym na Ukrainie i w Gruzji, które po kolorowych re-
wolucjach stały się bardziej prozachodnie niż prodemokratyczne.
Autokratyczni prezydenci republik postradzieckich nie mieli jednak
wspólnej wizji ani nie prowadzili skoordynowanych działań na
rzecz zachowania swojej władzy. Co ważne, również Zachód nie
miał strategii ich obalenia – dowodzi tego okresowy sojusz USA
z Islamem Karimowem oraz przyjmowanie na europejskich salo-
nach Ilhama Alijewa.
Oceniając siłę militarną współczesnej Rosji, autor odnoto-
wuje znaczący spadek jej potencjału i możliwości działania oraz ut-
rzymania określonych priorytetów w polityce bezpieczeństwa: USA
wciąż są postrzegane jako zagrożenie dla Rosji, stosunki z Chinami
opierają się na współpracy, ale i powstrzymywaniu chińskiego po-
tencjału. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa lokowane
są na Kaukazie oraz w Azji Środkowej. Jeśli chodzi o stosunki poli-
tyczne pomiędzy postradzieckimi republikami, to mechanizmy na
bazie WNP nie sprawdzają się, co dowodzi postępującej dezintegra-
cji tej przestrzeni (s. 119). Ukraina, Mołdawia i Gruzją ciążą ku
Unii Europejskiej, republiki środkowoazjatyckie – ku światu isla-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
163
mu, zaś Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan i Rosja ze
swoimi rozmaitymi wewnętrznymi problemami znajdują się
„gdzieś pomiędzy” (s. 120). Słowami tymi Trenin wskazuje ponie-
kąd, że państwa te nie dokonały jeszcze ostatecznego politycznego
wyboru, czeka je kolejna transformacja albo nawet, w niektórych
przypadkach, zniknięcie z mapy.
Drugi rozdział pracy zatytułowany jest Geopolityka i bezpie-
czeństwo. Autor omawia w nim stosunek Rosji do pozostałych by-
łych republik związkowych, tworzących tzw. „bliską zagranicę”,
a następnie przedstawia bardziej szczegółowo relacje z poszczegól-
nymi państwami, dzieląc je na dwa bloki: „zachodnią flankę” oraz
„południowy front”. Sformułowania te dowodzą, że relacje dawnej
metropolii z jej dependencjami postrzegane są raczej poprzez pryz-
mat konfrontacji i rywalizacji. Trenin zaznacza, że idea Rosji jako
Eurazji nie ma już przyszłości, a głównych przyczyn tego faktu
upatruje w rozwoju środków komunikacji, współzależności
i powiązań między Europą i Azją. Co więcej, zarówno UE jak
i Turcja, Iran czy Pakistan dysponują coraz większą siłą przyciąga-
nia i stają się dla poszczególnych republik byłego ZSRR ciekawszą
alternatywą niż współpraca z Rosją (s. 127). Tuż po rozpadzie
Związku Radzieckiego władze rosyjskie wychodziły z założenia, że
było to zjawisko przypadkowe i wszystkie republiki z czasem wró-
cą pod kuratelę Kremla. Bierność władz rosyjskich potwierdza
mnogość spotkań przywódców postradziekcich i szczytów między-
rządowych, które w praktyce nie przełożyły się na reintegrację. Do-
piero dojście do władzy pozbawionego „kompleksu Białowieży”
Putina zmieniło podejście Rosji do „bliskiej zagranicy”. Zaczął on
zabiegać o skuteczniejsze powiązanie obszaru postradzieckiego
z dawną metropolią, ale jednocześnie przestrzegał przed zmianami
politycznego status quo (dowodzi tego przykład Gruzji z 2004
i 2008 roku). Omawiając „zachodnią flankę” Trenin podkreśla zna-
czenie Ukrainy dla rosyjskiej geopolityki (w tym znaną tezę, że bez
niej nie ma szans realizacji żaden projekt reintegracyjny Kremla),
a za przykład podaje rosyjskie zabiegi o doprowadzenie do korzyst-
nego dla siebie wyniku wyborów prezydenckich w latach 2003–
2004 roku, co poprowadziło Ukraińców do „pomarańczowej rewo-
lucji” (s. 132). W przypadku Gruzji rosyjskie próby utrzymania jej
w orbicie własnych wpływów opierały się o podsycanie nastrojów
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
164
separatystycznych w Abchazji i Osetii Południowej. Gruzińskie
przymiarki do militarnego rozwiązania problemu integralności tery-
torialnej spowodowały wojnę w 2008 roku, która jednak nie przy-
bliżyła Tbilisi ani do członkostwa w NATO, ani do opuszczenia ro-
syjskiej strefy interesów. Autor pracy dużo uwagi poświęcił właśnie
relacjom Rosji z Sojuszem Północnoatlantyckim i perspektywom
dla Europy Środkowej i Wschodniej. Trenin stwierdza, że „nowa
Europa Wschodnia” stała się faktem i trudno mu wyobrazić sobie
ponowne jej wchłonięcie przez Rosję. Nie przewiduje on też wstą-
pienia Białorusi, Ukrainy czy Mołdawii do UE w dającej się spre-
cyzować perspektywie (s. 157). Stąd też przestrzeń ta pozostanie
areną rywalizacji Zachodu i Kremla, choć nie jest przez kierownict-
wo rosyjskie – zdaniem badacza – traktowana priorytetowo
(s. 164). W dużym stopniu podobnie będzie kształtować się przysz-
łość republik kaukaskich, które stają się z kolei częścią dużego
Bliskiego Wschodu.
Największych wyzwań dla bezpieczeństwa i interesów
współczesnej Rosji Trenin upatruje na południu – Kaukazie oraz
Azji Środkowej. Badacz podkreśla przede wszystkim znaczenie
konfliktu czeczeńskiego dla kształtowania się dzisiejszego, postim-
perialnego państwa rosyjskiego. Czeczenia Ramzana Kadyrowa jest
swoistym „chanatem”, autonomicznym państewkiem człowieka,
który w zamian za wierność Kremlowi otrzymał wolną rękę
w kwestii regulacji stosunków społecznych czy wymierzania spra-
wiedliwości. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Inguszetii i Dagesta-
nie, ale wciąż nie jest opanowana przez władze federalne. Z kolei
w Azji Środkowej z jednej strony wpływy rosyjskie od początku lat
90. maleją, z drugiej zaś region wciąż ma bardzo duże znaczenie
dla bezpieczeństwa Rosji. Dość zadziwiające, że konflikty, które re-
gularnie dotykają państwa tego obszaru są rozwiązywane bez więk-
szego udziału Moskwy. Specyficzne reżimy autorytarne w Kazach-
stanie, Uzbekistanie czy Turkmenistanie mogą, zdaniem badacza,
stanowić źródło niestabilności i zagrożenia dla interesów rosyj-
skich, zwłaszcza w kontekście zmian na fotelach prezydentów oraz
wpływów islamistów. W regionie rzeczywiście bliskie relacje łączą
Rosję tylko z Kazachstanem, co znaczy, że na jego południowych
rubieżach kończą się wpływy Kremla w Azji Środkowej (s. 180).
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
165
Na Dalekim Wschodzie kluczową rolę w rosyjskiej polityce
odgrywają Chiny, które po raz pierwszy od kilkuset lat jako potęga
militarna i ekonomiczna zaczynają dominować nad Rosją. W okreś-
lonym stopniu postępowanie Moskwy w polityce azjatyckiej staje
się funkcją działań Pekinu, co dowodzi, że rosyjska siła słabnie.
Inaczej układają się relacje z Japonią, która dla Rosji nie stanowi
zagrożenia tak dużego jak Chiny. Z tego powodu autor pracy nie
widzi konieczności szybkiego uregulowania i poprawy stosunków
z Tokio. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi współpracy może
stać się jednak łączące oba państwa poczucie zagrożenia ze strony
Chin (s. 191). W odróżnieniu od Europy Wschodniej, Daleki
Wschód badacz postrzega jako obszar możliwej współpracy z USA,
a nie konfrontacji.
Trzeci rozdział pracy zatytułowany jest Gospodarka i ener-
getyka. Trenin wychodzi od stwierdzenia, że w czasach radzieckich
cały ZSRR oparty był na militaryzmie i cała działalność polityczno-
ekonomiczna uwzględniała ten fakt. Rozkład państwa nie tylko
przyniósł poważne zmiany w orientacji gospodarczej, ale również
trudności związane z destrukcją więzi pomiędzy przedsiębiorstwa-
mi z różnych części składowych dawnego ZSRR. Dopiero wzrost
cen na nośniki energii na początku obecnego stulecia poprawił kon-
dycję rosyjskiej gospodarki oraz przyniósł aktywniejszą politykę
ekonomiczną na obszarze WNP. Obecnie Rosja jest zainteresowana
obszarem postradzieckim w kontekście dostępu do znajdujących się
tam zasobów naturalnych oraz zbytem własnych towarów.
W związku z tym Moskwa forsowała różne projekty integracyjne,
których najnowszą formą jest Unia Celna, łącząca oprócz Rosji
Białoruś i Kazachstan. Obecne postępowanie władz rosyjskich na
niwie gospodarczej jest dużo bardziej pragmatyczne niż było to
w czasach Jelcyna. W 2003 roku Anatolij Czubajs przedstawił
obecnie konsekwentnie realizowaną wizję Rosji jako „imperium li-
beralnego”, a więc wykorzystującego mechanizmy wolnorynkowe
do działalności politycznej. Wizja ta oczywiście bazuje na sprzeda-
ży ropy naftowej i gazu a także kontrolowaniu ich zasobów i sprze-
daży/zakupu przez państwa postradzieckie. Prowadzi to nie tylko
do obaw m.in. Polski o regularność dostaw, ale także do konfliktów
w obozie byłego ZSRR, w tym sporów z bliskim sojusznikiem
Kremla – A. Łukaszenką. Na polu ekonomicznym, stwierdza autor
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
166
pracy, Rosja nie ma wielu atutów i nie dysponuje siłą przyciągania
krajów „bliskiej zagranicy”. Z tego też powodu stosuje „twarde”
narzędzia i dyplomatyczne straszaki (s. 237). Do tej pory jest to me-
toda dość skuteczna, jednakże na dłuższą metę z pewnością nie
przyniesie Moskwie wielu korzyści.
Czwarty rozdział pracy Demografia i imigracja porusza
często omawiane w kontekście wewnętrznych zagrożeń dla Rosji
kwestie. Autor stwierdza, że obecnie notowany spadek liczby lud-
ności kraju oraz przyrostu naturalnego jest konsekwencją rozpadu
dawnego imperium. Fakt ten miał również szereg konsekwencji dla
innych byłych republik związkowych – masowe wyjazdy Rosjan
przyczyniły się do zmiany struktury etnicznej, choć ogólnie prob-
lem wyludniania się dotyczy także Ukrainy czy Armenii. Z drugiej
strony rośnie liczba ludności Uzbekistanu czy Azerbejdżanu, co
wkrótce będzie mieć poważne przełożenie na stosunki polityczne
na obszarze postradzieckim. Dla wielu społeczeństw postradziec-
kich Rosja oraz UE pozostają głównymi miejscami docelowymi
migracji zarobkowych. Prowadzi to do pojawiania się w Rosji ten-
dencji szowinistycznych i aktów agresji przeciwko przybyszom
z Kaukazu i Azji Środkowej (s. 256). Zupełnie inaczej postrzegana
jest natomiast imigracja Chińczyków – w przypadku słabo zalud-
nionego rosyjskiego Dalekiego Wschodu wzrost ich liczby zaczyna
poważnie zagrażać interesom Moskwy. Choć Trenin twierdzi, że na
tym tle Rosja musi uwolnić się od strachów, to procesy demogra-
ficzne mają swoje nieubłagane konsekwencje.
Ostatni rozdział recenzowanej monografii nosi tytuł Kultura,
ideologia, religia. Moskiewski badacz stara się w nim m.in. rozpra-
wić z rosyjską ideą wielkomocarstwową i mesjanistyczną. Zazna-
cza on, że pochodzącą z XV wieku ideę „Moskwy – Trzeciego
Rzymu” zastąpiła w okresie bolszewizmu idea komunistycznego
państwa osaczonego przez świat imperialistyczny (s. 274). Silny
ładunek ideologizacji w polityce państwowej został porzucony wraz
z rozpadem ZSRR. Co więcej, władze Rosji wzięły na siebie rolę
demokratycznego lidera względem republik środkowoazjatyckich.
Autor pracy zaznacza, że współczesna Rosja budowana była na po-
czątku lat 90. na racjonalnej idei demokratyzmu, a późniejszy zwrot
ku autorytaryzmowi stał się wynikiem realizacji społecznego zapo-
trzebowania na silną władzę. W tych warunkach polityczna elita,
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
167
która zdążyła już się znacząco wzbogacić na prywatyzacji państwo-
wego majątku, powróciła do znanej sobie idei mocarstwowości, co
explicite wyraził w 1996 roku minister spraw zagranicznych Jew-
gienij Primakow. Koncepcja ta przeszła następnie ewolucję i do tej
pory wyznacza kierunek działalności politycznej Kremla. Za głów-
ny element mocarstwowości postrzega się zdolność do samodziel-
nego funkcjonowania, przeciwstawiania się trendom i wpływom
Zachodu, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, choć Trenin zwraca
uwagę, że jeszcze latach 90. Rosjanie w poszukiwaniu swojej potę-
gi gotowi byli naśladować państwa zachodnie (s. 278). Późniejsze
wzajemne rozczarowanie Rosji i Zachodu sprawiło, iż ta pierwsza
wybrała „polityczną samotność”. Jej realizacja dokonała się po-
przez rosyjskie dążenie do usamodzielnienia się zarówno w polity-
ce międzynarodowej, jak i wewnętrznej – istniejący reżim politycz-
ny badacz nazywa „autokratyzmem za zgodą poddanych” (s. 281).
Po zakończeniu „zimnej wojny” Rosja starała się na nowo znaleźć
się w gronie światowych potęg, co częściowo dokonało się poprzez
rozszerzenie grupy G7 w 1998 roku. Fakt ten nie osłabił aspiracji
Moskwy, które w początkach XXI wieku nabrały nowego, bardziej
dynamicznego formatu. Autor dokonuje w związku z tym godnego
odnotowania rozróżnienia pomiędzy imperium, którego polityczna
aktywność przynosi korzyści innym państwom, a mocarstwem, któ-
rego polityka jest egoistyczna i tylko jemu daje profity (s. 285).
W związku z koniecznością rewizji oceny własnej historii, od
początku XXI stulecia w Rosji prowadzona jest polityka historycz-
na, mająca na celu wykorzystanie określonej interpretacji wydarzeń
z przeszłości w celu uzasadnienia określonych decyzji. W Rosji
sprowadza się to do obrony ZSRR przed oskarżeniami o zbrodni-
czość i imperializm (dowodem była rosyjska niechęć do uznania
wielkiego głodu z 1932 roku na Ukrainie za ludobójstwo). Rosja,
będąca kontynuatorką ZSRR na gruncie prawnym, poczuwa się
również do kontynuacji radzieckiej historii, stąd też podejmuje się
takich działań jak uniemożliwienie Polsce uznania zbrodni katyń-
skiej za ludobójstwo czy protesty przeciwko usuwaniu radzieckiej
symboliki w republikach nadbałtyckich. Historia ZSRR została tym
samym przez Rosjan „znacjonalizowana” (s. 294). Także na grun-
cie językowym dawna rosyjska potęga na obszarze ZSRR odchodzi
w przeszłość. Język rosyjski traci popularność m.in. w Gruzji, Ar-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
168
menii czy Kirgistanie, co oznacza, że obywatele tych państw przes-
tają identyfikować się z najsilniejszą stroną Rosji, a więc jej kulturą
(s. 306). Obojętny bądź niechętny wobec Rosji stosunek mieszkań-
ców dawnego imperium oznacza trudności Kremla w utrzymaniu
tego obszaru w strefie swoich wpływów. Autor radzi Moskwie
wsłuchiwać się w głosy płynące z „bliskiej zagranicy” i prowadze-
nie mniej szorstkiej i bezwzględnej polityki (s. 308).
Niewątpliwie książka Trenina jest bardzo wartościowym
i godnym polecenia studium przemian polityki Rosji wobec obszaru
postradzieckiego oraz szans odbudowy potęgi utraconej wraz z roz-
padem ZSRR – autor jednoznacznie wskazuje, iż odrodzenie impe-
rium jest niemożliwe, a cała narracja zmierza ku potwierdzeniu tej
tezy. Monografia w doskonały sposób porządkuje wiedzę o prze-
mianach politycznych, ekonomicznych i społecznych, które zaszły
w państwach postradzieckich po 1991 roku. Będzie przydatną lek-
turą dla każdej osoby zainteresowanej problematyką polityczną
współczesnego świata.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
169
Figa Anna
Krajobrazy pamięci, pejzaże wyobraźni
Uwagi na marginesach
Leksykonu miast intymnych Jurija Andruchowycza
Jurij Andruchowycz, Leksykon miast intymnych. Swobodny pod-
ręcznik do geopoetyki i kosmopolityki, tłum. Katarzyna Kotyńs-
ka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.
1.
Każda nowa książka Jurija Andruchowycza wzbudza u czy-
telników zainteresowanie i przyciąga należytą uwagę. Nie inaczej
jest z wydanym tej wiosny Leksykonem miast intymnych – książką
szeroko komentowaną, opisywaną, już cieszącą się niemałym uzna-
niem wśród bardziej, ale i mniej „profesjonalnych” odbiorców. Lek-
sykon doczekał się wielu recenzji i omówień. Wart jest jednak od-
dania mu miejsca i poświęcania czasu, wart jest rozgrzewania wo-
kół niego rozmowy, pobudzania do uważnego czytelniczego zasta-
nowienia naroślami magazynowych czy internetowych opinii, ref-
leksji, uwag. Oto polski odbiorca otrzymał książkę wartościową,
solidnie opracowaną, wydaną z poszanowaniem wszelkich edytor-
skich prawideł, a przy tym wymykającą się jednoznacznym klasyfi-
kacjom, uciekającą od jasnych opisów, niemożliwą do zbyt szyb-
kiego (a i powierzchownego) dopasowania, zainwentaryzowania –
a przez to tym bardziej ciekawą, frapującą, urzekającą.
2.
Leksykon to atlas geografii intymnej. Jak sam autor podpo-
wiada w podtytule, to raczej „swobodny podręcznik do geopoetyki
i kosmopolityki” niż literacko obrobiony bedeker, jakich sporo na
księgarnianych półkach. Za pomocą klucza podtytułu uważny czy-
telnik może próbować rozwikłać genologiczną niepewność Leksy-
konu, przyglądając się poszczególnym słowom, jakie Andrucho-
wycz w tymże podtytule wyróżnił. Szczególną uwagę zwracają dwa
sformułowania: geopoetyka oraz kosmopolityka. Pierwszy termin
wiąże ze sobą nierozerwalnymi nićmi kulturę i przestrzeń, uwrażli-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
170
wiając na wzajemną motywację oraz stymulację tych – pochodzą-
cych wszak z zupełnie odmiennych porządków – sił. Interakcje kul-
turowo-przestrzenne, jakie dowartościowuje geopoetyka, są oczy-
wiście dwuzwrotne. Wskazują zarówno na przestrzenne uwarunko-
wania kultury, jak i na kulturową soczewkę, za pomocą której od-
bieramy przestrzeń. Nie inaczej czyni Andruchowycz w Leksykonie
miast intymnych: pokazuje (zurbanizowaną) przestrzeń jako przest-
rzeń oglądaną przez pryzmat kultury i samą kulturę – tę uwewnętrz-
nioną, intymną, bliską – formowaną przez przestrzeń. Kosmopolity-
ka, na której przekonania autor również kieruje czytelniczą uwagę,
podobnie jak geopoetyka jest terminem dwojga płaszczyzn, dwóch
żywiołów. Jej zwolennicy burzą przecież naznaczone bezwzględ-
nością polityki granice, niwelując nie tylko przestrzenne ogranicze-
nia, ale i limity najgłębszych ludzkich interiorów, wskazują na jed-
ność i niepodzielność przestrzeni, na sztuczność i bezzasadność po-
działów wspólnot wymykających się jednoznaczności politycznych
umów czy postanowień. Czerwone linie, nanoszone na polityczne
mapy ruchem zdecydowanym i nieznoszącym sprzeciwu, są w kos-
mopolityzmie przeciwieństwem idei wspólnotowej, wolnej od nie-
naturalnych limes. Leksykon wskazuje wyraźnie, że kosmopolityka,
podobnie jak geopoetyka, trwa przede wszystkim w nas samych. To
raczej konstytuujące nas przekonania, wewnętrzne wartości, które
stają się sposobem patrzenia na świat, aniżeli nauki, ideologie, nie-
ustępliwe listy pełne postulatów, dążeń i zobowiązań. Niemniej is-
totne są jednak i inne słowa, które wyraźnie wybrzmiewają zarów-
no w podtytule, jak i samym tytule najnowszej książki autora Dwu-
nastu kręgów. Andruchowycz, ze znanym sobie rezonem, propo-
nuje czytelnikowi oksymoroniczną zagadkę. Przedstawia „swobod-
ny podręcznik”, a zarazem „leksykon”, który opiera się na intym-
ności opisywanych w nim miast. Językowe wyczulenie Andrucho-
wycza, widoczne jakże wyraźnie w jego wcześniejszej twórczości,
ujawnia się znów mocno i dobitnie. Podręcznik, którego jedyną ce-
chą dookreślającą jest swoboda oraz leksykon, którego elementy
składowe wyróżnia przede wszystkim intymność (a więc osobis-
tość, prywatność, „mojość”), nie może występować w roli drogow-
skazu, daleko mu tak naprawdę i do leksykonu, i do podręcznika.
Cechuje go raczej literacka dowolność, rozumiana jako przyzwole-
nie na osobiste wrażenie, na intymne zanurzenie, prywatną – nie
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
171
skażoną podręcznikową i leksykonową linearnością – lekturę. Do
takiego zresztą odczytania – znaczonego i swobodą, i intymnością –
namawia sam autor.
3.
Leksykon został przez wydawców nazwany „osobistą mapą
podróży Jurija Andruchowycza”. Trzeba przy tym zaznaczyć, że
jest to podróż wymykającą się geograficzno-topograficznych ogra-
niczeniom i limitom. Przestwór nieskończonej przestrzeni świata –
widziany w perspektywie płaszczyzn krajobrazu, w perspektywie
zaokiennych horyzontów – poszerzony jest przez autora o przes-
twór bezbrzeżnej wyobraźni i bezmiernej pamięci. Lektura Leksy-
konu nie jest prostą podróżą w przestrzeni, której mógłby się spo-
dziewać czytelnik. To raczej wycieczka w stronę nieoczywistości
wyobraźni, w kierunku osobistego doświadczenia. Andruchowycz
pomieścił bowiem w Leksykonie prawdę ważną, ale i często umy-
kającą: poznanie jest zapośredniczone sobą samym – ograniczenia-
mi własnych zmysłów, pragnieniami, ale także zobojętnieniem,
w równej mierze osobistymi fascynacjami i niezainteresowaniem,
a nawet ignorancją. To ważna lekcja. Daje znak, w jaki sposób od-
czytywać Leksykon – jako podróż w głąb siebie, w której mapa i to-
pografia stanowią tylko pretekst i wymówkę. Sugeruje również
w jaki sposób odbierać własne, toczone nieoczywistością przestrze-
ni, wspomnienia, odczucia, afekty. Drobne szkice proponowane
przez Andruchowycza są świadectwem wielkiej uwagi i nieutrudzo-
nej pracy pamięci. Pamięci literata, pisarza, artysty, względnie re-
portażysty, ale nigdy nie autora zobiektywizowanego bedekera,
miejskiego przewodnika prowadzącego znudzone wycieczki równie
znudzonym krokiem.
4.
Jego literackie zatrzymania topograficzne przynoszą nam fra-
pujące portrety miejskie. Wyłaniają się z opowieści Andruchowy-
cza miasta-metafory, miasta-proustowskie magdalenki, które rodzą
się w głowie i filtruje je imaginacja. Nieodwracalne biegi historii
i bezlitosne geograficzne współrzędne ustąpić muszą meandrycznej
opowieści o mieście, którego żywioł rodzi się w najgłębszym inte-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
172
riorze człowieka, o mieście, które rozgrywa się w ludziach, przez
wspomnienia i dzięki sile wyobraźni – spajającej niemożliwe, łą-
czącej odmienne. Słowa autora Leksykonu filtrowane są więc jakoś-
cią oraz temporalną modalnością własnych wspomnień, utrwalo-
nych mniej lub bardziej wyraźnie obrazów, strzępów rozmów, roz-
mytych smaków, płowiejących kolorów. Andruchowycz spisuje
miasta odwiedzone przed dziesiątkami lat i te odwiedzane niejako
naprędce, na potrzeby uzupełnienia leksykonu, wymazania z niego
białych plam alfabetu, bo każda geografia (nawet ta najbardziej
uwewnętrzniona) białych plam nie znosi. Poznajemy miejsca wiel-
kich dziecięcych rozpoznań czy spotkań (nie zawsze pożądanych),
jak Czerniowce, gdzie „najpierw trzeba było trafić […] przymuso-
wo” (s. 76). Miejsca młodzieńczych fascynacji i urzeczeń, choćby
były to urzeczenia opierające się jedynie urbanistyczno-topogra-
ficznej utopii, jak ma to miejsce w przypadku wyżej wspomnianych
Czerniowców, o których Andruchowycz pisze: „Najlepsze ze
wszystkiego, co do tej pory udało mi się powiedzieć o Czerniow-
cach, […] w całości należy do utopii” (s. 76).
5.
W Leksykonie Andruchowycz niejednokrotnie zwraca uwagę
na umowność znaków alfabetu, na kulturę, która przenika i formu-
łuje się także wskutek kształtów liter – tych wszystkich zawinięć,
podkreśleń, brzuszków i daszków. Czernienie linią pisma niezapisa-
nych kartek papieru to zapisywanie siebie, ale i zapisywanie przez
siebie: przez własną egzystencję, poznanie, światopogląd, kulturę.
Pisze autor Dwunastu kręgów:
Polski alfabet różni się od ukraińskiego. Za sprawą tej fundamen-
talnej różnicy – między łacinką a cyrylicą – jesteśmy rozrzuceni
niemal po odmiennych cywilizacjach. Tę alfabetyczną prawdę
przypominam tylko po to, by polscy czytelnicy Leksykonu lepiej
zrozumieli, że to nie jest zwykłe tłumaczenie. To inna książka.
Niektóre jej części przemieszano, jej oryginalną strukturę naru-
szono. Nie, lepiej powiedzieć – nie naruszono jej, tylko stworzo-
no ją na nowo. To tak, jakby w powieści zamienić miejscami
część rozdziałów. Czy pozostanie sobą? Czy będzie to już zupeł-
nie inna powieść? (s. 11)
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
173
Andruchowycz zaznacza tym samym świadomość alfabeto-
wego zapośredniczenia, jakie zdaje się dominować w naszym po-
znaniu, jakie kataloguje nasze wspomnienia i inwentaryzuje przes-
trzenie epistemologicznego chaosu. Bez wiecznego uporządkowy-
wania, bez niekończącego się szeregowania, nie ma nas samych.
Autor – świadomy rezonansu własnej twórczości, odczuwający po-
tencjalność tłumaczeń Leksykonu – nieraz igra z czytelnikiem alfa-
betycznymi rozbieżnościami. Pokazuje świat namacalny i widzialny
przez umowność znaków alfabetu. Odkrywa poznanie formułowane
przez niejednoznaczność (wieloznaczność?) liter, które nie tylko
przekształcają i dopasowują, ale wręcz kształtują i tworzą. Świat to-
pografii niezmienianej słowem – nienaruszalnych mową wzgórz,
dolin i depresji – określa się tak naprawdę nie w synestezyjnym
spotkaniu z przestrzenią – zniewalającą widokami, zapachami, sma-
kami – ale w samym słownym wyrażeniu, w słownym pojęciu, pod
jakim miasto dla nas funkcjonuje. Andruchowycz przemawiający
do polskiego czytelnika, mającego w rękach polskie wydanie Lek-
sykonu, mówić może mniej wyraźnie, mniej ostro, słyszymy bo-
wiem jego głos zapisany łacińskim alfabetem. Świadomość cyry-
licznego zapisu nazw, które my znamy pod imionami Krakowa,
Lublina, Hamburga, ale i – bywa – München czy New York uderza
ze zdwojoną siłą. Jest w języku moc kultury, jest w literze siła od-
działywania. Tak jak Krzysztof Kolumb i Michał Anioł nie zaw-
sze – w wyobraźni – są tymi samymi bytami, co Cristoforo Colom-
bo i Michelangelo Buonarotti.
6.
Andruchowycz zabiera czytelnika w wędrówkę po światach
prywatnego doświadczenia. Wystarczy wspomnieć choćby o trzech
przykładach. Norymberga to poszumy i dalekie, ginące niczym
echo rozchodzące się po dolinie, coraz cichsze dźwięki: wybrzmiałe
głosy i brzmienia ukraińskiej grupy muzycznej Mertwyj piweń
(Martwy Kogut, jak podpowiada nam tłumaczka, Katarzyna Kotyń-
ska). To także akwatyczne powidoki, grupujące w pamięci obrazy
rzecznych wodorostów, ciężkiej od wilgoci trawy, miejsca, które
we władanie wzięły multiplikujące się bez końca „drzewa, polany,
mosty” (s. 296), urbanistyczno-naturalna zagwozdka, która wyraża
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
174
się w stwierdzeniu o „pięknych rybach w kanałach” (s. 296). Stras-
burg to niepewność, trema i pożądliwość zatrzymania niemalże
faustowskiej chwili, która w (poprzedniej) ukraińskiej rewolucji
wciąż dostrzegała nie tyle bezsilność, beznadzieję i niemoc, co bez-
miar wiary, motywację i afirmację życia. Mińsk to czystość totalna,
bezbrzeżna, bezmierna, ale i nieco autorytarna, niedopuszczająca
sprzeciwu. To czystość przenikliwa, bezpardonowo wkraczająca
w obszary zarezerwowane dotychczas – w naszej wyobraźni, w ste-
reotypowych osądach i obiegowych prawdach – dla jej rozlicznego
przyrodniego rodzeństwa: brudu, nieporządku, chaosu, nieczys-
tości. To przestrzeń wyrugowana z przymiotów (jak powiedziałby
Andrzej Stasiuk) „słowiańskiego syfu”, przynależnego nam i chyba
także potrzebnemu klasyfikatorowi przestrzeni.
7.
W Leksykonie odnajdujemy jednak nie tylko odbitki i powi-
doki samego autora. W Leksykonie, jako uważni czytelnicy, odnaj-
dujemy także samych siebie. Mimowolnie porównujemy, zestawia-
my, klasyfikujemy własne wspomnienia, własne podróże i ich wy-
obrażeniowe echa z zapiskami poczynionymi przez Andruchowy-
cza. Zestrajamy się, ale i jawnie kontrastujemy. Wychodzimy nap-
rzeciw jego narracji albo wyraźnie ją odrzucamy. Kontestując, po-
dając w wątpliwość i angażując się w pełni w tę grę imaginacyjnej
topografii, odpowiadamy na autorskie postulaty (choć może nie wy-
rażone expressis verbis): odnajdujemy w Leksykonie motywację do
podróży, która nie kończy się wraz z powrotem do domu.
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
175
Figa Anna
Lista (nie)obeności
Notatki o Literaturze obecnej Tomasza Mizerkiewicza
Tomasz Mizerkiewicz, Literatura obecna. Szkice o najnowszej
prozie i krytyce, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2013.
1.
Tomasz Mizerkiewicz, profesor zajmujący się dwudziesto-
wieczną literaturą w jednej z katedr Instytutu Filologii Polskiej
UAM w Poznaniu, opublikował niedawno książkę Literatura obec-
na. Szkice o najnowszej prozie i krytyce. Publikacja stanowi umie-
jętnie dobrany i dopasowany zbiór wcześniej ogłaszanych tekstów
krytycznych uzupełniony o kilka nowych notatek. Mizerkiewicz
przedstawia więc uważnym czytelnikom swojego interpretacyjnego
dorobku kompilację tekstów, które uznał za najbardziej reprezenta-
tywne dla proponowanego przez siebie tytułowego terminu „litera-
tury obecnej”. Autor pomieścił w swojej publikacji imponującą
liczbę szkiców, notatek, recenzji, interpretatorskich i analitycznych
uwag, które dla odbiorców najnowszej polskiej prozy mogą stano-
wić cenne źródło czytelniczych wskazówek, bazę dla własnych do-
ciekań, tło osobistych rozważań nad modami, tendencjami, nad pro-
zatorską dykcją czy krytycznymi szlakami, które wspólnie – autor,
krytyk i czytelnik – przecierają nadawcy, pośrednicy i odbiorcy
współczesnej twórczości. Mizerkiewicz stara się, między innymi
przez proponowaną przez siebie kategorię „literatury obecnej”,
przybliżyć stany skupienia, powidoki i echa rodzimej twórczości
kształtującej ostatnie ćwierćwiecze.
2.
Proponowany przez autora Po tamtej stronie tekstów termin
„literatura obecna” jest przez niego interpretowany dwojako. Odda-
jąc głos samemu literaturoznawcy:
Pojęcie „literatury obecnej”, nieco zadłużone w refleksji filolo-
gicznej Hansa Ulricha Gumbrechta, rozumiane będzie poniżej na
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
176
dwa sposoby. Po pierwsze, odnosić się ma do niejasnej ontologii
tego, co literackie (i nie tylko) we współczesności. Literatura jako
obiekt dzisiaj istnieniowo niepewny, chwilami nieobecny, innym
razem podejrzanie oczywisty, wreszcie – najczęściej – ujawniają-
cy się jako coś spektakularnego, widmowego. […] Literatura
obecna staje się również interesująca jako wgląd w podobne zja-
wiska nie tylko literackie […]. Drugie ze znaczeń „literatury
obecnej” akcentuje teraźniejszość czytanych poniżej utworów.
Bez wątpienia są one wyjątkowo interesującą ekspresją naszego
„teraz” kontynuują – na własnych zasadach, przy użyciu właści-
wych sobie środków – opisaną przez Karla Bohrera nowoczesną
problematykę momentu. Silniejszy akcent kładę na temporalny
wymiar pojęcia „literatury obecnej” w kilku częściach książki,
przy czym jako całość również jest ona próbą zapytania o to, ja-
kie wyobrażenia na temat udziału w teraźniejszości dają się odna-
leźć w utworach współczesnych polskich autorek i autorów.
(s. 5–6)
Ta cząstka wprowadzenia wybrzmiewa niezwykle wyraźnie. Okreś-
la w jasny sposób lekturowe drogi, punkty wyjścia i oczekiwania,
jakie autor Niczego śmiesznego przemierza w poszukiwaniu istoty
najnowszej polskiej produkcji literackiej. Jest jednocześnie obec-
ność literatury pewnego rodzaju zaprzeczeniem, potencją opozycyj-
ności w stosunku do jej innych – jakże chętnie rozdzielnych przez
recenzentów, krytyków, komentatorów – imion. Gdy pisze się o li-
teraturze zdetronizowanej, zmarginalizowanej, unieważnionej, Mi-
zerkiewicz zwraca uwagę na inne jej oblicza, nazywając nawet lite-
raturę „ekspertką od obecności” (s. 5).
3.
Książka, choć składa się głównie ze szkiców publikowanych
w ostatnich latach na łamach rozmaitych periodyków (pojawiają się
m.in. „FA-art”, „artPapier”, „Nowe Książki” czy „Odra”) i publika-
cji (np. Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009 pod redakcją
Arlety Galant i Ingi Iwasiów czy Nowe Dwudziestolecie. Szkice
o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009 pod redak-
cją Piotra Śliwińskiego), układa się w logiczną, dobrze przemyślaną
całość, która czytelnikowi podsuwa nie tylko interpretacyjne roz-
wiązania i daje analityczne podpowiedzi odnoszone do konkretnych
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
177
publikacji, ale stanowi także próbę syntezy, podsumowania ćwierć-
wiecza doświadczeń literackich. Podsumowywanie, syntezowanie
i próba wyciągania jednoznacznych wniosków z żywej materii lite-
ratury jest w zasadzie niemożliwe. Krytycznoliterackie wizje
z pierwszej połowy lat 90., wieszczące konkretne utorowanie litera-
tury, jej możliwe drogi rozwoju, nieraz okazały się już chybione.
Mizerkiewicz nie ucieka się więc do kategorycznych sądów i nie
wygłasza nieznoszących sprzeciwu poglądów. Raczej zaprasza do
lektury, wciąga odbiorcę swoich krytycznych tekstów w skompli-
kowany, wieloznaczący – a przez to tym ważniejszy, rezonujący
silniej – mikroświat polskiej prozy ostatniego ćwierćwiecza. Autor
Literatury obecnej, przy zachowaniu pewnego dystansu, który wy-
daje się konieczny u recenzenta i krytyka zajmującego się prozator-
skimi nowinkami, komentującego niemalże „na gorąco” literackie
premiery i wydarzenia, próbuje też rozpoznawać i oceniać – nieraz
gorzko, wyraźnie, mocno. Mizerkiewicz nie boi się zestawiać i po-
równywać dotychczasowego dorobku opisywanego twórcy z jego
najnowszym dziełem. Stawia noty, znaczy momenty słabsze, punk-
tuje niedociągnięcia. Nie ma jednocześnie w tym sposobie ocenia-
nia zgubnej autorytarności, przesadnej władczości i akademickiej
nieomylności. To raczej uwagi – efekt nie tyle efemerycznych im-
presji, co raczej gruntownej, dokładnej lektury i intelektualnego na-
mysłu.
4.
Opracowanie Mizerkiewicza rozdziela „obecność” literatury
pomiędzy osiem cząstek, osiem swoistych metalinii wyznaczonych
graniczną funkcją rozdziałów. Autor stara się – z charakterystyczną
dla siebie wnikliwością, ale i w przystępny sposób – opisać oraz
scharakteryzować zwrotne punkty, przemiany, wyróżniki polskiej
prozy ostatniego ćwierćwiecza. Znajdziemy więc w Literaturze
obecnej rozdział, w którym Mizerkiewicz pomieścił „propozycję
trzech spojrzeń na historię polskiej literatury po roku 1989” (s. 7),
która łatwo staje się kolejną – jakże cenną – próbą pisana owej his-
torii, wnikliwego rozbioru i ponownego zespolenia twórczości
wciąż żywej, aktywnej, wymykającej się jednoznacznym opisom.
Mizerkiewicz nie próbuje podsumowywać i nazywać żywiołu, nie
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
178
próbuje petryfikować żywej tkanki najnowszej twórczości rodzi-
mych prozaików. Jest świadomy niemożności, ale i emocji, które
towarzyszą krytykom, interpretatorom, analizatorom polskiego piś-
miennictwa ostatniej doby. Oddając głos autorowi Literatury obec-
nej:
Nader liczne opracowania krytyczne, jakie pojawiły się na przeło-
mie pierwszej i drugiej dekady, miały zwykle za zadania stworze-
nie nowych opisów ostatnich dwudziestu lat rodzimego piśmien-
nictwa. Przy okazji wyraziły chyba przekonanie, iż jest to okres
wciąż niezapisany przez historię literatury najnowszej. Wciąż nie
wiemy, „co to było”, co zjawia się przed nami, gdy chcemy się
skonfrontować z tekstami owego czasu. Zadaniem zamieszczo-
nych artykułów jest […] także podtrzymanie nadal odczuwalnej
niepewności sygnalizowanej przez tytułowe „co to było?!” Zbyt
natarczywa jest obecność tekstów z najnowszej przeszłości i zbyt
paląca aktualność historycznoliterackiego zadania, aby je wyrazić
mniej emocjonalnie. (s. 7)
To ważne świadectwo, ważna lekcja, której udziela – samemu sobie
oraz odbiorom – Mizerkiewicz. W artykułach poświęconych choć-
by katastrofizmowi oraz estetyce profanacji (które obok tekstu „Ży-
cie literackie” jako młodoliteracka metafora zmienności po roku
1989 składają się na rozdział Co to było?! Czyli z historii literatury
najnowszej) stara się wnikliwie badać, zestawiać, mierzyć się z –
jak sam pisze – „silnymi pokusami”, mając jednocześnie świado-
mość stwierdzenia, które nadało tytuł rozważaniom nad ogólnym
ujęciem polskiego dorobku literackiego ostatnich lat. „Co to by-
ło?!” – to nie tylko pytanie czy wyrzut, to także emocjonalność
bądź uniesienie burzące nieraz trzeźwość osądu, siła – bywa, że de-
strukcyjnego – zaangażowania, świadomość przemawiania z same-
go środka rzeczy. Autor Literatury obecnej nie zapomina o bagażu,
jaki niesie ze sobą to hasło.
5.
Kolejne części opracowania wydają się równie istotne. Znaj-
dziemy tam cykl artykułów nazwany przez Mizerkiewicza „opisem
współczesnego odchodzenia (od) postmodernizmu” czyli „historii
porzucania tekstualistycznego paradygmatu owej formacji” (s. 7),
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
179
cząstkę poświęconą sprawie politycznej, artykuły wnikliwie przy-
glądające się prozie o tematyce „żydowskiej i genderowej”, roz-
dział noszący tytuł Czas fantastyki, kryminału, powieści historycz-
nej, część zestawiającą problematykę debiutów literackich i sytua-
cję, którą autor nazwał „pisaniem dzieła późnego” i tę poświęconą
literaturze niezwykle obecnej (fizycznie, namacalnie, ilościowo)
w ostatnich latach: autobiograficznej, a także metaliterackiej.
W tym krótkim i schematycznym wyliczeniu zawartości najnowszej
książki Mizerkiewicza widać wielką konsekwencję i upór badacza,
który z równym zaangażowaniem i poświęceniem przygląda się
rozmaitym tekstom, należącym nieraz do porządków nie tyle od-
miennych, co wręcz przeciwstawnych. Wystrzega się genologiczne-
go wartościowania, które – takie można odnieść wrażenie – nieraz
stanowi waloryzującą dominantę, przebija się w recenzjach, omó-
wieniach, analizach niczym piętno gatunków lepszych, bardziej
wartościowych oraz tych poślednich. Autor Literatury obecnej spo-
gląda głębiej, takie podziały nic dla niego nie znaczą.
6.
Ważnym elementem Literatury obecnej jest część poświęco-
na krytyce literackiej. Autor podjął się zadania trudnego, będącego
podjęciem dialogu, który kształtować się może jako (tekstowa) roz-
mowa pomiędzy krytykami. Tomasz Mizerkiewicz zestraja własny
głos z opiniami innych, często uznanych krytyków – to zestrajanie
nieraz przeradza się w intelektualnie frapującą polemikę, czego
efektem jest urokliwy dwugłos. Dwugłos tym cenniejszy dla uważ-
nego odbiorcy polskiej prozy, który pragnie zestawienia własnej,
intymniej interpretacji z ocenami i poglądami czytelników, których
nazwać można profesjonalnymi. Mizerkiewicz pisze więc o książ-
kach Mieczysława Orskiego, Dariusza Nowackiego czy Roberta
Ostaszewskiego, pokazując czytelnikom Literatury obecnej fascy-
nujący świat krytycznoliterackiego wielogłosu.
7.
Polską literaturę „urodzoną po 1989 roku” przed kilkoma la-
ty, gdy wchodziła w swoją metrykalną dorosłość, często próbowano
porównywać z literackim dorobkiem dwudziestolecia między-
Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (6) 2014
180
wojennego. Analogie narzucały się aż za bardzo. Efektem tego pa-
ralelnego myślenia były choćby zbiorowe tomy, które zaczęły się
ukazywać pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Głos
Mizerkiewicza pobrzmiewa niejednokrotnie echem tamtych wysił-
ków i zamierzeń (Autor Literatury obecnej współtworzył tamte
opracowania, zamieszczając w nich swoje artykuły). Jest jednocześ-
nie głosem otwierającym, raczej zapraszającym niż wykluczającym
z dyskusji. Zestawienie, którego efektem jest omawiana publikacja,
pomieściło w sobie niemalże niezliczoną liczbę szkiców, notatek,
tekstów. Swoje miejsce otrzymał i zmarły niedawno Marek Nowa-
kowski, i Magdalena Tulli, i Zbigniew Kruszyński, i Rafał Ziem-
kiewicz, i Jerzy Pilch, i Zbigniew Masternak, i Piotr Paziński, i Sła-
womir Shuty, i Eustachy Rylski, i Adam Zagajewski… wymieniać
można bez końca. To wartościowa, sprawnie napisana książka –
nieraz teksty wyraźnie zaświadczają o swojej prowienencji, dając
do zrozumienia, że tworzone były jako byty osobne, ale nie stanowi
to ani wady konstrukcyjnej, ani nie zaburza toku wywodu. Co wię-
cej, pokazuje, że Tomasz Mizerkiewicz, jako uważny czytelnik,
a potem jeszcze uważniejszy krytyk, badacz, komentator, konsek-
wentnie realizuje i kontynuuje raz obraną drogę. Ścieżkę i dukt,
którym wytrwale podąża, by z ułamków, okruchów i pojedynczych
czytelniczych impresji kształtować odpowiedź nie tylko na najbar-
dziej nurtujące go pytanie: „co to było?!”, ale także – jak się wy-
daje – „co to jest” i „czym to będzie”.
181
SKŁAD REDAKCJI I LISTA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
ROCZNIKA W 2014 ROKU
RADA REDAKCYJNA
Nadieżda Bagdasarian – profesor nauk filozoficznych, Mos-
kiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. N.E. Baumana
Aleksandra Guziejejwa – doktor nauk pedagogicznych, Tomski
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, prezes stowarzyszenia
„Tomska Polonia”
Tatiana Kwiatkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa, Uniwersytet Śląski
Jędrzej Morawiecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa i socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Anna Paszkiewicz – doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa, profesor Uniwersytetu Wrocław-
skiego
Jelena Slobodian – doktor nauk filologicznych, Baszkirski Pań-
stwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. Akmułły w Ufie
Natalia Snigiriowa – doktor nauk filologicznych, Centrum Badań
Kultury Języka i Literatury Białoruskiej, Narodowa Akademia Na-
uk Białorusi
REDAKTOR NACZELNY
Rafał Czachor – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Tech-
niki w Polkowicach, Instytut Polsko-Rosyjski,
SEKRETARZ REDAKCJI
Irina Popadeykina – magister filologii, Instytut Polsko-Rosyjski
REDAKTOR TEMATYCZNY – LITERATUROZNAWSTWO
Jelena Polewa – doktor nauk filologicznych, Tomski Państwowy
Uniwersytet Pedagogiczny
REDAKTOR TEMATYCZNY – JĘZYKOZNAWSTWO
Olga Orlowa – doktor habilitowany nauk filologicznych, Tomski
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny
182
REDAKTOR TEMATYCZNY – POLITOLOGIA
Rafał Czachor – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk
o polityce, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Tech-
niki w Polkowicach, Instytut Polsko-Rosyjski,
REDAKTOR TEMATYCZNY – HISTORIA
Władimir Szajdurow – doktor nauk humanistycznych w zakresie
historii, Narodowy Uniwersytet Mineralno-Surowcowy „Gornyj”,
Sankt Petersburg
RECENZENCI ZEWNĘTRZNI ROCZNIKA W 2014 ROKU
1. Ludmiła Dubina (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet Peda-
gogiczny)
2. Artiom Kollegow (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet Peda-
gogiczny)
3. Tatiana Gonczarowa (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny)
4. Inessa Babienko (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet Peda-
gogiczny)
5. Jelena Kowaliewskaja (Rosja, Tomski Państwowy Uniwersytet
Pedagogiczny)
183
СОСТАВ РЕДАКЦИИ И СПИСОК ВНЕШНИХ РЕЦЕНЗЕНТОВ
ЕЖЕГОДНИКА В 2014 ГОДУ
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Надежда Багдасарьян – доктор философских наук, профес-
сор, Московский государственный технический университет
им. Н.Е. Баумана.
Александра Гузеева – кандидат педагогических наук, доцент,
Томский государственный педагогический университет, пред-
седатель общественной организации „Томская Полония”.
Татьяна Каятковска – кандидат гуманитарных наук в области
языкознания, Силезский университет.
Енджей Моравецки – кандидат гуманитарных наук в области
литературоведения и социологии, Вроцлавский университет.
Анна Пашкевич – доктор гуманитарных наук в области
литературоведения, профессор Вроцлавского университета.
Елена Слободян – кандидат филологических наук, Башкир-
ский государственный педагогический университет им. М. Ак-
муллы.
Наталья Снигирёва - кандидат филологических наук, ГНУ
«Центр исследований белорусской культуры языка и литерату-
ры НАН Беларуси».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Рафал Чахор – кандидат гуманитарных наук в области поли-
тических наук, Нижнесилезская высшая школа предпринима-
тельства и техники в Польковице, Русско-польский институт.
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ
Ирина Попадейкина – магистр филологии, Русско-польский
институт.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Елена Полева – кандидат филологических наук, доцент, Том-
ский государственный педагогический университет.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Ольга Орлова – доктор филологических наук, доцент, Том-
ский государственный педагогический университет.
184
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ПОЛИТОЛОГИЯ
Рафал Чахор – кандидат гуманитарных наук в области поли-
тических наук, Нижнесилезская высшая школа предпринима-
тельства и техники в Польковице, Русско-польский институт.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – ИСТОРИЯ
Владимир Шайдуров – кандидат исторических наук, Нацио-
нальный минерально-сырьевой университет «Горный».
ВНЕШНИЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ ЕЖЕГОДНИКА В 2014 ГОДУ
1. Людмила Дубина (Россия, Томский государственный педа-
гогический университет)
2. Артем Коллегов (Россия, Томский государственный педаго-
гический университет)
3. Татьяна Гончарова (Россия, Томский государственный
педагогический университет)
4. Иннеса Бабенко (Россия, Томский государственный педаго-
гический университет)
5. Елена Ковалевская (Россия, Томский государственный
педагогический университет)
185
O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM
Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona 25
stycznia 2011 roku we Wrocławiu.
Rejestracja Instytutu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej miała miejsce 11 lutego 2011 roku. Fundacja działa na
podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z póź-
niejszymi zmianami).
Majątek Instytutu stanowią środki finansowe przekazane
w momencie powstania fundacji oraz inne środki i mienie nabyte
przez Instytut w trakcie jego działania.
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodar-
czej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność
statutową.
Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie dzia-
łalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:
1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy
o Polsce w Rosji;
3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;
4.sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.
Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie, finanso-
wanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, na-
ukowo-badawczej i wydawniczej.
Więcej o bieżącej działalności Instytutu na stronie internetowej:
www.ip-r.org Informujemy o możliwości dokonywania darowizn na rzecz
Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Dane do przelewu na stronie
www.ip-r.org/kontakt Wszystkie uzyskane środki finansowe prze-
znaczane są na działalność statutową, m.in. na wydawanie Rocznika
Instytutu Polsko-Rosyjskiego.
186
INFORMACJA DLA AUTORÓW
„Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego” jest pismem poś-
więconym studiom interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzglę-
dnieniem polsko-rosyjskich kontaktów literackich, związków kultu-
rowych, stosunków politycznych. Jego celem jest poszerzanie wie-
dzy o współczesnej Polsce i Rosji, przybliżenie wyników badań
naukowych nad kontaktami dwustronnymi.
W periodyku znajdą się następujące działy:
1. Polsko-rosyjskie studia komparatystyczne, w tym badania
nad współczesną kulturą polską i rosyjską;
2. Polskie i rosyjskie badania literaturoznawcze;
3. Polsko-rosyjskie studia politologiczne;
4. Recenzje i omówienia.
Zasady recenzowania artykułów naukowych
Wszystkie artykuły są recenzowane. Pierwszej z nich doko-
nuje zespół redakcyjny, druga ma charakter recenzji anonimowej,
której dokonuje naukowiec specjalizujący się w danej dziedzinie.
Do końca procesu recenzowania autor i recenzent pozostają sobie
nie znani. Redakcja przekazuje autorowi konkluzje recenzji oraz
ewentualne wskazówki. Negatywna ocena artykułu na pierwszym
lub drugim etapie recenzji oznacza nieprzyjęcie tekstu do druku
Wymagania edytorskie dla tekstów polskojęzycznych znajdują
się na stornie internetowej Rocznika: www.ip-r.org/rocznik
187
О РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
Фонд «Русско-польский институт» был учреждён 25
января 2011 года во Вроцлаве (Польша).
Суд зарегистрировал Русско-польский институт 11 фев-
раля 2011 года. Фонд действует на основании польского закона
„О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими измене-
ниями).
Имущество Института составляют денежные средства,
переданные в момент основания фонда, и другие средства
и имущество, приобретенные Институтом за время деятель-
ности.
«Русско-польский институт» занимается некоммерческой
деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены для
общественной деятельности.
Целью «Русско-польского института» является образо-
вательная, культурная и научная деятельность в области:
1. Популяризации знаний, культурного образования,
особенно среди детей и молодёжи;
2. Распространения знаний о России в Польше и о Поль-
ше в России;
3. Развития культуры, искусства и науки;
4. Проведения научных исследований.
Реализация задач осуществляется путём организации,
финансирования и проведения образовательной, научно-
исследовательской и издательской деятельности.
Больше информации о текущей деятельности «Русско-
польского института» на сайте: www.ip-r.org
Информируем о возможности перечисления добро-
вольных денежных пожертвований на нужды «Русско-поль-
ского института». Все полученные финансовые средства пред-
назначаются для деятельности «Русско-польского института»
согласно Уставу РПИ, в частности для издательства «Еже-
годника Русско-польского института».
188
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
«Ежегодник Русско-польского института» посвящён
междисциплинарным исследованиям, в которых особое вни-
мание уделяется русско-польским контактам в области куль-
туры, литературы, языка и политики.
Целью ежегодника является расширение знаний о сов-ре-
менной Польше и России, увеличение результативности науч-
ных исследований двусторонних контактов.
Журнал состоит из следующих разделов:
1. Русско-польские сравнительные исследования в облас-
ти культуры, истории, социологии, языка;
2. Русское и польское литературоведение;
3. Российско-польские политологические исследования;
4. Рецензии.
Правила рецензирования научных статей
Научная статья, поступившая в редакцию журнала „Еже-
годник Русско-польского института”, рассматривается главным
редактором на предмет соответствия профилю журнала,
требованиям к оформлению. В дальнейшем статья направ-
ляется на анонимное рецензирование специалисту в данной
области. После получения рецензии редакция направляет
автору (авторам) письмо, в котором даётся общая оценка
статьи и принятое решение. Редакция оставляет за собой пра-
во отказать в публикации на основании рецензии.
Требования к оформлению статей на русском языке нахо-
дятся на сайте Ежегодника: www.ip-r.org/rocznik



































































































































































































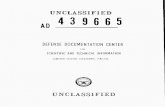






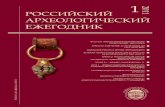
![Preparation of [5 + 6]-, [6 + 6]-, and [6 + 7]Bicyclic Guanidines fromC,C'Bis(iminophosphoranes](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f2da3d10f1687490fada7/preparation-of-5-6-6-6-and-6-7bicyclic-guanidines-fromccbisiminophosphoranes.jpg)





