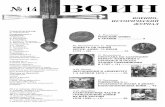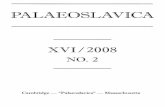Об одной сложности русско-эстонско-русского перевода:...
Transcript of Об одной сложности русско-эстонско-русского перевода:...
Текст, культура, перевод
Сборник статей по
материалам международной конференции
23 – 25 мая 2012 года Рига, Латвия
Рига 2012
УДК 811+82.0(063) T 307 Текст, культура, перевод. Сборник статей по материалам международной конференции 23 – 25 мая 2012 года. Редакторы составители : Эмма Архангельская Ирина Маркина Редколлегия: Жанна Борман (Латвия) Ирина Данилова (Швеция) Валерий Ефремов (Россия) Елизавета Костанди (Эстония) Марек Маршалек (Польша) Вероника Разумовская (Россия) Олег Семенюк (Украина) Ольга Скачкова (Латвия) Все материалы публикуются в авторской редакции ISBN 978-9984-47-070-2 Балтийская Международная академия (Baltijas Starptautiskā akadēmija) Фонд развития культуры (Kultūras attīstības fonds) Сборник издан при финансовой поддержке фонда «Русский мир» (Россия)
Содержание Ульвия Вагиф гызы Аббасова 7 Специфика перевода детективного текста (на материале переводов произведений Чингиза Абдуллаева на английский язык) Елена Берг, Марк Кит 15 Словарь как инструмент переводчика Жанна Борман 24 Имена собственные в переводе поэзии
Валентина Вегвари, Борис Вегвари 35 К аспектам лингво-психологического поведения переводчика на устных переговорах Марианна Галиева 44 Язык художественного пространства: Н.В. Гоголь, Э.Т.А. Гофман Агнешка Гаш 54 Ономатопеические глаголы «еды» и «питья» (на материале русского и польского языков) Виктория Горбань 63 Перевод как зеркало гендерных стратегий Лина Гукова, Людмила Фомина 71 Образно-прагматический потенциал топонимов в творчестве А.С. Пушкина Эва Дзвежиньска 80 Устойчивые словосочетания в переводе Малгожата Дзедзиц 88 Компьютерные технологии в переводе: возможности и проблемы (на материале занятий по переводу IT текстов)
4
Гжегож Зенталя 97 Афоризмы в современной деловой коммуникации: межкультурный и дидактический аспекты Марк Кит 109 CON TEXT или о роли контекста в переводе Ленура Короглу 116 Авторский тезаурус в журналистской практике Мария Koссаковска-Марас 123 Тонкость русского юмора как фрагмент русской языковой картины мира в процессе обучения РКИ Елизавета Костанди 133 Реклама в условиях диаспоры: проблемы перевода Сирье Купп-Сазонов 143 Об одной сложности русско-эстонско-русского перевода: категория грамматического рода Наталья Манакова 154 Пространство-время в предлогах времени и места в русском и английском языках Марек Маршалек 161 Русское слово в польской публицистике: функционально-стилистический аспект Ирина Мурадян 171 Семантика русских фразеологизмов с зоонимами в межкультурной коммуникации
Ирина Наумова 181 Роль перевода в языковой конвергенции английского и русского языков (на материале фразеологических общностей)
5
Валентина Никитенко 191 О трудностях перевода на китайский язык повести В.П. Астафьева «Царь-рыба» Фарид Рафик оглу Новрузов 201 Приёмы перевода мифологического текста (на материале перевода индийского эпоса на азербайджанский язык) Alexander Pavilch 208 Modern paradigm of comparative studies of culture: the problem of theoretical reception
Вероника Разумовская 216 Инфернальные образы «Мастера и Маргариты»: семантический и переводческий аспекты Liliya Sakaeva, Liliya Bazarova 229 Semantic implementation of conceptual GOD on the basis of English, Russian, Tatar and Turkish phraseological units, revealing concepts “HEAVEN” and “PARADISE” Олег Семенюк, Виктор Белоус 235 Политический детектив периода «холодной войны»: особенности интерпретации Елена Сирота, Нина Мигирина 246 Проблема соотношения оригинального и транслированного художественного дискурса Ольга Скачкова, Карина Астахова 255 Verborum pensitatores Надежда Сосновская 272 Китайские антропонимы в зеркале иероглифической концептуальной картины мира Ванда Стец 281 Наименования лекарственных растений в поиске межъязыковых номенклатурных соответствий
6
Марина Фильцова, Людмила Кочергина 293 Слова с грамматической валентностью инфинитива: русско-английские универсалии Елена Цыбина 302 Явления «актантная деривация» и «лабильность» в языкознании Игорь Чекулай, Ольга Прохорова 309 Концепт ВЛАСТЬ в межкультурном пространстве (на материале фразеологизмов русского и английского языков) Елена Чистова 318 Межъязыковая асимметрия в переводе терминологической единицы BRAND Насима Шарафутдинова 327 Трудности перевода научно-технических текстов с немецкого языка на русский Валентина Щаднева, Елена Вельман-Омелина 336 Традиции и нововведения в официально-деловом общении (на материале переводов в условиях диаспоры) Йоланта Юзвяк 346 Национальный колорит в переводе Elena Yurchenko 354 A Culturally Competent Learner: the Application of the Intercultural Approach at the Tertiary Level Авторы 371
7
Ульвия Вагиф гызы Аббасова
СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ДЕТЕКТИВНОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧИНГИЗА АБДУЛЛАЕВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Abstract: The article is devoted to the analysis of the translation of the novels by Chingiz Abdullayev into English. The author of the article deals with the translation problem of key words in the text? Which influence the understanding of the idea of the novel. Каждое литературное произведение воплощает индивидуально-авторский способ восприятия и организации мира, т. е. частный вариант концептуализации мира. Выражаемые в литературно-художественной форме знания автора о мире являются системой представлений, направленных адресату. В этой системе наряду с универсальными общечеловеческими знаниями существуют уникальные, самобытные, порой парадоксальные представления автора. Таким образом, концептуализация мира в художественном тексте, с одной стороны, отражает универсальные законы мироустройства, а с другой – индивидуальные, даже уникальные, воображаемые идеи. Степень соответствия универсальных и индивидуально-авторских знаний в художественной картине мира текста может быть различна: от полного совпадения, тождества – до разительного несовпадения, полного расхождения. Вследствие этого слова – концепты художественного мира вряд ли смогут быть четко и безоговорочно определены и описаны, в их концептосфере согласно законам порождения и восприятия текста может быть множество личностных смыслов. Таким образом, концептуальный анализ художественного текста предполагает, во-первых,
8
выявление набора ключевых слов текста; во-вторых, определение базового концепта (концептов) этого пространства; в-третьих, описание обозначаемого или концептуального пространства. Предпосылками анализа концептуального пространства текста можно считать достижения психолингвистики и традиционной стилистики. Психолингвистические эксперименты, направленные на исследование смыслового восприятия речевого сообщения и текста, подтверждают, что читатель воспринимает текст концептуально, в его смысловой целостности. При этом в процессе понимания текста осуществляется компрессия его содержания, ведущая к укрупнению, объединению текстовых фрагментов в смысловые блоки на основе общих семантических доминант, которые затем (при восприятии) представляют в наборе ключевых слов. Большое значение для формирования концептов имеют повторяющиеся в тексте слова, называемые по-разному: слова – лейтмотивы, лексические доминанты, но чаще - ключевые слова. Одна из труднейших задач лингвистики текста – выделение подобных ключевых элементов текста, ибо последовательной методики их обнаружения и анализа пока нет. Важны в порождении ключевых доминантных смыслов слова. Обнаруживающие в тексте разнообразие и богатство лексических связей, предполагающих отношения синонимии, антонимии, морфологической производности (однокоренные слова), семантической производности (возможные образные употребления данного слова) и вообще любые отношения, при которых сопоставляемые слова обладают видом семантической общности. Концептуальный анализ может быть выполнен как на материале одного литературно-художественного произведения, так и на материале множества произведений одного автора. В качестве примера концептуального анализа отдельного
9
художественного текста приведем исследование концепта «прекрасное алиби» в романе Ч.Абдуллаева «Мое прекрасное алиби». С самого начала отметим, что этот эпитет выполняет метафорическую функцию. Впрочем, не будет преувеличением называть все привлекаемые нами в качестве объекта изучения романы тоже метафорическими («Зло в имени твоем», «Измена в имени твоем»). Такое отношение писателя к названию своих произведений еще раз доказывает, что он вкладывает в них знаковый и кодовый смысл, который нацеливает читателя на осмысление и перекодирование его для себя. С другой стороны, отметим, что исследование указанного концепта в оригинале будет сопровождаться с описанием его и сохранностью в тексте перевода. Ключевое слово романа вынесено в сильную позицию текста – в позицию заглавия, что подчеркивает его концептуальную значимость. Этот эпитет в заглавии конкретизирован, что проясняет его семантику, делает ее определенной, вместе с тем создавая для читателя эффект напряжения, ожидания, эффект загадки, которую нужно разгадать. Писатель с самого начала пытается вызвать интерес к произведению, сделать его умным и интеллектуальным. Не случайно главный герой этого романа к концу его выражает свое отношение к тем детективным книгам, которые не пробуждают интерес читателя: «Пробовал читать книгу, не получается, не интересно. Особенно глупые детективы не люблю. Там убийцы – обязательно такие чудовища без жалости и сомнений. Стреляют всех подряд, чтобы замести следы. Чуть что, хватаются за пистолет. А по логике я тогда в Филадельфии и Леонида убить должен был. Ведь он меня в лицо хорошо запомнил и про руку мою отсутствующую знал. Но это такая глупость. Никогда не делал бесполезных вещей. Никогда не убивал ради убийства. Это не для меня. Крови я не люблю,
10
хотя много ее видел. Одного из своих «клиентов» я задушил проводом. Намотал его на свой левый протез и правой набросил ему на горло. А потом долго держал, пока он трепыхался. Но это, конечно, глупо было. С моей одной правой в ближний бой вступать нельзя, очень опасно, может подвести меня в нужный момент мой протез. А вот с расстояния в сто метров мне равных не было. Здесь уже я действовал как настоящий профессионал, достаточно было положить винтовку или ружье на мой левый протез и поймать цель» [Абдуллаев Чингиз, 1996:451]. “I tried to read a book but it was impossible, uninteresting. Especially those stupid whodunits. I didn’t like them. The murderers in thgem were such mousters, without mercy or second thoughts. Shoot everyone to cover their tracks. They pulled their guns out at the drop of a hat. By that logic, I should have killed Leonid in Philadelphia because he knew my face well and knew about my hand. What nonsense. I never did useless things like that, never killed for the sake of murder. It’s not for me. I don’t like blood even if I did see a lot of it. One of my marks I stangled with a wire. I wound it around my artificial limb and threw it over his throat with my right and then held him for a long time while he writhed. But it was foolish. With only one hand, I don’t do hand to hand combat, it’s too dangerous. And the limb could let me down at any moment. But from a hundred yards away, I had no equal. I worked like a true professional. All I had to do was sling a rifle on my left , and catch the target [Abdullayev, Chingiz, 1998:119] . Здесь автор через монолог героя не только передает его рассуждения относительно глупых детективных произведений, но и предупреждает читателя, что он как автор детективных романов совершенно по другому выстраивает сюжеты и по иному, уважительно относится к запросам читающей публики. Вместе с тем приведенный фрагмент содержит концептосферы, ядро которых
11
семантически и сегментно воплощены в названии романа, о чем более детально мы скажем далее.
Итак, роман называется «Мое прекрасное алиби», который на английский язык передается как “My perfect alibi”. Первая часть переводного эпитета имеет следующие словарные значения:
1) совершенный, идеальный; безукоризненный 2) законченный, цельный 3) точный, абсолютный, полный 4) настоящий, истинный 5)хорошо подготовленный, достигший совершенства 6) грам. перфектный [Горбачевич К.С., Хабло Е.П., 1979: 520]. Все коммуникативное значение прилагательного верно передано этим словом. Именно слово «perfect», а не “beautiful” характеризует семантику компонента оригинала. Метафоричность в сочетании с определяемым словом создает непосредственно это прилагательное. Если «алиби» осмысливается как свидетельство о непричастности обвиняемого к преступлению, то определение «прекрасное» вносит в его содержание загадку и необычность.
Однако мы не можем принять упрощения образной конструкции. Усилительное прилагательное «абсолютный» сгущает синонимический ряд и придает определяемому слову «алиби» более устойчивый характер. Более того, если «прекрасное» положительно характеризует определяемое слово, то «абсолютный» определяет его безусловность и не имеющего сравнения. Хотя слово “perfect” обладает в своем словарном значении смыслом «абсолютный», тем не менее, на наш взгляд, синонимическое усиление оригинала должно было быть передано.
Динамический характер метафоры проявляется в характере ее текстового развертывания. Не случайно в
12
повествовательной структуре романа репрезентирующий ее эпитет повторяется, каждый раз в новом свете раскрывая аспекты одной и той же ситуации « прекрасного алиби». Роман представляет собой исповедь киллера, заказного убийцу, который рассказывает о своих пяти убийствах, в пяти эпизодах произведения. Рассказ в мелочах передает все те ощущения, поступки и действия, которые раскрываются через речь главного героя. В данном романе ключевые слова очерчены сразу в первом текстовом фрагменте. Семантика ключевого слова «прекрасное, абсолютное алиби» («the perfect alibi»] раскрывается через сочетание «моя левая рука»(“left hand”). Первичность и знаковость метафоры делает ее ключевым для словоформулы «моя левая рука». В последующем в некоторых фрагментах текста эта ближайшая периферия функционально заменяет ключевое слово, в других они чередуются. Обратимся к текстам в повествовательной последовательности: «смотрели на меня и мою изувеченную руку, как на надоедливую собаку или как на пустое место» [Абдуллаев Чингиз, 1996:350] – “the hookers looked at me like I was an animal, or just an empty space” [ Abdullayev, Chingiz, 1998: 3] . «Есть у меня специальные перчатки и специальный протез. Когда ты его одеваешь, вполне можно спутать, решив, что мо левая рука снова выросла» [Абдуллаев Чингиз, 1996:356] . – “I have these special gloves and an artificial limb. When I put it on, you could mistake it for the real thing. [Abdullayev, Chingiz, 1998:.20] . « Я привык к своему протезу и теперь мне так неудобно с одной правой рукой. Но зато, какое это прекрасное алиби [Абдуллаев Чингиз, 1996:387] .
13
– “I’d gotten used my artificial limb and working with one hand is so strenuous. But it really it the perfect alibi”[Abdullayev, Chingiz, 1998: 52]. «Что может сделать безрукий инвалид против двух откормленных буйволов. [Абдуллаев Чингиз, 1996:38] – “what could a one – handed invalid do to two well fed bulls”[Abdullayev, Chingiz, 1998: 51]; «охранники даже не смотрели на однорукого ветерана» [Абдуллаев Чингиз, 1996:388] – “the guards didn’t look at the one-handed veteran” [Abdullayev, Chingiz, 1998: 52]; «и потом у меня есть такое прекрасное алиби – мой левый протез [Абдуллаев, Чингиз, 1996:396]. – “and I always have the perfect disguise – my artificial limb”[Abdullayev, Chingiz, 1998: 61] . «спасибо вам, – сказала женщина, не решаясь дотронуться до его левой протезированной руки» [Абдуллаев Чингиз, 1996:421]; – “thank you” – she said and decided against touching the artificial hand” – [Abdullayev, Chingiz, 1998: 88]; «за мой левый протез, которым я так хорошо пользовался. За мое прекрасное слиби» [Абдуллаев Чингиз, 1996:433] – “for my perfect disguise, my alibi” [Abdullayev, Chingiz, 1998: 101] «итак уже ходят нехорошие слухи об одноруком» [Абдуллаев Чингиз, 1996:435] - “There are already all kindfs of rumors about a one-handed man” [Abdullayev, Chingiz, 1998: 103] , «единственная информация, которую удалось получить, это неясные сведения насчет раненой левой руки киллера [Абдуллаев Чингиз, 1996:447] . – “the only information they had were vague rumors about the killer’s wounded left hand” [Abdullayev, Chingiz, 1998: 115]; «человек с одной рукой не может быть профессиональным убийцей» [Абдуллаев Чингиз, 1996:448] – “a man with one hand can’t be a professional murderer“ [Abdullayev, Chingiz, 1998:116] ; « к его удивлению дрожал даже левый протез, словно ставший живым и чувствительным, как его здоровая
14
рука» [Абдуллаев Чингиз, 1996:454] – “to his surprise the artificial one alos shook and became alive and sensitive like a healthy hand” [Abdullayev, Chingiz, 1998: 121]; «говорят, убийцу до сих пор не могут найти, но некоторые слышали, что это был однорукий. У него всегда хорошее алиби, никто не может заподозрить в одноруком инвалиде преступника, убийцу» [Абдуллаев Чингиз, 1996:455] – “the said that they couldn’t find the murderer until now, but someone heard that it was the one-handed man. He always had a good alibi”[Abdullayev, Chingiz, 1998: 122]; «правда, для своего алиби мне пришлось вытащить еще один труп» [Абдуллаев Чингиз, 1996:462] – “for the sake of the alibi I had to pull out one of the bodies” [Abdullayev, Chingiz, 1998: 130].
Литература
Абдуллаев Чингиз, (1996) Мрак под солнцем. В кн : Мое прекрасное алиби; любить и умирать только в Андорре. Романы. Ростов-на-Дону: Издательство: «Проф-Пресс»; Харьков6 ЧПКР, «Реванш», 544 с. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. (1979) Словарь эпитетов русского литературного языка. Л: Наука, 567 с. Abdullayev, Chingiz. (1998) My perfect alibi. New York, 130 p.
.
15
Елена Берг, Марк Кит
СЛОВАРЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕВОДЧИКА
Аннотация: В статье характеризуются свойства переводных словарей в контексте современных требований к переводу. Обсуждается возможность и необходимость измерения различных параметров словаря; раскрываются теоретические аспекты разработки словаря нового поколения. Abstract: The paper describes features of cross-language dictionaries in the context of contemporary requirements to translation. Feasibility of measurement of various parameters of dictionaries and the need for that are discussed. Трудно поспорить с утверждением, что словарь – главный инструмент переводчика. Действительно, без словаря невозможно сделать качественный перевод, а в некоторых случаях – вообще понять смысл текста. Несомненно, востребованными для переводчика являются словари различных типов: толковые, аспектные, культурно-речевые. Однако основным инструментом переводчика является словарь многоязычный, называемый также переводным словарем. Именно его использование лежит в основе переводческой деятельности, и только после работы с переводным словарем может возникнуть необходимость в обращении к словарям других типов. В то же время, составлению переводных словарей в лексикографии уделяется меньшее внимание, о чем весьма убедительно свидетельствуют словарные определения самой лексемы «словарь». Словарь – собрание слов какого-либо языка азбучным порядком или по словопроизводству расположенных [Словарь Академии Российской, 1806-1822].
16
Словарь – собрание слов, принадлежащих какому-нибудь языку, расположенное для более удобного пользования им в том или другом систематическом порядке, чаще всего – в чисто внешнем, алфавитном [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 1890 – 1907]. Словарь – книга, содержащая перечень слов, расположенных по тому или иному принципу (например, по алфавиту), с теми или иными объяснениями [Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова, 2000]. Словарь – книга, содержащая перечень слов, обычно с пояснениями, толкованиями или переводом на другой язык. [Словарь современного русского литературного языка в 17 т., 1948-1965]. Словарь – справочная книга, содержащая собрание слов (или морфем, словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по определенному принципу, и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе на др. язык и т. п. (лингвистические словари) или информацию о понятиях и предметах, ими обозначаемых, о деятелях в каких-либо областях науки, культуры и др. [Новый энциклопедический словарь. 2000]. Словарь – собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык (Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой.) [Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю., 1997.]. Dic�tio�nary – 1. a book of alphabetically listed words in a language, with definitions, etymologies, pronunciation and other information; lexicon; 2. a book of alphabetically listed words in a language with their equivalents in another language; 3. Any alphabetically arranged list of words or articles related to a special subject. [Webster’s New World College Dictionary, 2004].
17
Лишь в части определений упоминается помещение в словарной статье перевода слова на другой язык. Тем не менее, переводные словари существуют, они издаются, переиздаются, совершенствуются, однако далеко не все они удовлетворяют запросам переводчика. Обратимся к существующим формам словарей. Традиционными, обслуживающими нужды переводчиков уже в течение столетий, являются бумажные словари (книги), являвшиеся до недавнего времени их единственной формой. С развитием информационных технологий на смену им стали приходить словари электронные, представляющие информацию (как правило, в традиционном виде и порядке) на электронных носителях. Однако самым новым явлением в лексикографии можно назвать появление такой разновидности электронных словарей, как сетевые словари, при пользовании которыми абонент обращается к базе данных, расположенной на каком-либо сетевом сервере, и получает с него затребованную информацию. Очевидным преимуществом сетевых словарей является возможность постоянного изменения и дополнения их содержания в любое время. И хотя доступ (нередко массовый) к возможности изменения содержания словаря приводит к тому, что корректность содержания таких словарей может вызывать сомнения (в связи с чем ни один сетевой словарь не может быть рекомендован в качестве нормативного источника), именно возможность ежеминутного обновления сетевых словарей и делает их постоянно современным инструментом, способным отразить сегодняшнее состояние лексики языка и (в переводных словарях) современные представления о переводе той или иной лексической единицы. Еще одна особенность сетевых словарей, облегчающая работу над переводом: если при
18
пользовании печатными переводными словарями для проверки правильности выбранного варианта перевода необходимо обращаться к разным отдельным изданиям, например, при выполнении перевода с английского языка на русский сначала ведется поиск слова в англо-русском словаре, а потом проверка правильности выбранного варианта осуществляется с помощью русско-английского словаря, то в сетевом словаре это можно делать, не выходя из программы или вебсайта. Кроме того, сетевой словарь имеет и такое значительное преимущество перед словарем печатным, как возможность быстрого поиска вариантов перевода запрашиваемой лексической единицы (слова или словосочетания). Такая возможность особенно ценна в связи с тем, что работа переводчика неизбежно требует высокой производительности его труда. Исследования, проведенные нами в компании Language Interface Inc., показывают, что при интенсивной работе над переводом средняя частота обращений к словарю составляет 45 раз в час. При такой частоте запросов поиск нужного значения в печатном словаре приводит к огромной потере производительности труда переводчика (до 74%) [Кит М., 2010: 150]. Кроме того, производительность существенно снижается из-за потери концентрации внимания на переводе, которую испытывает переводчик на время обращения к словарю. В связи с этим при современных требованиях к скорости перевода использование бумажных словарей становится почти невозможным в силу низких темпов работы с ними. В условиях стремительного распространения новых средств коммуникации жизнь и язык меняются очень быстро. С сожалением приходится признать, что печатные словари неспособны отозваться на эти изменения и нередко устаревают задолго до выхода в свет. Ведь ни для кого не секрет, что издание словаря занимает годы, а нередко и десятилетия.
19
Вследствие этого в ряде случаев могут возникать справедливые сомнения в том, отражает ли словарь современное состояние словарного состава языка, насколько адекватно употребление помет «устар.», «разг.» и других. Представляется, что настало время внимательно изучить сегодняшнее состояние лексикографии, в частности, принципы составления переводных словарей, чтобы понять, какие из этих принципов устарели и нуждаются в пересмотре с целью улучшения главного инструмента переводчика – словаря, позволяющего полноценно работать в условиях информационного общества и успешно решать стоящие перед переводчиком задачи. Мы предлагаем рассматривать словарь как лексическую информационно-поисковую систему. Такое определение справедливо и для переводных словарей, и для словарей других типов (например, толковых). В каждом отдельном событии пользования любым словарем пользователь производит поиск необходимой ему информации, будь то перевод слова, дефиниция или некоторый атрибут лексической единицы (этимология, примеры употребления). Применительно к переводным словарям главное назначение этой информационно-поисковой системы – найти такой перевод запрашиваемой лексической единицы, который необходим пользователю в данной текстовой ситуации. Для полноценного функционирования системы, обеспечивающего эффективную работу переводчика, словарь должен обладать достаточной полнотой представления лексики языка и средствами эффективного поиска нужных единиц в этом массиве лексики. Словарь как информационно-поисковая система обладает некоторыми свойствами, являющимися неотъемлемыми характеристиками словаря, независимо от того, заявлены они или нет, проводилось ли их тестирование или они
20
принимаются на веру. В идеальном случае составители словарей закладывают эти свойства в форме требований, предъявляемых к словарю, и придерживаются этих требований при работе по его созданию. Либо впоследствии может быть проведена проверка свойств любого словаря как готового продукта; такое тестирование можно осуществлять путем полного или выборочного анализа словарных статей, проводимого экспертами. Что же можно отнести к основным свойствам словарей? Во-первых, – объективность и актуальность. Словарь должен непредвзято отражать современные ему взгляды общества на значения лексических единиц. Если лексикограф считает гомосексуалистов извращенцами и преступниками и редактор придерживается тех же взглядов, то словарная статья может недвусмысленно зафиксировать это мнение, усиливая его и (если данный словарь является официальным нормативным источником) – в ряде случаев влияя на позицию юристов и решения судов. Другим свойством словаря является полнота описания лексики, то есть диапазон лексики, охватываемой словарем. Например, в результате экспертной оценки или изначально заложенных условий заявлено, что словарь охватывает общеупотребительную лексику в диапазоне частотности от 1 до 8000 по кривой Ципфа или что в словаре представлены все известные инженерно-строительные термины. Еще одно принципиально важное свойство – корректность описания лексических единиц. Например, выборочный анализ словарных статей показал, что 98,7% содержащихся в словаре терминов корректны на момент проведения теста (указание времени необходимо только в отношении электронных словарей, содержание которых может меняться). Или же заявлено, что «настоящий
21
словарь составлен коллективными усилиями интернет-сообщества и правильность переводов и/или толкований не гарантируется». Такие сведения позволят пользователям быть готовыми к наличию возможных неточностей или ошибок в словаре, либо выбрать для конкретной работы другой словарь, обеспечивающий более высокую точность. Еще одним важным свойством словаря является глубина описания лексики. Это свойство показывает, какая информация кроме заглавного слова дана в словарной статье: перевод, акцентологическая справка, основные грамматические формы, грамматические признаки, транскрипция, этимология и т.д. И, наконец, такое свойство словаря, как быстродействие представляет собой весьма актуальную для современного Интернет-пользователя характеристику, обозначающую время от запроса исходного слова до выдачи перевода (эта характеристика применима только к электронным словарям) [Кит М., 2010:151], например: Lingvo Multitran Multilex LexSite Скорость реакции, сек 2,66 3,23 1,20 0,6 Признание того факта, что словари обладают определенными измеряемыми характеристиками, сыграло бы положительную роль на всем протяжении их жизненного цикла. В производстве предварительное задание характеристик используется для решения двух задач: создания продукта с конкретными заданными свойствами и проверки соответствия готового продукта заданным требованиям. Некоторые характеристики переводных словарей задаются при их разработке, но нам не известны случаи проверки этих характеристик в готовых словарях. Такие проверки можно было бы выполнить путем выборочного анализа. Так, глубина описания лексики проверяется
22
на выборке словарных статей и делается заключение о доле статей, для которых дано заявленное авторами-составителями описание. Кроме того, фиксация свойств изделий позволяет сравнивать их между собой. Например, можно утверждать, что словарь А превосходит словарь Б по корректности на 3%, но уступает ему по полноте описания лексики в заявленной области знаний. Завершая разговор о современных требованиях к словарю как основному инструменту переводчика, необходимо сказать, что деятельность переводчика, ориентированная на традиционные формы работы (использование бумажных словарей или словарей с неизвестными характеристиками), в современных условиях уже не может обеспечить полноценный результат. Активное развитие информационного общества закономерно диктует свои условия, в соответствии с которыми переводчик оказывается поставленным в узкие временные рамки при высоких требованиях к качеству перевода. Уже давно назрела необходимость в появлении словарей нового типа, характеристики которых не только определены и корректируются, но и способны адаптироваться к нуждам пользователей. Безусловно, теоретическое определение необходимых показателей – еще не решение проблемы. Однако уже делаются и практические шаги на этом пути. В частности, в компании Language Interface Inc. (США) с 2009 года ведется разработка общедоступного лексического ресурса LexSite [Lexical Resource LexSite, 2012], анализирующего запросы, подаваемые пользователями и реагирующего на специфику этих запросов. Этот ресурс работает с конца 2009 года, в настоящее время расширяется его лексическое наполнение и ведутся работы по отладке механизма адаптации. Обеспечение объективности и корректности описания лексики пока остаются
23
вопросами будущего, однако правильная постановка задачи – важный шаг на пути к их решению. Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что все приведенные примеры были взяты из многолетней практики переводческой компании Language Interface Inc. (США) или являются результатами исследований, проводимых авторами настоящей работы.
Литература Кит М. (2010) О стратегии построения высокоэффективных сетевых словарей. На примере разработки словаря LexSite. Вестник РГГУ № 9; Сер. «Языкознание/МЛЖ», Москва: РГГУ, с.149 – 160. Новый энциклопедический словарь. (2000) Москва. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. (1997) Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. Москва. Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. (1806-1822) В 6-ти ч. С.-Перебург. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. (1948-1965). Под ред. А. М. Бабкина, С. Г. Бархударова, Ф. П. Филина и др. Москва-Ленниград. Толковый словарь русского языка: В 4 т. (2000.). Под ред. Д. Н. Ушакова. Москва, 1935 – 1940. Репринтное издание, Москва. Энциклопедический словарь: в 86 т.( 1890 – 1907). Под ред. И.Е. Андреевского, К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского. С.-Перебург: Издание Ф. А. Брокгауза, И. А. Ефрона. Webster’s New World College Dictionary. (2004) Fourth Edition. Wiley, John & Sons, Incorporated. Lexical Resource LexSite. (2012) http://www.langint.com, 2012.
24
Жанна Борман
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности передачи имен собственных в переводе поэтического текста на примере переводов поэзии Эриха Кестнера на русский язык, выполненных Е.Г. Эткиндом. Имя собственное может быть предано в переводе просто при помощи ономастического соответствия, но в данной статье мы остановились на «неклассических» способах, которые возможны в переводе художественного текста: пропуск имени, замена имени и введение нового имени в текст перевода. Abstract: The paper explores the characteristic features of recreation of proper names in the translation of a poetic text as a case study of Efim Etkind’s translations of Erich Kästner’s poems into Russian. Normally, a proper name can be recreated by way of simple onomatological cross reference; however, the paper focuses on non-traditional methods of recreation possible in the translation of a literary text: omission, substitution and introduction of a new name in the text of translation.
Практикам перевода хорошо известно, что установка на дословную точность перевода не всегда совместима с установкой на точность смысловую. При этом, как заметил К. И.Чуковский, во всяком мастерстве, в том числе и мастерстве перевода, неминуемо отражается мастер [Чуковский К., 1936: 41].
Происходит это и при передаче имен собственных (ИС). Ономастическая лексика – это яркая индивидуальная черта стиля писателя. В. М. Калинкин называет в качестве основных отличительных признаков поэтонимов по сравнению с ИС в языке принципиальную динамичность содержания, неустойчивость по отношению к ономастической или апеллятивной лексике, гегемонию эстетической функции и доминирование в
25
семантической сфере «поэтических» коннотаций [Калинкин В., 1999: с.62-63].
Эти особенности поэтонимов проявляются в любом художественном тексте, но особенно ярко они заметны, на наш взгляд, в поэзии, где ИС не имеют основной задачей именование действующего персонажа или места действия, а, скорее, призваны создавать ономастический фон, служить опознавательными знаками факультативного характера. Поэтому первоначальной задачей переводчика будет выявление роли конкретного ИС в поэтическом целом, с тем чтобы впоследствии выбрать подходящий способ его передачи в переводе. Возможные решения такой задачи будут проанализированы в данной статье на примере переводов поэзии Эриха Кестнера на русский язык, выполненных Е.Г. Эткиндом.
Эрих Кестнер (1899-1974) - немецкий писатель, сценарист и кабаретист. Свою популярность в Германии он завоевал благодаря полным юмора произведениям для детей и поэзии на злободневные темы. «Наставник нации», глубоко уважаемый читающей публикой и вызывающий споры в кругу собратьев по перу – такую уже испытанную временем характеристику получает Кестнер в канун столетнего юбилея (Stolle P., 1998). Наряду с Б.Брехтом, К.Тухольским и др. Кестнер был представителем течения «лирики для всеобщего употребления» (Gebrauchslyrik) (Remo H., 2006, S.38). Это направление в немецкой литературе (1918-1933), возникшее в период Веймарской республики и закончившееся с установлением в Германии фашистской диктатуры. «Подчеркнуто трезвое и реалистическое, холодно-дистанцированное от наблюдаемого объекта, оно использовало повседневную лексику и ориентировалось на злободневные сюжеты» (Науйокс М., 2011).
26
Рассматриваемые в статье переводы Е.Г. Эткинда включены в изданную автором двуязычную обратную антологию немецкой поэзии «Маленькая свобода» (Эткинд Е., 1998) и являются, по словам Е.А. Кацевой, своего рода подведением предварительных итогов переводчика, теоретика перевода и литературоведа Е.Г. Эткинда к своему юбилею (Кацева Е., 1999). Почти все переводы, включенные в данную антологию, возникли в десятилетие между 1955 и 1965 годами, в «золотой век» поэтического перевода [Эткинд Е., 1998: 548]. «Маленькая свобода» - это название сборника Эриха Кестнера, вышедшего в Москве в 1962 году. «Так может называться и вся наша переводческая деятельность той глухой поры», - отмечет Е.Г. Эткинд (там же).
Пропуск имени ИС художественного текста выступает
предельно информационно насыщенной единицей, т.к., обозначая объект, включает весь запас знаний «говорящего» о нем [Кухаренко В., 1988:с.102]. Предполагается, что при восприятии текста нужные компоненты этого объема знаний могут быть актуализированы. Часто, однако, это будет справедливо для текста оригинала, но затруднено при восприятии перевода. Здесь можно говорить о феномене прецедентности имени в рамках одной культуры [см. Гудков Д., 1999]. Так, в стихотворении Заповеди для бедняка (Knigge für Unbemittelte) Кестнер употребляет названия нескольких немецких городов: Ulm, Kiel, Thorn, Trier (см. таб.1).
Названия этих городов хорошо знакомы представителям немецкой культуры и, очевидно, гораздо менее знакомы среднему русскому читателю. Поэтому Е.Г. Эткинд не сохраняет эти ИС в своем переводе, передавая, тем не менее, их функцию, используя так называемый «описательный» перевод [Ермолович Д., 2001:35-
27
36], когда ИС заменяется именем нарицательным, что можно считать вполне оправданным в рамках стихотворного текста, т.к. за счет передачи названий городов Ульм, Трир и т.д., еще и в контекстуально необходимой форме косвенного падежа, стих был бы фонетически и ритмически перегружен, хотя и максимально сохранил бы при этом ономастикон оригинала.
Два других примера пропуска ИС встречаются в переводе стихотворения Размышления при попадании под автобус (Gedanken beim Überfahrenwerden). Поскольку перевод этого стихотворения изобилует примерами творческой работы с именами, что мы увидим и далее, необходимо коротко описать лирический сюжет: лирический герой находится в «процессе попадания под автобус», его мысли путаются – он вспоминает, во что он одет, куда собирался пойти вечером, кто живет здесь неподалеку, как отреагируют его родные на то, что он умер и т.п. Сравним фрагменты оригинала и перевода (см. пример 1 в таб. 2). Как видим, упоминаемый в оригинале Артур, который живет неподалеку, исчезает в переводе, при этом важнее, конечно, что сохраняется сама сбивчивость мыслей, соответсвующая состоянию лирического героя.
Еще один пример пропуска ИС находим в переводе этого же стихотворения (см. пример 2 в таб. 2).
Здесь еще в большей степени передача ИС редуцируется до передачи его функции в тексте. Мефистофель важен только как известный сценический образ (лирический герой собирался в театр, но теперь он не услышит, кто поет арию Мефистофеля, т.к. попал под автобус) и вместо него может быть использован другой сценический образ, например, наяда. Правда, при этом переводчику приходится изменить и вид искусства с пения на танец. Необходимость замены Мефистофеля на
28
наяду вызвана, как нам представляется, прежде всего ритмической заданностью, но решение переводчика вполне отвечает стилистике оригинала.
Появление нового ИС в переводе Если пропуск ИС – факт достаточно
ожидаемый в переводе поэтического текста [ср.: Борман Ж., 2006:122, 131 и др.], то появление ИС там, где его в оригинале не было, - это уже творческий прием переводчика, который не встречается столь регулярно. Е.Г. Эткинд использует его в переводе двух стихотворений. Сначала рассмотрим стихотворение Излечим ли голод (Hunger ist heilbar) (см. таб.3).
Е.Г.Эткинд вводит в свой перевод имя Фриц. Это достаточно распространенное немецкое имя. Кроме того, переводчик опирается на прецедентность этого немецкого имени в русской культуре. Фрицами, как известно, называли во время Великой Отечественной войны фашистских захватчиков, т.е. имя Фриц получает генерализирующее значение ‘немец’, которое будет понятно русскому читателю. Односложное имя - как и слово оригинала Mann – оно хорошо встраивается в ритмическую структуру стиха, чего нельзя сказать о словах мужчина или человек, являющихся эквивалентами слова Mann в русском языке. Кроме того, данное стихотворение Кестнера имеет подзаголовок Немецкая аллегория и имя Фриц является своего рода ономастическим подкреплением заявленной в подзаголовке темы. Два других примера появления ИС встречаем в переводе стихотворения Тень отца Гамлета (Hamlets Geist). Уже само название отсылает читателя к ассоциациям, связанным с трагедией Шекспира, поэтому нет ничего удивительного в том, что имя Шекспир появляется в тексте перевода (И вошел в свои права Шекспир). Это имя, как и имена Гертруда и Полоний, которых нет в оригинальном
29
стихотворении, появляются в переводе, видимо, из ритмических соображений. Согласно лирическому сюжету стихотворения, пьяный актер, исполняющий роль отца Гамлета, ведет себя соответствующим образом (см. контекст в таб. 4).
Можно сказать, что появление имен героев трагедии Шекспира вполне оправдано, т.к. задано темой стихотворения, хотя определенная модификация восприятия при этом происходит, т.к. часть работы, которую выполняет при чтении оригинала читатель (выстраивание ассоциативного ряда из имен: Gattin - супруга призрака – Гертруда, König - король - Полоний), здесь уже выполнена переводчиком.
Замена имени Использование в переводе ИС, отличного от
оригинального, или преобразующий перевод [Ермолович, 2001:35-36], часто используется для передачи говорящих имен, например в переводе сказок. В переводах Е.Г. Эткинда, на наш взгляд, следует снова говорить о стремлении выдержать ритмическую структуру и передать не столько само имя, сколько его функцию.
В уже упоминавшемся стихотворении Размышления при попадании под автобус переводчик несколько раз использует прием замены имени (см. пример 1 в таб. 5).
Как видим, имя Dorothee заменяется в переводе именем Анна, одним из самых частотных имен во многих европейских языках, широко распространенным и в немецкой, и в русской языковой среде. Dodo – краткая форма имени, выражающая значение близких взаимоотношений, – не передается каким-то особым способом, переводчик опускает ИС и использует имя нарицательное вдова (случай первой группы), развивая тем самым собственную интерпретацию оригинала, данную выше (ср. в переводе
30
испугается жена, тогда как в оригинале ‘испугается Доротея’).
В переводе этого же стихотворения встречаем еще один интересноый случай замены имени (см. пример 2 в таб.5). Очевидно, имя Пастернака исчезает из перевода Е.Г.Эткинда по цензурным соображениям, ведь рассматриваемые переводы создавались, как мы отмечали выше, между 1955 и 1965 годами, в эпоху травли Пастернака в СССР. Поэтому в переводе и появляется Гофман.
И наконец, еще один случай замены имени встречается в переводе стихотворения Сердце в зеркале (Das Herz im Spiegel). Лирический герой приходит к врачу на рентген, а потом рассматривает снимок и содрогается при виде своего сердца, лишенного чего бы то ни было возвышенного. Сравним фрагмент стихотворения в оригинале и переводе (см. таб. 6).
Имя Hildegard – древнее германское имя, оно связывается в немецкой культурной традиции с древней историей, с национальным самосознанием и обладает возвышенными коннотациями, что и используется в стихотворении для контраста высокого, духовного (мое сердце, возлюбленная Хильдегард) и низкого, плотского (рентген, мышцы, жир, ребра). Использование имени Елена в русском переводе создает аналогичный эффект (Елена Прекрасная, Елена Премудрая – героини русских народных сказок, поэтому возникают ассоциации с русским фольклором). Но имя Елена хорошо еще и тем, что это знаковое имя античной мифологии, и данный факт позволяет переводчику остаться в рамках европейской традиции, без лишней адаптации стихотворения к культуре языка перевода. ИС может быть предано в переводе поэтического текста просто при помощи ономастического соответствия, и это является классическим и
31
наиболее распространенным способом передачи ИС в переводе. В данной статье мы остановились на «неклассических» способах, которые возможны и вполне уместны в переводе художественного текста. Во всех проанализированных случаях первоначальной задачей переводчика было выявление роли конкретного ИС в поэтическом целом. Принимая во внимание возможную прецедентность имени, а также учитывая ритмическую структуру стихотворения, переводчик мог опустить имя, заменить его другим именем и даже самостоятельно ввести ИС в текст перевода, сохраняя при этом его эстетическую значимость. Литература Борман Ж. (2006) Антропонимы в переводе художественного текста (творчество А. С. Пушкина на латышском и немецком языках). Дис. д-ра филол. наук. Рига. Гудков Д. (1999) Прецедентное имя и проблемы прецедентности. М.: Изд-во МГУ. Ермолович Д. (2001) Имена собственные на стыке языков и культур. М.: Р. Валент. Калинкин В. (1999) Поэтика онима. Донецк: Юго-Восток. Кацева Е. (1999). Ефим Эткинд. Маленькая свобода. Двадцать пять немецких поэтов за пять веков. В кн.: Знамя. № 2. Retrieved July 23, 2012, from http://magazines.russ.ru/znamia/1999/2/kaceva.html Кухаренко В. (1988) Интерпретация текста. М.: Просвещение. Науйокс М. (2011) Немецкое кабаре 20-30-х годов. В кн.: Иностранная литература. № 2. Retrieved July 23, 2012, from http://magazines.russ.ru/inostran/2011/2/na10.html Чуковский К. (1936) Искусство перевода. М.; Л.: Асаdemia. Эткинд Е. (1998) Маленькая свобода. Двадцать пять немецких поэтов за пять веков. С.-Пб.: Академический проект. Remo H. (2006) Gedichte zum Gebrauch. Die Lyrik Erich Kästners: Besichtigung, Beschreibung, Bewertung. Würzburg.
32
Stolle P. (1998). Der ewige Muttertag. In: Der Spiegel. №46. Retrieved July 23, 2012, from http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-8031523.html Таблица 1. Названия городов в оригинале и переводе стихотворения Заповеди для бедняка (Knigge für Unbemittelte) Table 1. City names in the original and the translation of the poem Knigge für Unbemittelte E. Kästner Е.Г. Эткинд Ans deutsche Volk, von Ulm bis Kiel: Ihr esst zu oft! Ihr esst zu viel! Ans deutsche Volk, von Thorn bis Trier: Ihr seid zu faul! Zu faul seid ihr!
Народ Германии, внимай! Ты лежебока и лентяй! Ты от обжорства пропадешь, Ты слишком много ешь и пьешь!
Таблица 2. Пропуск ИС в переводе стихотворения Размышления при попадании под автобус (Gedanken beim Überfahrenwerden) Table 2. Omission of a proper name in the translation of the poem Gedanken beim Überfahrenwerden E. Kästner Е.Г. Эткинд 1)Halt, mein Hut! Ist das das Ende? Groß ist so ein Autobus. Und wo hab' ich meine Hände? Daß mir das passieren muß. Arthur wohnt gleich in der Nähe. Und es regnet. Hin ist hin ...
1)Шляпа, шляпа! Неужели Это все и мне каюк? Что лежит в моем портфеле? Нет портфеля. Нету рук. Руки, руки где? Как странно! Дождь идет. Всему конец ... 2)Только не домой, не надо!
33
2)Bitte, nicht nach Hause bringen. Dorothee erschrickt zu sehr. Wer wird den Mephisto singen? Na, ich hör' ihn ja nicht mehr.
Испугается жена. Кто танцует роль наяды? Безразлично. Мне хана.
Таблица 3. Появление нового ИС в переводе стихотворения Излечим ли голод (Hunger ist heilbar) Table 3. Introduction of a new proper name in the translation of the poem Hunger ist heilbar E. Kästner Е.Г. Эткинд Es kam ein Mann in’s Krankenhaus Und erklärte, ihm sei nicht wohl. Da schnitten sie ihm den Blinddarm heraus Und wuschen den Mann mit Karbol.
Когда закололо у Фрица в боку, Решил он сходить в больницу. Отрезав ему слепую кишку, Врачи заявили Фрицу...
Таблица 4. Появление ИС в переводе стихотворения Тень отца Гамлета (Hamlets Geist) Table 4. Emergence of a proper name in the translation of the poem Hamlets Geist E. Kästner Е.Г. Эткинд Seiner Gattin trat er auf den Fuß, Seinem Sohn zerbrach er das Florett, Und er tanzte mit Ophelia Blues, Und den König schmiss er ins Parkett.
Наступил он на ногу Гертруде, Зашвырнул Полония в партер И схватил Офелию за груди, Как весьма галантный кавалер.
34
Таблица 5. Замена ИС в переводе стихотворения Размышления при попадании под автобус (Gedanken beim Überfahrenwerden) Table 5. Substitution of a proper name in the translation of the poem Gedanken beim Überfahrenwerden E. Kästner Е.Г. Эткинд 1)Wenn mich Dorothee so sähe! Gut, daß ich alleine bin. Bitte, nicht nach Hause bringen. Dorothee erschrickt zu sehr. Dodo, aus der Sterbekasse Kriegst du zirka tausend Mark. 2) Hab' ich die Theaterkarten, Als ich fortging, eingesteckt? Pasternack wird auf mich warten. Der Vertrag war fast perfekt.
1)Если б увидала Анна... Хорошо, что мертв отец. Только не домой, не надо! Испугается жена. Банк тебе, пожалуй, выдаст Тысяч пять, моя вдова. 2) Взял ли я с собой билеты? Мы сегодня шли в балет. Гофман будет ждать ответа. Все равно. Пропал билет.
Таблица 6. Замена имени в переводе стихотворения Сердце в зеркале (Das Herz im Spiegel) Table 6. Substitution of a proper name in the translation of the poem Das Herz im Spiegel E. Kästner Е.Г. Эткинд Ich muss gestehn, ich war verstört, Ich stand zu Stein erstarrt. Das war mein Herz, das dir gehört, Geliebte Hildegard?
Окаменел я и затих Там, под лучом рентгена. Вот эту дрянь у ног твоих Я положил, Елена?
35
Валентина Вегвари, Борис Вегвари
К АСПЕКТАМ ЛИНГВО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПЕРЕВОДЧИКА НА УСТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
Аннотация: В статье авторы рассматривают аспекты лингво-психологического поведения переводчика на устных переговорах. Они подробно останавливаются на значениии хорошего знания иностранного языка и языковых клише переводчиком, его психической подготовки, образованности, качествах характера, стрессовой устойчивости, чувстве пропорции, знании протокола и этикета. Abstract: In the article the authors outline the psycho-linguistic behaviour of the interpreter in the process of oral interpretation. They analyse the following issues thoroughly – the importance of interpreters’ linguistic competence, their knowledge of linguistic patterns, their psychic preparedness, qualification, type of character, stress level, knowledge of protocol and proper behaviour.
Данная статья посвящена вопросам лингво-страноведческого поведения на устных переговорах. Имеется довольно много исследований, посвящённых стратегиям письменного перевода, в том числе и художественного перевода [Комиссаров В.Н., Швейцер А.Д., Лендваи Э., Клауди К. и др], однако, психологические аспекты устного перевода и вопросы, связанные с поведением переводчика на переговорах, вопросы развития навыков и переводческих стратегий являются мало освещёнными в специальной литературе. О важности исследования данной проблемы свидетельствуют, с одной стороны, потребности корпоративных организаций, имеющих своих собственных устных переводчиков и заинтересованных в постоянном развитии их профессионального мастерства, но с другой стороны и тот факт, что специалистов по устному переводу
36
следуют подготавливать не только к высокому знанию того или иностранного языка, но также обучать и научать выработки эффективных стратегий и тактик речевого и неречевого поведения в различных коммуникативных ситуациях (довольно часто связанных с трудностью нахождения выхода из конфликтной ситуации), подготавливать и психологически к вербальному и невербаному поведению во время переговоров и в сложных конфликтных ситуациях.
В оценке любой человеческой деятельности человек поступает правильно тогда, если рассматривает и оценивает её цель, а также развивает в себе интуицию подсознательного мышления и действия, а также принимает решения с учётом целей. Это особенно важно в устном переводе, когда перевод вообще не может быть репродуцированным и довольно часто даже небольшая ошибка устного переводчика влечёт за собой тяжёлые материальные последствия. Уже в средние века знали о важности хорошего переводчика и во второй половине XIV века в итальянском учебнике для торговцев давался такой совет: «Не экономь на переводчике таким образом, что выберешь подешевле, и выберешь плохого вместо хорошего. Расходы на хорошего переводчика в конце концов будут незначительны по сравнению с теми доходами, которые вы получите с помощью хорошего переводчика». Общеизвестна пословица «Мы не настолько богаты, чтобы покупать себе дешёвую одежду», которую, к сожалению, часто забывают руководители фирм, нанимая переводчика и стремясь к дешевизне оказываемых им услуг и при этом считая, что любой тест можно перевести без всякого напряжения ума и перевод на переговорах, связанных, например, с продажей перчаток или зерна пшеницы это простой перевод, а не перевод специального текста или терминологии, ибо для человека-специалиста, работающего в этой отрасли,
37
всё является «простым» в связи с тем, что он встречается с такой терминологией в своей каждодневной рабочей деятельности и является специалистом своего дела, но является сложным для устного переводчика, который в своей профессиональной деятельности встречается с переводом специальных текстов не каждый день. Также необходимо отметить, что, хотя для опытного переводчика при переводе большинство психических операций осуществляется бессознательно так, как и при разговоре на родном языке, однако для того, чтобы достичь высокой степени переводческой деятельности – нужно изучить громадное количество литературы а также долго и неустанно практиковаться в переводе, чтобы, на первый взгляд, без всяких усилий спонтанно переводить устный текст.
Любой человек, даже неплохо владеющий иностранным языком, попав в новую языковую обстановку, встретившись с новой темой, теряет чувство уверенности в своём хорошем знании иностранного языка, начинает нервничать и не может переводить на должном профессиональном уровне. Что делать в таких случаях? Как поступать? Кто может помочь разрешить конфликт? Опытный переводчик знает, что самым важным во всей его работе является его психическая подготовка к переговорам и сохранение душевного спокойствия в любой затруднительной или конфликтной ситуации. Этому следует обучать в процессе обучения устному переводу, принимая во внимания новейшие достижения психологов и используя в обучении различные конфликтные ситуации с целью тренинга. Кроме этого, подготовка к переговорам у опытного переводчика, знающего уже условия коммуникации, включает в себя и знакомство с лексикой переговоров – особенно в случае переговоров на какую-нибудь узкую специальную тему. Если письменный переводчик исходит из слова, то устный
38
– из коммуникативной ситуации, хотя и тот и другой должны пройти один и тот же путь: слово – предложение – текст – контекст – коммуникативная ситуация. Люди, сомневающиеся в себе, в своих знаниях и в своих силах – не могут быть хорошими переводчиками, ибо хороший переводчик оказывает на партнёров такое впечатление, когда все бывают уверены, что он говорит правильно и достоверно и является компетентным источником информации. Устный переводчик одновременно является и артистом, входящим во время переговоров в разные роли: он умеет сдерживать себя - несмотря ни на что, если нужно – сдерживает свою жестикуляцию или же сильно жестикулирует; несмотря на свои эмоции или же на понимание «игры» какого-нибудь из партнёров, не проявляет эмоций, а остаётся только «говорящей» машиной, не имеющей своего мнения, и бестрастным свидетелем переговоров. Переводчик постоянно поддерживает контакт глаз, так как если он никуда не смотрит, то это производит у партнёров впечатление неуверенного в себе человека (естественно, за исключением некоторых стран, например, Японии, где не принято пристально смотреть в глаза партнёру).
Со знанием языка в тесной связи находится и образованность переводчика, ибо во время переговоров часто можно встретиться с вопросами, выходящими за уровень компетенции переводчика, например, врачи на переговорах могут обсуждать и финансовые вопросы, а бизнесмены – политические. Переводчик должен уметь принимать участие в коммуникации по любому вопросу в качестве самостоятельного источника информации, давая дополнительные объяснения, пояснения и заранее предусматривая возникаемые вопросы или недоразумения, касающиеся стран коммуникантов. Например, у него могут спросить информацию о средней зарплате в Венгрии или в России, о курсе валюты, о стоимости бензина, о партиях Парламента
39
и т.д., то есть переводчик должен хорошо разбираться в экономических, юридических, политических, литературных, административных и других вопросах и выполнять коммуникативные функции, выходящие за рамки языкового посредничества.
Для профессионального устного переводчика характерны такие качества характера – как: дружелюбие в отношении к коммуникантам, быстрота реакции, развитая долговременная память, умение концентрировать внимание, умение учиться, умение вести себя в обществе, знание этикета, выдержка, хладнокровие, физическая выносливость и, на наш взгляд, важным качеством является также чувство юмора, помогающее переводчику очень часто выйти из затруднительной ситуации. Многие из данных качеств можно и нужно развивать в процессе обучения переводу, например, при выработки успешного поведения по отношении к коммуникантам, необходимо на основе обсуждения материалов и ситуаций из собственного опыта, которые предлагаемет преподаватель для перевода, можно и нужнот отрабатывать умения эффективно реагировать на особенности данных ситуаций и учиться понимать запросы коммуникантов, часто выражающиеся в невербальной комуникации или же в эмоционально напряжённых ситуациях. Проблемные ситуации возникают даже тогда, если не понят или не удалось запомнить какую-нибудь информацию (даты, числа, имена собственные, аббревиатуры, профессиональный жаргон и т.д.), а также в случае искаженного варианта иостранного языка (если он является неродным у коммуникантов или у одного из них, а только языком-посредником) или же в непонятии специального термина, безэквивалетной лексики, пословиц, поговорок, анекдотов, игры слов и др. Встречаются ситуации, когда в процессе перевода возникает эмоциональная конфликтная ситуации между
40
коммуникантами или какой-нибудь жест имеет бранное значение в стране, а также появляются претензии к переводчику с какой-нибудь стороны – особенно тогда, если один из представителей переговоров владеет языком переговоров. Конфликт, возникший в процессе переговоров, переводчик часто может разрешить только благодаря своему душевному спокойствию, эмпатии и языковой гибкости и сохраняя спокойствие даже в самой неприятной ситуации. Разрешению конфликта помогает часто так называемое «дипломатическое» использование иностранного языка и понимание невербальной коммуникации, заключающееся в том, что он «слышит» также то, что только хотел сказать партнёр, который даже и не произнёс этого. Для переводчика важным является понимание двойного смысла и игры слов, которые не всегда удаётся перевести. Особенно трудным является перевод анкдотов и шуток, рассказанных часто, например, в неофициальной обстановке. Игра слов одного языка не всегда может быть переведена и, например, выходом из сложившейся ситуации может быть просьба переводчика к партнёрам посмеяться над этим анекдотом или шуткой – даже не понимая значения в целях успешных переговоров (естественно, что это возможно только тогда, если переводчик уже знаком с коммуникантами или же между ними установились доверительные отношения). Значит, в подобной ситуации партнёры становятся как бы «сообщниками» переводчика и смогут помочь ему выйти из затруднительной ситуации.
Поэтому при представлении таких ситуаций преподаватель должен предоставить возможность учащимся проанализировать свои поведенческие реакции в подобных ситуациях, сравнить их с реакциями других переводчиков и определить собственные стратегии и тактики в своём коммуникативном поведении.
41
На переговорах от переводчика ожидают, что он обладает стрессовой устойчивостью, позволяющей ему в любой ситуации сохранять внешнее и внутреннее спокойствие и помогающее хорошо переносить стресс, ибо никогда не известно – с какими людьми можно встретиться на переговорах, неизвестны их эмоциональное состояние, стиль, речь, темп и тембр голоса. Также неизвестны проблемы, которые могут возникнуть во время переговоров, что может вызвать стресс у переводчика и помешать ему «переключаться» с одного языка на другой или же оставаться «в тени», на заднем плане, не выражать своего мнения и не проявлять никаких эмоций – при этом занимая нейтральную позицию. Часто переводчик видит то, чего не видит или не понимает одна из сторон, не знающая языка партнёра, но несмотря на это, он не должен «выйти на свет», занять позицию одной из сторон и представлять её интересы.
На переговорах также важным является чувство пропорции, связанное не только с распределением времени переговоров, но и с умеренностью в речи переводчика. Если он не переводит, то должен говорить только тогда, когда его спрашивают, но не слишком длинно. Он всегда должне знать, что не ему говорят, а партнёру по переговорам, он не злоупотребляет своим положением и считает всю информацию, услышанную им, конфиденциальной и не показывает себя всезнайкой.
Хорошее знание иностранного языка не означает только знание языка, но и предполагает знание языковых клише на все случае жизни, например, приветствие, поздравления по случаю приезда, награды, назначения, юбилея, прощания и т.д., которые различны в разных языках и не во всех странах приняты. Естественно, что нельзя ограничиваться только клише, а нужно знать и менталитет нации, «дух» языка и располагать
42
фоновыми знаниями, знаниями прецедентных текстов, героев широко известных анекдотов (например, Чапаева, Штирлица, Вовочку и т.д.). К высокому знанию языка относится и то, что переводчик должен понимать и тихую, невнятную, диалектную речь (не все коммуниканты являются филологами!). Он должен быстро переключаться с одного языка на другой и в своём переводе может опустить детали, подробности, но главную мысль он должен передать точно и ему нужно быстро решать – что в данной ситуации является важным, а что второстепенным и поэтому он должен уметь быстро реагировать. Переводчик не знает весь текст, у него и нет времени для анализа текста, а он должен перевести его сразу или с небольшими интервалами без поиска незнакомого слова в словаре, а путём объяснения или же замены его синонимом. Под скоростью перевода подразумевается не «чистая» скорость перевода, а скорость перевода, связанная с его точностью и нюансами. Переводчику за секунду нужно решить что важнее – скорость перевода или же его точность.
На переговорах, не в последнюю очередь, важным является и знание протокола и этикета переводчиком, ибо его физическое присутствие подразумевает не только вербальное поведение – перевод речи коммуникативных партнёров, но и «невербальное», то есть одежду, поведение, движения тела, мимику, жесты и др. К вербальному и невербальному поведению переводчика предъявляются писаные и неписанные требования протокола по отношению к коммуникантам.
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод: лингво-психологические аспекты устного перевода и поведения переводчика являются очень важными на переговорах и развитие психологических навыков и поведенческих приёмов, оптимизирующих результаты профессионального устного переводчика, необходимо развивать и
43
занимается этим в процессе всего обучения устному переводу для удовлетворения запросов не только корпоративных межнациональных организаций, но и для потребностей предпринимательства и всего общества. Литература Комиссаров В.Н. (1997): Теоретические основы методики обучения переводу. Изд. Русский язык, Москва Klaudy Kinga (2007) Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok, Budapest, Tinta Kiadó Швейцер, А.Д. (1999): Перевод – как акт межкультурной коммуникации. В сб.: Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. Изд. МГЛУ, с. 180-187.
44
Марианна Галиева
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА: Н.В. ГОГОЛЬ, Э.Т.А. ГОФМАН
Аннотация: Статья посвящена изучению фольклорной традиции в произведениях Гоголя и Гофмана. Проводится сопоставительный анализ между сказками Гоголя и Гофмана, рассматривается язык художественного пространства, структура архетипов в тексте, поэтика экфразиса. Abstrac: The article is devoted to the study of folk tradition in works of Gogol and Hoffman. A comparative analysis between the tales of Hoffmann, Gogol and is considered the language of artistic space structure of archetypes in the text, the poetics of èkfrazis.
М.И. Цветаева писала: «Парные имена1 не новость: Гёте и Шиллер, Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. И в этой парности тайны никакой». Она дополнила этот список еще четырьмя парами: «Бальмонт и Брюсов», «Маяковский и Пастернак», «Пастернак и Лермонтов», «Пушкин и Пруст». Можно назвать еще одну «пару»�Н.В. Гоголь и Э Т А Гофман. Вы обязательно спросите: «Что между ними общего?» Действительно, разные поэты с разными творческим и жизненным путями, разные произведения. Но всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий. Между всеми поэтами, писателями есть что-то общее, которое часто скрыто, имплицитно, но точно – идеи всегда направлены на определенный идеал. Параллели между творчеством Гоголя и Гофмана уже проводились. Так, например, в своей
1 Этот термин изначально использовался в русском языке, упоминается в работе: Борев Ю.Б. Эстетика. М., 1988. С.5. В нашей работе мы придерживаемся цветаевской трактовки этого сочетания, примененного к личным именам собственным.
45
монографии Р.-Д. Кайл не избегает прямых сопоставлений [Keil R-D.,1990]. Также немецкие литературоведы отмечают общность взглядов русского писателя и немецких классиков романтизма, «Гоголь для немцев – прежде всего романтик» [Судакова Е.К., 1999, с.92]. Но цель нашей работы заключается не в выявлении какого-либо влияния творчества, идей Гофмана на эстетику, литературу Гоголя, а в рассмотрении поэтики того и другого, модели построения пространственных отношений, в нахождении общего «культурного кода» для более глубокого понимания как творчества русского «реалиста», так и творчества немецкого «мистика». Конечно, понятия «реалист» и «мистик» вполне условные, так как оба этих писателя выбивались своим творчеством из направления того времени. Гоголь близок к реализму, но не реалист, Гофман близок к романтизму, но его романтизм особый – «мистифицированный, зашифрованный реализм» [Данилевский Р.Ю., 1969:.53] с отпечатком эпохи романтизма. Для исследования мы берем два произведения – гоголевскую «Ночь перед Рождеством» и гофмановское «Приключение в ночь под новый год». Перейдем непосредственно к структуре текстов, а именно к пространственной модели.
Как отмечает М.Ю. Лотман: «Гоголь раскрыл для русской литературы всю художественную мощь пространственных моделей» [Лотман Ю.М., 1997: 658]. Действительно, в художественной системе Гоголя значение хронотопа, внутривидовых связей миров, планов, в которых размещены герои, значительно, так как определяет характер этих героев. Что касается творческого метода немецкого романтика, то здесь дело обстоит сложнее – нет четкой грани между заданными пространства, что может быть обусловлено «мистицизмом» Гофмана. Для понимания пространственной модели это
46
пояснение нам кажется очень существенным, так как у Гоголя «функциональные поля» – места знаковые для героев четко определены и поделены на «бытовые» и «волшебные»: «Героям неподвижного, «замкнутого» locus′a противопостоят герои «открытого» пространства» [Лотман Ю.М., 1997: 625]. А у Гофмана трудно разграничить реальное от ирреального, то есть «мистическое» и «обычное» происходят в одном топосе: «Проходя в низкую дверь, он забыл наклонить голову и сильно треснулся о притолоку, но, так как на нем была черная шапка, похожая на берет, лоб он не расшиб. Он шел как-то странно, прижимаясь к стенке, и сел напротив меня, а хозяин поставил на наш стол фонари» [Гофман Э.Т.А., 1991, т.1:.269] 2 - обычное описание, бытовая сцена, правда, за которой следует сразу же нечто необыкновенное: «Впрочем, в лице пришельца было что-то столь своеобразное и привлекательное, что, несмотря на его мрачный вид, я сразу же почувствовал к нему расположение. Его густые черные волосы были раскинуты на пробор и свисали по обе стороны головы этакими локончиками, точь-в-точь как на портретах Рубенса»3 (270). Портрет настраивает и героя, и читателя на другой тон общения – «картинка» меняется. Именно картинка, так как перед нами предстает не человек, не живой герой, а образ, ряд образов: «И все же это не портрет, а чистой воды образ». В этой связи нужно сказать о том, что несмотря на стройность языка художественного пространства у Гоголя, существует тема «Гоголь и барокко». Гоголь «внутренне» сложен, хотя внешняя форма – разделение топоса
2 Гофман Э.Т.А. Приключение в ночь под Новый год // Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: в 6 т. М., 1991. Т. 1. С. 269. [Далее текст произведения Гофмана цитируется по названному изданию с указанием страницы]. 3 здесь и далее в примерах курсив мой.
47
четкое, по крайней мере, в «Вечерах�». Это можно объяснить «внутренним», скрытым гоголевским фольклоризмом. Так проявляют себя «особенные» герои Гофмана в «Приключении в ночь под новый год», у Гоголя мы так же обнаружим портретность, рисованность образов. (В «Тарасе Бульба» один из героев прямо заявляет о том, что люди, «как с картины сошли» - описание похода Андрия). Эту особенность поэтики Гоголя отметили многие исследователи. Так, А.Х. Гольденберг пишет о гоголевском экфрасисе. Отмечая, что писатель выходит за пределы художественного пространства [Гольденберг А.Х, 2007: 222], то есть сам писатель стремится создать картину, его пространство похоже на живописное пространство, в частности, это касается портрета: «и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз - вот все, что можно было сделать тогда наилучшего» [Гоголь Н.В., 1976, т.1:106] - так создается живой образ Оксаны. Но нас будет интересовать не только один прием портрета как таковой, а его природа и то, как «портретное» пространство будет взаимодействовать с другими моделями в произведении.
Мы уже отмечали то, что для художественной системы «Вечеров�» характерно деление текста на бытовое и «сакральное» пространство, которые разводятся в несколько систем, но эти модели взаимосвязаны общими героями. В «Ночи перед Рождеством» такими героями являются в первую очередь Вакула и Оксана. Если первый пребывает то в волшебном, то в профанном мире, он самостоятельный герой: «Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если
48
бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою» (127). Вакула – объединяющая сема внутри функциональных полей (каждый герой – органичное звено живой цепи, он необходим как часть этого сцепления и в той же степени, в какой служит этому сцеплению [Ветловская Е.В., 2001:5]), после перелета он снова оказывается в земной плоскости: «Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты» (136). Но действие героя направлено на Оксану, то есть она имплицитно участвует, существует в сакральном пространстве, а, может быть, его изначально задает. Если убрать девушку из композиции, то система «волшебного» и «профанного» перестает существовать, она теряет смысл, поэтому мы сталкиваемся не просто с героем, а с женским архетипом. В этом случае нужно обратиться к фольклорным традициям, которые дают возможность понять место «женского архетипа» в художественной системе Гоголя, интерпретация которой редко укладывается в рамки «канонической традиции» [Гольденберг А.Х., 2007:13] . Оксана раскрывается перед нами через зеркало, тем самым отражая не только свое лицо, но и душу: «Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевились и обвились вокруг моей головы» (103) - девушка не просто кокетничает перед зеркалом, она полемизирует со своим внутренним «Я». Зеркало – символ второго, скрытого мира. В Зеркале покоится душа владельца предмета, Оксана видит свои волосы «змеями». Обращаясь к фольклорной традиции, к этнографическим материалам, к севернорусской вышивке и вообще к праславянской культуре мы находим преобладание змеиной символики, которая связана с женскими культами, с семантикой «Лысых», Девичьих гор, то есть с высшим, небесным золотым царством [Рыбаков Б.А., 1981]. Вакула Оксане не случайно дарит
49
золотые черевички: «Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом!» (132). Таким образом, женский архетип проявляется имплицитно, но задает вектор движения: из бытового – в сакральное – в бытовое, и Вакула становится новым героем, посвященным: «Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем» (137). Герой меняется в «пространстве» - теперь Оно ему открыто, он не боится переступить порог4, то есть переправиться в другой мир к Оксане: «Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам» (137). Но, не смотря на это, у Гоголя пространственные модели все-таки имеют достаточно четкие границы в отличие от гофмановских. Это может быть обусловлено использованием фольклора, фольклорных текстовых построений первым и отсутствием таковых у второго. Конечно, в «Приключении в ночь под новый год» мы можем обнаружить те же архитипосы, что и у Гоголя – «луна», «зеркало» и главный – «женщина», это устойчивая картина, ряд взаимосвязанных элементов. Правда, в художественной системе немецкого романтика они действуют по-другому, так как для него не был свойственен фольклор или, по крайней мере, он не внешний 5. У Гофмана символ зеркала –
4 Мотив переправы может быть выражен по-разному, здесь он обозначен прямо – переступить через порог. В сказке переправа мотивируется, например, поисками невесты – в «Вечерах�» представлена модификация – добыть предмет для невесты. Переправа составляет ось сказки. См.: Пропп В.Я. Переправа // Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2010. С. 171. 5 См. о внешнем и «скрытом», внутреннем фольклоризме в кн. Д.Н. Медриша. Медриш Д.Н. Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики. Саратов, 1980.
50
«переходный», обязательный для продвижения главного героя по сюжетной линии. Но это опять связано с женским архетипом. Через зеркало герои начинают жить в двух мирах – «здесь», в бытовом и «там», зеркальном – сакральном. На первый взгляд, это парадоксально, так как «зеркало» забирает их разум, душу (тень и отражение). Внутренняя личность у героев Гофмана теряется – переходит к женщине, которая бережно хранит ее в зеркале – у одного тень, у другого отражение. Тем самым она является не только трикстером, но и демиургом. Юлия «очищает» их разум – они начинают жить, жить по-новому, пребывая во внутреннем поиске. Вот в чем заключается гофмановский дуализм, который был характерной чертой и творчества Гоголя [Вайскопф М.Я, 2001: 71]. Если отвлечься от «Приключения в ночь под новый год» и обратиться к сказке Гофмана «Золотой горшок», то обнаружим в ней несколько восточных веяний (упоминание мудрецов из Бхагаватгиты – части индийского эпоса Махабхараты, сама семантика образа женщины-змеи, золотой горшок, как символ мудрости и высшего царства). Такие комментарии дают нам право на отсыл к восточной поэтике. Дело в том, что в литературе этой культуры – индийской, китайской, японской, в фольклоре мы обнаружим такое же построение текста, пространственных моделей как в «Приключении�» Гофмана. Так, обращаясь к волшебной сказке Китая «Волшебная картина» обнаруживаем, что пространство, начало действия открывается через картину, портрет, причем, женский, который «провоцирует» героя-мужчину на действия: «на одной картине девушка изображена, красоты такой, что и рассказать невозможно. Залюбовался юноша. Глаз отвести не может. Смотрел, смотрел – и влюбился» [Сказки Китая, 2007:114)6. Девушка создает ситуацию, при этом
6 Волшебная картина // Сказки Китая / Пер. с кит. Б. Рифтина.
51
переходит из Волшебного мира в бытовой: «Поднял юноша голову, смотрит – картина на стене будто качается. В одну сторону качнулась, потом в другую. Что за диво? Красавица сошла с картины, села рядышком с Чжу-цзы»(115). Впоследствии «бытовое» сакрализуется: «Открыл Чжу-цзы глаза и зажмурился: вся комната так и сверкает от шелка да атласа, - красавица за ночь их наткала»(115). Вот пример «неясности», «неопределенности» пространства – художественное произведение рождается на стыке двух миров: «Поэзия есть органическое единство внешнего и внутреннего, в котором и осуществлены живая жизнь и живой смысл явления, уходящие корнями в бесконечность Вселенной» [Кожинов В.В., 1980:83]. Героиня Гофмана – проводник между «внешним» и «внутренним»: «Юлия не смеялась вместе со всеми, в смятении я взглянул на нее, поймал ее взгляд, и меня будто ослепил луч из изумительной прошлой жизни, полной любви и поэзии» (266). Юлия, обладательница зеркала, забирает посредством Этого второго мира – души возлюбленных, у одного она забрала отражение: «Я отдал свое зеркальное отражение ей... Ей...». Ей – девушке из зеркала, девушке с картины, хотя она и живая, но уподоблена рисованной: «Ее белое, особого покроя, в глубоких складках платье с пышными рукавами, обнажающими руки по локоть, с большим декольте, едва прикрывавшим ее грудь, плечи и шею, ее волосы, разделенные спереди на пробор и хитроумно заплетенные в высокую прическу сзади, - все это придавало ее облику нечто старомодное, словно дева с полотна Мириса»(266). Так, Гофман выходит за пределы художественного текстуального пространства – можно говорить о гофмановском экфрасисе. Для его творчества, как и
Екатеринбург, 2007. С. 114. [Далее текст сказки цитируется по названному изданию с указанием страницы].
52
для творчества Гоголя, был характерен синтез искусств («одной из важнейших черт, развитию которых в романтическом направлении в значительной степени содействовал Гофман, был синтез искусств» [Бэлза И, 1982: .13] ), в котором они не спорят друг с другом, а создают свои поэтические живописные системы. Литература Бэлза И. (1982) Э. Т. А. Гофман и романтический синтез искусств. В кн.: Художественный мир Гофмана. М.: Наука. Вайскопф М.Я. (2002) Египет. Друг из пекла . В кн: Вайскопф М.Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. Москва. Ветловская В.Е. (2001) Творчество Гоголя сквозь призму проблемы народности. Русская литература.. №.2. Волшебная картина (2007) В кн.: Сказки Китая . Пер. с кит. Б. Рифтина. Екатеринбург. Гоголь Н.В. (1976) Ночь перед рождеством. Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 7 т. М.: Художественная литература. Гольденберг А.Х. (2007) Экфрасис в поэтике Гоголя: текст и метатекст. Филологические науки, №1. Гофман Э.Т.А. (1991) Приключение в ночь под Новый год. Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: в 6 т. Москва, Художественная литература. Данилевский Р.Ю. (1969.) Отношение русского общества к немецкой литературной борьбе 1830х годов. В кн: Данилевский Р.Ю. «Молодая Германия» и русская литература. Ленинград Кожинов В.В. (1980) Что такое стих .В кн.: Кожинов В.В. Стихи и поэзия. М.: Советская Россия. Лотман Ю.М. (1997) Художественное пространство в прозе Гоголя В кн: Лотман Ю.М. О русской литературе. Статьи и исследования (1958 – 1993). С.Петербург: Искусство-СПБ. Медриш Д.Н. (1980) Литература и фольклорная традиция: Вопросы поэтики. Саратов, Судакова Е.К. (1999) Творчество Н.В. Гоголя и немецкие культурно-исторические традиции (по материалам
53
исследований литературоведов Германии). Филологические науки,. №3. Пропп В.Я. (2010) Переправа В кн.: Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт. Рыбаков Б.А. (1981) Земледельческие культы праславян. В кн: Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука. Keil R-D. (1990.) Gogol (Rowohlts monographich). Hamburg,
54
Агнешка Гаш
ОНОМАТОПЕИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ «ЕДЫ» И «ПИТЬЯ» (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: Объектом настоящего исследования являются русские и польские ономатопеические глаголы «еды» и «питья». В статье рассматриваются их синтаксические и функционально-семантические особенности (в сопоставительном аспекте) Abstract: The article is devoted to Russian and Polish onomatopoeic verbs connected with eating and drinking. It focuses on the comparative aspect of their semantic and syntactic functions. Диана Акерман в Естественной истории чувств описывает природу слуха, указывая на роль звуков в жизни человека. Как заметили ученые, некоторое влияние на решения потребителей могут оказывать звуки, издаваемые при еде, поэтому неудивительно, что они широко используются в рекламе пищевых продуктов, хрустящих во время еды, напр. чипсов, кукурузныых хлопьев и т.п. [Ackerman D. 1994: 183-188]. Звуки еды и питья сопровождают нас каждый день, а их следы можно также найти в языке. Исходным толчком для лингвистического анализа русских и польских ономатопеических глаголов, связанных с актом еды и питья, послужат гиперонимы есть и пить. Согласно классификации Г.А. Золотовой, глаголы физиологического действия есть, пить, жевать, глотать, дышать и т.п. составляют периферию акционального подкласса, поскольку им свойственна или не свойственна целенаправленность [Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. 2004: 61]. Соответственно этому, ономатопеические глаголы, связанные с едой и питьем, могут обозначать как неконтролируемое действие (ср. независимое от воли чавкание
55
младенцев или лакание животных), так и контролируемое (старшие дети и взрослые могут контролировать силу звука). Словообразовательной основой ономатопеических глаголов являются первичные междометия или корни слов, возникшие вследствие подражания естественному звуку с помощью фонем определенного языка [Bańko М. 2008: 79]. Предложения, содержащие в своей структуре ономатопеические глаголы типа: чавкать/mlaskać, чмокать/cmokać, хрупать/chrupać, хрустeть, хрустать/chrzęścić , а также хлебать/chłeptać, сербать/siorbać, отображают ситуацию физиологического действия и звучания. Л.Г. Бабенко предусматривает для данной ситуации специальную семантическую модель, которая совмещает оба этих аспекта: СУБЪЕКТ – ПРЕДИКАТ ЗВУЧАНИЯ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ (человек или какая-л. часть тела издает звуки, сопровождающие какие-л. физиологические процессы) [Бабенко Л.Г. 2002: 244]. В свете сказанного следует отметить, что предикаты физиологического действия и звучания относятся к одушевленному субъекту – человеку или животному. Данные глаголы обладают сложной семантической структурой, поскольку в их значении можно выделить два компонента: ‘есть’/‘пить’ + ‘издавать при этом характерные звуки’. В настоящем очерке описываются ономатопеические глаголы «еды» и «питья», их семантические и синтаксические особенности с учетом важнейших текстовых функций (в сопоставительном аспекте). Материал для анализа был почерпнут из русской и польской художественной литературы, а также из ресурсов национальных корпусов: http://nkjp.uni.lodz.pl/[online], http://www.ruscorpora.ru/ [online]. Принимая во внимание физиологический критерий, звуки еды связаны с первым этапом механической обработки пищи во рту. В зависимости
56
от источника звука ономатопеические глаголы еды можно разделить на две группы. В раскусывании и разжевывании твердой пищи участвуют главным образом зубы. Характерные отзвуки жевания передают глаголы: хрупать/chrupać, хрустeть, хрустать/chrzęścić, хрумкать/chrumkać. Источником всасывающих звуков, издаваемых при еде, являются прежде всего губы и язык, что отражают глаголы чавкать/mlaskać, чмокать/cmokać. В отличие от твердой пищи напитки не требуют предварительной механической обработки, но с другой стороны жидкость надо поместить в посуду (стакан, чашкy) или воспользоваться каким-то столовым прибором (ложкой, соломинкой для питья), с помощью котрого напиток вводится в рот. Именно вледствие сосающих движений органов полости рта – губ, языка и пищевода, имеющих целью поглощение напитка, возникают характерные звуки, передаваемые глаголами сербать, хлебать/siorbać, chłeptać, chlipać, gulgotać, duldać и т.п.
Ономатопеические глаголы еды и питья чаще всего относятся к определенному субъекту (человеку или животному), отображая ситуацию актуального наблюдения (репродуктивный регистр), реже выражая волеизъявление (волюнтивный регистр), ср. Ojejej – westchnął ojciec ze współczuciem. – To nie zazdroszczę – wziął z talerza plasterek ogórka i zjadł go ze smakiem, chrupiąc, chrzęszcząc i mlaskając. – Nie chrup! – krzyknęła córka przez łzy. – Dlaczego?! – Bo mnie to potwornie denerwuje! (M. Musierowicz, Szósta klepka), – Ой-ой-ой! – сочувственно вздохнул отец. – Не позавидуешь. – И, взяв с тарелки кусочек огурца, съел его с аппетитом, хрустя и чавкая. Не чавкай! – сквозь слезы крикнула дочка. Почему? Меня это ужасно раздражает! (М. Мусерович, Целестина, или шестое чувство). В волюнтивном регистре ономатопеические глаголы еды и питья прежде всего выступают с отрицанием
57
не чавкай/nie mlaszcz, nie chrup, не хлебайте/nie siorb и т.п., хотя, напр., в польском языке возможно употребиление выражения chrup/schrup marchewkę ‘хрупай морковку’ в значении побуждения к действию (в русском языке в этом случае не употребляется глагол чавкать) Анализируемые глаголы могут также относиться к обобщенному субъекту в контексте универсальных правил застольного этикета (генеритивный регистр), к примеру: – Тебе в детстве не говорили, что чавкать неприлично? (К. Шахназаров, Курьер), Zapadła cisza, przerywana tylko cichym siorbaniem Natalii. – Kto siorbie, dostanie po torbie – wtrąciła Ida dyskretnym półgłosem starożytną maksymę rodzinną. (M. Musierowicz, Pulpecja). Интересно отметить, что Д.И. Квеселевич в Толковом словаре ненормативной лексики русского языка определяет звукоподражательный глагол сербать как просторечный [Квеселевич Д.И. 2005: 772]. Его применение в современном русском языке скорее нельзя признать широким, поскольку в ходе анализа материала был отмечен лишь один пример текстового употребления этого слова: Они сидели на крыльце, сербали чай, грызли галеты и сахар и глядели на полковой городок. (О. Ермаков, Радуйся). В польском языке разговорное siorbać имеет высокую частотность употребления.
В предложениях, описывающих ситуацию физиологического действия и звучания, акт еды и питья, как правило, является главным действием, а сопутствующие ему звуковые характеристики передаются с помощью причастных форм (как в предыдущих отрывках). Однако возможен также противоположный вариант, к примеру, Ярогнев чавкал, с жадностью уписывая клецки. (Я. Ивашкевич, Мельница на Лютыне). Как отмечает Е.В. Падучева, в случае идеальных глаголов звука одним из участников является источник звука,
58
отдельный от каузатора. В связи с этим каузатор занимает позицию субъекта (как в вышеприведенном примере) или находится на периферии, или за кадром [Падучева Е.В. 2004: 401], ср. В тумане – одни рты: чавкают, уминают; похрустывают на зубах кости. (Е.И. Замятин, Север).
Стоит также обратить внимание на интересный прием конкретизации, часто используемый в переводе, когда констатирующий глагол физиологического действия заменяется оценивающим, в значении которого содержится компонент звуковой характеристики (chrupiąc ‘хрупая’ вместо жуя), напр. – Нашла страшно милого мужика, – щебетала она, очевидно, одновременно жуя орехи, потому что в мембране слышалось почавкивание похрустывание. (Д. Донцова, Несекретные материалы), – Znalazłam strasznie miłego faceta – trajkotała, jednocześnie najwyraźniej chrupiąc orzeszki, bo w słuchawce słyszało się chrzęst i mlaskanie. (D. Doncowa, Nieściśle tajne).
В следующих примерах можно проследить замену ономатопеического глагола siorbać ‘сербать’ словом потягивать, которое не передает звуковой характеристики: – Pij, pij. Pani Hornowa bardzo się o ciebie niepokoi. Ja oczywiście nie – dodała po chwili z uśmiechem, patrząc jak Janek siorbie gorącą herbatę. (J. Iwaszkiewicz, Kochankowie z Marony), – Пей, пей! Пани Горн сильно о тебе тревожится. Я же, очевидно, нет, – прибавила она со смехом, глядя, как Янек потягивает горячий чай. (Я. Ивашкевич, Любовники из Мароны).
Рассматриваемые глаголы проявляют тенденцию присоединять прямое дополнение (названия блюд и напитков, а также посуды), напр. Масленников без передыху выпил стакан скверной водки и спешно чавкал пирожок с рыбой. (В.Я. Шишков, Пейпус-озеро), Пузыри в окнах слабо
59
мерцают — голубчики свечки зажгли, суп хлeбают [�] (Т. Толстая, Кысь), Pęcherze w oknach słabo migają – ludkowie świeczki pozapalali, zupę chłepcą [�] (T. Tołstaja, Kyś), Zamiast piwka, gulgoczemy sobie soczek z selera. (J. Chmielewska, Traktat o odchudzaniu), Kropa wyduldał już całą butelkę, teraz wdycha głęboko powietrze, sapie zadowolony, człapiąc po klasie jak syty kot. (E. Niziurski, Księga urwisów).
Интересно отметить, что в отличие от русского чавкать польское mlaskać не допускает указания на прямой объект, который, в свою очередь, может выступать при близкородственных словах ciamkać, mamlać, ср. Dziecko ciamkało parówkę [�] (M. Musierowicz, Opium w rosole), Przy stole zapanowała nagła cisza, tylko mała Nora głośno mamlała ciasteczko [...] (M. Musierowicz, Język Trolli).
Отмечаются также случаи, когда звукоподражательный глагол еды или питья не присоедияет прямого дополнения: Стал жевать. И кругом, слышит, жуют, чавкают. (С. Юрский, Петров день), Wanda zaprosiła go do stołu, a dzieci patrzyły zdumione, jak pochylony nad talerzem zupy siorbie i mlaska zachłannie. (D. Koral, Wydziedziczeni).
Косвенные дополнения при ономатопеическом глаголе еды указывают на источник звука (названия органов полости рта), напр. Он громко чавкал ртом и показывал дикарям, что там много вкусной еды. (В. Постников, Карандаш и Самоделкин в стране людоедов), – Ja? – wybuchnął ironicznym śmiechem – ja? Ależ z prawdziwą rozkoszą nawymyślałbym mu od gburów i chamów. Mieszka jak świnia, przy jedzeniu mlaska językiem jak kundel, a te swoje głupie zaczepki uważa za dowcipy. (T. Dołęga-Mostowicz, Świat pani Malinowskiej).
В рассматриваемом материале при ономатопеических глаголах питья косвенные дополнения, указывающие на источник звука, не выступали. Стратегия опущения прямого и/или
60
косвенного объекта физиологического действия позволяет сосредоточить внимание на самом действии и его акустической характеристике в отвлечении от источников звука.
Слово хрумкать ‘eсть раскусывая, разгрызая или разжевывая с хрустом’ [Кузнецов С.А. 2008: 1456] обозначает как действие людей, так и животных, cр. Женька любила хрумкать яблоки – на этой почве они и сжились. (П. Алешковский, Жизнеописание Хорька), Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. (В. Распутин, Живи и помни). В польском языке chrumkać ‘хрюкать’ обозначает гортанные звуки, издаваемые свиньей или кабаном. Эти звуки, как правило, сопутствуют еде, ср. междометия: Już przybiegł do dębu dzik! Chrum!... Chrum!... żołędzie – łyk! (M. Kownacka, Razem ze słonkiem). Глагол chrumkać скорее не употребляется по отношению к людям, хотя он может появляться в сравнениях Х chrumka jak świnia ‘X хрумкает как свинья’. В русском языке в данном случае применяется глагол чавкать, см. [Мокиенко В.М. 2003: 384] Выражение хрумкать яблоки, сено в польском языке передает синонимический глагол chrupać (отзвук раскусывания). Применение подобных глаголов по отношению к людям можно признать анимализацией, так как хрупают прежде всего грызуны (мыши, хомяки) [Новак П. 2007: 55]. М. Гроховски отмечает, что некоторые звуки возникат только во время выполнения определенных действий. Итак, Х хрупает: Х издает такие звуки, которых не могут издавать люди, если чего-то не грызут [Grochowski M. 1993: 82].
Польский глагол chłeptać применяется как по отношению к людям, так и к животным. В русском языке данное значение выражает глагол лакать ‘пить, зачерпывая жидкость языком (о некоторых животных)’ [Кузнецов С.А. 2008: 486], который в
61
отличие от польского chłeptać не передает акустической характеристики, ср. Чанг жадно начинает лакать. (И. Бунин, Сны Чанга), Czang zaczyna łapczywie chłeptać. (I. Bunin, Sny Czanga). В польском материале довольно часто употребляется также глагол chlipać ‘пить громко, маленькими глотками’ (о людях и животных), напр. A pomyśl sobie, poruczniku – tu komendant chlipnął herbaty – co to byłby za wstyd, żebyśmy twierdzę oddali. [...] (J. Iwaszkiewcz, Heydenreich). Русский физиологический глагол хлипать обозначает звуки, издаваемые человеком при насморке или плаче. Материал показывает, что в анализируемой модели предложений, довольно часто выступают названия звуков, сопутствующих еде/питью, а также обстоятельства способа, информирующие об их силе и частотности: Подходит Феона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавканье. (А.П. Чехов, Мыслитель) Bobcio maczał w soku herbatniki i zjadał je bez apetytu, lecz za to z głośnym ciamkaniem. (M. Musierowicz, Szósta klepka), Бобик окунал в сок одно печенье за другим и съедал их без аппетита, но зато с громким чавканьем. (М. Мусерович, Целестина, или шестое чувство). Отношение к звукам еды и питья может быть как положительным, так и отрицательным, что проявляется в употреблении лексики, выражающей оценку, в том числе и сравнений с животным миром, напр. аппетитно/z apetytem, жадно/zachłannie, как синья/jak kundel и т.п. Подводя итоги анализу, предикаты физиологического действия и звучания можно признать важным показателем характеристики человека: они определяют кулинарные привычки людей, а также манеру есть и пить. Кроме того, некоторые из них отражают специфику приема пищи животными. Поставленные выше вопросы стоит
62
углубить и развить в перспективе дальнейших исследований, посвященных русским и польским глаголам «еды» и «питья». Литература
Ackerman D. (1994) Historia naturalna zmysłów. Przeł. K. Chmielowa. Warszawa. Bańko M. (2008) Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku. Warszawa. Большой толковый словарь русских глаголов. (2011) Ред. Л.Г. Бабенко. Москва. Большой толковый словарь русского языка. (2008) Ред. С.А Кузнецова. Санкт-Петербург. Золотовa Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. (2004) Коммуникативная грамматика русского языка. Москва. Inny słownik języka polskiego. (2000) Red. M. Bańko. Warszawa. Квеселевич Д.И. (2005) Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. Москва. Кузнецов С.А. (2008) Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург. Мокиенко В.М. (2003) Словарь сравнений русского языка. Санкт-Петербург. Падучева Е.В. (2004) Парадигма регулярной многозначности глаголов звука. Динамические модели в семантике лексики. Москва. Timoszuk M. (1994) Ономатопеические глаголы в русском языке. Warszawa. Экспериментальный синтаксический словарь. Русские глагольные предложения. (2002) Ред. Л.Г. Бабенко. Москва. Nowak P. (2007) „Świat kulturożerców” – metaforyczny obraz „strawy duchowej” w tekstach publicystycznych. Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol. Red. K. Łeńska-Bąk. Opole. Grochowski M. (1993) Wyrażenia percepcji słuchowej. Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa.
63
Виктория Горбань
ПЕРЕВОД КАК ЗЕРКАЛО ГЕНДЕРНЫХ
СТРАТЕГИЙ Аннотация: Статья посвящена изучению специфики речевой деятельности языковой личности мужчины и женщины на уровне дискурса. Выявление особенностей речевой деятельности осуществляется на основе анализа текстов-переводов, созданных представителями разного пола. Ключевые слова: речевая деятельность, гендер, перевод. Abstract: This article is about the peculiarities of speech activity foud in men’s and women’s language personality at the discourse level. Discovery of features of the language personality speech activity is carried out by means of the analysis of text-translations, which were written by men and women. В конце ХХ в. на смену системно-структурной парадигме приходит антропоцентрическая парадигма, которая предполагает переключение интересов исследователя с объекта познания на субъект, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке, поскольку, по словам И.А.Бодуэна де Куртэне, «язык существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное языковое общество». При этом человек перестаёт восприниматься как просто биологический субъект, а понимается как биосоциокогнитивная система. Такое видение личности возможно при гендерном подходе, поскольку гендер является элементом «современной научной модели человека, которая отражает социокультурные аспекты пола, фиксируемые языком» [Кирилина А.В., 1999:12]. Гендер как когнитивный феномен «накладывает отпечаток на поведение, в том числе и речевое,
64
личности и на процессы её языковой социализации» [Кирилина А.В., 1999: 12-13]. Как известно, язык – это не только инструмент коммуникации, но и способ категоризации внеязыковой реальности. Поскольку «язык – это мир, что лежит между миром внешних явлений и внутренним миром человека», то «нет ничего внутри человека настолько глубокого, настолько тонкого и всеобъемлющего, что не переходило бы в язык» [Гумбольдт В., 1985:41]. Вот почему было бы интересно рассмотреть такую грань человеческой личности, как гендер. Гендерная проблематика довольно успешно разрабатывается в дальнем зарубежье (Р.Лакофф [Lakoff R., 1973], Ю.Самель [Samel J., 1995], Ф.Вернер [Werner F.,1981] и др.), ближнем (А.В.Кирилина [Кирилина А.В.,1999], Е.А.Земская, И.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова [Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н., 1993], И.В.Грошев [Грошев И.В.,2000], В.В.Потапов [Потапов В.В., 2002] и др.), а также и украинскими лингвистами (Е.И.Горошко [Горошко Е.И.,1996; Горошко Е.И., Кирилина А.,1996.], Л.Н.Синельникова [Синельникова Л.Н., Богданович Г.Ю., 2001], А.П.Мартынюк [Мартынюк А.П., 1992], А.М.Холод [Холод А.М.,1997] и др.). И хотя многое уже сделано, гендерные особенности перевода еще мало изучены, вот почему они и будут предметом нашего исследования. Сопоставление двух языков (даже близкородственных) позволит выявить существенные различия между ними, обусловленные собственно языковыми, психолингвистическими, социолингвистическими и другими причинами [Кононенко В.І., 1996: 46]. Обращение к славянским языкам разных групп (восточной и южной) позволит яснее почувствовать «народную жизнь» и «народную психологию», как писал В.фон Гумбольдт [Гумбольдт В., 1985:91]. В
65
статье рассмотрены переводы на русский язык стихотворений болгарского поэта Николы Вапцарова переводчиками-мужчинами (далее в тексте – м.) и переводчиками-женщинами (ж.). Любой переводчик, даже самый талантливый, сталкивается с трудностями перевода, потому что ему необходимо ввести текст в другую культурную среду с другим запасом фоновых знаний. Переводчику при этом необходимо воссоздать стиль оригинала и не утратить свою стилистическую манеру. Переводчик, являясь основным звеном в процессе межкультурной коммуникации, «создаёт в своём собственном гносеологическом континууме модель исходной мысли, причём её адекватность будет зависеть от множества факторов: от степени информированности переводчика, от расстояния между автором исходного текста и переводчиком, а также от характера мышления (выделено нами – В.Г.) переводчика» [Казанова Т.А.,1998: 14]. Под характером мышления мы понимаем несколько составляющих. Ещё М.Рыльский говорил, что не только печать национальности, но и печать индивидуальности лежит на каждом талантливом переводе [Рыльский М.Ф.,1986:12]. Можно добавить, что на переводе лежит и гендерная печать, т.е. влияние на выбор определённых языковых средств при переводе оказывают различное строение и функции головного мозга мужчин и женщин, которые обусловливают психологические особенности мужского и женского пола, а также гендерные стереотипы. Удачным является перевод, который наиболее близок к языку оригинала. При этом учитываются как экстралингвистический фактор, так и собственно лингвистический, который предполагает максимально точное воспроизведение текста на каждом из пяти, как считает В.Коптилов, уровней: фонетическом, ритмическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом [Коптілов В.Д. , 1972: 92].
66
Рассмотрим язык оригинала и перевода с учётом всех вышеперечисленных параметров. При переводе с болгарского переводчиками обоего пола удалось передать ритм стихотворений, эквилинеарность, т.е. то же количество строк при переводе, что и в оригинале, а также использование мужской и женской рифмы там, где это необходимо, что было, несомненно, трудно. Сопоставление морфологических единиц выявило значительные расхождения между языком оригинала и перевода. Переводчицы-женщины вводят значительно большее количество местоимений (особенно личных): Там, дето в гаснещата вечер дъхът на тропика се чувства? – Туда, где в голубых просторах дыханье тропиков ты чувствовал? (ж). Как мы уже говорили, на каждом талантливом переводе лежит не только гендерная печать, но и сказывается влияние индивидуальности переводчика. Пишущий довольно оригинальные стихи переводчик не может оставаться бездушным транслятором, он невольно привносит в создаваемый им вариант перевода своё личное «я», потому что психофизиологическую базу порождения вариативности при переводе «составляет относительно независимый субстрат сознания» [Нечаев Л.Г., 1988:.27]. Таким образом, переводчик может «корректировать» авторский текст, исходя из своего видения ситуации. Так, Б.Слуцкий, пишущий прекрасные стихи, меняет местоимения при переводе, расставляя по-другому акценты: С живота под вежди се гледами строго и боря се с него, долкото мога. С живота сме в разпра, но ти не разбирай, чем разя живота. – Жизни в глаза исподолбья гляжу я. Сколько есть сил, ей не уступлю я. Как бы со мною жизнь не была зла, я не питаю нисколько к ней зла. При сопоставлении русского и болгарского текстов мы видим появление личных местоимений и
67
у переводчиков-мужчин. Это связано с особенностями синтаксиса: для болгарского языка характерными являются определённо-личные предложения, русский же язык более конкретен, предпочтение при переводе отдаётся двусоставным предложениям: Но в бурята ще бъдем пак съе тебе, народ мой, защото се обичахме. – Но знай, народ, с тобой в отрядах первых пойдем вперед мы в буре необычной! (м.) Для «женского языка» характерно не только большее количество местоимений, но и частиц. При переводе с болгарского и у мужчин-переводчиков довольно частотно употребление местоимений и частиц, что также связано с синтаксисом. Эти части речи появляются вместо глаголов-связок: Борбата е безмилостно жестока. Борбата, както назват, е епична. – Борьба так беспощадна и жестока. Борьба, как говорят еще, эпична.. Това е толкоз просто и логично. – И все это так просто и логично. Для мужских переводов характерно употребление имён прилагательных, даже если их нет в тексте оригинала: Но в бурят ще бъдем пак със тебе, народе мой, защото се обичахме. – Но знай, народ, с тобой в отрядах первых пойдем в перед мы в буре необычной! Иногда и женщины могут употреблять прилагательные, которых нет в переводимом стихотворении, но при этом они обязательно изменяют «эмоциональный градус» первоисточника: И после� после некаква омраза се впиваше дълбоко във сърцата. Като гангрена. – И после� после� зло и беспощадно в больное сердце ненависть впивалась; как чёрная гангрена. Для усиления образа, нагнетания страстей женщины-переводчики могут вводить и синтаксические конструкции: Ти помниш ли как някак много бързо ни хванаха в капана на живота? Опомнихме се. Късно. – Ты помнишь? Жизнь так
68
быстро и так просто поймала нас� И зубы сжав от боли, опомнились мы. Поздно! Это связано с тем, что у женщин больше, чем у мужчин, развито правое полушарие. Поэтому для них характерна образность восприятия и мышления, фантазирование, гиперболизация; очень часто в женских вариантах подбираются слова с коннотацией, несмотря на отсутствие таковой в оригинале. Див копнеж переводится не «дикая мечта, сильное желание», а дикая тоска. Женщины чаще используют глаголы при переводе: Ти помниш ли морето и машините, и трюмовете, пълни с ленкав мрак? – Ты помнишь ли то море, и машины, и трюмы, что наполнил липкий мрак? В области синтаксиса также существуют различия в языке оригинала и перевода. Обычно переводчик старается сохранить порядок слов в предложении, если это стилистический прием автора. Так, в стихотворении Н.Вапцарова «Письмо» 4 раза строки начинаются «Ти помниш ли�», что повторено переводчиком, хотя такой строй не характерен для русского синтаксиса. В остальных же случаях в женских переводах чаще, чем в мужских, встречается непрямой порядок слов, хотя это и не связано с особенностями текста оригинала: Машинато ритмично припева и навева топла вера. – Спокойно и ритмично стучит машина, пробуждая веру� Согласно гендерным стереотипам, женщины склонны к кооперативной беседе, что отражается и на построении предложения: вводные слова, отсутствие императива и т.д. Мужской же тип коммуникации – менее гибкий, но более динамичный. Вероятно, именно этим объясняется пропуск вводных слов и обращений в мужских переводах. Хотя они есть в оригинале, в то время как в женских они превалировали даже там, где их не было в оригинальном тексте.
69
При построении предложения при переводе оказывает влияние и ассоциативное поле. «Мужские ассоциации богаче и более «рассредоточены», чем женские [Потапов В.В., 2002: 114]. Женщина-переводчик чаще мужчин строит предложение по уже готовому образцу: А бяхме млади, бяхме толкоз млади!.. – Как молоды, как молоды мы были! Многие исследователи обращают внимание на консерватизм женщин в употреблении ими лексических единиц, приверженность норме, частое использование женщинами готовых речевых клише, это также было обнаружено при сопоставлении вариантов переводов: в женском варианте превалирует книжная лексика и лексика, используемая в фольклорных текстах: То злобата в сърцето трансформира в една борба, която днес клокочи. – И злобу мне в груди переплавляет в священный гнев сегодняшних сражений. Анализируя особенности перевода, необходимо помнить о трех составляющих: национальной, индивидуальной и гендерной, которые тесно переплетены. Гендерная принадлежность, репрезентируясь в текстах перевода, дает возможность выявить их специфические особенности. Как показало исследование различных переводов в данной статье, гендерный фактор чаще всего является решающим при выборе тех или иных языковых средств переводчиками. Литература
Горошко Е.И. (1996) Особенности мужского и женского вербального поведения: психолингвистический анализ. Дис�канд. филол.наук. М., 362 с. Горошко Е.И., Кирилина А. (1996) Гендерные исследования в лингвистике сегодня. В кн.: Гендерные исследования. М., С. 18-27.
70
Грошев И.В. (2000) Рекламные технологии гендера. Общественные науки и современность, М., №4. С.173-179. Гумбольдт В. (1985) Язык и философия культуры. М., 400 с. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Розанова Н.Н.( 1993). Особенности мужской и женской речи. Русский язык в его функционировании: коммуникативно-прагматический аспект. М., с.3-27. Казанова Т.А. (1998) О психологическом аспекте перевода. Перевод и интерпретация текста. Сб.научн.тр. М., с.76-81. Кирилина А.В. (1999) Гендер: лингвистические аспекты. М., 231 с. Кононенко В.І. (1996) Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі української та російської мов). Мовознавство, №6,с.39-46. Коптілов В.Д. (1972). Першотвір і переклад. Киев, 124 с. Мартынюк А.П. (1992) Некоторые особенности речового поведения мужчин и женщин. Вестник ХГУ, №367, с.74-77. Нечаев Л.Г. (1988) Факторы, определяющие коммуникативную вариативность при переводе. Перевод и интерпретация текста. Сб.научн.трудов, М., с.44-55. Потапов В.В. (2002) Многоуровневая стратегия лингвистической гендерологии. Вопросы языкознания, №1, с.114-118. Рыльский М.Ф. (1986) Искусство перевода: Статьи. Заметки. Письма. М., 187 с. Синельникова Л.Н., Богданович Г.Ю. (2001). Введение в лингвистическую гендерологию. Симферополь, 40 с. Холод А.М. (1997) Речевые картины мира мужчин и женщин. Днепропетровск, 219 с. Lakoff R. (1973). Language and Woman’s Place. N.Y., 114 c. Samel J. (1995) Sinfuhrung in die feministisene.Sprachwissen-shaft. B., 91 c. Werner F. (1981) Gesprächsarbeit und Themenkontrolle. Linguistische Berichte, 71, s.26-46.
71
Лина Гукова, Людмила Фомина
ОБРАЗНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТОПОНИМОВ В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА
Аннотация. Статья посвящена анализу моделей и средств выражения образно-прагматического потенциала топонимов в творчестве А.С.Пушкина. Представлено понятие топонимической парадигмы, роль перифразы, а также синтагматические средства формирования и выявления образности и суггестивного эффекта топонимов. Ключевые слова: топоним, типы номинаций, топонимическая парадигма, перифраза, суггестивный эффект. Abstract: The article analyzes the models and tools Pushkin uses to express the figurative and pragmatic potential of the toponyms. The toponymic paradigm concept and periphrasis role have been defined, as well as syntagmatic tools that draw out the toponyms figurality and suggestive effect. Key words: toponym, naming unit types, toponymic paradigm, periphrasis, suggestive effect.
Изучение имён собственных, в том числе и топонимов, имеет в русской лингвистике достаточно длительную традицию. И тем не менее обращение к отдельным фрагментам авторского ономастикона остаётся задачей актуальной, так как и сам материал, и диапазон аспектов его исследования неисчерпаемы. Так, на широту географического пространства, представленного в произведениях А.С.Пушкина обращали внимание как его современники, так и позднейшие исследователи. «Пушкин /�/ порывает с географической ограниченностью современной ему литературы», - пишет известный пушкинист А. Цейтлин [Цейтлин А., 1934:14]. И действительно, в орбиту своего творческого внимания русский гений включил как древнейшие страны и города: Иудею, Элладу, Рим,
72
западноевропейские Италию, Францию, Англию, Германию, заокеанскую Америку и далекий Китай, Швецию и антишведскую коалицию времен Северной войны, так и широчайшее полотно российской географии – от двух столиц до «Камчатской землицы». Естественно поэтому, что в словаре его произведений значительное место занимают топонимы – во всех их разновидностях. Топонимы в художественном дискурсе служат маркерами дискретизированного пространственного континуума, в котором происходят представляемые писателем события (реальные или вымышленные), обозначениями объектов восприятия и осмысления, но они, как показывают наблюдения, являются для писателя также средством представления информации в личностной интерпретации и «мощным инструментом воздействия» [Рудяков А.Н., 2012:504]. А между тем топонимика художественной речи, изучающая эстетико-прагматический потенциал географического имени в тексте и феномен авторского мастерства в его формировании, является всё ещё областью недостаточно разработанной. Всем указанным обусловлено наше обращение к изучению образно-прагматического потенциала топонимов в творчестве А.С.Пушкина. Этот параметр функционирования топонимов в творчестве А.С.Пушкина моделируется как синтагматически, так и парадигматически. Так, семантическая парадигма топонима формируется из совокупности всех использованных автором именований данного топообъекта [см. Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф., 2010]. Сюда включается, во-первых, официальное именование географического объекта, функционирующее в данный период; во-вторых, известные носителям данного языка и культуры его исторические именования, сменившиеся в какой-то период иными названиями; и, в-третьих, авторские художественные номинации и перифразы.
73
А.С.Пушкин очень тонко чувствовал семантический и выразительный потенциал этой модели и мастерски использовал её как в пространстве одного произведения, так и в разных произведениях. Например, в стихотворении "Олегов щит" поэт использует ряд разнотипных топонимов, соотнесенных с одним референтом – одним географическим объектом, для художественного представления динамики действительности: Когда ко граду Константина С тобой, воинственный варяг, Пришла славянская дружина И развила победы стяг, Тогда во славу Руси ратной, Строптиву греку в стыд и страх, Ты пригвоздил свой щит булатный На цареградских воротах. Настали дни вражды кровавой; Твой путь мы снова обрели. Но днесь, когда мы вновь со славой К Стамбулу грозно притекли, Твой холм потрясся с бранным гулом, И нашу рать перед Стамбулом Твой старый щит остановил (III, 120)7. А для номинации Санкт-Петербурга А.С.Пушкин в разных произведениях и письмах, наряду с его официальным именем, использовал редуцированные названия (С.-Петербург, Петербург, Питер, Санкт-Питер, П.Б., Петрополь), расширенные – Питербург-городок), а также номинации, совмещающие расширение и редукцию: град Петра, град Петров, город Санкт-Питер. Расширенные номинации представлены также большим рядом топонимических перифраз (о них – ниже). Каждое из этих именований города является носителем энциклопедической, собственно лингвистической и историко-культурной информации, адресованной сознанию реципиента. Город создан по замыслу и плану великого
7 Все примеры из произведений и писем А.С.Пушкина даём по изданию: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10-ти т. / А.С.Пушкин. М: Изд-во АН СССР, 1962 – 1966.
74
реформатора, получившего образование в Европе и строившего планы включить Россию, как теперь сказали бы, в европейскую парадигму: Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно (Медный всадник; IV, 381). Отсюда и первое (европейское) название города, содержащее компоненты, способные к переводу и огласовке, характерной для разных языков: санкт – ’святой’, Петер – Пётр, бург - ’город (русск.), град (ст.-сл.), поль (от греч. polis)’. Имя Санкт-Петербург – агиотопоним: город назван в честь святого покровителя императора – апостола Петра. Но А.С. Пушкин не преминул в своих номинациях отметить роль царя Петра I в его создании, а синтагматически – представить своё отношение к городу: Люблю тебя, Петра творенье... (Медный всадник; IV, 381). Петра творенье – это перифраза, «функциональный оним» (Супрун В.И., 2000: 63), роль которых в презентации содержательной, чувственно-образной и образно-выразительной информации в тексте переоценить невозможно. Так, с помощью перифраз новоначинавшийся город; новый укрепленный городок, новая пристань, юный град, новорожденная столица, младшая столица, младший брат (Москвы), северная столица, дальная столица, военная столица, окно в Европу сообщаются разнообразные когнитивные признаки и объективируется их знаковая природа, а именно: даётся представление о молодости города, его столичном статусе, географическом положении и предназначении. В другом ряду словесных и перифрастических номинаций репрезентируются чувственно воспринимаемые и образно представляемые признаки новой столицы (её расположение на берегах ряда водных источников – брега Невы, берега Мойки и Фонтанки, Нева), а также образно-выразительная авторская интерпретация как её достоинств, так и негатива: Северный Стамбул;
75
Чухландия; моё чухонское уединение; мертвая область рабов, капральства, прихотей и моды; дух неволи; скука, холод и гранит. Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы (Евгений Онегин, гл. 1, ст. II; V, 10). В полноте сердца своего положили они уведомить о себе членов православного братства, украшающих берега Мойки и Фонтанки (Письма, 14. Арзамасцам; Х, 20). Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, Не этой девочкой несмелой, Влюбленной, бедной и простой, Но равнодушною княгиней, Но неприступною богиней Роскошной, царственной Невы (Евгений Онегин, гл. 8, ст. XXVII; V, 177). Итак, от наших берегов, От мертвой области рабов, Капральства, прихотей и моды Ты скачешь в мирную Москву (Всеволожскому; I, 368). Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит (Город пышный, город бедный; III, 79).
Как видим, этот ряд номинаций Петербурга содержит метонимию, сравнение, метафору. Причём некоторые из номинаций стали достоянием национальной лингвокультуры и не нуждаются в семантизации, другие же для их декодирования требуют активизации апперцепционной базы реципиента и специальных разысканий. Так, именование Петербурга перифразой Северный Стамбул содержит сравнение, включающее антитезу «южный – северный», но отнюдь не исчерпывается ею, поскольку Стамбул имеет более продвинутую историю в сравнении с Петербургом и уже в пушкинское время входит в число символов мировой культуры (Константинополь – Новый Рим). Может быть, поэтому исследователи Р.Иезуитова, Я.Левкович видят в этой номинации «оттенок почтительной иронии» [Мокиенко В.М., Сидоренко К.П., 2005 :480]. По нашему мнению, использование номинации Северный Стамбул на фоне уже
76
имевшей место в то время в русском языке перифразы Северная Пальмира (авторство достоверно не установлено, но предположительно оно связывается с именами Державина и Булгарина) порождает аллюзию о включении «юного града» в систему достопримечательной мировой культуры. Скоро ли увидите вы северный Стамбул? обнимите там за меня милого нашего муфти Александра Ивановича (Тургенева - Л. Г., Л. Ф.) и мятежного драгомана брата его (Письма, 22. С.И. Тургеневу; X, 30). К новому году, вероятно, явлюся к вам в Чухландию (Письма, 269. А.А. Дельвигу; X, 253 - 254).
Индивидуально-авторская топономинация Чухландия имеет множественную мотивацию. В связи с наличием в слове компонента –ландия (от общегерманского land – ’страна, край, земля’) она презентует город как весьма значительное пространство, мир с особым укладом. Компонент чух – соотносит данный оним с устаревшим ныне этнонимом чухна, чухонцы – ’пренебрежительным и насмешливым прозвищем финского населения, жившего исконно в окрестностях Петербурга’[Словарь языка А.С.Пушкина 1956 – 1961, IV:389; Словарь русского языка, 1981 – 1984, IV: 695], петербургским «прозванием пригородных финнов» [5, IV: 616]. (По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца – Медный всадник). Учёт парадигматического, «вертикального» контекста и исторической памяти актуализирует в сознании денотативные семы ’неблагоприятный климат’, ’бедность, убожество’ и коннотативные семы ’насмешливое, пренебрежительное отношение’, которое, однако, адресовано в данном случае не «убогим чухонцам», а столичному обществу. При такой соотнесённости название Чухландия воспринимается не только как шутливая [Словарь языка А.С.Пушкина 1956 – 1961, IV: 958], но и как
77
сардоническая номинация. При этом Пушкину, видимо, нравилась апелляция к этой последней мотивации, что и побуждало его возвращаться к номинациям, включающим «чухонский мотив». Так он создаёт грустно-шутливую, экспрессивно-прагматическую перифрастическую номинацию Петербурга – мое чухонское уединение, представленную в одном из его писем княгине В.Ф.Вяземской, где в элегическом слове уединение актуализируется значение ’одиночество’ с его семами ’иметь мало общего с окружающими, быть чуждым им, быть далёким от них’: Во-первых, позвольте повергнуться мне к ножкам Вашего сиятельства и принести всеподданнейшую мою благодарность за собачку /�/, присланную мне в мое чухонское уединение (Письма, 258. Из Петербурга в Москву В.Ф.Вяземской; Х, 246). Это были примеры двух топонимических парадигм. Но они в творчестве А.С.Пушкина, как, впрочем, и в общенародном русском языке, используются постоянно. И при этом значительное место в них принадлежит перифразам, построение которых отличается тем, что позволяет включать в их структуру и содержание самые разные признаки именуемого топографического объекта. Чем более значим этот объект для страны, для народа, для автора, их истории и культуры, тем больше его признаки – от понятийных до определительно-характеризующих и эмоционально-оценочных – каузируют как парадигматические, так и синтагматические связи топонима. Вот, напр., как описывает А.С.Пушкин один из эпизодов своего путешествия в Арзрум: Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. "Что за гора?" - спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: "Это Арарат". /�/ Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни (Путешествие в Арзрум, гл.2; VI, 670). Как видим, в
78
пределах небольшого отрезка текста представлены три номинации одного географического объекта, в которых презентованы понятийные (гора), чувственно воспринимаемые (белела снеговая, двуглавая гора) и историко-культурные (библейская гора) признаки, которые активизируют воображение, эмоциональное состояние и мыслительную деятельность субъекта, связанные с его пресуппозиционной базой: Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни. Всё это чрезвычайно интересно в свете того, что объективно, как показали разыскания исследователей, информация, которую получил А.С.Пушкин от казаков, была неверной: в действительности это была другая гора – Алагёз (Арагац) [Благой Д.Д.,1967: 372], но мы увидели вербализованный сюжет, связанный с топонимом Арарат, магию имени, его суггестивную интенцию и прагматический эффект – подлинные переживания рассказчика. Мы разделяем мнение Н.Д.Арутюновой и В.И.Супруна об орнаментальной функции перифраз [Арутюнова Н.Д., 1999:107; Супрун В.И.,2000:68] в речи, в художественном тексте, но добавим, что топонимические перифразы, по нашему мнению, вместе с тем вербализуют определённые слоты в семантическом пространстве именуемого ими объекта-концепта и тем самым расширяют диапазон его потенций.
Образно-прагматический потенциал топонимов в творчестве Пушкина чрезвычайно многообразно выявляется и синтагматически – благодаря их многоаспектной дистрибутивной характеризации, представленной разными средствами: эпитетами, приложениями, обособленными распространёнными и нераспространёнными определениями, придаточными определительными в структуре
79
сложноподчинённого предложения, эмоционально окрашенными самостоятельными предложениями. При сборе материала и составлении словаря «Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А.С.Пушкина» [Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф. ,2008] мы обнаружили и терминологизировали пять основных аспектов, квалифицируя их как художественно-определительную, пространственно-дифференцирующую, историко-маркированную, логико-дифференцирующую и номинативно-интерпретирующую характеризацию [Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф. ,2008: 11 – 15]. В связи с ограниченностью объёма статьи приведём только несколько примеров этих разных аспектов характеризации. Вот, например, какими эпитетами, приложениями и предложениями представлена художественно-определительная квалификация Киева в ряде произведений: Наш Киев дряхлый, златоглавый, Сей пращур русских городов, Сроднит ли с буйною Варшавой Святыню всех своих гробов? (Бородинская годовщина; III, 225 – 226) Во славном городе во Киеве, У славного царя у Владимира, Жила была молода вдова (Песня о сыне Сеньки Разина; III, 410). Уж видит златоверхий град (Руслан и Людмила; IV, 90). Злосчастный град! Увы! Рыдай, Твой светлый опустеет край, Ты станешь бранная пустыня!.. (Руслан и Людмила; Из ранних редакций; IV, 505) То ль дело Киев! Что за край! Валятся сами в рот галушки (Гусар; III, 249).
В заключение отметим, что разные аспекты характеризации, а также синтагматический и парадигматический способы реализации образно-прагматического потенциала топонимов в творчестве А.С.Пушкина не противопоставлены друг другу, а функционируют в гармоническом единстве, будучи ориентированными на презентацию содержательно-концептуальной информации и
80
реализацию художественно-эстетических интенций автора. Литература Арутюнова Н.Д. (1999) Дескрипция и дискурс: от текста к смыслу в кню: Н.Д.Арутюнова. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, I – XV, 896 с. Благой Д.Д. (1967) Творческий путь Пушкина (1826 – 1830). М.: Сов. писатель, 723 с. Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф. (2008) Многоаспектная характеристика топонимов в творческом наследии А.С.Пушкина: Словарь. Одесса: Астропринт. 392 с. Гукова Л.Н., Фомина Л.Ф. (2010). Семантико-стилистическая парадигма топонима: постановка вопроса. Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства. Одеса: Астропринт, № 15. С. 131 – 138. Даль В.И. (1978) Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 томах. М.: Русский язык, Мокиенко В.М., Сидоренко К.П. (2005) Школьный словарь крылатых выражений Пушкина СПб., М.: Нева. 800 с. Пушкин А.С. (1962 – 1966) Полное собрание сочинений: В 10-ти т. М: Изд-во АН СССР,. Рудяков А.Н. (2012) Ономастика и функциональные качества имён в художественном тексте. В кн.: А.Н. Рудяков. И слово ваше отзовётся: К 80-летию рождения доктора филологических наук, проф. Е.С.Отина. К.: Издательский дом Дмитрия Бураго. С. 504 – 513. Словарь русского языка в четырёх томах ( 1981 – 1984) Гл. ред А.П.Евгеньева. М.: Русский язык. Словарь языка А.С.Пушкина: (1956 – 1961) В 4-х т. – М.: Госиздат. иностр. и нац. словарей. Супрун В.И. (2000) Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Волгоград: Перемена. 172 с. Цейтлин А. (1934) Наследство Пушкина . Литературное наследство, № 16 – 18. С. 5 – 34.
81
Эва Дзвежиньска
УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В
ПЕРЕВОДЕ Аннотация: В статье рассматривается вопрос устойчивых словосочетаний (коллокаций) и единицы перевода, а также проблем связанных с переводом устойчивых словосочетаний. Коллокации в процессе перевода представляют собой единое целое и переводятся с помощью устойчивых словосочетаний или функциональных эквивалентов. Для того, чтобы облегчить переводчикам работу существует потребность в создании словаря устойчивых словосочетаний (коллокаций) нового типа. Abstract: In the article the author discussed the issues of collocation as a unit of translation as well as the problems in the process of translation collocations. Collocation is an inseparable entity and should be translated with the use of conventional lexical phrases or functional equivalents. In order to do the work of translators easier, there is a need to develop and publish new type dictionary of collocations.
Перевод устойчивых словосочетаний
становится важным вопросом, для всех, кто пытается точно и полно передать информацию, заключенную в тексте подлинника. Бесспорным является факт, что тождество информации является важнейшим критерием точности перевода [Рецкер Я. И., 1973].
Переводя тексты, следует стремиться к полной передаче информации с соблюдением всех грамматических, лексических и стилистико-прагматических норм переводящего языка и сохранением его стилистических и экспрессивных особенностей. Перевод должен осуществляться на уровне, который необходим для передачи содержания исходного текста. Для этого в тексте для перевода следует выделить так называемые единицы перевода (транслемы8).
8 «Транслема» - термин Е. Рогановой. Е. Роганова. Перевод с
русского языка на немецкий. Москва, 1971, с. 30.
82
Единица перевода – это такая единица в исходном тексте, которая должна быть выделена и которой может быть подыскано соответствие в тексте перевода, но составные части которой по отдельности не имеют соответствия в тексте перевода как текстовые единицы [Бархударов Л.С.,1975:75].
По мнению Л.С. Бархударова, термин «единица перевода» во многом условен; точнее было бы говорить о единице переводческой эквивалентности (единице иностранного языка, имеющей эквивалент в тексте перевода) [Бархударов Л.С.,1975:75].
Основными единицами перевода (единицами переводческой эквивалентности) в процессе сегментации исходного текста могут выступать слово, словосочетание, предложение, сверхфразовое единство.
Выделение единицы перевода позволяет переводчику разделить исходный текст на части, смысл которых он должен понять и к которым должен подобрать эквиваленты. Это умение дает возможность избегать ошибки пословного перевода исходного текста, который заключается в членении текста на отдельные слова и подборе их соответствий в языке перевода.
Словосочетания могут состоять из слов, которые свободно сочетаются с другими словами, а их сочетания обусловлены лишь смыслом и таких, которые имеют ограниченную (несвободную) лексическую сочетаемость. Они образуют так называемые устойчивые словосочетания (коллокации), которые вызывают значительные трудности в процессе перевода. Устойчивые словосочетания следует считать единицами перевода. Их пословный перевод в большинстве
83
случаев оказывается невозможным и приводит к ошибкам.
Сложность перевода устойчивых словосочетаний заключается в том, что они являются соединением слов с целостным содержанием, которое возникает путем ослабления прямых лексических значений и синтаксических отношений их компонентов. Слова, входящие в состав устойчивых словосочетаний в сопоставляемых языках, преимущественно сочетаются различно. Устойчивость решает о том, что слова данного языка имеют свой, присущий только данному языку круг сочетаемости, что позволяет предсказывать совместное появление элементов в сочетании. По мнению И. А. Мельчука, основным признаком устойчивости считает ограничение сочетаемости. Устойчивым является сочетание определенных элементов, в котором последние встречаются чаще, чем в других сочетаниях [Мельчук И.А.,1960:79]. Перевод устойчивых словосочетаний неоднократно связан с необходимостью лексических трансформаций. Этой проблеме посвящены работы Т.Р. Левицкой и А.М. Фитерман [Левицкая Т.Р., Фитерман А.М., 1975].
В современной научной литературе сформировались два подхода к пониманию термина устойчивое сочетание: во-первых, он используется как синоним терминов фразеологизм, фразеологическая единица; во-вторых, он служит для обозначения всех видов несвободных сочетаний, включая фразеологические единицы [Лапаева Т.А, 2007].
Устойчивые сочетания слов по синтаксически главному слову делятся на:
- глагольные (принять решение, взять интервью, оказывать помощь),
- именные (численность населения, аттестат зрелости, письменный стол).
84
Слово, которое в составе устойчивого сочетания сохраняет свое значение, называется ключевым, или свободным компонентом. Таким компонентом является слово признание в сочетании получать признание. Несвободным компонентом является слово, выбор которого определяется традицией. Оно зависит от ключевого компонента и его подбор определяется не только выражаемым смыслом но, прежде всего, правилами сочетаемости, которые позволяют с существительным признание сочетать глагол получать (смысл «добиваться»).
Лексико-фразеологическая сочетаемость (валентность) присуща только данному конкретному слову в данном языке. В родном языке мы интуитивно, образуем словосочетания, не задумываясь, какие слова могут сочетаться друг с другом. Используя их в иноязычной речи или в процессе перевода иноязычного текста мы обычно анализируем возможность сочетания слов друг с другом и особенности их сочетаемости. Носители языка не испытывают трудностей, с которыми сталкиваются изучающие иностранный язык или переводчики в употреблении устойчивых словосочетаний. В каждом языке имеются свои типичные нормы сочетаемости. Каждый язык может порождать бесконечное количество новых сочетаний, понятных для людей, говорящих на нем и не нарушающих его норм. В каждом языке существует круг обычных, установившихся традиционных сочетаний, которые не совпадают с соответствующим кругом сочетаний в другом языке. Это вызывает необходимость подыскивать столь же принятые сочетания в языке перевода [Левицкая Т.Р., Фитерман А.М., 1976:43]. Несвободная сочетаемость редко совпадает в разных языках. Она отражает национальную специфику языков и влияет на то, что перевод устойчивых словосочетаний на иностранный язык
85
требует знания их иноязычных эквивалентов. Итак, переводя с польского на русский язык словосочетание iść za przykładem, необходимо знать, что в этом словосочетании русские не употребляют глагола идти (польское iść), а слово пример (польское przykład), сочетают с глаголом следовать – следовать примеру.
Устойчивые словосочетания должны заучиваться переводчиками и храниться в памяти (в индивидуальном словаре). Незнание устойчивых словосочетаний ведет к попыткам пословного перевода, результатом которого являются ошибки и искажение текста. Ниже приводим некоторые примеры ошибочного перевода польских устойчивых словосочетаний студентами переводческой специальности, которые возникли вследствие интерференции польского языка:9
przejść do historii – перейти в историю* вместо: войти в историю
iść za przykładem – идти за примером* вместо: следовать примеру
ujawniać braki – показать недостатки* вместо: вскрывать недостатки
wzbudzać zainteresowanie – возбуждать интерес* вместо: вызывать интерес
zmarnować talent – потерять талант* вместо: погубить талант
wprawiać w zachwyt – вводить в восторг (восхищение)* вместо: приводить в восторг (восхищение)
wystawić sztukę – выставить пьесу* вместо: поставить пьесу
wziąć udział – взять участие* вместо: принять участие
9 Исследования были проведены на отделении русской
филологии Жешувского университета (Польша).
86
wywrzeć wrażenie – сделать впечатление* вместо: произвести впечатление
wykazywać zdolności – показывать/оказывать способности* вместо: проявлять способности zgubić rytm – потерять/погубить ритм* вместо:
сбиться с ритма zachować ciszę – сохранить тишину* вместо:
соблюдать тишину „zatrzymać” w pamięci – задержать в памяти*
вместо: сохранить в памяти. Названные выше ошибки становятся
доказательством, что изучая иностранный язык, следует заучивать слова не в отдельности, анализируя их значения, а в наиболее естественных устойчивых сочетаниях, присущих данному языку. Для того, чтобы перевести устойчивое сочетание переводчик должен выбрать наиболее полное соответствие в другом языке. Переводя иноязычные тексты, содержащие устойчивые выражения, переводчики могут пользоваться специальными справочниками и словарями. Однако, как замечает М.В. Хохлова, существующие словари устойчивых словосочетаний, во первых, охватывают не полный их перечень, во-вторых, часто делают это недостаточно последовательно. В связи с этим есть потребность в создании словаря устойчивых словосочетаний (коллокаций) нового типа [Хохлова М.В., 2008.].
Индивидуальный лексикон переводчика должен постоянно обогащаться в связи с тем, что каждый язык обогащается новыми словами и словосочетаниями, в том числе и устойчивыми словосочетаниями, и может порождать бесконечное количество новых сочетаний, понятных для людей, говорящих на нем и не нарушающих его норм [Левицкая Т.Р., Фитерман А.М., 1976:43]. Непрерывная работа над обогащением индивидуального лексикона переводчика становится
87
важным условием совершенствования его профессиональной компетенции. Литература: Białek E. (2009) Kolokacja w przekładzie. Studium polsko-rosyjskie, Wyd. UMCS, Lublin. Białek E. (2006). Nowe kolokacje jako nośniki obcości – uwarunkowania strategii translatorskich. Przegląd rusycystyczny, Nr 4. Lipowska-Krupska B., Kułyk Z., (1998.) Polsko-rosyjski słownik czasownikowych połączeń konwencjonalnych, Kraków Алексеева И. С. (2004) Введение в перевод введение, Москва. Бархударов Л.С. (1975) Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода), Москва. Комиссаров В.Н. (1990) Теория перевода (лингвистические аспекты), Москва. Лапаева Т.А. (2007) Устойчивые сочетания в системе языковых единиц. Вестник Новгородского государственного университета, №. 44, с. 75-77. Латышев Л.К.( 2008) Технология перевода, Москва. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. (1975) Чем вызываются лексические трансформации при переводе? «Тетради переводчика», №12. Левицкая Т.Р., Фитерман А.М. (1976) Проблемы перевода, Москва. Мельчук И.А. (1960) О терминах «устойчивость» «идиоматичность». Вопросы языкознания, № 4, с. 73-81. Регинина К.В., Тюрина Г.П., Широкова Л.И. (1978) Устойчивые сочетания русского языка, Москва. Рецкер Я. И. (1973) Теория перевода и переводческая практика, Москва. Роганова Е. (1971) Перевод с русского языка на немецкий, Москва.
88
Мустайоки А., Копотева М.В., Бирюлина Л.А., Протасова Е.Ю. (ред.) (2008) Инструментарий русистики: корпусные подходы, Хельсинки. Хохлова М.В., (2008) Экспериментальная проверка методов выделения коллокаций, «Slavica Helsingiensia» 34. Широкова Л.И. (ред.) (1976) Устойчивые словосочетания русского языка, Москва.
89
Малгожата Дзедзиц
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕВОДЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НА МАТЕРИАЛЕ
ЗАНЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ IT ТЕКСТОВ Abstract: The article presents the author’s comments on the use of contemporary IT tools in IT texts interpreting. It names basic tools useful in an interpreter’s job and also lists their main advantages. In the article you find also views on possible difficulties as well as prospects of computer supported interpreting.
Современный человек живет быстро, много работает, путешествует, не расстается с компьютером на работе и дома. Темп жизни и повсеместная глобальная интеграция часто требуют очень быстрого перевода иноязычных текстов и, если это происходит в профессиональной среде, – точного перевода высокого качества. Помощь переводчику оказывают сегодня не только традиционные словари, но и информационно-коммуникационные технологии, которые являются, во-первых, мощнейшим инструментом оптимизации перевода как процесса, а во-вторых, эффективным и доступным средством проверки качества перевода как результата.
Информационно-коммуникационные технологии очень эффективны, прежде всего, для перевода технических, юридических и IT текстов, в которых лексика не так многозначна, как в художественной литературе, не содержатся сложные изобразительно-выразительные средства, не появляется другое скрытое значение, что требует совсем других способов работы, поэтому здесь во многом помогает компьютер.
В настоящей статье я хотела бы поделиться опытом работы со студентами-русистами на
90
практических занятиях по Переводу IT текстов. Во время данных занятий мы использовали для перевода разного типа инструменты информационно-коммуникационных технологий, так как лексика, связанная с компьютером и Интернетом быстро развивается, расширяется и меняется значение слов, которые в основном встречаются на сайтах содержащих компьютерный жаргон, и поэтому словари не в состоянии обеспечить правильный перевод современных текстов информатического характера. На занятиях также необходимо было применить инструменты информационно-коммуникационных технологий еще и по другому поводу – пока нет русско-польских/польско-русских словарей посвященных именно информатической лексике и поэтому много слов по этой тематике сложно перевести. Отсюда возникает необходимость применять разные средства для достижения успешных результатов. Программа занятий охватывала перевод информатических терминов и их толкований, перевод примерных команд программ и приложений офисного пакета, описаний различных компьютерных программ, их функций и предназначения, фрагментов интернетовских текстов содержащих компьютерный жаргон и др. Для переводов мы использовали компьютер как основной инструмент современного переводчика предоставляющий, содержащий и передающий информацию.
Касаемо теории перевода с помощью компьютерных технологий, в английской терминологии эти технологии делятся в основном на два больших класса – MT (Machine Translation) и CAT (Computer-assisted/aided translation).[ Кутузов А.Б., 2007]. К первому классу (MT), известному как автоматический или машинный перевод, относятся программы, с той или иной степенью успеха
91
заменяющие переводчика-человека. Машинный перевод считается в настоящее время быстрым и дешевым, но пока имеет много ограничений. Для его осуществления в компьютер вводится специальная программа, реализующая алгоритм перевода, т.е. последовательность однозначно и строго определенных действий над текстом для нахождения переводных соответствий в данной паре языков L1 – L2 при заданном направлении перевода. Система машинного перевода включает в себя двуязычные (или пока экспериментальные многоязычные) словари, снабженные необходимой грамматической информацией (морфологической, синтаксической и семантической) для обеспечения передачи эквивалентных, вариантных и трансформационных переводных соответствий, а также алгоритмические средства грамматического анализа, реализующие какую-либо из принятых для автоматической переработки текста формальных грамматик.[ www.krugosvet.ru]
Сегодня довольно много и онлайновых многоязычных систем машинного перевода, напр. www.translate.ru, www.translate.google.pl, но хотя они быстро развиваются, у них остается еще много нерешенных проблем и недостатков, как хотя бы преобладающий перевод первого значения слова независимо от контекста и содержания предложения.
В отличие от систем машинного перевода, системы CAT (второй класс) лишь автоматизируют и облегчают труд переводчика в его различных аспектах. В настоящее время наиболее распространенными способами использования компьютеров при письменном переводе является работа со словарями, глоссариями, памятью переводов (англ. Translation Memory, TM10, напр.
10 TM – лингвистическая база данных, в которой хранятся исходные тексты и их переводы. Тексты эти разделены на
92
программы Trados, OmegaT, DejaVu, WordFast и т.п.), содержащей примеры ранее переведенных текстов, терминологическими базами. Используются также так называемые корпуса – большие коллекции текстов на одном или нескольких языках, дающие краткое описание того, как слова и выражения реально используются в языке в целом или в конкретной предметной области. [Hutchins J., 1998 ]
Автоматизированный перевод – это понятие широкое и не совсем точное, охватывающее множество простых и сложных инструментов, которые может использовать переводчик. В своей работе как сложном процессе поддерживаемом компьютером он может применять, напр.:
• Программы для проверки правописания и грамматики встроенные в текстовые редакторы или дополнительные программы; на занятиях мы часто пользовались функциями проверки правописания и грамматики встроенными в самый популярный текстовой редактор Word, которые позволяют исправить орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки, что в большой степени облегчает работу переводчика;
• Предлагаемый большинством поисковых систем перевод сайта – если мы использовали на занятиях тексты для перевода доступные в режиме онлайн; мы часто прибегали к этому решению при помощи инструментов Google, требующих, конечно, последовательного редактирования;
сегменты, которые часто совпадают с предложениями. TM позволяет облегчить перевод – система «запоминает» переведенные фразы (сегменты) для будущего использования и переводчику не приходится переводить одни и те же предложения дважды. Эти программы чрезвычайно полезны для перевода текстов с высокой степенью повторяемости (www.thinkaloud.ru/featurelr.html).
93
достоинством этого метода работы переводчика является большой выбор языков перевода;
• Словари на компакт-дисках и онлайн-словари, одноязычные или многоязычные; их использование ускоряет работу, так как достаточно выделить слово в тексте и выбрать функцию копировать и в окошке словаря сразу появляется перевод, не нужно даже писать это слово; словари в электронном виде часто снабжены произношением и грамматическим комментарием, что очень удобно и полезно для пользователей;
• Программы для полнотекстового поиска (иначе индексаторы), которые позволяют пользователю обращаться с запросами к ранее переведенным текстам или разного рода справочным документам. В индустрии переводов известны такие индексаторы, как Naturel, ISYS Search Software, dtSearch;
• Программы для управления терминологией, которые позволяют переводчикам управлять своей собственной терминологической базой в электронной форме. Это может быть и простая таблица, созданная в текстовом редакторе, и электронная таблица, и база данных, созданная в программе FileMaker. Для более профессиональных решений существует специальное программное обеспечение, например, LogiTerm, MultiTerm, Termex, и т. п.; [Bogucki Ł., 2009]
• Терминологические базы данных, хранящиеся на компакт-дисках или доступные онлайн; например Iate InterActive Terminology for Europe, The Open Terminology Forum, TERMIUM;
94
• Программы-конкордансы, содержащие алфавитный перечень всех слов какого-либо текста с указанием контекстов их употребления в одноязычном, двуязычном или многоязычном корпусе;
Параллельный текст или битекст — это текст на одном языке вместе с его переводом на другой язык. Большие собрания параллельных текстов называются параллельным корпусом (англ. parallel corpora). Идея битекста имеет много общего с концепцией памяти переводов. Главное различие между ними в том, что память переводов представляет собой базу данных, в которой сегменты текста (соответствующие друг другу предложения) расположены таким образом, при котором они не связаны с оригинальным контекстом, то есть оригинальная последовательность предложений теряется. Битекст же сохраняет изначальную последовательность предложений. [www.ru.wikipedia.org]
• Программное обеспечение для управления проектами, которое позволяет лингвистам структурировать сложные переводческие проекты, передавать выполнение различных задач разным сотрудникам и следить за процессом их выполнения;
• Программы управления памятью переводов (TMM), состоящие из базы данных сегментов текста на исходном языке и их переводов на один или более целевых языков, напр. Transit NXT;
• Почти полностью автоматические системы, напоминающие машинный перевод, но позволяющие пользователю вносить определенные изменения в сомнительных случаях. Такие программы иногда называют машинным переводом с участием человека. [Hutchins J., 1998.]
95
Из вышеперечисленных инструментов информационно-коммуникационных технологий на занятиях мы чаще всего использовали онлайновые словари и словари на компакт-дисках (напр. Большой мультимедийный словарь PWN, перевод при помощи www.translate.google.pl, программы для проверки грамматики и правописания в текстовом редакторе и на страницах Интернета, напр. Грамота.ру, сайты и форумы для информатиков, толковые онлайн-словари, языковые корпусы, поисковые системы и др. Трудно назвать самые результативные среди них, так как успешность перевода всегда зависит от многих факторов, в том числе объёма и сложности текста, а также времени, которым обладаем. Необходимо подбирать эти инструменты к конкретным нуждам переводчика на данный момент.
Информационно-коммуникационные технологии создают огромные возможности ускорить и повысить качество перевода, позволяют переводчику в большой степени сэкономить время, найти новейшие, часто заимствованные слова, отсутствующие в печатных словарях. Дают возможность разыскать искомое слово или фразу в языковом и смысловом контексте, быстро проверить все возможные значения данного слова, подобрать синонимы/антонимы практически одним щелчком. Одним словом – они сегодня необходимы, но необходимо помнить, что пока нет совершенно хороших инструментов, которые заменят работу человека-переводчика. Нельзя разработать точный перевод, опираясь лишь на один метод или один мультимедийный инструмент, только исправная работа человека-переводчика позволяет передать полный смысл содержания текста.
В будущем, наверное, доступны сегодня инструменты будут совершенствоваться, появятся совсем новые полезные решения в работе переводчиков, которые еще больше улучшат и
96
ускорят перевод. Будут ли они в состоянии вполне заменить человека? В настоящее время это кажется сомнительным.
Основной вывод на тему Компьютерные технологии в переводе один – каждый компьютерный перевод пока требует последовательного редактирования человеком.
Литература Bogucki Ł. (2009) Tłumaczenie wspomagane komputerowo, Warszawa.. Hutchins J., (1998) The origins of the translator’s workstation, published in: Machine Translation, vol.13, no.4. Кутузов А.Б. (2007) Компьютерные технологии в формировании профессиональной компетенции переводчика, [в:] Языки профессиональной коммуникации: сборник статей участников Третьей международной научной конференции, Т.2, Челябинск.
www.krugosvet.ru
www.thinkaloud.ru/featurelr.html
www.ru.wikipedia.org
97
Гжегож Зиенталя
АФОРИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: В данной статье представлен список афоризмов, которые можно предложить изучающим русский деловой язык с целью обогащения их речи. Афоризмы подразделены на основные группы, которые описывают экономическую деятельность, например: банки, банкротство, богатство, налоги и др.
Филолог, особенно специалист по деловому
языку, во время своей учебы должен хорошо познать „мир бизнеса”. К слову „мир” в изучении иностранных языков обращается и С.Г.Тер-Минасова [ Тер-Минасова С.Г, 2011:94], которая отмечает: „Одна из наиболее важных и радикальных перемен – расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных способностей. Речь уже идет не просто о лингвострановедении как отрасли науки о языке, речь идет о необходимости более глубокого и тщательного изучения мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета и т.п., потому что реальное употребление слов в речи, реальное речепроизводство в значительной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на данном языке речевого коллектива”.
В обучении деловому языку и коммуникации в сфере бизнеса предложенное нами понятие „мира русского бизнеса” включает, кроме экономико-географической информации, ознакомления с особенностями русской кульутры, обучения письменной и устной коммуникации также изменения в русском деловом языке и те языковые элементы,
98
которые обусловлены культурой. К ним можем отнести афоризмы.
Слово „афоризм” происходит от греческого „aphorismós – это краткое суждение, высказанное в образной, иногда парадоксальной форме. Поскольку афоризм имеет вид завершенного умозаключения, он эквивалентен предло-жению. Крылатые слова могут быть просто понятием и, следовательно, они эквивалентны словам („белая ворона” = необычный человек, „кот наплакал” = мало). Крылатые слова часто метафоричны, афоризмы же имеют прямой смысл. Афоризмы (их называют также „максимы”, „сентенции”, „апофегмы”, „гномы”) являются самостоятельным литературно-философским жанром. Однако, четких границ между крылатыми словами и афоризмами нет. По одним источникам, афоризмы являются разновидностью крылатых слов, по другим – наоборот, крылатые слова считаются видом афоризма.
Понятие афоризма использовалось с древних времен, известны египетские папирусы, вавилонские таблички, на которых они записаны. Афоризмами пользовался Гиппократ, а мастерами афоризмов считаются: Гераклит, Питагорас, Эпикур, Марк Аврелий, Эразм Роттердамский.
Афоризмы характеризуются: - самостоятельностью – функционируют как
самостоятельные единицы; - краткостью – это одно или два предложения; - компактностью – в них не встречаются
лишние слова; - многозначностью – могут быть использованы
в разных сферах челове-ческой деятельности и в речи в зависимости от контекста;
- универсальностью – они вечно универсальны, независимо от времени, страны;
- юмором – часто содержат юмористические формулы.
99
В деловом языке афоризмы можно и следует использовать для придания речи бизнесменов оригинальности, использования элементов юмора, а также для отвлечения партнера от серьезного обсуждения условий сделки или быстрого реагирования во время бесед или переговоров.
Афоризмы в деловой речи можно подразделить на несколько групп в зависимости от темы беседы и от ситуации общения.
Ниже представляется разработанная нами классификация и примеры афоризмов, связанных с экономической деятельностью:
Банк и банковское дело Банк – это место, где вам дадут денег взаймы,
если вы докажете, что они вам не нужны /Боб Хоуп/. Банкир – это человек, который одолжит вам
зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь /Роберт Фрост/.
На то и банки, чтобы обанкротиться /А.В. Иванов/.
Не ссуди, да не обманут будешь! /Михаил Мамчич/.
Ничто так не объединяет банкиров, как желание обанкротить друг друга /Михаил Мамчич/.
Переступая порог банка, приближаешься к процветанию его акционеров /Михаил Мамчич/.
У нас тайна вкладов – никто не знает, удастся ли их вернуть /Михаил Мамчич/.
Центральный банк – это банк, при помощи которого государство вмешивается в дела частных банков, и который, в отличие от них, может сам печатать нужные ему деньги /К. Гепперт и К. Пат/.
Банкротство Большинство людей терпят банкротство потому,
что вкладывают слишком крупный капитал в прозу жизни. Разориться на поэзии по крайней мере почетно /Оскар Уайльд/.
Экономика, в которой не бывает банкротств, наверняка обанкротится /Максим Звонарев/.
100
Бизнес Бизнес – превращение в блага ума и умений
/Елена Ермолова/. Бизнес – увлекательнейшая игра, в которой
максимум азарта сочетается с минимумом правил /Билл Гейтс/.
Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию /Макс Амстердам/.
Бизнес – это когда огромное Адриатическое море разливают во флакончики по 10 мл и успешно продают в аптеках по 3 у.е. /Елена Ермолова/.
Бизнес – это сочетание войны и спорта /Андре Моруа/.
Вексель – это ценная бумага, дающая право предполагать, что вы бегаете быстрее кредитора /Михаил Мамчич/.
Весь секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то такое, чего не знает больше никто /Аристотель Онассис/.
Власть и бизнес – это сиамские близнецы с общими внутренними органами /Валентин Домиль/.
Всякая коммерция – это попытка предвидеть будущее /Сэмюэль Батлер/.
Для того, чтобы преуспеть в бизнесе, нужен талант необычайный; если же вы обладаете таким талантом, зачем тратить его на бизнес /И. Липкий/.
Думай, прежде чем вкладывать деньги, и не забывай думать, когда уже вложил их /Ф. Дойл/.
Законный бизнес – это когда по закону нельзя, а за деньги можно /Георгий Александров/.
Коммерция – дитя фортуны, непостоянное и обманчивое, как мать /Сэмюэл Джонсон/.
Коммерция? Это очень просто. Это деньги других людей /Александр Дюма-сын/.
Менеджер – человек, который никогда не откладывает на завтра то, что он может заставить других сделать сегодня /Эван Эсар/.
101
Первое правило бизнеса – поступай с другим так, как он хотел бы поступить с тобой /Чарлз Диккенс/.
Современный бизнесмен должен говорить по-английски чисто и по-русски – чисто конкретно /Евгений Кащеев/.
Бюджет Выработка бюджета есть искусство
равномерного распределения разочарований /Морис Станс/.
Меньше миллиона – это деньги. Больше миллиона – это финансы. Больше миллиарда – это дефицит /„Уолл-стрит джорнал”/.
Бедность Бедность не порок. Будь она пороком, ее не
стыдились бы /Джером Клапка Джером/. Крайняя бедность народа почти всегда является
преступлением его вождей /Пьер Буаст/. Взятки
Дай, Джим, на счастье в лапу мне!.. /Михаил Генин/.
Для кого – лоббирование, а для кого – и финансовый массаж! /Михаил Мамчич/.
Если боишься брать взятки, – не садись в кресло /Евгений Кащеев/.
Если ликвидировать взятки, то власть в нашей стране прекратит свое существование /Георгий Александров/.
Конверт как часть невыразимой в словах благодарности /Михаил Мамчич/.
Порядочный человек берет взятку в одном-единственном случае – когда предоставляется случай /Габриэль Лауб/.
Скажи мне, с чем ты пришел, и я скажу тебе, с чем ты уйдешь /Вячеслав Чернышев/.
Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна /Александр Герцен/.
102
Деньги Деньги не пахнут, в отличие от тех, кто их имеет
/Валентин Домиль/. Большие деньги – верный способ быстрого
обеднения /Веселин Георгиев/. Где пахнет деньгами – там ищи вора /Веселин
Георгиев/. Деньги – причина всех зол /Гюстав Флобер/. Деньги есть, – ума не надо /Сергей Макушев/. Деньги еще не все, рубли все еще не деньги
/Евгений Кащеев/. Деньги не пахнут /Император Веспасиан/. Деньги приходят и уходят, а ты остаешься. Без
денег /Ефим Шпигель/. Деньги рождают деньги /Томас Фуллер/. Есть люди, которые не умеют зарабатывать
деньги, но нет людей, которые не умели бы их тратить /(Ваккерхофф Наталия/.
Копейке снова грош цена, и рубль доллару не пара /Георгий Александров/.
Копить деньги – вещь полезная, особенно если это уже сделали ваши родители /Уинстон Черчилль/.
Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство /Б. Авербах/.
Неважно, сколько получаешь в месяц, важнее, сколько тратишь в день /Веселин Георгиев/.
Небольшая сумма, данная взаймы, делает должника другом, большая – врагом /Сенека Старший/.
Раньше все решали „красные”, теперь – „зеленые” /Веселин Георгиев/.
Тратьте меньше, чем зарабатываете, – вот вам и философский камень /Бенджамин Франклин/.
Труднее всего заработать первый миллион долларов /Аристотель Онассис/.
У кого деньги – тратит, у кого их нет – экономит /Веселин Георгиев/.
103
Хороните деньги в сберегательном банке! /Леонид Крайнев-Рытов/.
Чем больше у тебя денег, тем больше знакомых, с которыми ничто тебя не связывает, кроме денег /Теннесси Уилышс/.
Больше, чем любовь, возбуждают только деньги /Бенджамин Дизраэли/.
Деньги – как навоз: если их не разбрасывать, от них будет мало толку /Фрэнсис Бэкон/.
Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин /Фрэнсис Бэкон/.
Деньги – это мышцы войны /Франсуа Рабле/. Деньги – это свобода, выкованная из золота
/Эрих Мария Ремарк/. Деньги даются теперь только одним богачам
/Марциал/. Деньги – помет дьявола /Габриэль Гарсия
Маркес/. Люди, считающие деньги способными все
сделать, сами способны все сделать за деньги /Пьер Буаст/.
Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются... /Максим Горький/.
У денег есть один недостаток – это их недостаток /Ержан Орымбетов/.
У одного человека много денег – богатство. У многих людей много денег – инфляция /Евгений Багашов/.
Богатство Богат тот, кто считает себя таким с тем, что у
него есть /Пьер Буаст/. Богатства существуют, чтобы их тратить, а траты
– чтобы делать добро и этим снискать честь /Фрэнсис Бэкон/.
Богатство – хорошая служанка, но негодная любовница /Фрэнсис Бэкон/.
Богатство не может быть достойной целью человеческого существования /Фрэнсис Бэкон/.
104
Богатство не уменьшает жадности /Крисп Саллюстий/.
Богатство подобно морской воде, от которой жажда тем больше усиливается, чем больше пьешь /Артур Шопенгауэр/.
Богатство порождает скупость и наглость /Эврипид/.
Богачи бывают пресыщены, но не насыщены /Пьер Буаст/.
Великой нацией нас делает не наше богатство, а то, как мы его используем /Теодор Рузвельт/.
Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, но в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни /Генри Форд/.
Многие, думая, что они смогут все купить за свои богатства, сами прежде всего продали себя /Фрэнсис Бэкон/.
Заработная плата Чем выше зарплата – тем тверже убеждения
/Михаил Генин/. Если вы вступили в должность, но не знаете, что
делать, ждите зарплату /Борис Трушкин/. Если вы довольны своей зарплатой, у вас плохо
с фантазией /Борис Трушкин/. Заработная плата – мерило уважения, с которым
общество относится к данной профессии /Джонни Тиллмон/.
Вознаграждение Каждый труд должен быть справедливо оплачен,
в противном случае он превращается в эксплуатацию /Али Апшерони/.
Кто ищет славы на пути добродетели, тот лишь требует награды по заслугам /Люк де Клапье Вовенарг/.
Награды получать приятно. Они украшают человека /Никита Хрущев/.
Налоги В этом мире неизбежны только смерть и налоги
/Бенджамин Франклин/.
105
Если вы нарушаете правила, вас штрафуют; если вы соблюдаете правила, вас облагают налогом /Лоренс Питер/.
От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов /Джеймс Ньюмен/.
Работа Благо людей в жизни. А жизнь в работе /Лев
Толстой/. Бывает труд ненужный, суетливый,
нетерпеливый, раздраженный, мешающий другим и обращающий на себя внимание. Такой труд гораздо хуже праздности. Настоящий труд всегда тихий, равномерный, незаметный /Лев Толстой/.
Государства создаются и исчезают, правители приходят и уходят, а предприниматели работают, работают, работают... /Неизвестный/.
Дело В каждом большом деле всегда приходится
какую-то часть оставить на долю случая /Наполеон Бонапарт/.
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть /Теодор Рузвельт/.
Для того чтобы творить великие дела, нужно жить так, будто и умирать не придется /Люк де Клапье Вовенарг/.
Есть люди, которые никогда не ошибаются, потому что не хотят делать /Иоганн Вольфганг Гете/.
Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить /Бернард Шоу/.
Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи /Лао-Цзы/.
Начало есть более чем половина всего /Аристотель/.
Никогда не бывает великих дел без великих препятствий /Вольтер/.
106
Постыдно занимаясь много чужими делами, забрасывать свои собственные /Демокрит/.
Самая большая из всех безнравственностей – это браться за дела, которые не умеешь делать /Наполеон Бонапарт/.
Своим делом человек должен заниматься так, словно помощи ему искать негде /Джордж Сэвил Галифакс/.
Торговля Рынок – это место, нарочно назначенное, чтобы
обманывать и обкрадывать друг друга /Анахарсис Скифский/.
Свободная торговля – не принцип, а средство для достижения цели /Бенджамин Дизраэли/.
Торг честью не обогащает /Люк де Клапье Вовенарг/.
Торговля – это школа обмана /Люк де Клапье Вовенарг/.
Что касается посредничества, когда товар покупается не для себя, а для перепродажи, то здесь обычно наживаются и на продавце и на покупателе /Фрэнсис Бэкон/.
Экономика, хозяйство Великой нацией нас делает не наше богатство, а
то, как мы его используем /Теодор Рузвельт/. Хозяйский глаз важнее всего /Плиний Старший/. Список афоризмов можно расширять, добавляя
новые выражения, новые тематические группы. Дидактическое использование афоризмов в процессе обучения деловому русскому языку выражается в форме ознакомления учащихся с афоризмами, использования их в диалогах во время обсуждения условий сделки.
Учащимся можем предложить следующие упражнения:
I. Ситуативные упражнения – направленные на употребление афоризмов в конкретной ситуации общения, например:
107
1. Вы на переговорах. Ваш партнер, с которым Вы должны подписать договор, опаздывает. Вдруг появляется и извиняется. Отреагируйте, употребляя соответствующий афоризм.
2. Вы в офисе. Разговариваете с сотрудниками. Один из сотрудников жалуется на низкую зарплату. Отреагируйте, употребляя соответствующий афоризм.
3. Вы читаете деловой журнал. Выскажите мнение на тему статьи о банкротстве компании, употребляя афоризм.
4. Вы собираетесь открыть компанию. Предложите партнеру девиз компании в форме афоризма.
5. Вы смотрите телепередачу о «новых русских». Прокомментируйте их образ жизни, употребляя афоризмы о богатстве и бедности.
6. Вы собираетесь начать торговлю с немцами. Выскажите свое намерение перед сотрудниками, употребляя соответствующий афоризм, подчеркните сотрудникам, что стоит выйти на немецкий рынок.
II. Упражнения на перевод – это упражнения, целью которых является усвоение афоризмов и их эквивалентов на родном и иностранном языках, например:
1. Переведите данные афоризмы на родной язык.
2. К афоризму на иностранном языке подберите афоризм на языке источника.
3. Подберите афоризмы на иностранном языке к их эквивалентам на родном языке.
В афоризмах проявляются ценности данной культуры, а их использование обогащает язык. Афоризмы необходимо употреблять также в деловой коммуникации. Это может свидетельствовать об образованности, начитанности, о знании кульутры, а не только языка. Деловой партнер, который владеет правильным
108
литературным языком, богатым в крылатые слова, пословицы, поговорки и афоризмы, может оказать благоприятное впечатление на собеседника и в результате успешной коммуникации добиться материального успеха в бизнесе.
Литература: Тер-Минасова, С.Г. (2011) Союз нерушимый языка и культуры: проблематика межкультурной коммуникации в теории и практике преподавания РКИ [в:] „Русский язык за рубежом”, № 4/2011 (227), Москва, с. 94.
109
Марк Кит
CON TEXT ИЛИ О РОЛИ КОНТЕКСТА В
ПЕРЕВОДЕ Аннотация: В статье рассмотрено влияние контекста на процесс перевода текстов. Обсуждается воздействие контекста на механизм мыслительного процесса переводчика. Abstract: This paper discusses the impact of context on text translation process and describes the effect of the context on translator’s mental mechanism.
В изучении феномена перевода особый
интерес вызывают исследования роли контекста. Результаты таких исследований могли бы улучшить системы автоматического перевода, помочь в выработке стандартов переводческой практики и усовершенствовать процесс обучения переводческому мастерству.
В отрыве от контекста процесс перевода даже простейших фраз превращается в серию догадок, где вероятность неточности или ошибки в переведенном тексте крайне велика. Даже простейшие фразы невозможно точно перевести, не зная контекста.
Так, например, название этой статьи, Con Text, в разных контекстах может иметь разные смыслы и порождать разные ассоциативные ряды. Это название может быть указателем на испаноязычную тематику (исп. «С текстом»), одновременно генерируя музыкальные ассоциации (известная джазовая композиция Диззи Гиллеспи Con Alma), а может быть игрой слов с использованием английского con («мошенник, жулик»), намекая на обманчивую сущность текста, который можно интерпретировать разными способами (вспомним хотя бы многочисленные интерпретации Библии).
110
Или фраза «A cat is sitting on a fence». Что может быть проще? «Кот сидит на заборе». А может быть кошка? И, возможно, не на заборе, а на ограде. «Забор» несет более бытовой, «дешевый» образ, «ограда» - более официально, богатое («ограда особняка»), А может быть даже не сидит, а «посиживает» или «расположился». Узнать это можно только из контекста.
Может создаться впечатление, что эти соображения касаются только художественно-эмоциональной стороны перевода, наиболее подробно описанной в исследованиях переводоведов. Большая часть исследований в области переводоведения посвящена переводам художественной литературы. Отчасти это объясняется тем, что подавляющее большинство исследователей – филологи, зачастую даже не знающие, что по крайней мере 90% всех переводов не имеет отношения к художественной литературе. Огромные объемы текстов, направляемых на перевод, нужны для реализации международных проектов (например, в области авиации и космонавтики, строительства объектов энергетики и инфраструктуры, медицинских исследований и т.п.), либо для поддержки международной деятельности социально-политического, коммерческого, экономического и юридического характера. Некоторую долю переводов занимают тексты частного характера: свидетельства, сертификаты, договоры и т.д.
В отличие от художественных текстов, тексты информационно-технического типа характеризуются логикой построения и аргументации, а зачастую и весьма четко зафиксированной формой представления и изложения. Примерами могут служить контракты, постановления, руководства по эксплуатации. При составлении проектной документации формализация представления и содержания текстов принимает еще более жесткий
111
характер, навязанный либо стандартами, либо внутренними нормами предприятия.
С одной стороны, такая стандартизация упрощает перевод – ведь контекст заложен в самом проекте, в логике построения данного типа документа (контракт, техническое задание и т.д.). С другой – требует вовлечения переводчика в этот проект, что требует времени. К тому же каждый проект и почти каждое предприятие пользуются своей – часто уникальной – лексикой, нередко употребляя сложные и неясные постороннему термины и аббревиатуры как нечто очевидное и само собой разумеющееся.
В таких условиях контекст формирует в сознании переводчика фильтр, способный из всех возможных значений лексических единиц текста оставить только те, которые вписываются в этот контекст, релевантны ему.
Если бы это было не так, то процесс перевода сводился бы к механическому выбору нужного значения перевода лексической единицы (ЛЕ) из словаря или памяти. Однако на практике это невозможно.
Предположим, что переводчику встретилась фраза «Ствол должен быть гладким и однородным». Каждое слово в этой фразе может быть переведено множеством способов, например, слово «ствол» может относиться к дереву (trunk), означать ствол скважины (borehole), к дулу артиллерийского орудия (barrel). То же относится и к остальным словам фразы. Если для простоты предположить, что каждое из слов может быть переведено тремя способами, то (даже не учитывая, что элементами фразы могут быть не слова, а словосочетания) эту короткую фразу можно перевести 35 = 247 способами.
Вот типичная фраза из юридического документа: «Покупатель и Продавец совместно рассчитывают и согласовывают сумму, подлежащую
112
удержанию из Покупной цены в качестве того или иного Удерживаемого налога; такая сумма рассчитывается и согласовывается в долларах США (далее – «Удерживаемая сумма»), при условии согласия Покупателя и Продавца с тем, что сумма, подлежащая удержанию Покупателем и перечислению в бюджет Украины согласно п.12.9, является эквивалентом Удерживаемой суммы после ее конвертации в гривны по действующему курсу покупки наличных гривен за доллары США, опубликованному Национальным банком Украины на Дату Завершения (или, в случае отсутствия курса наличного обмена на такую дату, по последнему курсу обмена, опубликованному Национальным банком Украины)». В этой фразе 94 слова, из которых 16 – это союзы и предлоги, а 78 являются знаменательными частями речи. Число фраз, которые можно механически построить из них (опять-таки без учета словосочетаний и перестановок элементов фразы) достигает астрономического числа 378.
Очевидно, что найти перевод путем механического перебора такого количества вариантов невозможно даже в пределах всей жизни человека. Следовательно, механизм принятия решений при переводе работает по какому-то иному принципу. Переводческий опыт автора свидетельствует о том, что фактически перевод фразы или значительного ее фрагмента действительно появляется сразу, без вычислений или перебора вариантов. А необходимость сделать выбор возникает уже после появления перевода фразы, и направлен он на уточнение смысла фразы, корректировку используемых стилистических средств, оценку благозвучия.
В связи с эти мы можем предположить, что выбор нужного слова, словосочетания или фрагмента связан не с механическим перебором всех возможных вариантов, но с попаданием этих
113
элементов текста в зону высокой вероятности релевантности смысла, на который они указывают. А эта зона представляет собой именно то, что понимают под словом «контекст».
Так, например, слово headroom имеет множество значений. Для низкоквалифицированного переводчика, да еще не являющегося специалистом в области знаний, к которой относится текст и не желающего вникнуть в его смысл, все значения этого слова равновероятны. В этом случае ему не поможет и словарь, который предложит много значений без указаний на то, какое из них следует выбрать. Этот случай показан красной кривой на рисунке 1. Для опытного же переводчика, в сознании которого поле значений выбрано, сомнений в выборе перевода не возникает, т.к. зная, что в тексте рассматривается аппаратура связи, его распределение релевантности «настроено» на нужную область (синяя кривая).
114
Рис. 1. Распределения релевантности значений лексической единицы в сознании высоко- и низкоквалифицированного переводчика.
При работе с текстом «настройка» на нужную
смысловую область обычно происходит быстро, «сдвигая» узкую область распределения релевантных значений в нужную часть смыслового пространства. При этом необходимо понимать, что в начале работы над текстом все возможные значения текстовых единиц являются равновероятными. Опытный переводчик, встретив характерные термины быстро «настраивается» на нужный контекст. Так, если при беглом просмотре текста ему попадаются Nyquist theorem (теорема Найквиста) и signal harmonics (гармонические составляющие сигнала), то встретив термин headroom, он бессознательно выберет из всех возможных значений термина «запас по мощности (уровню)», а не «межпалубное пространство» или какое-то другое.
В качестве конкретного примера покажем ошибку, сделанную в процессе перевода, который выполнялся в нашей компании Language Interface Inc. (США). В оригинале одно из ключевых понятий было выражено словом downstream. В нефтегазовой отрасли этот термин обычно означает «сектор переработки нефти» (в отличие от upstream – сектор разведки и добычи), хотя, конечно может означать и корневое понятие «ниже по потоку». В данном случае встретились такие фразы как “Downstream expected to generate 15 billion euro of additional profit manly driven by ‘Infrastructure’ and ‘distributed generation’” или “Utilities captured only small fraction of the new downstream value”. Перевод, выполненный опытным переводчиком, выглядел так: «Согласно прогнозам, дополнительная прибыль в секторе переработки составит 15 млрд. евро, в основном – за счет сегментов «Инфраструктура» и
115
«Распределенная генерация». Перевод совершенно правилен, если не привязывать его к контексту, однако в статье речь идет об электроснабжении, и в данном контексте этот термин означает «сектор распределения электроэнергии и доставки потребителю». Понять это можно только изучив весь текст (больше 20 страниц) и хорошо разобравшись в нем. В результате допущена грубая ошибка, которая может свести к нулю результаты работы по переводу этого текста.
Этот пример наглядно демонстрирует опасность произвольного деления текста оригинала между переводчиками. Общее правило – предоставлять переводчику полный текст, даже если ему необходимо перевести только его часть – сформировалось именно благодаря осознанию особой роли контекста в процессе перевода.
116
Ленура Короглу
АВТОРСКИЙ ТЕЗАУРУС В ЖУРНАЛИСТСКОЙ
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: Статья посвящена изучению авторского тезауруса, отразившегося в русскоязычном варианте газеты «Терджиман» и его крымскотатарском (тюркоязычном) эквиваленте. В качестве материала исследования рассматривается журналистская терминология на страницах газеты. Ключевые слова: журналистская терминология, авторский тезаурус, И. Гаспринский, газета «Терджиман», крымскотатарский язык. Abstract: The article is devoted the study of author thesaurus reflected in the Russian-language variant of newspaper «Terdzhiman» and his krymskotatarskom (tyurkoyazychnom) equivalent. As material of research all journalistic terminology is examined on the pages of newspaper. Keywords: journalistic terminology, author thesaurus, And. Gasprinskiy, «Terdzhiman», krymskotatarskiy language.
Газета «Терджиман» (1883-1918) была
первой крымскотатарско-русской газетой, которая издавалась в Крыму на протяжении 35-ти лет. Долгое время она была единственным тюркоязычным печатным изданием в Российской империи. В многочисленных публикациях на страницах газеты «Терджиман» печатались разнообразные материалы о тюркских народах и о мире в целом.
Автором газеты «Терджиман», основателем крымско-татарской публицистики, является Исмаил Гаспринский. Он вошел в историю как национальный первопечатник, лидер мощного педагогического движения, видный политик, известный писатель, мыслитель, идеолог. Поскольку И. Гаспринский призывал к межнациональному согласию, к мирному сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, то в газете помещались
117
материалы об армянах, евреях, караимах, русских, финнах, литовцах, поляках, немцах, турках и многих других. Через газету идеи ученого-просветителя распространялись на обширном евразийском пространстве. Это касается России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Азербайджана. Кроме того, «Терджиман» был известен в Персии, Китае, Турции, Хивинском и Бухурских ханствах, Египте, Франции, Швейцарии, США, Болгарии.
Цель данной статьи – показать, как особенности тезауруса И. Гаспринского отразились в русскоязычном варианте газеты «Терджиман» и его крымскотатарском (тюркоязычном) эквиваленте. В качестве материала исследования берется журналистская терминология на страницах газеты.
Журналисткая терминология, функционирующая на страницах газеты «Терджиман», охватывает два раздела: терминология газеты и терминология печатного дела.
Лексика, обозначающая профессиональную сферу СМИ, описывает деятельность людей по распространению различного рода информации среди аудитории по различным каналам. Как любая другая профессиональная деятельность, она может характеризоваться тремя основными компонентами:
1. Производитель действия (кто делает). 2. Инструмент или средство производства
данного рода деятельности (чем делает). 3. Продукт, производимый в результате
деятельности (что делают). 1. Нарицательные имена существительные
со значением лица. a) Названия лица по профессиональной
деятельности: редактор (мухаррир), корреспондент (мухабир), издатель (нешир), господа цензоры (сензор эфендилер), хозяива газет (газете сахиблери), женщины редакторы
118
(мухаррир ханымлар), товарищи по перу (рефикълер).
б) Название лица по непрофессиональной деятельности (реципиент информации): постоянные читатели (даим окъуянлар), абонент (абуне), покупатель (алуджи), читатели окъуянлар), монополист, превилигированая персона (сахиб-и имтияз).
2. Журналистская деятельность а) Названия видов журналистской
деятельности: типографический метод (усул-и матбаа), редактировать (тертиб этмек), выпускать (нешир этмек), издавать (дердж этмек), излагать (беян этмек), объявлять (илян этмек).
б) Названия сфер журналистской деятельности: журналистика (газетаджилик), печать, пресса (матбуат), русская и иностранная печать (рус ве эджнеби матбуаты), новая литература (эдебият-ы джедиде). в) источники получения информации: * Агентства: Балканское агентство (Балкан ажентеси), Агентство Рэйтер (Рэйтер агентеси) *Российские газеты: газета «Каспий» («Каспий» газетасы), газета «Неделя» («Неделя» яни хафта газетеси), «Московский листок» («Москофски листок»), листок-приложение «Нового времени» («Новое времья»нынъ ресми илявеси), газета «Новости» («Новости» газетеси), «Гражданин» («Гражданин»), «Крым» («Къырым»), «Дилмач» газета «Капитал» («Капитал» газетеси). *Российские журналы: журнал «Русская мысль» («Русская мысль» яни эфкяр-ы рус меджмуасы (журнал), *Иностранные газеты: Хукумет газетасы, «Еменден гелен ахыры хавадис,. «Дайли ньювс» газетеси, Франсызджа нешир олунан «Нур»
119
газетасы, «Таймс» нам ингилиз газетеси аврупа газетелери (Европейские газеты), Балгаристанда Софие шехринде нешир олунмакъта олан «Иттифакъ» газетеси (газета «Иттифакъ»), «Сербска застава» (газета «Сербска застава»), «Насьёнал Чайтонг» «Н.Чайтонг» газетесининъ, «Морнинг Пост», «Сан жжем газет», «Пертерсбург Кирвылд», «Дэйли хроникал», «Ньюёрк гералд», «Ньюйорк херальд», Лондон телеграмына, «Даба» газетеси, «Мьяконохама» яни (пай тахт чичеги), «Сайджон» (сиясет) меджмуалары,, Хафталыкъ газетелер арасында «Малюмат», «Сервет-и фюнун», «Ресми газете», «Мектеб» меджмуалары. –туркие. «Ханымлара махсус» (османлы газетеси), «Политиш кореспонденс» газетесине язылды. «Ляфранс» газетеси. «Фремденбелят» газетеси, «Индепенденс бельж» газетеси, *Иностранные журналы: *Другие средства: Телеграф (телеграф), Почта, ресми агъызлар (официальные источники)
3. Продукт, производимый в результате интеллектуальной деятельности
a) названия литературных и газетных жанров : поэтическое произведение (эсер-и манзуме), прозаическое произведение (эсер-и менсуре), переводы (терджимелер), преувеличение (мубалягъа), журнал для чтения уст. (къыраат рисалеси), статья (бенд), новости (хаберлер, ахбар), объявление (иляннаме), предание (ривает), специальная статья (бенд-ы махсус), материал, (мевад), обсуждение (муталяат), исторический материал (мевад-ы тарихие), учебник географии (джогърафья) национальный стих (милли шиир), рассказ (хикае), роман (роман), произведение (эсер), брощюра (рисале), информация (малюмат), ода (медхие), слово (сёз), соображение, замечание (мюляхаза), критика (тенкид);
120
б) названия рубрик газеты: внутренние новости («ахбар-ы дахилие»), внешние новости («ахбар-ы хариджие»), объявление в форме новости (хавадес сыфатында «илян»), объявления «илянлар», последние новости («ахыры хавадес»), «смешанное» разные развлекательные и къазыкълы новости и происшествия («аралаш» тюрли къазыкълы ве эгленджели мевад ве вакъыалар), купля продажа (алмакъ сатмакъ), потеря находка («иджаре джоюкъ), рынок товаров (мал базары), рынок провизии (ашлыкъ базары), некролог (вефатнаме);
в) виды журналов и газет: сборник, журнал (меджмуа), еженедельные журналы (хафталыкъ меджмуалар), литературные журналы (эдебие меджмуалары), уст. газета, книга, журнал (джериде), официальные то есть государственные газеты (ресми яни хукумет джериделер), официальные и не официальные газеты (ресми ве гайры ресми джериделер);
г) наименования газет и их разделов: официальный листок-приложение (ресми иляве), газета (хавадиснаме), ежедневная газета (рузнаме), местные новости (махали ахбар), образец газеты (газете тимсали), происшествие (хавадес), письмо (хат), раздел (баб), раздел о разном (мухтелифе бабы).
д) части статей: заголовок (серлевха), содержание (мундеридже), параграф, часть (мадде), фотография (ресим), строка (сатыр), строфа (мысра).
е) другая печатная продукция: телеграммы (телеграмлар), поздравительные телеграммы (тебрик телеграмлары), телеграммы с выражением соболезнования (тазие телеграмлары), календарь (салнаме), письмо раскаяние (теесюфнаме), грамота (аферин наме), заказное письма (тааххютли мектеб).
121
4. Названия рабочих помещений и их частей: каменная типография (таш басма ханеси), управление (идаре хане, идаре), типография (басмахане), типография (табыхане), типография (матбаа), редакция газеты (газетехане), управление газеты (газете идареси);
a) Названия инструментов, приспособлений, устройств, механизмов и транспортных средств: буквы, (хуруфат), шести сторон (алты бет), номер (нюсха), перо, ручка (къалем);
б) Cредства оcуществления действия (названия веществ и материалов): орудия печати (таба алетлери), стопа (стопа), бумага (кягъыд);
в) условия приобретения и распространения: стоимость за год (сенелик бедели), месячная стоимость (алты айлыкъ бедели), журнал заявок, подписка (алужи дефтери);
е) номинации, характеризующие автора: Къалеми кескин (острое перо), тенкиди махиране (искусная критика).
Таким образом, анализ разноязычных частей газеты «Терджиман» показал большую роль терминов, связанных с журналисткой деятельностью в содержании, как русских, так и тюркских по происхождению. При переводе терминов наблюдается заимствование их из арабского языка: ахбар, асар, хавадис и т.д. В обиход вводятся международные слова: абонент, газета, телеграф, телеграмма, почта. Заметно влияние тюркской грамматики на заимствованные лексемы, ср.: абуне, газете.
Литература.
Ганкевич В.Ю. (2001) Исмаил Гаспринский в год 150-летнего юбилея: зачинатель диалога между народами. Dialog Avrasya, № 4, c. 106-110.
122
Ганкевич В.Ю., Гогунская Т.А. Болгарская тематика в отражении крымскотатарской газеты «Терджиман» (конец XIX – начало XX в.). Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/drzb/2009_3/Ganchev_Komar. pdf Ганкевич В. Ю.(2000) На службе правде и просвещению: Краткий биографический очерк Исмаила Гаспринского (1851 – 1914) / В. Ю. Ганкевич. Симферополь: Доля, 328 с. Щербань Н.(1992.) Переселение крымских татар / Н. Щербань // Забвению не подлежит... (Из истории крымскотатарской государственности и Крыма). Научно-популярные очерки. Казань:Татарское книжное издательство, с. 36–55.
123
Мария Koссаковска-Марас
ТОНКОСТЬ РУССКОГО ЮМОРА КАК ФРАГМЕНТ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ
Аннотация: В статье обращается внимание на роль юмора в процессе обучении РКИ студентов-русистов. Приводятся примеры используемых форм юмора на занятиях по РКИ на II курсе русской филологии (уровень В1 и В2).
Abstract: The article represents the role of Russian humor in the teaching Russian as a foreign language. The author provides examples of the types of humor in learning a foreign language.
Юмор является специфическим элементом национальной культуры, он присутствует постоянно в жизни любого народа, коллектива, общества, страны в различных формах. Жизнь без юмора невозможна. У каждого народа свой юмор – свои определенные анекдоты, шутки, карикатуры, сатира.
Как замечает писатель-сатирик, Михаил Жванецкий [http], «Юмор – это не шутка. Это не слова. Это не поскользнувшаяся старушка. Юмор – это даже не Чаплин. Юмор – это редкое состояние человека и талантливого времени, когда ты весел и умен одновременно. И ты весело открываешь законы, по которым ходят люди�». По словам Л.Н. Толстого, [http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/Tolstoy/] Юмор – большая сила. Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех. А Ф. М. Достоевский [http://mudrost.ucoz.com/index/0-48] добавляет: Хорошо смеется человек – значит хороший человек.
124
В процессе обучения РКИ ознакомление с русским юмором выполняет несколько важных функций, таких как:
− активизация познавательного интереса учащихся к русской культуре и русскому языку;
− усиление мотивации к изучению русского языка;
− повышение коммуникативной и социокультурной компетенций учащихся – юмор является богатым источником социокультурной, страноведческой и лингвострановедческой информации о стране и культуре изучаемого языка и его народа;
− влияние на личность учащихся – развивается самокритичность, творческое мышление, оптимистическое отношение к жизни;
− осуществление обучения в контексте диалога культур.
Юмор не является универсальным, в каждой стране он другой, так как зависит от конкретного культурного окружения и менталитета жителей данной страны. В настоящее время различия между культурами становятся всё более понятными и юмор становится универсальнее, однако русский юмор не каждый поймёт. Феномен русского юмора, тонкость русского юмора, специфика русского юмора – эти понятия указывают на то, что знать русский язык недостаточно, чтобы понять русский юмор. Необходимо обладать большими знаниями о русской культуре, ментальности, истории, политике, современных реалиях, пребывать долгое время в России, общаться с русскими, слушать и читать то, что русские, т.е., нужно ещё научиться понимать русских целиком и постараться полностью слиться с
125
русской культурой. Однако, если даже правильно воспринимать русский юмор в какой-то степени иностранцу можно ещё научиться, то научиться «острить» по-русски – это уже не каждому под силу. Конечно, выучить несколько анекдотов может, естественно, каждый, но рассказать анекдот в нужный момент, с правильной интонацией, не говоря уже об ударении, сможет не каждый.
На наш взгляд, использование различных форм юмора в учебном процессе имеет своей целью прежде всего лучше понять другую, в данном случае русскую, культуру. Чувство юмора, способность рассказывать анекдоты и вообще шутить у каждого человека другие, поэтому целью не является воспроизведение анекдотов или других форм юмора студентами, а, прежде всего, формирование социокультурной компетенции студентов-русистов, чтобы лучше понять поведение и менталитет русских.
Русский юмор существенно отличается от западного в связи с социально-историческими различиями и российским менталитетом. Как замечает А. Кимры [http], западный юмор больше основан на комизме ситуаций, обсмеянию каких-то человеческих недостатков, русский юмор носит в большей степени социальный характер.
Среди существующих различных форм юмора, т.е. иронии, оксюморона, пародии, сатиры, сарказма, анекдота, шутки, каламбура, чёрного юмора, юмористического рассказа, юмора в графической форме – карикатуры и шаржа, в процессе обучения РКИ прежде всего следует использовать анекдоты, юмористические рассказы, комедии (фрагменты), песни, передачи по радио и ТВ (фрагменты). Следует заметить, что оптимальным вариантом ознакомления иностранцев
126
со спецификой русского юмора является проведение напр. спецкурса «Русская культура в зеркале юмора» по предложению Т. А. Евстигнеевой [http]. Однако, чаще всего, отдельных занятий, касающихся только юмора, не существует, поэтому нами рассматривается вопрос использования форм юмора на занятиях по практикуму русской речи для изучающих РКИ на II курсе бакалавриата (уровень В1 и В2). В учебных пособиях, предназначенных для II курса, используются некоторые из приведенных ниже форм юмора [Коssakowska-Maras, Mierzwa 2009, 2010].
Прежде всего в процессе обучения следует использовать анекдоты, которые являются очень популярными в России. В связи с тем, что анекдот короткий, его можно использовать почти на каждых занятиях. Русские обожают анекдоты. Они постоянно создают все новые и новые. Анекдоты могут быть про все, что окружает человека. Анекдот, как указывает Я. М. Бендерский [http], является знаковым явлением культуры, показателем интеллекта, историческим явлением, индикатором общественного сознания. Существует очень большое количество анекдотов на самые разные темы. Большой популярностью пользуются анекдоты про Вовочку, про чукчу, про Штирлица, про мужчин и женщин, студенческие, медицинские, политические, детские, про животных, алкогольные, спортивные, про русского-немца-француза (вместо немца может быть напр. американец, а вместо француза еврей) и др.
В анекдотах национального характера высмеиваются определенные черты характера – наивность и простодушие чукчей, бесшабашность русских, любовь в женщинам у французов, дисциплинированность немцев. Стереотипные представления о национальных характерах ярко выражаются в так называемых международных анекдотах, то есть анекдотах, построенных на
127
шаблонном сюжете: представители разных национальностей, попав в одну и ту же ситуацию, реагируют на нее по-разному, в соответствии с теми чертами их национального характера, которые приписывают им на родине анекдота. Вот пример такого анекдота:
Как ведут себя люди разных национальностей, если они обнаружат муху в кружке пива? Немец (практичный) выбрасывает муху и пьет пиво. Француз (сентиментальный) вытаскивает муху, дует на нее, расправляет ей крылышки - и не пьет пиво. Русский (неприхотливый и любящий выпить) выпивает пиво, не заметив мухи. Американец (уверенный в своих правах) зовет официанта, устраивает скандал и требует другую кружку. Китаец (китайская кухня включает самые неожиданные блюда) вынимает муху, пьет пиво и закусывает мухой. Еврей (меркантильный) пьет пиво, а муху продает китайцу.
Появляется все больше анекдотов про «новых русских». В них высмеиваются необразованность, любовь к деньгам и хамство:
Разговоp двyх новых русских: - Слышь, бpатан, вчеpа в Большом театpе
был. - Hy и как? - Hаши в хоккей выиграли! - В театpе?! - Hy ты даешь, коpеш... Я в бyфете был -
там телек есть. Политические анекдоты, которые были
популярны в советское время, требуют знания реалий относительно политических установок, государственной власти, руководителей государства, поэтому их восприятие иностранными учащимися особенно сложное. Ниже пример одного из советских политических анекдотов:
128
При Ленине было как в туннеле: кругом тьма, впереди свет.
При Сталине - как в автобусе: один ведет, половина сидит, остальные трясутся.
При Хрущеве - как в цирке: один говорит, все смеются.
При Брежневе - как в кино: все ждут конца сеанса.
Студентам всегда интересно узнать над чем смеются молодые люди в стране изучаемого языка. Вот пример студенческого анекдота:
Студент: - Профессор, ни на один из трех вопросов ответов я не знаю. Но давайте по справедливости. Если вы ответите на мои три вопроса, то я согласен на "2", если нет, вы мне ставите "5". - Согласен. - Что такое нелогично, но законно, незаконно, но логично, нелогично и незаконно? Профессор не ответил, поставил "5" и спросил что же это. - Вот вы уже старый, а у вас молодая жена. Это законно, но нелогично. У молодой жены, конечно, есть любовник. Это логично, но. незаконно. А вот то, что минуту назад вы поставили этому любовнику "5" - это нелогично и незаконно. Много юмора в русской литературе – это
творчество Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Тэффи (Н. А. Лохвицкой), Ильфа и Петрова, А. Т. Аверченко, М. М. Зощенко, А. П. Чехова. Рассказы, повести и романы этих писателей популярны среди русских и в настоящее время. Фрагменты произведений вышеупомянутых авторов можно вводить на занятиях по практикуму русской речи. Однако, в связи с тем, что проблемы затрагиваемые в произведениях начала ХХ века сейчас уже редко
129
выступают, понять поведение русских и узнать над чем они смеются дают возможность прежде всего современные короткие юмористические рассказы, монологи, миниатюры. В России существует много известных мастеров жанра юмористических монологов или миниатюр, когда артист непосредственно общается с аудиторией на сцене. Это Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов, Роман Карцев, Геннадий Хазанов, Максим Галкин и др. Легендой является Аркадий Райкин, крылатые фразы из его выступлений используются многими и в настоящее время.
Юмор представлен в различных художественных советских и российских фильмах с фрагментами которых необходимо ознакомить изучающих РКИ. Приведем примеры современных фильмов11:
День выборов, День денег, День радио, День хомячка, Здравствуйте, мы ваша крыша, Каникулы строгого режима, Мне не больно, О чём говорят мужчины, О чем еще говорят мужчины, Операция «С Новым годом!», Укрощение строптивых и др.
Естественно, филологу необходимо знать не только современные комедии, но также и юмористические фильмы советского периода. В них доброта, беззлобная ирония, они простые и легкие. Для просмотра мы рекомендуем следющие советские комедии:
Бриллиантовая рука, Гараж, Девчата, Джентельмены удачи, Иван Васильевич меняет профессию, Ирония судьбы или с легким паром,
11 В данной статье приводятся только заглавия фильмов, без точных данных, таках как: год производства, актеры, режиссеры.
130
Кавказская пленница, Мимино, Операция Ы, Приключения итальянцев в России, Служебный роман и др.
Современный юмор тоже на сайтах Интернета – здесь можно найти различные анекдоты, шутки, рассказы и пр. Ниже фрагмент текста про то, с каким «удовольствием» молодая женщина едет на дачу садить картошку [http://www.netvestnik.com/forum/showthread.php?t=11858]:
Дорогой, кто звонил? Твои родители? Что говорят? ЧТО?!?! Помочь садить картошку?! Ну нет! Я пас! Это же просто бытовой маразм! Как это «мы должны»? Кто жрал ее всю зиму? Ну мы жрали, было дело. А что еще оставалось делать, когда они ее 98 ведер накопали? Они ведь не пережили бы, если все это добро пропало бы. А теперь надо платить по счетам? Предупреждать надо было!!! Заранее! Ну так же нечестно! А если мы ее не будем садить, а за это зимой не будем жрать? Не выйдет? Почему? Садить все равно надо? А если мы посадим только для них? Почему нельзя посадить полпая? Нельзя, чтоб земля пустовала? Кому нельзя? Просто нельзя?.. Хм� (...)
Очень интересными являются, например, лингвистические сказки Людмилы Петрушевской [http], самая известная из которых - это «Пуськи Бятые»:
Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:
- Калушата! Калушаточки! Бутявка! Калушата присяпали и Бутявку стрямкали.
И подудонились. А Калуша волит: - Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! Калушата Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и
усяпала с напушки.
131
А Калуша волит калушатам: - Калушаточки! Не трямкайте бутявок,
бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. А Бутявка волит за напушкой: - Калушата подудонились! Зюмо некузявые!
Пуськи бятые! Русский человек без юмора обойтись не
может. Юмор во всем его многообразии представлен также во всех СМИ (радио, газеты, ТВ). В России очень популярный КВН – Клуб Веселых и Находчивых – телевизионная юмористическая передача, в которой участвуют различные коллективы. Известным является также Comedy Club, где выступают со своими программами Павел Воля, Гарик Мартиросян, дуэт имени Чехова и другие сатирики и юмористы.
Преподаватели и студенты могут ознакомиться с русскими анекдотами, рассказами, шутками, комедийными шоу на следующих сайтах:
⋅ http://www.anafor.ru/sovet/stol.htm ⋅ http://www.anekdot.ru/ ⋅ http://www.comedyportal.net/comedyclub, ⋅ http://ulibnu.li/, ⋅ http://www.imc-
iris.com/readarticle.php?article_id=79, ⋅
http://www.netvestnik.com/index.php?name=Jokes, Юмор - вещь универсальная и присуща
каждому народу, поэтому особенное внимание следует уделять юмору в процессе обучения РКИ. Понять анекдот, юмористический рассказ, шутку – это понять характер данного народа, на что правильно обратил внимание Н.В. Гоголь: Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!
132
Литература
Бендерский Я. М. Феномен русского анекдота, http://world.lib.ru/b/benderskij_j_m/d3g4.shtml Евстигнеева Т. А. Учет национальной специфики русского юмора в процессе обучения РКИ : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 : Санкт-Петербург, 2003, http://www.dslib.net/teoria-vospitania/uchet-nacionalnoj-specifiki-russkogo-jumora-v-processe-obuchenija-rki.html Жванецкий М., Что такое юмор, http://www.jvanetsky.ru/data/text/t8/chto_takoe_umor/ Кимры А. Современный русский анекдот: речевые жанры, исполнение и интертекстуальность, http://www.alikdot.ru/anru/word/publicity/temprusanec/ Петрушевская Л., Лингвистические сказочки, http://www.anafor.ru/other/lingvotales.htm Kossakowska-Maras M., Mierzwa M. (2009) Знакомимся с Россией, Rzeszów. Kossakowska-Maras M., Mierzwa M. (2010) Путешествуем по России, Rzeszów. http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/Tolstoy/ http://mudrost.ucoz.com/index/0-48
133
Елизавета Костанди
РЕКЛАМА В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРЫ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
Аннотация: Современная реклама во многом унифицирована в результате процессов глобализации. В Эстонии значительная часть рекламы является переводной, в связи с чем актуальны различные проблемы перевода. Статья посвящена одной из них — необходимости выбора при переводе языковых средств и коммуникативных стратегий, относящихся к разным территориальным вариантам русского языка, в частности, к языку метрополии и диаспоры. Abstract: The modern advertising is unificated as a result of the process of globalization to a considerable extent. The main part of the advertisements in Estonia is in translation and in this connection the different problems of translation are very actual now. The given article is devoted to one of them — the necessity of choice of the language means and communicative strategies which are relevant with the diverse territorial variants of the Russian language, to begin with the language of the metropolis and diaspora. It is possible to define some main groups of the publicity texts which represent the different variants of language.
Вариативность языка — основа не только его
развития, но и существования, так как позволяет языку включаться в самые разные коммуникативные, культурные, территориальные и иные ситуации, обеспечивая потребности человека в разнообразных условиях. Современная реклама, как правило, редко ограничивается территориально, поскольку входит в число видов деятельности, наиболее подверженных воздействию процессов глобализации. Рассматривая практически любой рекламный дискурс, можно обнаружить в нем следы такого воздействия. Транснациональные корпорации рекламируют товары по всему миру, и мы постоянно видим телевизионные рекламные ролики, где одни и
134
те же персонажи рассказывают о достоинствах стирального порошка, зубной пасты, чистящего средства и так далее. Говорят они на английском, украинском, русском, эстонском и других языках, произнося одинаковые фразы, мало отражающие национальную, культурную, социальную и иную специфику. Подобное можно обнаружить в интернет-рекламе, да и в любой. Тем не менее реклама имеет и местную специфику, индивидуальность. Соотношение дискурсов с разной степенью индивидуальности и стандарта, местного и глобализированного в рекламной сфере формирует своеобразный и интересный для лингвистики «подвариант» языка. Свои особенности появляются в условиях диаспоры, в частности, это относится к русскому языку в Эстонии.
Реклама на русском языке в Эстонии достаточно разнообразна: это и преимущественно переводная реклама транснациональных компаний, о которой говорилось выше, и местная русскоязычная реклама: потребительская, социальная, политическая; реклама на телевидении, радио, в газетах, журналах, интернете; переводная и оригинальная. Анализ рекламы предполагает обращение к теории речевого воздействия, общей теории рекламы, к понятию речевых стратегий и тактик и т. д., однако в силу ограниченности объема статьи ниже не будут затрагиваться общие вопросы, и далее обратимся к «местному» материалу (он же может функционировать и в других странах, а также в общеевропейском и мировом информационном пространстве, поэтому местным может считаться лишь с оговорками). Речь пойдет о том русском языке, который житель Эстонии получает или использует как автор в рекламных текстах. Попутно отметим, что описываемая ситуация не уникальна, а с некоторыми изменениями имеет место на всем постсоветском пространстве.
135
Прежде всего подчеркнем, что в наших условиях русский язык в рекламе существует в контексте множества других языков. Наглядным примером является телевизионная реклама на русском языке, доступная в Эстонии. Она включает рекламу на эстонских телеканалах, заставки на российских ступниковых каналах, частично заполненные российской рекламой, в основном же эстонской на русском языке, рекламу на европейских и американских спутниковых каналах на разных языках (английский, немецкий, польский и др., в частности и русский) и т.д. Даже если зритель обращается только к каналам на русском, рекламу он может получить и на других языках. Картина пестрая в языковом плане и этим свидетельствующая об актуальности перевода. Если обратиться не к телевизионной рекламе, то она не представляется столь «многоязычной», однако и здесь часто наблюдается та же картина. Так, особенностью местной рекламы является сосуществование текстов на эстонском и русском языках, например: Puhka puhkusest! / Отдохни от отпуска!; Hullud hinnad! / Сумасшедшие цены. Параллельные тексты на двух языках могут присутствовать, например, в одном рекламном каталоге, но часто появляются и по отдельности, например, на эстоно- и русскоязычных версиях интернет-сайтов, в русской и эстонской прессе.
Обращение непосредственно к рекламе на русском также свидетельствует о постоянном сочетании языков уже в собственно русском тексте, что можно увидеть в следующем примере: Летний сюрприз! В ЕМТ Вы получите новый ноутбук Samsung со скоростным интернетом ЕМТ всего за 1€. emt.ee. Как видим, часть текста составляют иноязычные единицы разной степени освоенности: латиница (ЕМТ — аббревиатура эстонского названия Eesti mobiiltelefon, Samsung, emt.ee), знак евро, сравнительно недавние заимствования ноутбук и
136
интернет. Наиболее очевидным и частотным иноязычным элементом рекламных текстов является латиница при передаче названий фирм, товаров, адресов и т.д.: Возьмите Postimees на русском языке с собой в отпуск! Весенние радости в Masku; FIESTA Приглашаем на грандиозный карнавал на Балтийском море! TALLINK. Влияние другого языка может быть и не явным, как в следующем фрагменте телерекламы: Эхэй! Таллиннские дни моря! Междометие озвучено именно так, как оно написано, что не типично для русского произношения. Возможно, в данном случае это не было осознанным приемом, однако в местной звучащей рекламе на русском языке может обыгрываться эстонский акцент.
Множество других примеров также свидетельствует о сосуществовании языков в рекламе и, соответственно, об актуальности перевода, в связи с чем возникают различные частные проблемы: качество перевода, соотношение точности перевода и креативности рекламы, учет специфики русскоязычной аудитории и др. На местном материале ряд таких вопросов ранее уже рассматривался [Костанди Е.И., 2006, Паликова О.Н., 2009, Щаднева В.П., 2002], однако проблема, которой посвящена настоящая статья не поднималась. Целью статьи является привлечение исследовательского внимания к данному вопросу, поэтому ее основные положения имеют характер предварительных.
Как известно, русский язык во многих странах, особенно постсоветского пространства, стал языком диаспоры и приобрел местную специфику. Соответственно, одним из актуальных вопросов, не имеющих однозначного решения, является то, насколько правомерно считать русский язык в новых странах, например в Латвии, Эстонии, Украине и др., особыми вариантами (в рабочем порядке используем далее несколько спорный термин
137
«региолект»). С этим связана и проблема нормативности языка, в частности — какая и кем определяется норма, регулирующая местную специфику русского языка, из чего вытекают и многие проблемы перевода. Теоретически вопрос о том, должен ли переводчик ориентироваться исключительно на «российский русский» или может и должен учитывать местные особенности русской речи, не решен и во многом определяется узусом. В рекламе регулярно необходимо делать выбор в пользу какого-либо варианта.
Как показывает анализ бытующих в Эстонии переводных рекламных текстов на русском языке, в них находят отражение разные региональные варианты русского языка, что позволяет выделить несколько видов, или групп, переводной рекламы. Разумеется, основой текста в любом случае будет единый кодифицированный русский язык, однако есть и различия, с учетом которых можно выделить три группы.
К первой относится переводная реклама транснационального характера, адресатом которой может быть носитель русского языка в любой стране. Такая переводная реклама характерна для крупных европейских и мировых производителей разной продукции (автомобили, стройматериалы, банковские, туристические и др. услуги, медиа-продукция, инфотехнологии и т. д.), ориентирующихся на российский рынок и на русскоязычного потребителя в других странах. Как правило, здесь имеет место формально очень правильный русский язык, языковые средства могут составлять существенную часть рекламы, но часто они используются минимально. Доминировать может изображение, видеоряд, музыкальное оформление, «не рекламный» материал, ср., например, рекламные слоганы на спутниковых телеканалах: 1. Добро пожаловать в минуту «Ролекса» на Euronews (далее передаются спортивные новости)
138
Эту минуту вам предоставил «Ролекс»; 2. Не пропустите встречу с прекрасным (следует не озвучиваемый анонс культурных событий) (Euronews); 3. (рассказ формально не рекламного характра о Лондоне и Олимпийских играх) Приветствуйте лондонские Олимпийские игры вместе с каналом Travel Channel (Travel Channel).
Вторая группа — реклама регионального характера. Так, например, в Эстонии действуют торговые сети Латвии, Литвы, Финляндии, Германии и т.д., ряд эстонских фирм, например также ориентируются и на рынки других стран, в том числе России. Судя по рекламно-информационным изданиям и интернет-сайтам этих компаний, в большинстве из них представлен русский язык, частично ориентированный на некоторый регион, частично же на конкретную страну региона. Насколько русский язык в них является переводным и в каком направлении (в наших условиях с русского на эстонский, с эстонского на русский или на русский с других языков) осуществлялся перевод, порой установить трудно или даже невозможно. В любом случае, у этого «регионального» русского есть своя специфика. Так, обращает на себя внимание, что, например, торговые сети магазинов стройматериалов, бытовой техники и других товаров долговременного пользования обычно наименования товаров приводят в соответствии с кодифицированным русским языком, в то же время сети розничной торговли товарами повседневного пользования, прежде всего продуктами питания, часто используют для этого прямой дословный перевод описательного характера, не всегда соответствующий номенклатурным наименованиям. Это можно видеть в примерах из соответствующих рекламно-информационным изданий, где под номером 1 приведены наименования первого рода, под номером 2 — второго: 1. Многофункциональный электрический духовой шкаф с
139
турбовентилятором; стиральная машина с верхней загрузкой; дрель аккумуляторная; резак дисковый; плитка керамическая напольная; плита древесно-стружечная; мастика гидроизоляционная; 2. Йогуртово-укропное куриное филе; увлажненные салфетки для младенцев; столовое вино с указанием геопринадлежности; мороженое с мультивитаминным вкусом; сетка для дров; шторки для ванной. Очевидно, соответствие номенклатурному названию в первом случае во многом обусловлено тем, что «свободно» перевести наименования стройматериалов, техники и т. п. трудно и неизбежно следует обращаться к квалифицированным переводчикам, в то время как перевод названий повседневных товаров кажется более простым, не требующим специальной переводческой квалификации, что порой приводит к таким неуклюжим результатам, как в примерах выше. Немаловажны и финансовые возможности заказчиков, представленность фирм в разных странах и ориентация на соответствующие региолекты русского языка, значимость наименования для адресата и другие факторы. Таким образом, язык рекламных текстов этой группы не всегда можно охарактеризовать как правильный.
Третья предварительно выделяемая нами группа рекламных текстов — внутриэстонская реклама. Две последние группы могут пересекаться, так как даже в рамках одного текста порой соединяются части, различающиеся по источнику и адресату. Объединяет их и увеличение, по сравнению с первой группой, языкового компонента рекламы. Третью группу отличают слова или словосочетания, полностью понятные лишь в Эстонии и, к сожалению, разного рода (лексические, грамматические, стилистические) ошибки, например: Только сейчас бесплатный транспорт, бесплатная доставка, рассрочка без интресса и без первого взноса; Пожертвования также можно
140
сделать одноразовым или постоянным платежным поручением на банковские счета Фонда поддержки; Умный сбросит скорость; Инвестиции закладывают основы развития волости; Перед тем, как продавать золото, спроси цену в Тавиде!; От границы до границы! Походная тропа RMK от Оанду до Икла — 370 км удивительно красивых видов природы Эстонии! Разумеется, в этой группе есть и безупречные в языковом плане переводы, но в целом для них часто характерно очевидное влияние эстонского языка .
Итак, в выделенных выше группах наблюдается разная степень соответствия кодифицированному варианту и, с этой точки зрения, «российскому» русскому языку. Однако не менее значим другой показатель, часто отличающий рекламные тексты не российского производства. Как отмечают исследователи (Высоцкая И.В., 2010, Иссерс О.С., 2009, Ремчукова Е.Н., 2011 и др.), российской рекламе присущи экспрессивная насыщенность, оценочность, языковая игра, формирующие креативность рекламного текста, нацеленную на воздействие, ср.: Требуются туристы для контакта с солнцем! (реклама туров); Ляжет, как миленькая (реклама плитки); Время менять пол (реклама стройматериалов); za chistotu.ru ПОДКЛЮЧАЙСЯ (социальная реклама); Двигай на вечеGREENку! (реклама пива); АВВАсолютный хит. Характер прецедентных текстов, возможности обыгрывания латинской графики на фоне кириллицы, реалии повседневной действительности, фоновые знания, речевой узус, распространенность разных видов дискурсивных практик и многое другое влияет на характер рекламного текста, создаваемого и вопринимаемого в России, Эстонии, Латвии, Германии и т.д. Формально правильный русский язык еще не означает узуально-прагматической правильности. По этом признаку, по первоначальным наблюдениям, тексты выделенной
141
выше первой группы наиболее далеки от российских, ближе же к ним региональные и местные.
Таким образом, одна из актуальных задач перевода — учет особенностей региолектов языка, что сейчас практически не регулируется кодифицированной нормой и, соответственно, требует особого внимания специалистов. Это необходимо при переводе любого текста, однако реклама является сферой, где очень важно найти оптимальный вариант, чтобы привлечь внимание адресата — «абстрактного» носителя русского языка или жителя определенного региона, страны, города, что следует учитывать и при подготовке переводчиков. Литература:
Высоцкая И.В. 2010 – «Свое» и «чужое», или взаимодействие кириллицы и латиницы в современном рекламном тексте. Лингвистика. Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. № 4 (2). 471–474. Иссерс О.С. 2009 – Речевое воздействие. Москва. 224с. Костанди Е.И. 2006 – Прагматический аспект межкультурной коммуникации (на материале эстонско-русских переводов рекламных текстов). Международная научно-практическая конференция по проблемам преподавания русского языка и литературы в странах Балтии (Сборник научно-методических материалов). Санкт-Петербург. 6–13. Паликова О.Н. 2009 – Русский язык в рекламных каталогах Эстонии. Humaniora: Lingua russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. XII. Активные процессы в русском языке диаспоры и метрополии. Тарту. 143–168.
142
Ремчукова Е.Н. – 2011 Лингвокреативность рекламного слогана. Humaniora: Lingua russica. Труды по русской и славянской филологии. XIV. Развитие и вариативность языка в современном мире. Тарту. 192–206. Щаднева В.П. 2002 – Языковые качества русскоязычных изданий Эстонии. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. VI. Проблемы языка диаспоры. Тарту. 297–307.
143
Сирье Купп-Сазонов
ОБ ОДНОЙ СЛОЖНОСТИ РУССКО-ЭСТОНСКО-РУССКОГО
ПЕРЕВОДА: КАТЕГОРИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА Аннотация :Цель данной статьи – рассмотреть некоторые трудности при русско-эстонско-русского переводе, обусловленные тем, что в русском языке существует категория грамматического рода, а в эстонском она отсутствует. Самые проблемные случаи: 1) русские местоимения он/она и эстонское соответствие tema; 2) русские местоимения он/она и эстонское соответствие see; 3) существительные, обозначающие разные лица.
В эстонском языке существуют некоторые средства для компенсации отсутствия грамматического рода, например: 1) суффиксы: -nna (kuninganna - королева), -tar (krahvitar - княжна); 2) префикс nais- (naissportlane - спортсменка); 3) сложные существительные (kasuõde – приёмная сестра и kasuvend – приёмный брат). Abstract: The current article deals with difficulties caused by the grammatical gender in Russian and the absence of that category in Estonian. Main difficulties: 1) Russian pronouns он and она vs Estonian tema; 2) Russian pronouns он and она vs Estonian see; 3) Different nouns that mark professions, nationality, etc.
Estonian language has some means to compensate the absence of grammatical gender: 1) Suffixes: -nna (kuninganna – queen), -tar (lauljatar – female singer); 2) The prefix nais- (naispoliitik – female politician); 3) Compound words (kasuõde – stepsister and kasuvend – stepbrother).
Введение
Тема грамматических сложностей и трансформаций за последние годы становилась все более важной в теории и практике перевода. Одной причиной является то, что как языковеды, так и специалисты по переводу пришли к выводу, что грамматика – это не просто совокупность строгих и скучных языковых правил, а на самом деле
144
грамматика допускает такой же творческий подход к языку, как и лексика [Ремчукова, 2005:. 23]. С другой стороны понятно, чем более существенны различия между грамматическими системами двух языков, тем с более большими сложностями сталкивается переводчик. Эстонский лингвист А. Ланге пишет: «Перевод означает, между тем, и замену грамматики одного языка грамматикой другого языка, и калькировать здесь можно мало» [Lange, 2008: 23]. Русский и эстонский языки с точки зрении грамматики очень разные, например, количество падежей (в эстонском языке 14 и в русском – 6), временные формы (в эст. яз. четыре временной формы, из них три являются формами прошедшего времени, однако отсутствует специальная форма для обозначения будущего времени, а в рус. яз. три временные формы) и т. п.
В данной статье концентрируются на сложностях при переводе, которые обусловлены наличием грамматической категории рода в русском языке и тем, что в эстонском она отсутствует.
Из анализа нашего материала выясняется, что главные препятствия при переводе возникают в трех случаях: 1) русские местоимения он/она и эстонское tema; 2) русские местоимения он/она и эстонское see; 3) существительные, обозначающие разные лица и профессии.
Русские местоимения он/она и эстонское tema Выбирая в русском языке нужное местоимение,
говорящий четко дает понять о ком говорят – о лице женского или мужского пола. В эстонском языке существует лишь одно местоимение 3-го лица ед. ч. – tema. Хотя также можно встретить слово temake (tema + уменьшительно-ласкательный суффикс –ke), которое можно употреблять только по отношению к лицу женского пола, однако эта форма представлена прежде всего в художественной литературе, и
145
никогда не используется, например, в официальной речи.
Пример (1) дает возможность сравнить разные варианты перевода. Текст взят из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра». (1) Ришелье: Так что же, Рошфор? Рошфор: Они виделись, Ваше Преосвященство. Ришелье: Кто это "они"? Рошфор: Он и она. Ришелье: Кто это "он и она"? Рошфор: Королева и герцог.
Нас интересует именно перевод русских местоимений. Автор данной стати нашел три существующих варианта: 1) Он и она – tema и temake. Так как мы имеем дело с художественным текстом, форма temake является вполне приемлемой. 2) Он и она – meesterahvas (мужчина) и naine (женщина). Так поступают очень многие переводчики, т. е. заменяют русские местоимения существительными, в которых содержится информация о половой принадлежности человека. 3) Он и она – nemad (они). Использование местоимения 3-го лица мн. ч., конечно, не самый лучший вариант, потому что теряется противопоставление, которое представлено в оригинале.
Хотя, кажется, что форма temake является уже немного устарелой, однако её можно встречать даже в современных переводах, см. примеры (2) и (3). (2) Если бы Варвара не знала совершенно точно, что в этом кабинете молодой мужик руководит делами огромного холдинга, она бы подумала, что «гнездышко ржанки» принадлежит ну, скажем, экзальтированной и утонченной содержательнице журнала «Он и Она». (T. Устинова)
146
Kui Varvara poleks kindla peale teadnud, et selles kabinetis juhatab noor meesterahvas suure ettevõtte äriasju, võinuks ta arvata, et „põldrüüdi pesa” kuulub näiteks ajakirja Tema ja Temakese eksalteeritud ja rafineeritud kirjastajale. (3) Да, да, кино разрешает игру, разрешает легкость� страсть� брызги шампанского� он и она� мужчина и женщина� ночное море�
(Л. Улицкая) Jaa-jaa, film lubab mängu, lebab kergust�kirge�šampanjapritsmeid�tema ja temake�mees ja naine�öine meri�
Анализируя переводы художественных текстов, можно прийти к выводу, что самым «популярным» приемом является замена русских местоимений существителными. Он могут заменить на mees (мужчина), noormees (молодой человек, юноша), poiss (мальчик) и она на naine (женщина), neiu (девушка), tüdruk (девочка) и т. д. Данный приём вполне оправдан, затруднения могут возникать только в тех случаях, когда автор оригинала стремится не давать информацию, например, о возрасте героя, так как существительные в какой-то степени все же содержат эту информацию. В примерах (5), (6), (7) и (8) русским местоимениям в эстонском языке соответствуют существительные. (5) Он подошел, поклонился, сел рядом. (Б. Акунин) Mees (мужчина) tuli lähemale, kummardus ja istus kõrvaltoolile. (6) Она успела посидеть не только у себя на постели (именно так, как вообразил Извеков), она двадцать раз перешла с места на место, присаживаясь и опять поднимаясь... (К. Федин)
147
Neiu (девушка) jõudis veidi istuda oma voodil (just nii, nagu kujutas ette Izvekov), käia kakskümmend korda ühest kohast teise, võtta istet ja tõusta jälle� (7) ― Очень, ― честно ответил он, и она соскочила, оставив его стрелу невыпущенной. (Л. Улицкая) „Väga meeldid,” vastas ta ausalt, ja naine (женщина) hüppas maha, jättes tema noole välja laskmata. (8) Я почему-то услышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое ― он и она, пастух и пастушка. (В. Астафьев) Miskipärast kuulsin ma praegu toda muusikat, ja kuidas nad kahekesi tantsisid, – tüdruk (девочка) ja poiss (мальчик), karjapoissi-karjapiigat – meenus talle.
На самом деле оказывается, что довольно частотны случаи, когда вместо местоимений он и она переводчик выбирает одно местоимение nad (= nemad), т. е. они, см. пример (9). (9) В первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание� (Ф. Искандер) Alguses, kui ma sellistel juhtudel oma ainsa rubla välja võtsin, toppisid nad mõlemad selle nii visalt mulle pihku tagasi, et ma varsti seda enam tähelegi ei pannud...
148
Еще один переводческий приём, к которому прибегают переводчики чтобы преодолеть сложности, связанные с грамматическим родом – это использование имен героев, см. примеры (10). Опять же, так можно поступать только в тех контекстах, где целью автора не является сохранение анонимности своего героя или героини. (10) — Ты умеешь готовить? ― удивился он, и она услышала, как он усмехнулся. (T. Устинова) „Sa oskad süüa teha?” imestas Ivan ja Varvara kuulis, kuidas ta muigas.
Русские местоимения он/она и эстонское see Вторая проблематичная ситуация для
переводчика – это когда в русском языке по отношению к неодушевленным предметам употребляются местоимения он/она. Категория грамматического рода даёт русскому языку преимущество – можно конструировать довольно длинные предложения, где какой-то предмет называется только один раз и дальше говорят о нём уже с помощью местоимения. В эстонском языке такое поведение вызывает недоумение, см. пример (11). (11) Книга лежит на столе, её подарил мне мой дедушка.
Raamat lebab laual, selle kinkis mulle minu vanaisa. В русском языке не возникает никакого сомнения
в том, какой предмет был подарен дедушкой, тогда как в эстонском языке можно лишь предположить, что именно книга являлась подарком, а не стол. В эстонском языке местоимение see не содержит никакой информации о том, какое существительное им заменяется. Такие контексты требуют от переводчика внимательности, и чаще всего не остается иной возможности, как просто повторить
149
название предмета или явления, в лучшем случае это можно делать с помощью синонима. Существительные, обозначающие разные лица и
профессии Последняя группа слов, которая при переводе
создает трудности – это разные существительные, обозначающие лица и профессии. Хотя надо признаться, что в эстонском языке тоже существуют некоторые возможности для выражения грамматического рода.
В частности можно выделить три варианта: 1) суффиксы: -nna: kuninganna – королева, jumalanna – богиня, lauljanna – певица; -tar: krahvitar – княжна, poolatar – полька. С помощью этих суффиксов можно образовывать существительные, обозначающие профессии, национальности, титулы и т.п. При этом переводчик должен обязательно иметь в виду то, что не все эти слова являются нейтральными. Например, слово õpetajanna (õpetaja + -nna) звучит в настоящее время уже как немного устаревшее и не в любом контексте эта лексема уместна. В материале анализа наблюдаются любопытные случаи, когда переводчик непременно хочет передать родовое различие и при этом конструирует неестественные для эстонского языка слова, см. пример (12). (12) Я решил это сразу, как только она явилась в
подотдел и заявила, что она ученица самого N. (Её немедленно назначили заведующей Изо.). (M. Булгаков)
Ma järeldasin seda kohe, nii kui ta allosakonda ilmus ja teatas, et on N. enda õpilane. (Ta määrati jalamaid Kunsto juhatajannaks.).
2) префикс nais- (naine – женщина): naissportlane – спортсменка, naisüliõpilane – студентка.
150
3) сложные существительные: kasuõde – приёмная сестра, baaridaam – барменша, toatüdruk – горничная.
Несмотря на всё вышесказанное, понятно, что грамматический род в эстонском языке всё же выражается у очень ограниченной группы слов. В работе переводчика встречаются и такие случаи, когда найти точное соответствие невозможно.
Обратимся к двум заголовкам романов Бориса Акунина и их перевода на эстонский язык, пример (13) (13) Любовница смерти Любовник смерти Surma armuke Surma kallike
В слове armuke (любовник, любовница) не содержится информация о поле человека, т.е. этим словом можно обозначить как женщину, так и мужчину. Переводчик, скорее всего, не знал, как решить возникшую проблему и выбрал для перевода русского слова любовник эстонское слово kallike. Однако у этого слова немного иная семантика, kallike означает чаще всего ’возлюбленный/ая’ и не имеет отрицательной коннотации как слова любовник/любовница. Необходимо отметить, что некоторые словари приводят в качестве синонима к слову kallike и слово armuke, однако это значение любовника/любовницы устаревшее и в современном языке уже не используется. В данном случае мы имеем трудность перевода, которую нельзя полностью решить. Кроме вышеприведенного варианта, автор данной статьи предложил бы еще одну возможность для перевода: (14) Любовница смерти Любовник смерти Surma mõrsja (невеста) Surma peig (жених) При употреблении слова невеста и жених, также теряется негативная коннотация, однако с другой
151
стороны сохраняется различение по грамматическому роду. Для сравнения рассмотрим, как эти заголовки переведены на другие языки: a) анг. яз.: She Lover of Death и He Lover of Death; б) немец. яз.: Der Magier von Moskau и Die Liebhaber des Todes; в) исп. яз.: La amante de la muerte и El amante de la muerte.
Интересным является то, что, несмотря на возможности немецкого языка, переводчик перевёл заголовки совсем по-другому, не обращая внимания на оригиналы. Можно спросить, почему в английском переводе не используется слово mistress в значении любовницы. Скорее всего, переводчик хотел сохранить параллельность между двумя заголовками, и поэтому предпочел перевод с помощью местоимений. Обращаясь к более ранним переводам, мы увидим, что перевод русских слов любовник и любовница позволит нам прийти к интересному, хотя и предварительному, выводу. Оказывается, что словом armuke чаще всего переводят именно лексему любовница, а для слова любовник находят более нейтральные (mees – мужчина, munk – монах) или даже с положительной коннотацией (armsam – возлюбленный) соответствия, см. примеры (16) и (17). (16) Вы правы, она меня не любит; но никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. (Ф. Достоевский) Teil on õigus, ta ei armasta mind; kuid kunagi ärge vastutage asjade eest, mis on olnud mehe ja naise või mehe ja armukese vahel. (17) Любовнику нельзя было отлучаться часто из монастыря своего; любовнице
152
нельзя было посещать кельи своего любовника. (A. Радищев) Mungal polnud võimalik sageli oma kloostrist lahkuda; tema armukesel polnud võimalik armsamat kambris külastada.
Заключение Подводя итоги, хочется обратиться к словам Р.
О. Якобсона: «Отсутствие в языке перевода какого-либо грамматического явления отнюдь не означает невозможности точной передачи всей понятийной информации, содержащейся в оригинале» (Якобсон, 1978, с. 19). Что касается именно категории грамматического рода, то нам кажется, что, говоря об адекватности перевода, необходимо различать две вещи: во-первых, лексическое соответствие – при необходимости можно сконструировать, например, слова meesarmuke и naisarmuke, однако, во-вторых, нельзя забывать о естественном языке перевода. Вышеприведенные существительные являются искусственными и не подходят для художественного перевода. Так что, переводчику самому придётся решить, чем он готов пожертвовать – благозвучием перевода или точным лексико-грамматическим соответствием. Литература: Ремчукова Е. Н. (2005) Креативный потенциал русской грамматики. М. Якобсон Р.О. (1978) О лингвистических аспектах перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., с. 16-24 Lange A. (2008) Tõlkimise aabits. Tallinn.
153
Источники примеров12 Акунин Б. (2002) Любовник смерти. М. Акунин Б. (2001) Любовница смерти. М. Астафьев В. П. (1996) Так хочется жить : повести и рассказы. М. Булгаков М. А. (1980) Мастер и Маргарита. Рассказы. М. Достоевский Ф. М. (1969) Преступление и наказание. Калининград. Искандер Ф. А. (1973) Время счастливых находок : повести и рассказы. М. Радищев А. Н. (1970) Путешествие из Петербурга в Москву. М. Улицкая Л. Е. (1996) Медея и ее дети: повести. М. Устинова Т. В. (2002) Подруга особого назначения. М. Устинова Т. В. (2006) Большое зло и мелкие пакости. М. Федин К. А. (1950) Необыкновенное лето. М. Akunin B. (2005) Surma armuke. Tallinn. Akunin B. (2005) Surma kallike. Tallinn. Astafjev V. (1981) Karjapoissi-karjapiigat : tänapäeva pastoraal. Tallinn. Bulgakov M. (2004) Saatanlik lugu. Saatuslikud munad. Koera
süda. Tänapäev. Dostojevski F. (1987) Kuritöö ja karistus. Tallinn. Fedin K. (1952) Ebatavaline suvi. Tallinn. Iskander F. (1978) Õnnelike leidude aeg : jutustused : vanemale koolieale. Tallinn. Radištšev A. (1958) Reis Peterburist Moskvasse. Ulitskaja L. (2009) Medeia ja tema lapsed. Tänapäev. Ustinova T. (2002) Suur kurjus ja väiksemad nurjatused. Tallinn. Ustinova T. (2006) Eriotstarbega sõbratar. Tallinn.
12 Некоторые примеры найдены в Национальном корпусе русского языка (http://www.ruscorpora.ru/).
154
Наталья Манакова
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ В ПРЕДЛОГАХ ВРЕМЕНИ
И МЕСТА В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: Статья посвящена отражению неразрывного пространства времени как основного свойства пространственно-временного континуума в русском и английском языках. Исследование основано на рассмотрении предлогов времени и места в указанных языках. Abstract: The article is devoted to reflection of inseparable space-time as a fundamental property of space-time continuum in Russian and English languages. The study is based on the consideration of time and space prepositions in these languages.
Пространство и время являются базовыми
понятиями окружающего мира. В настоящее время принято говорить о пространственно-временном континууме. Его свойствами являются: необратимое, направленное в одну сторону движение времени и неразрывная связь времени и пространства. Окружающая действительность отражается в языке на разных его уровнях: в лексике, грамматике и т.д.
Цель нашего исследования – показать отражение неразрывного пространтсва-времени в русском и английском языках в предлогах времени и места.
В лингвистике выделяют концепт «время» как наиболее существенный элемент всей концептуальной системы. Согласно определению Философского словаря «время – это форма бытия материи, выражающая длительность ее существования, последовательность смены состояний в измерении и развитии всех материальных систем» [Философский энциклопедический словарь, 1989: 520].
155
Длительность представляет собой совокупность следующих один за другим моментов или интервалов времени, составляющих весь период существования тела (объекта) с переходами в качественно новые формы. Последовательность смены состояний представляется как движение из прошлого в будущее. В соответствии с этим время представляется в виде оси, с направлением из прошлого в будущее. На ряду с вышеупомянутой осью необходимо рассматривать циклы (суточный, недельный, месячный, годовой) для определения временных координат. В соотвествии с представлением времени в виде оси и цикла выделяют линейную и циклическую модели времени. Существование этих моделей наглядно показывает тот факт, что время представлется через пронстранство, а следовательно связано с ним.
Линейная модель времени представлена как ось, на которой нанесены события объективного мира, она не содержит точек отсчета и представлена как длительность (выйти из дома на полчаса). Циклическая модель времени представлена как спираль. Ее каждый цикл – это период времени с точной точкой отсчета и регламентированной длительностью (в половине двенадцатого поезд отправился). Циклы между собой похожи в количественном отношении, но в качественном они отличны. Поэтому циклическую модель времени определяют как момент времени.
Наличие линейной и циклической моделей времени подтверждает факт репрезентации времени через пространство (линия, спираль, круг – пространтсвенные объекты). Также это означает, что время связано с пространством.
Наравне с базовым концептом «время» выделяют концепт «протсранство». В повседневном употреблении синонимами пространства выступают: среда, место, сфера, территория, вместилище и др. – в рус. яз. и area, place, room, expanse, territory,
156
void – в англ. яз. Пространство выступает с функцией инструмента и единицы познания. «Выделяются следующие признаки пространства: протяженность пространства как его метрические свойства (линейность и объемность); антропочентричность пространства (разнообразие форм его существования как результат многообразной деятельности человека – физическое, географическое, социальное, культурное, языковое и т.д.); незамкнутость и динамичность – оно непрерывно переходит в пространство другой системы; его неисчерпаемость в количественном и качественном отношении» [2; 21]. Все предметы вокруг нас, все, что нас окружает и мы сами являемся пространством.
Отдельно выделяет концепт «пространственная ориентация» Е. Н. Евтушенко. Он заключается в установлении характера движения или порядка расположения объектов с определением расстояния между ними в языке. Для обозначения ориентации в пространстве в языке существуют специализированные слова: предлоги и наречия. «Пространственные представления отражаются в различной форме в содержательной стороне многих языковых единиц, но только в двух классах слов – наречиях и предлогах, выделяются целые группы, передающие прежде всего, а иногда – исключительно – информацию о расположении одного объекта относительно другого и выполняющего функцию локализации» [Майорова О. А., 2009: 67].
Но работа базируется на исследовании предлогов, поэтому рассмотрим их подробнее. Предлоги классифицируют на непроизводные и производные. Непроизводные (древнейшие предлоги) – в, без, до, из, к, на, по, о, от, перед, при, через, с, у, за, над, об, под, про, для. Производные предлоги образовались в более позднее время от слов других частей речи и подразделяются на:
157
– наречные – вблизи, вглубь, вдоль, возле, около, вокруг, впереди, после и др.;
– отыменные – посредством, в роли, в зависимости от, путём, насчёт, по поводу, ввиду, по случаю, в течение и др.;
– глагольные (образованы были в большинстве своем скорее от деепричастий, нежели собственно глаголов) – благодаря, несмотря на, спустя и другие.
Относительно нашей темы нас интересуют пространственные и временные предлоги. Пространственные – около, в, среди, на и др. Временные – в течение, в продолжение и др.
Часть предлогов, в основном непроизводных, совмещают ряд значений. Так, предлоги за, под, из, от, до в, на, через, сквозь, после, перед совмещают пространственные и временные значения. В этом проявляется свойство пространственно-временного континуума. Время мыслится посредством пространства, по скольку предлоги за, под, из, от, до в, на в первую очередь употребляются как пространственные, а затем как временные. При употреблении, например, предлога в мы сразу себе представляем нахождение чего-то (предмета) в какой-то емкости, которая по размерам больше, чем помещаемый в нее предмет. Этот факт означает, что время связано с пространством.
Сравним поочередно употребление предлогов с пространственным и временным значением в русском языке:
в лесу – в 6 часов, войти в новый год, во время готовки около дома – около часа (в значении около 13.00 я за тобой зайду) между домом и деревом (объекты в пространстве) – между Новым годом и 8 Марта (события на линии времени или точки в годовом цикле)
158
под лавкой (один объект находится ниже другого объекта) – под Новый год (событие или действие происходит до, перед Новым годом) подойти к двери – подойти к этому дню (зиме) на столе – на ночь, на время за дверью – за полночь из дома – из прошлого через дорогу – через год сквозь дебри – сквозь века перед окном – перед сном, посевом (в значении времени сна, посева и т.д.) от школы до дома – до завтра, от зари (время восхода солнца) после этого предложения идет фраза – после обеда (предлог после выступает в основном с временным значением, но сама его этимология указывает на его тесную связь с пространством – после – по следам – последователи) с вокзала – с 9 часов (исходный пункт, сходно с употреблением предлога от).
Проанализировав вышеуказанные примеры, можно отметить, что время мыслится либо как точки (по аналогии с пространственными объектами), либо как само пространство, когда речь идет о временных отрезках с определенной длительностью (сюда можно отнести все единицы меры времени).
В английском языке также можем найти предлоги со значением места и времени. Предлоги in, at, on обозначают и место и время одновременно. Пространственное значение: in – в (для больших пространств), at – у, при, около (для обозначения чего-то рядом, для небольших пространств), on – на (на поверхности). Во временном значении эти же предлоги употребляются: in (для больших промежутков времени – in the year), at (для маленьких промежутков времени – at), on (для
159
обозначения очень точных промежутков времени). Рассмотрим сопоставление пространственных и временных значений английских предлогов:
The paper is on the table. – See you at three o’clock
The boy plays in the garden. – I came here in 1980.
He is waiting the bus at the bus stop. – at 5 o’clock.
Предлоги near, by: The man was walking by the river. – day by day,
by the time, I’ll be done by five o’clock. The restaurant is near the city. – Near the
beginning of the year. Предлоги before, after (с точки зрения
говорящего, предмет может быть до или после другого предмета):
The river is after the hill. – What are going to do after lessons?
The Moon is before Jupiter. – See you before the movie.
We are traveling from London to Rome, tonight we will go until Paris. – From Monday until/til Friday.
Предлоги, указывающие на определенное нахождение или ориентацию предмета в пространстве: in front of, behind, up, down, on the left, on the right, on one side, inside, outside: The dog is in one side of the house; The book is under the table. Также предлоги описываю место протекания действия: The plane was flying above the birds.
Чисто временные предлоги: during, since, until. We will talk during the lunch. I lived here in 1980
for three months. I lived here since 1980 until 1985. We haven’t
takled since Paris (since we were in Paris). В этом примере точка времени обозначается через точку в пространстве.
В английском языке предлоги также употребляются с глаголами (инфинитивами),
160
придавая им добавочное значение (протекание действия в пространстве в том или ином направлении). Например, изменение положения из сидячего в стоячее/ из лежачего в сидящего: “The real Rosabel got up from the floor�” (K. Mansfield). Послелог up означает направление действия вверх – «поднялась с пола». Но эта довольно обширная тема не входит в предмет нашего исследования и надеемся ее рассмотреть более подробно в следующих наших работах.
Таким образом, связь времени и пространства отражается в линейной и циклической моделях времени. Время мыслится как точки на линии времени или в цикле по аналогии с пространственными объектами, а также как само пространство, когда речь идет о временных отрезках с определенной длительностью. На это указывают пространственные предлоги с временным значением.
Литература: Евтушенко Е.Н. (2004) Концепт «пространственная ориентация» в английской и русской лингвокультурах: дисс. � канд. филол. наук. Волгоград. Майорова О. А. (2009) Онтологическое варьирование концепта пространства: автореф. � канд. филол. наук. Уфа. Маляр Т.Н. (2001) Концептуализация пространства и семантика английских пространственных предлогов и наречий: дисс. � д-ра филол. наук. Москва. Философский энциклопедический словарь (1989). под ред. Ильичева Л. Ф., Федосеева П. Н. и др. Москва: Советская энциклопедия.
161
Марек Маршалек
РУССКОЕ СЛОВО В ПОЛЬСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Статья посвящена стилистическим функциям русскоязычных лексических элементов, появившихся в польских публицистических текстах в период с 2000 по сентябрь 2012 года. Материал (689 единиц) взят из журналов «Polityka», «Wprost» и еженедельной газеты «Nie». Abstract: The article deals with stylistic functions of Russian lexical elements which appeared in Polish publicistic texts between 2000 and September, 2012. The material (689 units) is taken from the magazines «Polityka», «Wprost» and weekly newspaper «Nie».
Наличие русских лексических единиц в современном польском публицистическом дискурсе является фактом, отмечаемым во многих научных работах [см., напр.: Pstyga, 2005; Nowożenowa, Pstyga, 2006; Marszałek, 2011; Маршалек, 2011а; Маршалек, 2011б; Маршалек, 2011в; Маршалек, Маршалек, 2011]. Их авторы указывают, в частности, на то, что русские элементы – 1) явление заметное для тех поляков, которые смотрят телевизионные программы, слушают радио или имеют обыкновение обращаться за информацией к печатным изданиям [Nowożenowa, Pstyga, 2006: 172], 2) в стуктурном плане они представлены отдельными словами и сверхсловными номинатами [Маршалек, 2011в], 3) образуют два лексико-семантических класса: «Человек и различные аспекты его существования» и «Естественная среда обитания человека» [Маршалек, 2011г], а также 4) основными мотивами их использования являются необходимость номинации российских реалий и прагматическая сила, которой они обладают [Nowożenowa, Pstyga, 2006: 172].
162
Цель данного исследования – определить стилистические функции русскоязычных элементов, появившихся в польских публицистических текстах в период с 2000 по сентябрь 2012 года. Материал (689 лексических единиц) взят из журналов «Polityka», «Wprost» и еженедельной газеты «Nie», которые печатаются относительно большим тиражом и относятся к влиятельным изданиям в сфере общественно-политической жизни.
Как следует из анализа собранного материала функции рассматриваемых единиц разнообразны, но в качестве доминирующих следует выделить номинативную (или репрезентативную, семантическую, информативную) и эмоционально-экспрессивную (эмотивную). Ярко проявляются также функции привязки дискурса к точному месту, противопоставления русского и не-русского, идентификационная и орнаментальная. Отметим, что четкое разграничение выполняемых функций весьма затруднительно, так как многие переплетаются, поэтому их трактовка не может быть однозначной.
В номинативной функции русское слово используется для обозначения целого ряда российских реалий, напр.:
− акционерных обществ, корпораций, компаний, фирм: Zatrzymano dwie osoby: dyrektorkę agencji turystycznej Agrorecztur oraz eksperta kamskiego rejestru rzecznego13 (Nie 29/2011, 13); Na przełomie lat 30. i 40. terytorium to weszło w skład ziem zarządzanych przez Dalstroj, stalinowskie przedsiębiorstwo (Polityka 3/2011, 101); Przygotowania do wielkiej imprezy z ramienia Kremla prowadzi goskorporacja (Polityka 39/2009, 108); Przed właścicielem kompanii naftowej Sibnieft otwierają się wszystkie drzwi prowadzące do gabinetów władzy
13 Цитаты сокращены до необходимого минимума без обозначения купюр.
163
(Polityka 31/2000, 38); W 2011 r. Rosawtodor, państwowa spółka komunikacyjna, nie mogła się doliczyć 361 tys. km szlaków (Polityka 6/2012, 11); Jest właścicielem holdingu spożywczego Russkoje Mołoko (Nie 37/2010, 14); Do dziś w te rejony RŻD nie wysyła składów kolejowych wyższych klas (Polityka 24/2011, 111) ‘РЖД’;
− банков: Prochorow był prezydentem Oneksim Banku (Nie 32/2011, 14); Na trzecim poziomie, do którego dociera nowiutka kolejka linowa, oblepiona reklamą Sbierbanku, pracuje ciężki sprzęt (Polityka 8/2011, 46); Zarówno FSB jak i cywilny wywiad zakładały banki lub roztaczały nad nimi kuratelę, aby wymienić tylko Wniesztorbank i Wnieszekonombank (Polityka 28/2010, 81);
− форм хозяйствования на селе: W Ciapo istniał wtedy kołchoz Gwiazda Poranna (Polityka 32/2009, 86); Żyjemy tu jak ostatnia brygada nieistniejącego sowchozu Czarskij (Polityka 32/2009, 86);
− торговых предприятий: Delikatesy Azbuka Wkusa to dla wielu rosyjskich vipów obowiązkowy przystanek w drodze do domu (Polityka 32/2011, 42);
− экономических регионов: Kola, nauczyciel z Kuzbasu (Polityka 34/2011, 77);
− понятий, относящихся к экономической политике: Nigdy na większą skalę nie ujawniła się w Rosji oddolna przedsiębiorczość. A ta, która się od czasu do czasu pojawiała, jak np. w okresie NEP-u, była szybko i radykalnie tłumiona (Polityka 10/2000, 42);
− силовых структур: Dzień powołania CzK nadal jest świętem branżowym Federalnej Służby Bezpieczeństwa (Nie 6/2000, 8) ‘ЧК’; W końcu wchodzi człowiek ubrany na czarno, nie przedstawia się, ale nie trzeba: jest z rejonowej FSB (Polityka 7/2008, 105) ‘ФСБ’; Оtrzymywali przez cały czas walk wsparcie od wywiadu wojskowego GRU (Polityka 8/2000, 33) ‘ГРУ’; 40-letnia kobieta stała obok posterunku rosyjskiego OMON (Polityka 12/2000, 36);
164
− понятий, относящихся к военному делу: Duńczycy, którzy w swoim czasie najbardziej obawiali się desantu „Bałtijskowo Fłota”, dzisiaj nie uważają go za jakiekolwiek zagrożenie (Nie 30/2011, 10); Nie mówiło się „bomba atomowa”, a imitacjonnaja avio bomba (Polityka 40/2010, 98); Zwiad pułkowy informacje zbierał, chodził pod linię i za linię wroga, polował na „języka” (Nie 43/2011, 14) ‘язык’; Wystraszeni dorośli bali się pójść do pobliskiej stanicy Wochru (Polityka 3/2011, 102) ‘Вохр’;
− государственно-административных учреждений, центров, фондов, комитетов, архивов: Ożenił się z Rosjanką Anną, sprzątaczką w rajkomie partii (Nie 1/2010, 4); Strzelbę zabrali, a z książkami kazali się zgłosić następnego dnia do rajsowietu (Polityka 52/2000, 21); Badania przeprowadzone przez WCIOM (Polityka 3/2011, 21) ‘ВЦИОМ’; Badanie przeprowadzone przez FOM (Polityka 3/2011, 22) ‘ФОМ’; Treść raportu MAK podtrzymuje w zasadzie wcześniejsze ustalenia (Nie 45/2010, 5); Tom zawiera teksty 60 dokumentów, z których 59 jest przechowywanych w RGASPI (Polityka 18/2010, 78) ‘РГАСПИ’;
− путей сообщения и транспортных средств: Zoszczenko odwiedził budowę Biełomorkanału (Polityka 9/2011, 90); Mimo oficjalnego zakazu rozmieszczania podobizn Stalina na środkach komunikacji miejskiej na początku maja wizerunki wodza ozdobią prywatne „marszrutki” (Polityka 19/2011, 12); Nasze zadanie wykonujemy jeszcze na ruskich migach (Nie 52-53/2010, 9) ‘МиГ’; Nie tylko inostrancy są zgodni co do tego, że właściwie Syberii nie zrozumiesz bez podróży Transsibem (Polityka 34/2011, 78); Raz na kilka tygodni przez Tamtor przemyka wypchany cudzoziemcami UAZ (Polityka 3/2011, 101) ‘УАЗ’;
− средств массовой информации: Niezależna telewizja NTW (Polityka 48/2000, 42) ‘НТВ’; Stosunki rosyjsko-amerykańskie podsumował minister Ławrow w „Rossijskoj Gazietie” (Polityka 13/2010, 10); Jak
165
powiedział dziennikarzowi magazynu „Russkij Reportior”, nazbyt boleśnie przekonał się, że w Rosji los człowieka kreatywnego nie jest łatwy (Polityka19/2011, 45); Została krasnodarską korespondentką państwowego konglomeratu madialnego WGTRK (Polityka 1-2/2011, 115) ‘ВГТРК’;
− партий, политических организаций: Walka o młode serca przejawiła się m.in. w działalności międzyregionalnego ruchu Miszki, skupiającego dzieci w wieku od 8 do 15 lat (Polityka 52-53/2011, 72); W 2018 r. kobieta będzie prezydentem Rosji – przekonują z kolei Otlicznice (Polityka 45/2011, 49) ‘Отличницы’; Tego samego dnia w Petersburgu ci sami młodzi ludzie, z wyrastających jak grzyby po deszczu lewicujących organizacji, np. Rot Frontu, manifestowali ramię w ramię ze skinheadami i weteranami wojennymi (Polityka 30/2011, 43) ‘РОТ-Фронт’;
− системы политических репрессий в СССР: W kącie niepozorna mapa Biełbałtłagu (Polityka 7/2008, 102) ‘БелБалтЛаг’; Na przełomie lat 30. i 40. terytorium to weszło w skład ziem zarządzanych przez stalinowskie przedsiębiorstwo, które rękami rabów Siewwostłagu miało wydobyć złoto z basenów rzek Kołymy i Indygirki (Polityka 3/2011, 101) ‘Севвостлаг’;
− понятий и явлений, относящихся к искусству: Napisał sztukę „Błoszinyj rynok” (Polityka 12/2012, 82); Skandynawskim sagom zawdzięcza Ruś powstanie bylin-starin (Polityka 18/2010, 76); Wcześniej znana była wersja sceniczna powieści, zatytułowana „Dni Turbinów”, wystawiona w słynnym moskiewskim teatrze MCHAT już w 1926 r. (Polityka 1/2/2011, 141) ‘МХАТ’; To już nie jest samizdat, to niemal normalne przedsięwzięcie edytorskie (Polityka 44/2000, 60); W 1955 r. skończył moskiewską szkołę filmową WGiK (Polityka 1-2/2011, 99) ‘ВГИК’.
Номинативная функция русских единиц почти всегда перекликается с функцией привязки дискурса к точному месту (геонациональному), что позволяет погрузить читателя не только в мир русской
166
культуры, ср. также: Cerkiew natychmiast zaadaptowała pogańskie rytuały, np. obmywanie noworodków i weselne kąpiele, ustanawiając sobotę jako zwyczajowy bannyj dień (Polityka 3/2010, 78); Bieriesty burzą stereotyp dotyczący poziomu kultury na terenach Rusi Nowogrodzkiej (Polityka 18/2010, 76); Rozmowa z aktorem i pieśniarzem Lechem Dyblikiem o życiu bez picia, błatnych pieśniach i rolach trzeciego planu (Polityka 33/2011, 86) ‘блатная песнь’, но и в мир живой русской природы, напр.: A kiedy człowiek odczuwa zmęczenie, zresztą wywołane różnymi przyczynami, wystarczy narwać zielska znanego tam pod nazwą cziortypałoch (Polityka 34/2011, 78) ‘чертополох’; Jesienny czyr jest tak ceniony, że przywozi się go tylko samolotem (Polityka 43/2009, 102) ‘чир’; Miejsce na lato musi spełniać też inne warunki: powinno być tam dość drewna dla ludzi i jagielu dla renów (Polityka 32/2009, 87) ‘ягель’. Изредка описываемые элементы преодолевают «русскую» привязанность и становятся средством номинации чужих реалий, напр., польских: Ciągle straszą dacze w stylu góralskim rozsiane po całej Polsce (Polityka 31/2010, 31), или китайских, ср.: Najtrudniej do licencyjnej ochrony będzie przekonać Chiny, największego producenta kałasznikowów (Polityka 44/2009, 11) ‘калашников’.
К функции привязки дискурса к точному месту близка идентификационная функция, которая позволяет соотнести определенные высказывания с носителями русского языка, напр.: Nic dziwnego, że dzieci na widok uskrzydlonego oddziału wołają: „Angieły, angieły!” (Polityka 37/2008, 62−63); Rzecz w tym, powiedział, że «czekiści» to «takoj narod», że jak już schwycą rybę za ogon, to ciągną ją prosto do kosza, a kosz tutaj, na Łubiance (Polityka 10/2010, 78); Chołodno – zagadała do mnie gruba jejmość (Nie 43/2011, 1); W zwykły dzień Jelena mówi zdrastie, a co drugi, trzeci wita się świątecznym s prazdnikam, no bo
167
cała rosyjska paleta świąt nadal tu obowiązuje (Polityka 4/2011, 103).
Как известно, русскоязычные элементы являются также носителями модальной информации, позволяющей авторам выражать субъективные оценки объективного содержания [см., напр.: Nowożenowa, Pstyga, 2006:174], благодаря чему осуществляют в современном публицистическом дискурсе эмоционально-экспрессивную функцию. Для передачи информации в эмоционально-оценочном ключе могут использоваться единицы, несущие в своей основе как мелиоративный, так и пейоративный оттенок, например: Zobaczyli nagle, że żyją tam serdeczni, przeważnie biedni, duszoszczypatielni, wrażliwi ludzie (Polityka 17/2010, 14); To największy i najbogatszy kawałek Matuszki Rosii (Polityka 34/2011, 77); Najpierw bezgranicznie wierzono w rynek – że wyeliminuje uczelnie słabe, bo ludzie po prostu nie będą płacić za barachło (Polityka 40/2010, 8); Wieża kontroli lotów, z panującym na niej „bardakiem”, to z kolei Rosja w pigułce (Wprost 4/2011, 27); Łysyj durak kazał zaorać winnice w Gruzji i posadził kukurydzę (Polityka 7/2008, 102); Gdy rozpadło się imperium, wydawało się, że „rycerze płaszcza i kindżału” bezpowrotnie wyszli z mody (Polityka 3/2012, 44) ‘рыцари плаща и кинжала’.
В ряде случаев можно говорить о языковой игре, которая в польском публицистическом дискурсе является или мощным механизмом воздействия на общественное мнение, ср. Gen genseka (Nie 5/2008, 7) ‘о генеральном секретаре партии Я. Качиньского «Закон и справедливость»’, или источником создания нового содержания, когда благодаря игровой организации текстового пространства становится возможным не только процесс передачи уже известных смыслов, но и насыщение текста новыми значениями (подробнее о смыслообразующей функции языковой игры в [Куранова, 2010: 273]), ср.: Rosjanie nie wybierali
168
zresztą puti (drogi), wybierali Putina – młodego, energicznego i zdrowego przywódcę (Polityka 14/2000, 17). Иногда авторы, прибегая к языковой игре, не ставят перед собой никаких содержательных задач, кроме как вызвать улыбку, смех или создать шутливое насторение, ср.: Biez poł litra nie rozbierjosz! A jak będzie pół litra, to sama się rozbierze (Nie 1/2012, 16), где się rozbierze значит разденется.
Прагматический потенциал русского слова (возможность выражать оценку, экспрессивность и эмоциональность) используется часто и в заголовках, которые являются важной частью публицистического текста, поскольку в них заложена идея публикации и представлено нередко авторское отношение к предмету речи, например: Biedniak traci, kułak się bogaci (Polityka 24/2008, 42−43), Kalinka, kalinka, kalinka maja (Polityka 26/2000, 53); Mleko i walonki (Nie 14/2008, 15), My kulturnyj narod (Nie 7/2000, 2), My zdies Italiancy (Nie 17/2012, 13), Żywiot, nie pożywiot (Nie 42/2011, 14).
Лексические ресурсы русского языка выполняют также функцию противопоставления русского и не-русского (польского), основанную на презумпции – явление не польской реальности, а российской, русской или даже советской (cр. также [Nowożenowa, Pstyga, 2006: 176]). Напр.: A ponieważ wszystko działo się w Rosji – wiadomo, bez wodki nie razbieriosz (Nie 46/2008, 12); Słynne na początku lat 90. gangi z Pruszkowa i Wołomina to, porównując do realiów rosyjskich, zaledwie gruppirowki (Polityka 16/2009, 38); Przed wyborami parlamentarnymi pracownicy budżetówki masowo pobierali zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zamieszkania, by później wziąć udział w tzw. karuzelach, czyli wielokrotnym oddawaniu głosów w różnych punktach wyborczych (Polityka 1/2012, 46) ‘карусель’; W 1937 r. ziemię obiecaną nawiedziła plaga
169
walki z trockistsko-bucharinskimi agientami japono-giermanskowo faszizma (Polityka 7/2010, 104).
Наконец следует выделить еще одну не менее важную функцию – орнаментальную, т.е. функцию украшения текста, когда автор, стремясь донести свои мысли и чувства до читателя в наиболее эффективной форме, использует или отдельные русские слова, ср.: W Jakucku tężeją wtedy kałuże. Wyglądają jak brudne zerkała porozrzucane po całym mieście (Polityka 43/2009, 104); Nad Jeziorem Lodowym budzi się Byk Zimy. Dyszy purgą, zaganiając ludzi do domów (Polityka 12/2008, 134), или клишированные высказывания типа пословиц и поговорок, напр.: Tę dobrowolność nauki podkreślał podczas spotkania z Miedwiediewem patriarcha Kirył, cytując stare rosyjskie przysłowie „Niewolnik – nie bogomolnik” (Polityka 31/2009, 10); Rosyjskie przysłowie: tisze jedziesz, dalsze bud’iesz, powinno być w Warszawie cenione (Polityka 34/2008, 14); W lutym media poinformowały o podwyżce cen na wódkę. Jewgienij Kisielow komentarz o tym doniesieniu zastąpił dowcipem z początku lat 80. o reakcji narodu na spodziewane podwyżki cen na alkohol: «Jeśli budiet bolsze, sdiełajem kak w Polsze» (Nie12/2000, 6). Орнаментальную функцию могут выполнять также фразеологизмы, ср.: Mówi szczerze, pa duszam, bo jest wściekły na to, jak władze postępowały w obliczu tragedii „Kurska” (Polityka 35/2000, 16), и цитаты из произведений художественной литературы, напр.: Więc po co – jak pytał Gogol – łamać krzesła? (Polityka 32/2011, 89) ‘Но зачем же стулья ломать?’.
Таким образом, включение лексических элементов русского языка в польскую публицистику – это процесс сознательный и прагматически ориентированный. Появляясь в основном в сообщениях тематически связанных с российской реальностью, русизмы (от лексемы до микротекста) активно применяются как средство речевой выразительности, увеличивающее информативную
170
ценность текста, его оценочность, образность и эмоциональность.
Литература:
Куранова Т. П. (2010) Функции языковой игры в медиаконтексте. Ярославский педагогический вестник. 4. Т. I (Гуманитарные науки). 272−277. Маршалек Л., Маршалек М. (2011) Русские аббревиатуры в польской современной публицистике: идеографический аспект. Человек, язык и текст. К юбилею Татьяны Викторовны Шмелевой. Великий Новгород. 229−240. Маршалек М. (2011а) К вопросу о русизмах в сегодняшнем польском публицистическом дискурсе. Русский язык в центре Европы. 14. 18−26. Маршалек М. (2011б) Лексические русизмы в польском языке начала XXI века. Русский язык и литература во времени и пространстве. Т. 2. Shanghai. 675−681. Маршалек М. (2011в) Русские сверхсловные номинаты в современной польской публицистике. Русский язык: система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы). Минск 2011. 27–31. Маршалек М. (2011г) Русизмы в современной польской публицистике: опыт идеографического описания. Русистика и современность. Рига, c. 283−287. Marszałek M. (2011) O najczęstszych rusycyzmach leksykalnych w polszczyźnie współczesnej publicystyki. Язык, литература и культура России в XXI веке. Теория и практика. Кельце.c. 151−157. Nowożenowa Z., Pstyga A. ( 2006) Русское слово в польском тексте. Wschód−Zachód. Dialog języków i kultur. Słupsk. 172−178. Pstyga A.( 2005) Rosyjskie frazemy w publicystyce polskiej (nie tylko o pragmatycznych aspektach przekładu). Wokół słów i znaczeń. T. 1.: Polszczyzna piękna i poprawna. Gdańsk. 87−100.
171
Ирина Мурадян
СЕМАНТИКА РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С
ЗООНИМАМИ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена проблемам понимания семантики русских фразеологизмов с зоонимами в межкультурной коммуникации. Отмечено, что фразеологизмы являются важным фрагментом языковой картины мира. Поэтому для успешной коммуникации следует учитывать различия при восприятии метафорических переносов названий животных и фразеологизмов с зоонимами в разных национальных культурах. Abstract: The article is devoted to the problems of semantic Russian idioms with animals at the intercultural communication. There is very impotent the meaning of animals and idioms with animals at different national culture.
Ни одна культура не существует изолированно. В процессе своей жизнедеятельности она вынуждена постоянно обращаться либо к своему прошлому, либо к опыту других культур. Известно, что в речевом общении представителей разных языковых коллективов отражаются как универсальные черты, так и те этноспецифические закономерности, которые характеризуют культурно-национальные особенности каждого народа и его языка. Благодаря расширению международных контактов и все большому взаимодействию различных культур их изучение привлекает к себе все большее внимание.
Закономерные и объективно обусловленные различия в культуре народов
172
влекут за собой и различия в философском осмыслении процесса познания той или иной культуры.
Носитель языка воспринимает окружающий мир сквозь призму национальной языковой картины мира, которую определяется как «запечатлённое в лексике соответствующего языка, национально-специфическое видение всего сущего, где в слово «видение» вкладываются понятия: логическое осмысление, чувствование и оценивание, а в понятие сущего - не только реальный мир, но и все привносимое в него человеческим сознанием» [Корнилов О.А.2003: 140].
На современном этапе уделяется большое внимание изучению национально-культурной специфики фразеологических единиц, значения которых тесно связаны с фоновыми знаниями носителей языка, с культурно- историческими традициями народа и жизненным опытом личности. Именно в них сконцентрированы и закреплены представления народов об обычаях, традициях, поведении, морали, а также стереотипы и социально-исторические факты.
Как отмечает В.А.Маслова, «фразеология есть фрагмент языковой картины мира». По мнению исследователя, фразеологические единицы служат субъекту своеобразным инструментом интерпретации и оценки окружающего мира, выражения субъективного отношения к нему, т.е. они «представляют собой сгусток культурной информации, позволяют сказать многое, экономя языковые средства и в то же время добираясь до глубины народного духа, культуры» [Маслова В.А. 2001: 55].
По мнению известных лингвистов (В.Н.Телии, Н.Д.Арутюновой, В.А.Масловой и др.) большинство фразеологизмов русского языка имеет метафорическую природу, а метафора
173
«отражает фундаментальные культурные ценности, ибо основана на культурно-национальном мировидении» [Маслова В.А.: 91]. Метафора дает возможность изучать связанные с отражением и осмыслением окружающего мира имплицитные мыслительные процессы, происходящие в сознании человека. В процессе метафоризации, пишет В.Н.Телия, реализуется принцип антропоцентризма в языке, который выражается в том, что «сам выбор того или иного основания для метафоры связан со способностью человека соизмерять все новое для него... по своему образу и подобию или же по пространственно воспринимаемым объектам, с которыми человек имеет дело в практической деятельности, в жизненном опыте» [Телия В.Н. 1988: 136].
Целью нашего исследования является выявление специфики русских фразеологизмов с зоонимами в процессе межкультурной коммуникации.
При формировании навыков межкультурной коммуникации большое значение имеет анализ фразеологических единиц, так как в них выражается национальное своеобразие в присущем каждому народу «особом взгляде на действительность, в особом исторически складывающемся восприятии мира, в характере социальных и поэтических обобщений ». «Такой анализ дает возможность формировать правильное коммуникативное поведение, в котором выделяется два аспекта – рецептивный (понимание коммуникативного поведения другого народа) и продуктивный (умение строить своё коммуникативное поведение по законам коммуникативного поведения народа изучаемого языка)» [Стернин И.А. 2002:7].
Фразеологизмы с зоонимами в этом аспекте занимают видное место. Именно в зоолексике ярче, чем в любой другой области языка, отражаются особенности осмысления внеязыковой реальности, когда образы животных в
174
разных языках наделяются (с точки зрения освоения действительности человеком и воздействия его на окружающий мир), на первый взгляд, совершенно не мотивированными свойствами, иногда даже противоречащими логике вещей. Эти образы и фантазии восходят к глубинам человеческого сознания, верованиям и мифологии.
Нужно отметить тот факт, что в жизни человека, особенно на ранней стадии его развития, роль животных всегда была исключительно велика. В далекие времена люди и звери сосуществовали в естественном соседстве: животные включались в социальную иерархию. Кроме того, в человеческом обществе жили идеи о происхождении данного коллектива от животного, оно представлялось как особая ипостась человека.
Знакомство с особенностями значений слов, обозначающих животных, их метафорическими переносами, общей семантикой фразеологизмов с зоонимами связано со спецификой языков и разных национальных культур. В основе этого процесса всегда лежит познание, которое интерпретируется как высшая форма отражения действительности и проявляется на сенсорном, интеллектуальном, эмпирически-прикладном и теоретическом уровнях. Однако если учесть, что практическая деятельность и речевая коммуникация образуют единство, тогда познание значительно шире, чем усвоение языковых знаний. «Многие преобразования происходят только тогда, когда человек является субъектом речевой коммуникации, рационально воспринимающим духовные ценности культуры данного этноса через призму, как современности, так и истории» [Пахольчик Т. 2006: 122].
Изучение фразеологизмов при освоении чужого языка важно тем, что дает возможность «эксплицировать языковое сознание носителей языков, их знания языка и знания о языке,
175
ассоциативные знания/реакции и, что очень важно, дает возможность сравнить их с «образами» чужого языкового сознания» [Жакупова А.Д. 2009: 45].
Животные всегда были очень важным для человека элементов природы. В языке это отражается наличием большого количества метафорических изменений терминов данного семантического класса слов. Большинство зооморфизмов связано с оценкой поведения, внешних черт или внутренних качеств человека, и поэтому они вызывают положительные или отрицательные эмоции и ассоциации. Эти семантические изменения постепенно осуществляются во времени и пространстве, а их результаты закрепляются в каждом языке.
Интерпретация метафорических изменений опирается на культуру данной нации, данной среды, так как метафора появляется на базе общественного договора. Говорящий нарушает конструкцию высказывания, употребляя вместо слова в обычном значении омонимическую единицу, принадлежащую другому классу названий. Слушатель же, заметив несоответствие значения, ищет сходства между обеими словами, чтобы найти ключ для их декодировки. Интерпретация, отвечающая интенциям говорящего, возможна только в том случае, если обоим - говорящему и слушателю - известны те же самые или очень близкие системы ценностей, закрепленные в культуре и истории общества. Правильное понимание метафоры тем труднее, чем больше различий в национально-культурных значениях или собственно личных представлениях, а также в осознании ассоциативного ореола значения данного слова между участниками коммуникации. А. Чапига, исследовавший метафору в русском и польском и английском языках, приводит пример со словом
176
«корова», которое в русском языке в переносном значении обозначает «крупную, неловкую, глупую женщину». «Польское толкование этого зооморфизма очень близко русскому. Видимо, только в славянской ментальности образ реалии, названной этим именем, вызывает отрицательные ассоциации и вместе с тем понижает ее в восприятии слушающего, создавая стереотипную для данного национально-языкового коллектива неодобрительную эмотивную квалификацию» [Чапига А.2003: 253]. В словарях английского языка исследователь подобную метафору не обнаружил. В других языках, например, в китайском подобного переносного значения у слова «корова» нет, а в индийской культуре «корова» - это вообще священное животное. Поэтому при использовании русских фразеологизмов с названиями животных в коммуникации с китайцами или индусами следует в первую очередь обращать внимание на различия в восприятии тех или иных животных в разных национальных культурах. Например, фразеологизмы «дойная корова» и «сидит как на корове седло» по отношению к человеку являются грубыми, а в стилистическом плане имеют просторечную окраску [8: 208].
В межкультурной коммуникации следует учитывать общие различия, исходящие из разных типов национальных культур. Для восточной культуры свойственно образно-чувственное восприятие. Животные в китайских фразеологизмах представлены в целом, в виде указания на определенный образ и тип. Например, «на вывеске баранья голова, а в лавке – собачье мясо» и др.
Для русской национальной культуры характерно пристальное внимание к образу жизни, среде обитания, к большой детализации повадок и поведения животных и птиц, отразившейся в
177
русской языковой картине мира и представленной во фразеологизмах.
Во фразеологизмах со словом «гусь» отобразилось поведение этих птиц, которых легко раздразнить, (дразнить гусей), свойство смазанных гусиным жиром перьев, которые не смачиваются водой (как с гуся вода) и др.
Следует обратить внимание на то, что в русском языке много фразеологизмов с названиями домашних животных. Это фразеологизмы со словом «собака», причем следует иметь в виду, что слово «собака» в русском языке по отношению к человеку является бранным. Поэтому семантика фразеологизмов с этим словом часто включает в себя отрицательную коннотацию и сниженную окраску. Почти все они в словаре под редакцией А. И. Молоткова даны с пометой «просторечное», например: «каждая собака», «как собака», «как собак нерезаных» и др.[8: 442].
Во фразеологизмах со словом «кошка» находят свое преломление повадки кошек, например, их вечная вражда с собаками: «как кошка с собакой (жить»). Рассматривая в межкультурной коммуникации фразеологизм со словами «черная кошка», следует учитывать, что черная кошка в восприятии русских представляет нечистую силу. В русских суевериях считается, что её появление на дороге приводит к неудаче.
Нельзя оставлять без внимания устойчивые словосочетания с орнитонимами, достаточно широко представленные в русском языке. Больше фразеологизмов с названиями домашних птиц, которых русские крестьяне разводили в своих хозяйствах. Это такие домашние птицы, как куры и гуси. Необходимо обратить внимание на то, что названия самца, самки и птенцов кур образуются от разных основ, например: петух, курица, цыпленок. И со всеми
178
этими лексемами есть фразеологизмы, что подчеркивает детализацию членения действительности, связанной с птицами, в русской языковой картине мира, например, «попадать как кур во щи», «курам на смех», «пускать петуха».
При русской наблюдательности, внимательности к поведению животных не остались в стороне даже комар (комар носа не подточит) и муха. В русской языковой картине мира это проявилось наличием большого количества фразеологизмов со словом «муха», например, «мухи не обидит», «мухи дохнут (мрут)» и др. Нужно обратить внимание представителей других культур на то, что с белыми мухами в русском языке сравнивается падающий снег. Есть несколько фразеологизмов с грубой просторечной окраской, например, «едят тебя мухи».
При использовании русских устойчивых словосочетаний в межкультурной коммуникации особо осторожными следует быть с фразеологизмами со сниженной, просторечной окраской. Например, лексемы «собака», «корова», «змея» по отношению к человеку являются бранными; фразеологизмы с этими словами по стилистической окраске часто отмечены в словаре как просторечные, например, «змея подколодная», «на козе не подъедешь», «драная кошка» и др.[8]. Употребление таких устойчивых словосочетаний снижает общую стилистическую окраску высказывания и может быть некорректным для коммуниканта.
Завершая рассмотрение фразеологизмов с зоонимами, хочется отметить, что в русском восприятии фиксируется большое количество разных повадок животных и многие из них переносятся на человека в семантике фразеологизма.
Наиболее ярко семантика фразеологизма проявляется при сопоставлении разных культур. В
179
этом случае она воспринимается сквозь призму этнической культуры, менталитета народа, лингвистических моделей картины мира.
Фразеологическая система языка отражает восприятие и картину мира каждого народа. Животные занимают в этой картине значительное место. Поэтому, рассматривая русские фразеологизмы с названиями животных в межкультурной коммуникации, мы в первую очередь обращали внимание на различия в восприятии тех или иных животных в разных национальных культурах. Отсутствие учета данных факторов может приводить к коммуникативным неудачам. Знание точной семантики фразеологизмов и наличие культурологических навыков у участников коммуникации значительно облегчают межкультурное общение.
Литература: Корнилов О.А. (2003) Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. Москва: ЧеРо. Маслова В.А. (2001) Лингвокультурология. Москва: Академия. Телия В.Н. (1988) Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира. Роль человеческого фактора в языке. Москва: Наука. Стернин И.А. (2002) Теоретические проблемы изучения коммуникативного поведения. Русское и китайское коммуникативное поведение. / Под ред. И.А. Стернина. – Вып.1. Воронеж: Истоки. Пахольчик Т. (2006) Общие и базисные обусловленности межкультурной коммуникации. Мова. №11. Одесса: Астропринт. Жакупова А.Д. (2009) Концепция многоязычного мотивационно-сопоставительного словаря орнитонимов и фитонимов. Коммуникативные аспекты грамматики и текста. Жешув: Изд-во Жешув. ун-та.
180
Чапига А. (2003) Отзоонимная антропоморфная метафора в русском, польском и английском языках. Мова № 8. Одесса: Астропринт. Фразеологический словарь русского языка (1996) / Под ред. А.И. Молоткова. Москва: Русский язык.
181
Ириан Наумова
РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРГЕНЦИИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
(на материале фразеологических общностей)
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы пополнения фразеологического состава русского языка переводными единицами английского происхождения. Целью статьи является проследить источники английских фразеологизмов, являющихся прототипами фразеологических калек в русском языке. Abstract:This paper treats the issues concerning enrichment of Russian phraseology with translated units of the English origin. The aim is to trace the sources of the English phraseological units which are the prototypes of phraseological calques in Russian.
В современной языковой конвергенции
перевод остается ведущим источником пополнения номинативной системы перенимающих языков новыми заимствованными единицами, главным образом - английского происхождения.
Однако следует отметить, что скоростное проникновение возникающих английских неологизмов часто предполагает их трансфер в новое языковое пространство 21 века не в переводном, а в исконном виде, что обусловлено как отсутствием необходимого времени на поиск адекватного переводного соответствия новых единиц, так и отсутствием самой необходимости перевода, поскольку новые иноязычные поступления доступны для понимания подготовленного читателя, знающему английский язык благодаря его широкому распространению в мире. Безусловно, не следует забывать и о склонности современных изданий к следованию языковой моде, предпочитающей употребление англицизмов калькам.
182
Тем не менее переводная художественная литература по-прежнему выполняет роль почтовой лошади просвещения, прогресса (ср. Переводчики - почтовые лошади просвещения. Пушкин. (Записки)), пополняя фразеологический фонд общностей английского и русского языков.
Переводные фразеологические обороты английского происхождения активно занимают нишу перифрастических номинативных единиц русской языковой системы, принадлежа к различным сферам своего первоначального использования в языке-прототипе.
Как видно из нижеприведенных примеров, авторами английских прототипов фразеологических калек являются представители самых разных сфер деятельности:
Военно-промышленный комплекс > The military industrial complex (президент США Д. Эйзенхауэр, 17 января 1961 г.); Всемирная паутина > World Wide Web (британский ученый-компьютерщик Т. Бернес-Ли); Глазами Запада > Under Western Eyes (английский писатель Дж. Конрад, 1911); Группа давления > Pressure Group (американский политолог А. Бентли, 1908); Зеленая революции > Green Revolution (американский агроном Н. Борлауг, Концептуальное искусство > Conceptual Art (американский художественный критик Г. Флинт, 1961); Летающие тарелки > Flying Saucers (бизнесмен А. Кеннет, 1947); Массированное возмездие > Massive Retaliation (государственный секретарь США Дж. Даллес, 12 янв. 1954); Научно-техническая революция > Scientific and industrial revolution (британский физик Дж. Бернал, 1954); Неопознанные летающие объекты (НЛО) > Unidentified Flying Objects (UFO) (авиационный инженер, офицер ВВС США Э. Раппелт,1956); Новый мировой порядок > New World Order (Дж. Буш (старший), 1990); Постиндустриальное общество > Postindustrial
183
Society (Д. Белл, 1967); Обратная связь > Feedback (американский ученый Н. Винер «Кибернетика, или Наука об управлении и связи в животном и машине» (1948); Ось мирового зла > The Axis of World Evil (Дж. Буш (младший), 2002); Торговцы смертью > Merchants of Death (название книги Х. Энгельбрехта и Ф. Ханигана, 1934) и др.
Английская и американская переводная художественная литература обогатили русский язык большим количеством фразеологических калек английского происхождения, многие из которых адаптировались к новой языковой системе и стали ее неотъемлемой частью, часто теряя шлейф своего иноязычного происхождения. Напр.: • Киберпространство > Cyberspace
(американский писатель-фантаст У. Гибсон в романе «Нейромант», 1984);
• Наш человек в Гаване > Our Man in Havana (английский писатель Г. Грин, 1958); Тихий американец > The Quiet American (английский писатель Г. Грин, 1955);
• Запад есть Запад, Восток есть Восток, / И вместе им не сойтись > Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet (Р. Киплинг «Баллада о Востоке и Западе»,1889); Бремя белого человека > White man’s burden (Р. Киплинг, заглавие поэмы «White man’s burden», 1899); Древнейшая в мире профессия > The world’s oldest profession (Дж.Р. Киплинг, в рассказе «В городской стене из сборника «Черное и белое»,1888); Мохнатый шмель – на душистый хмель > The Shaggy Bumblebee to the fragrant hop (Р. Киплинг, Цыганский след, 1909); Закон джунглей > The Law of the Jungle (Р. Киплинг, «Книга джунглей»,1894), Кошка, которая гуляла сама по себе > The Cat that
184
Walked by Himself (Р. Киплинг, заглавие сказки «The Cat that Walked by Himself», 1902);
• Вторая древнейшая профессия > The Second Oldest Profession (американский писатель Р. Сильвестр, заглавие романа о журналистах, 1950);
• Жажда жизни > Lust for Life (американский писатель И. Стоун, название романа о Ван Гоге, 1934);
• Над пропастью во ржи > The Catcher in the Rye (американский писатель Дж. Сэлинджер, заглавие романа, 1951);
• Старик и море > The Old Man and the Sea (американский писатель Э. Хемингуэй, 1952) и др.
Первоисточниками многих из вышеприведенных оборотов были высказывания или труды знаменитых и безызвестных людей, однако популярность данные высказывания приобрели благодаря литературным произведениям известных британских и американских писателей и поэтов.
Так, название произведения Э. Хемингуэя «Old Man of the Sea» восходит к английским переводам «Одиссеи» Гомера, в которых «старец моря» - Протей, в греческой мифологии сын Посейдона (IV, 349, 365) [Душенко 2006: 174].
В двадцатом веке нередко именно экранизация произведений англоязычной литературы приносила известность тому или иному роману, превращая его название в крылатую фразу как в английском, так и в русском языках.
Примером могут служить следующие переводные названия английских и американских фильмов, в свою очередь восходящие к выражениям, представляющим названия того или иного художественного произведения: Заводной апельсин > A Clockwork Orange (роман Э. Берджесса появился в 1962 г., одноименный фильм С. Кубрика
185
принес ему известность в 1971 г.); Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? > They Shot Horses, Don’t They? (американский писатель Х. Маккой, заглавие романа, опубликованного в 1935 г., режиссер С. Поллак снял одноименный фильм в 1969 г.); Игры патриотов >Patriot Games (американский писатель Т. Клэнси, автор одноименного романа, написанного в 1987 г., фильм режиссера Ф. Нойса появился в 1992 г., фраза приобрела известность после появления и одноименной телепрограммы); Человек на все времена > A Man for All Seasons (название пьесы о Томасе Море Р. Болта, написанной в 1960 г., фильм был снят режиссером Ф. Циннеманом в 1960 г.) (Источник – высказывание Роберта Уиттингтона (R. Whittington) о Томасе Море («Vulgaria», 1521) [См. Душенко 2006] и др.
Появление англоязычных фильмов вносят в русский язык как фразеологизмы номинативного характера, так и коммуникативного, обогащая не только книжный стиль заимствующего языка, но и пополняя впоследствии устную речь русского языка переводными выражениями английского происхождения:
Кошмар на улице Вязов > A Nightmare on Elm Street (американский фильм К. Рассела, 1984); Как украсть миллион > How to Steal a Million (амер. реж. Уильям Уайлер, 1966); Криминальное чтиво > Pulp Fiction (американский фильм Кв. Тарантино, 1994); Миссия невыполнима > Mission: Impossible (реж. Брайан Де Пальма, 1996); Новые времена > Modern Times (американский фильм Ч. Чаплина, 1936); Огни большого города > City Lights (американский фильм Ч. Чаплина, 1931); Основной инстинкт > Basic Instinct Lights (американский фильм П. Верхувена, 1991); Римские каникулы > Roman Holiday (американский фильм У. Уайлера, 1953); Тот безумный, безумный, безумный мир > It’s a Mad,
186
Mad, Mad, Mad World (американский фильм С. Крамера, 1963) и др.
Название пьес британских и американских драматургов и сценаристов также обогащают пласт фразеологических общностей английского и русского языков:
Двое на качелях > Two for the Seesaw (американский драматург У. Гибсон, 1958); Дом, где разбиваются сердца > Heartbreak House (Дж. Б. Шоу, 1919); Оглянись во гневе > Look Back in Anger (Дж. Осборн, 1956) и др.
Отдельные выражения из пьес английских драматургов также становятся крылатыми словам русского языка. Так, пьеса Дж. Осборна «Оглянись во гневе» принесла популярность фразеологизму рассерженные / сердитые молодые люди > angry young men. Восходит данное выражение к названию книги ирландского писателя П. Лесли [Душенко 2006: 128].
Название мюзиклов, отдельные фразы из либретто также способствовали распространению многих фразеологических оборотов английского происхождения во многих языках, формируя фонд фразеологических интернационализмов:
• Моя прекрасная леди > My Fair Lady (муз. Ф. Лоу, 1956);
• Я танцевать хочу, / Я танцевать хочу, / До самого утра > I could have danced all night (название песни “I want to dance”, либретто Лернера, 1956).
Названия и многих песен английских и американских авторов входили в состав фразеологических калек с английского в русском языке благодаря авторам и исполнителям этих песен. Например:
• Свеча на ветру > Candle in the Wind (муз. Элтона Джона, 1973, песня была посвящена
187
памяти М. Монро, в новом варианте – памяти принцессы Дианы, 1997);
• Секс, наркотики, рок-н-ролл > Sex&druggs&rok&roll (муз. Ч. Джанкела, назв. песни, 1977);
• Странники в ночи > Strangers in the Night (слова и муз. Кемпферта, Снайдера и Синглтона (США),1960);
• Желтая подводная лодка > Yellow Submarine (слова и муз. Леннона и Маккартни, 1968);
• Снова в СССР (Обратно в СССР) > Back in the USSR (слова и муз. Леннона и Маккартни, 1968) и др.
Многие из вышеприведенных единиц создавались по модели уже существовавших в языке оборотов. Так, песня Back in the USSR является парафразом американской песни рок-музыканта Чака Бери Back in the USA (Обратно в США), появившейся в 1959 году.
Название пьесы Кто боится Вирджинии Вулф? > Who’s Afraid of Virginia Woolf?, по мнению К. Душенко [Душенко 2006: 364], является перефразировкой песенки «Who’s Afraid of the Big Bad Wolf?» < «Нам не страшен серый волк». Перевел на русский язык эту строчку из песенки «Три поросенка» С. Михалков. Известность эта фраза приобрела после выхода мультфильма «Простая симфония» У. Диснея, слова и музыка Ф. Черчилля и Э. Роунел. Многочисленны фразеологизмы английского
происхождения, которые были введены в оборот английскими и американскими журналистами - авторами изречений, ставших единицами общего фразеологического фонда английского и русского языков. Так, например, автором переводного выражения Новые русские > The New Russians
188
является американский журналист Х. Смит, написавший одноименную книгу в 1990 году.
В некоторых случаях новая заимствованная фраза в переведенном виде заполняла уже существовавшую в русском языке модель. Так, 28 мая 1961 года в газете “Observer” появилась статья «Забытые узники», написанная П. Бененсоном, британским юристом, основателем «Международной амнистии». Выражение Prisoners of conscience < Узники совести получило свою известность впоследствии благодаря этой публикации. По данным словаря К. Душенко, в русском языке обычным клише русской публицистики с 1920 годов было выражение узники капитала [Душенко 2006: 13].
Ср.: «Как уже вы слышали вчера, я прошу вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии Мира». [А. Д. Сахаров. Нобелевская лекция «Мир. Прогресс. Права человека» (1975)] [НКРЯ].
Иногда английскому устойчивому выражению в русском языке соответствует сложное слово. Так, русское слово сверхдержавы является переводным соответствием английского оборота Super Powers. Первоисточником английского выражения является название книги американского политолога У. Фокса «The Super Powers»,опубликованной в 1944 году.
Нередко результатом перевода английского прототипа является полукалька. Сравните уже устоявшуюся модель в английском и русском языках перевода книг, названия сериалов, фильмов с устойчивым компонентом поколение: поколение битников / бит-поколение / бит поколение / битники; поколение X, поколение Y, поколение Next, поколение Н, etc.
• Поколение битников > The Beat Generation, название книги американского писателя Дж. Керуака. В 1959 году в США был снят
189
одноименный фильм Ч. Хааса по сценарию У. Кастла. Ср.: "Поколение битников» Чарльз Буковски //
Дайана Ди Прима // Ричард Бротиган // Грегори Корсо // Лью Уэлч // Ле Рой Джонс (Амири Барака) // Боб Кауфман // Дениз Левертофф "Поколение битников" - это, скорее, указание эпохи 40-70-х годов ХХ века, чем определение понятия (как известно, Чарлз Буковски себя к битникам не причислял). Сейчас это направление называют The Maverick Poets» (переводчик А. Караковский) [http://www.netslova.ru/karakovski/ppb.html]. • Поколение Икс > Generation X , название
одноименной книги о поколении 68-х годов, написанной Ч. Хамблеттом и Дж. Деверсоном, появившейся в 1964 году в Лондоне. Почти через три десятилетия появился перевод названия сатирического романа о поколении 1990-х, написанного канадским писателем Д. Копландом в 1991 году. Ср. «Неологизм “поколение Икс”
распространился ныне до такой степени, что вскоре его будут писать (если уже не пишут) в подъездах и на заборах. Однако, как это бывает сплошь и рядом, популярность термина далеко не означает понимания того, что он выражает�Существует ли вообще поколение Икс, и если да, то в какой действительности? Скрывается ли за этим термином некая универсалия или же это название мимолетного поветрия в одной, отдельно взятой стране?» (Илья Кормильцев. Поколение Икс: последнее поколение? ИЛ, 1999, №3). • Поколение «Next» > Generation “Next”,
представляющая перевод названия одной из серий телесериала «Звездный путь» (The Star
190
Trek. The Next Generation), 1987 г., автор сценария и режиссер Дж. Родденберри. В 1999 году русский писатель В.О. Пелевин
называет свой роман Generation «П» / Поколение «П», используя вышеприведенную модель, заимствованную из английского языка: «Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу — и выбрало «Пепси» (Пелевин В. Generation «П» / Поколение «П»).
Переводные фразеологизмы английского происхождения проникают в систему русского языка из разных сфер употребления в родном языке. Нередко их популяризации служат перевод названий или выдержек из статей, книг, фильмов, мюзиклов, песен, приобретающих широкую известность как в Англии, Америке, так и в перенимающих их языках, в том числе и в русском. Данные обороты пополняют состав фразеологических интернационализмов, представляя общности фразеологического состава английского и русского языков, являясь переводом исконных английских фразеологизмов.
Литература:
Душенко К.В. (2006) Словарь современных цитат: 5200 цитат и выражений XX и XXI вв., их источники, авторы и датировка / К.В. Душенко. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо. 832 с. НКРЯ – Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru. – Загл. с экрана.
191
Валентина Никитенко
О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОДА НА КИТАЙСКИЙ
ЯЗЫК ПОВЕСТИ В. П. АСТАФЬЕВА «ЦАРЬ-РЫБА»
Аннотация: Проблемы передачи стилистических приемов при переводе художественных текстов, трудность передачи слов, имеющих отклонение от литературной нормы, и воссоздание оригинального стилистического эффекта при переводе являются наиболее сложными переводческими задачами. В данной статье рассматриваются некоторые особенности перевода «Царь-рыбы» В. П. Астафьева на китайский язык. Abstract: The transfer problems of stylistic devices in the translation of literary texts, the difficulty of transferring words that have a deviation from the norms of the literary and recreation of the original stylistic effect of the translation are the most complex translation tasks. This article discusses some features of translation of the Astafiev’s work ”Tzar-Fish" into the Chinese language.
Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001)
– наиболее известный в мире и широко переводимый сибирский писатель. Его произведения переведены на 22 языка и изданы в 28 странах [Робонен, Е. В.,2005: 221]. И это несмотря на достаточную сложность интерпретации астафьевского стиля (обилие диалектизмов, жаргонизмов, идиом, индивидуально-стилистических метафор, окказионализмов, широкое использование инверсии и др.). Благодаря многочисленным переводам произведения писателя все чаще становятся объектом научного исследования.
Несомненно, перед переводчиком, работающим над произведениями В.П. Астафьева, стоит очень важная и трудная задача: он должен не только воплотить идейно-художественное
192
содержание подлинника, но и постараться сохранить язык и неповторимый стиль автора. В работах, посвященных творчеству Виктора Астафьева, немало сказано об уникальности языка писателя. По мнению исследователей, своеобразие художественной речи прозаика заключается в органичном сочетании народной речи и книжной стилистики, в стихии народного языка, в живости и достоверности астафьевского слова, не скованного стилистической преднамеренностью, в языке, колоритно передающем особенности русской речи сибиряков [Агапова С.А., Самотик Л.Г., 1999: 108]. Г.М. Шленская определяет одну из ярких черт художественного метода Астафьева как «коробящую слух «ненормативную лексику и магию, волнующей музыки астафьевского слова, уподобляющего целые страницы повествований стихотворениям в прозе» [Шленская, Г.,1999:70].
Большое внимание наследию В.П. Астафьева уделяют китайские переводчики и литературоведы. Виктор Петрович не раз встречался со своими китайскими переводчиками, вел с ними активную переписку, сам бывал в Китае и был очень заинтересован в распространении своих произведений в этой стране. Однако сложность и самобытность художественного языка и мира произведений В.П. Астафьева обусловила трудность их перевода на китайский язык. Так, на сегодняшний день существует единственный перевод на китайский язык его произведения «Царь-рыба» в переводе группы китайских переводчиков во главе с Ся Чжун’и (1982 г.)14.
14亜㜿᪁ሪ⳼⪨ኵ См. • 氤⋤ኟ௰⩼ ▼ᯖᕝ➼孹 ᾏ凞 // 1982. – 590 с.
193
Одной из основных проблем, с которой сталкивается переводчик в своей работе, является трудность передачи слов, имеющих отклонение от литературной нормы. Такое отклонение может выражаться в областной, просторечной или экспрессивной окраске слова. Фольклорные, диалектные и жаргонные элементы языка многими специалистами в области перевода признаются совершенно непереводимыми и называются безэквивалентной лексикой.
Перевод стилистических приемов, несущих основной образный заряд произведения, также часто вызывает затруднения у переводчиков из-за национальных особенностей стилистических систем разных языков.
Лингвисты и переводоведы подчеркивают необходимость сохранения образа оригинала в переводе, справедливо считая, что, прежде всего переводчик должен стремиться воспроизвести функцию приема, использованного автором, а не сам прием [Бреева Л. В., Бутенко А. А ]. В случае, когда не найдена компенсация образа/тропа и невозможна его передача, передается только понятийное содержание образа.
Если семантическая основа образа подлинника передана точно, то результатом явится адекватный языковой образ на принимающий язык и его адекватное смысловое содержание, осуществляющее номинативную функцию образа. Это можно проиллюстрировать теми случаями в переводе, когда из-за невозможности сохранить метафорический образ, используется только смысловое его содержание с целью выполнения номинативной функции: в оригинале характеристика Бойе : “�золотая в пушном промысле " в переводе звучит как: “൘⤾ਆ∋Ⳟ䘉а㹼ᖃ䟼〠ᗇкᱟњᑞ”
194
(букв. “� в пушном промысле это был хороший помощник").
Переводчик отталкивается от семантики слов используемых в метафорическом сочетании подлинника и проводит сопоставление лексических значений слов двух языков. Анализ перевода слов и свободных словосочетаний с метафорическим содержанием показывает, что во многих случаях языковые образы метафорических словосочетаний произведения В.П. Астафьева переданы на эквивалентной семантической основе, равны по номинативной функции: В оригинале: “ Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстротекущих водах Опарихи”� В переводе: “ཚ䱣алᆀݹ㣂ഋሴൠॷࡠᏵк䶒ᆀˈаᶏᶏᯝ㇝аṧⲴݹᶏыᆀ䘉ཤク䘿ࡠਖаཤˈ൘ᐤ䟼⋣Ⲵ◰⍱к
⍂лᰐᮠ㓶⺾Ⲵݹᖡ”DŽ (букв. Солнце разом во всем сиянии поднялось над вершинами леса, световые лучи, подобно пучку сломанных стрел, пронзили лес с одного края до другого, и в стремительном потоке Опарихи разбросали бесчисленные раздробленные осколки света).
Семантическая основа метафор подлинника в большинстве случаев соотносится с семантической основой метафор перевода в соответствии с определенными универсальными логико-семантическими принципами. Однако в любом языке есть элементы, неподдающиеся адекватной передаче средствами другого языка, поэтому очевидна необходимость компенсировать эту потерю при переводе. Речь идет о потерях и смыслового и стилистического порядка, например, в оригинале “� зверь рыскучий �”, в переводе: “ᶕራ伏⢙Ⲵ䟾”(букв. вышедший в поисках еды зверь). Таким образом, в переводе наблюдается ослабление метафорической образности и сопутствующей ей экспрессивной информации. Сила
195
экспрессии при этом снижается. Если переводчик вынужден жертвовать или стилистической окраской, или экспрессивным зарядом слова при переводе, то, конечно, он должен в первую очередь сохранить экспрессивное значение слова или словосочетания, а в случае невозможности найти такое соответствие, возместить эту потерю приемом компенсации: В оригинале: “Пришел с работы хозяин, белорус, парень здоровый, с неожиданною для его роста и национальности продувной рожей и характером”. В переводе: “⭧ѫӪл⨝എᶕҶˈ䘉ᱟањփṬڕ༞Ⲵ≹ᆀˈ⭏ቡао䓛ᶀᆼޘн〠Ⲵ⤑⥮䶒ᙗṬ” (букв. Пришел с работы хозяин, это был мужик крепкого телосложения, от природы (по натуре) с телом, совершенно несоразмерным хитрому лицу и характеру).
Необходимо отметить, что сравнения и олицетворения в переводе, благодаря своей семантической структуре, практически всегда являются результатом калькирования и, следовательно, абсолютными речевыми вариантами: В оригинале: “Бойе ее лапой прижал, ухмыляется”. В переводе: “劽㙦⭘⡚ᆀᢺ劬տˈ⵰ۿ൘ㅁ” DŽ(букв. Бойе прижал рыбу лапой, осклабился, будто смеялся).; “Серебристым харюзком мелькнул в вершинах леса месяц�” “ᴸӞ䊑аᶑ䬦匎ᯁ◌Ⲵ劬൘ṁỒཤ䰚㘰Ҷал��”DŽ (букв. Луна, будто пестрая рыбка с серебристой чешуей, сверкнула над верхушками деревьев�).
Поэтому данные стилистические приемы почти всегда точно воспроизводятся переводчиком, за исключением случаев, когда исходное сравнение (или олицетворение), чаще всего метафорическое, отсутствует в принимающем языке или звучит странно с точки зрения носителя языка: В оригинале: “Подвявшие в тепле уши снова ставил топориком” В переводе:
196
“ᆳᢺєਚ൘᳆ቻᆀ䟼✝ᗇлᶕⲴ㙣ᵥ৸ඊᗇㅄⴤ㙣ᵥ৸ඊᗇㅄⴤ㙣ᵥ৸ඊᗇㅄⴤ㙣ᵥ৸ඊᗇㅄⴤ”DŽDŽDŽDŽ (букв. Он, повисшие в тепле комнаты уши, снова закреплял прямо) .
В связи с национальными особенностями стилистических систем разных языков потери отдельных тропов (и, вместе с тем, ослабление метафорической образности) неизбежны. В этом случае переводчику приходится воспроизводить не сам прием, а его функцию, которую он выполняет в оригинале. Для этого используется такой способ перевода как трансформация. В оригинале: “Кроме Кольки, был уже в семье и Толька, а третий, как явствует из популярной современной песни, хочет он того или не хочет, "должен уйти". В переводе: “䲔ҶḟӊԕཆˈᡁԜᇦ䟼䘈ᴹњᢈӊˈഐ↔ᡁቡਚഐ↔ᡁቡਚഐ↔ᡁቡਚഐ↔ᡁቡਚ
ᔰҶᔰҶᔰҶᔰҶ” (букв. Кроме Коли, в нашей семье еще есть Толя, поэтому мне ничего не оставалось, как покинуть семью).
При анализе текста перевода также был обнаружен интереснейший факт: количество фразеологических единиц текста перевода значительно превысило количество аналогичных единиц оригинала: они появились в китайском тексте в результате перевода просторечных слов и словосочетаний, а также диалектных слов. Данный прием позволил переводчикам передать эмоциональную окраску и атмосферу текста оригинала с большей достоверностью. Вот некоторые примеры подобного перевода: полорото - ⷐⴞ㔃㠼 – так опешить (застыть, остолбенеть), что язык отнялся; на причуды гораздая - ᔲᜣཙᔰ – странные фантазии, досужие домыслы. близирничает - 㻵㞄 – ломаться, кривляться рисоваться. Последний пример демонстрирует случай ошибочного перевода, когда переводчик неверно понял значение исходного слова близирничать – “пускать в глаза пыль,
197
обманывать” и перевел наиболее подходящим, по его мнению, к контексту выражением.
Таким образом, здесь можно говорить о таком факте, как «фразеологизация» текста перевода, в целях сохранения образности и стилистических особенностей текста оригинала китайскими языковыми средствами. Данный прием позволил китайским читателям образно воспринимать русские диалектные слова и просторечные выражения в условиях китайских языковых реалий.
В целом фразеологические единицы русского языка при переводе на китайский язык передаются максимально близко к значению оригинала текста, изначально насыщенного диалектизмами, фразеологизмами и просторечными выражениями.
Несомненно, особую трудность при переводе представляет передача антропонимической лексики. При передаче антропонимов ведущим принципом избрана транскрипция, топонимов – собственно перевод либо калькирование (микротопонимы), фоновая же информация практически остается недоступной китайскому читателю, что приводит к потере очень важных смысловых связей изначально непростого астафьевского текста.
Например, фраза “Записываясь в школу, Акимка повеличал себя Касьянычем” - для русского читателя не представляет труда, тогда как китайскому читателю, если он специально не знакомился с традицией русского именования, этот поступок героя не понятен. Переводчик попытался объяснить ситуацию, вставив в китайский текст слово «⡦〠», аналог русского слова «отчество», но так как по-китайски это звучит как «имя отца», то смысл переводной фразы – «Записываясь в школу, Акимка назвал имя отца Касьяныч», то есть сказал, что его отца зовут Касьяныч. Таким образом, в тексте перевода имена Касьян и Касьяныч
198
ассоциируются с образом отца героя: налицо фактическая ошибка.
Произведение В. П. Астафьева отличается большим разнообразием речевых характеристик. Так, речевая характеристика одного из главных героев повести «Царь-рыба» Акима включает в себя диалектную шепелявость, обращение «пана» и ругательство «ё-ка-лэ-мэнэ». Эмоциональность речи, скандирование, крик передается обычно при помощи дефисного написания слов, удвоения и даже утроения букв. Речевые характеристики, кроме социальных и индивидуальных признаков, обладают внутритекстовыми значениями, что необходимо учитывать при переводе. В китайском переводе повести используется литературный китайский язык (путунхуа) для авторской речи и хэйлунцзянский диалект для перевода речи персонажей. При этом утрачивается значимое для анализируемого произведения противопоставление «взрослых» и «невзрослых». Таким образом, при переводе было утрачено важное стилистическое средство, направленное на создание образа «северного человека» – простого, наивного, доверчивого как ребенок.
Для перевода эмоционально окрашенных образов оригинала фонетическими средствами используются соответствующие средства китайской графики: Пор-р-рядок! ⵏ——ἂ——ʽ(Действительно здорово!); Исключение составляют случаи удвоения букв, передающие растягивание слов или особую, ироническую, интонацию. Это графическое средство не может быть сохранено в переводе в связи с особенностями китайской графики: Е-ка-лэ-мэ-нэ-э! ଏଏʽ(О-ё-ёй!).
Анализ основных переводческих приемов показывает, что в большинстве случаев образные средства, используемые автором, сохраняются в переводе. При этом часто переводчик применяет
199
приемы смыслового развития и целостного преобразования как наиболее творческие из всех видов трансформаций, что позволяет сохранить функцию образа исходного языка в переводе. В тех случаях, когда невозможно сохранить троп из-за грамматических и стилистических особенностей китайского языка, переводчику приходится прибегать к описательному переводу, а затем пытаться компенсировать потерю метафорической образности путем введения в текст перевода дополнительных образов, усиливающих экспрессию. Что касается сохранения в переводе особенностей речевой характеристики персонажа литературного произведения, то такой перевод должен опираться на филологический анализ текста с тем, чтобы сохранить не только социальные и индивидуальные признаки речи персонажа, но и внутритекстовое значение этих особенностей. Переводчикам «Царь-рыбы» не удалось осуществить эту задачу. Та же неудача постигла их и при переводе имен собственных, а именно в передаче той фоновой информации, которую несёт в себе имя собственное, что привело к утрате очень важных смысловых связей. Оптимальным переводом и в том и другом случае могла бы явиться компенсация как способ сохранить и передать значимые компоненты речевой характеристики персонажа.
Несмотря на все недостатки переводного текста, следует все же отметить, что для китайских читателей, не владеющих русским языком, это единственная возможность получить представление о творчестве сибирского самобытного писателя В.П. Астафьева, недоступного им в оригинале.
Литература:
Агапова С.А., Самотик Л.Г. (1999) Создание образа партнера межнационального общения средствами перевода художественного текста В кн.: С.А.Агапова, Л.Г. Самотик// Молодежь и пути России к
200
устойчивому развитию. Тезисы докладов. Республиканская школа-конференция. Красноярск, c. 108-110. Астафьев В.П.(1993).Царь-рыба / В.П. Астафьев. Красноярск: Гротеск, 384 с. Бреева Л. В., Бутенко А. А. Лексико-стилистические трансформации при переводе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.belpaese2000.narod.ru/Trad/trasform01.htm Робонен, Е. В. (2005) Международные связи В. П. Астафьева В кн.: Феномен В. П. Астафьева в общественно-культурной и литературной жизни конца ХХ века: Сб. материалов I междунар. науч. конф., посвящ. творчеству В. П. Астафьева. Красноярск, 7-9 сент. 2004г. / отв. ред Г. М. Шлёнская; Краснояр. гос. ун-т. Красноярск . С.221-225. Шленская, Г. (1999) Слово, которое нельзя было не сказать . День и ночь.№2. С.68-71. 亜•㜿᪁ሪ⳼⪨ኵ 氤⋤ ኟ௰⩼ ▼ᯖᕝ➼孹//ᾏ㸪1982. – 590 с.
201
Фарид Рафик оглу Новрузов
ПРИЁМЫ ПЕРЕВОДА МИФОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА ИНДИЙСКОГО ЭПОСА НА
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК) Аннотация: Статья посвящена исследованию приёмов перевода мифологического текста. Анализу подвергается перевод индийского эпоса на азербайджанский язык, предназначенный для детского возраста.
Известно, что большинство эпических произведений состоят из мифологических сюжетов. Порой некоторые авторы-составители пытаются подойти к этим сюжетам с точки зрения пересказа их для определенной категории читателей. Естественно, что в данном случае их следует расценивать не как собственно переводы, а как его разновидность - перевод-пересказ. Но, в любом случае, вне зависимости от цели переводчика мы перед собой имеем текст, который может быть взят за основу для последующего перевода на другой язык. В таком случае к анализу данного текста применимы все требования теории и практики перевода. Так, в книге "Махабхарата, или Сказание о великой битве потомков Бхараты / Пересказ для детей и предисловие Н.Гусевой" автор предисловия пишет: "Я пересказала эту поэму для вас, дорогие ребята, чтобы вы узнали не только ее сюжет, но и мифологию древних индийцев и их высокие представления о чести и долге. Я старалась также отбирать из огромного количества разных эпизодов только те, которые наиболее известны в Индии и которые легли в основу многих произведений, создававшихся индийскими поэтами, художниками и скульпторами на протяжении нескольких тысячелетий. Стихи в этой книге не являются переводом строф памятника. Это просто
202
стихотворное изложение мыслей, навеянных всем духом поэмы"[Махабхарата, 1984: 10]. Взяв за основу оригинал этой книги, переводчик Натиг Сафаров перевел ее на азербайджанский язык. Нет нужды распространяться по поводу значимости перевода этого памятника художественной литературы, которая относится к сокровищницам мировой литературы, для азербайджанского читателя достаточно отметить лишь то, что сюжеты его нашли свое отражение в последующем в разных национальных литературах, адаптированных к собственной действительности. С сожалением следует отметить, что в дальнейшем к этому индийскому памятнику азербайджанские переводчики не обращались. Поэтому, на наш взгляд, обращение к переводу данного текста, имеет еще одну цель: способствовать появлению в дальнейшем более совершенных переводов индийского эпоса "Махабхарата". Добавим к сказанному еще один примечательный штрих, который, по нашему мнению, является одним из форм привлечения к переводу профессиональных поэтов для передачи стихотворных текстов. В данном случае поэтические тексты, стихотворные фрагменты даны в переводе Чингиза Алиоглу.
Попытаемся на одном из фрагментов текста проиллюстрировать приведенные выше теоретические посылки перевода.
Оригинал: "Начинается сказание о древних героях, об их доблестях и добродетелях, о подвигах и победах.
Начинается сказание о битве, которая разгорелась как пламя, пожирающее жертвы, и охватила все народы, жившие от края и до края океана.
Кто побеждает в смертельном сраженье? Истинным подвигом что называется? В споре неравном кто правым бывает? В песнях кого прославляют на свете?
203
Тот, кто себя для других не жалея, Бьется за чистую, светлую правду, Тот побеждает в смертельном сраженье. Истинным подвигом люди считают Бой без сомнений и колебаний С темными силами зла и коварства. Правым останется в споре неравном Тот, кто, не ведая черной корысти, К благу людей всей душою стремится. Тех прославляют в легендах и песнях, Кто благороден, бесстрашен и честен, Где бы ни жил он и кем бы он ни был"
[Махабхарата, 1984: 11]. Перевод: "Qədim qəhrəmanlar, onların rəşadəti
və nəcib əməlləri, hünər və qələbələri barədə hekayət başlanır.
Okeanın o sahilindən bu sahilinəcən bütün xalqları meydana çəkən, qurbanlarını yandırıb külə döndərən, əlov kimi dörd bir yanı bürümüş vuruş barədə hekayət başlanır.
Ölüm-dirim cəngində, de, kimdir düşməni yıxan Əsl şücayət nədir bu dünyada, görəsən? Ciddi mübahisədən bəs kimdir qalib çıxan? Ötdüyün bu nəgməni kimə həsr eyləmisən? Kim ki, elin yolunda can yandırır-yaxır Həqiqətin uğrunda qızıl qanından keçir Ölüm-dirim canından həmişə qalib çıxır. Bu düyada,yəgın ki, əsl, böyük şücayət Zinakar haqsızlığa, zülmə, zülmətə qarşı Düşdü hər an qalib gələn qudrətdir, qudrət.
204
Öz xeyrini görməyib, öz elini düşünən,Юз Qəlbi qara həsəddən, könlü aç bir həsrətdən Uzaq adamı qalıb görmüşəm çarpışda mən.
O nəcib qəhramanlar, ölməz, dillərdə yaşar, Unutmaz el yaddaşı, qərinələr ötsədə, Adına dastan bağlar, şəninə nəğmə
[Mahabharata, 1988:5]. Следуя сказовой форме исходного текста,
переводчик не только сохраняет слово "начинается", но и дает его повтор во втором абзаце. Кроме того, передается целый ряд сочетаний, которые в форме зачина настраивает читателя на раскрытие их в последующем повествовании: "о древних героях, об их доблестях и добродетелях, о подвигах и победах" - "qədim qəhramanlar, onların rəşadəti və nəcib əməlləri, hünər və qələbələri barədə"; "о битве, которая разгорелась как пламя, пожирающее жертвы, и охватила все народы, жившие от края и до края океана" - "Okeanın o sahilindən bu sahilinəcən bütün xalqları meydana çəkən, qurbanlarını yandırıb külə döndörön, alov kimi dörd bir yanı bürümüş vuruş barədə".
Второй абзац с сохранением семантического ряда сохраняет синтаксис языка перевода, создавая тем самым условия эквивалентного понимания фрагмента текста инонациональным читателем.
Следует сказать, что поэтический текст, следующий за прозаическим, представляет собой более сложный процесс трансформации, требующий от переводчика профессиональных навыков поэта. Может быть, именно эта причина побудила переводчика Натига Сафарова доверить его поэту, от чего, несомненно, поэтический перевод выиграл.
В первую очередь, необходимо отметить, графическое сохранение особенностей поэтического текста: в целом все знаки препинания сохранены,
205
что, соответственно, способствует адекватной тональности:
"Кто побеждает в смертельном сраженье? Истинным подвигом что назовется? В споре неравном кто правым бывает? В песнях кого прославляют на свете?" "Ölüm-dirim cəngində, de, kimdir düşməni yıxan? Əsl şucayət nədir bu dünyada, görəsən? Ciddi mübahisədən bəs kimdir qalib çıxan? Ötdüyün bu nəğməni kimə həsr eyləmisən?" Повторы первой строки первой строфы -
"побеждает в смертельном сраженье" - и последней строки второй строфы переданы эквивалентно с большим мастерством - "ölüm-dirim cəngində".
Так, важный в стихотворном тексте звуковой ряд, выражается хотя и иными звуками, но презентует читателю перевода полноту слуховых и чувственных ощущений. Примером могут служить четвертая и пятая строфы:
"Правым останется в споре неравном Тот, кто, не ведая черной корысти, К благу людей всей душою стремится. Тех прославляют в легендах и песнях, Кто благороден, бесстрашен и честен, Где бы ни жил он и кем бы он ни был". Öz xeyrini görməyib, öz elini düşünən, Qəlbi qara həsəddən, könlü aç bir həsrətdən Uzaq adamı qalıb görmüşəm çarpışda mən.
O nəcib qəhramanlar, ölməz, dillərdə yaşar,
Unutmaz el yaddaşı, qərinələr ötsədə, Adına dastan bağlar, şəninə nəğmə qoşar”.
206
Звуковая "перекличка" в первой строке "рав" в
словах "правым", "неравном" соотносятся со звуками "həs" в словах "həsəddən", "həsrətdən", в последней строфе звуковые сочетания "прос", "ес" в словах "прославляют", "песнях" и "бесстрашен", "честен" заменяются в переводе на "gah – gər", "yaş - yad - daş" в словах "qəhramanlar", "qərinələr" и "yaşar", "yaddaşı". Необходимая трансформация фонетического характера ничуть не снижает ритмико-интонационную фактуру исходного текста. Тот же эффект наблюдается в третьей строфе. Звук "с", ярко выраженный в словах "истинным", "считают", "сомнений", "с", "силами", "коварства" в сочетании со звонким "з" (без, злала) в переводе глухие согласные заменяются исключительно звонкими "zinakar, haqsızlığa, zülmə, zülmətə". Существенным добавлением к приведенному звуковому ряду является усиление слова "qudrətdir" ("подвиг") повтором "qudrət". Если быть более придирчивым к исходному тексту, то повтор последнего не существует в нем. Однако поэт-переводчик именно повторением корня слова пытается достигнуть искомого воздействия на читателя.
Таким образом, aнализ фрагментов исходного и переводного текстов дает нам возможность проиллюстрировать определенные уровни достижения эквивалентности.
Интересно, что с подобными соответствиями мы встречаемся на примерах из других мифологических текстов. Литература: Махабхарата, или сказание о великой битве потомков Бхараты. (1984) М.: Детская литература, 222 с. Mahabharata və ya Bharata övladlarının böyük vuruşları haqqında dastan. (1988) Baki. Gənclik, 168s.
207
Alexander Pavilch
MODERN PARADIGM OF COMPARATIVE STUDIES OF CULTURE: THE PROBLEM OF
THEORETICAL RECEPTION
Abstract: The article reflects the experience of the development and the representation of comparative knowledge. In the article the experience of the formation of comparative culturology as a research paradigm is analyzed, the basic directions of comparative culture research are defined and methodological ways of thinking over intercultural differences are determined. The connection of the comparative cultural studies subject sphere and the intercultural discourse practice is proved by the direct relation of comparative knowledge and studying of the semantics of similarities and differences, of various forms of intercultural communications. The intercultural discourse is a projection of interactive processes of socio-cultural dynamics in synchronic and diachronic aspects. The processes of transformation and modernization of the socio-cultural space caused new tendencies in modern comparative cultural studies.
Аннотация: Современная парадигма компаративных исследований культуры: проблема теоретической рецепции. Статья отражает опыт развития и репрезентации компаративного знания. В статье анализируется опыт становления культурологической компаративистики как исследовательской парадигмы, определяются основные направления сравнительных исследований культуры и методологические подходы к осмыслению межкультурных различий. Связь предметной сферы культурологической компаративистики с межкультурным дискурсом обосновывается непосредственным отношением культурологического знания к изучению семантики сходств и различий, разнообразных форм межкультурной коммуникации. Межкультурный дискурс является проекцией интерактивных процессов социокультурного пространства в синхроническом и диахроническом аспектах. Процессы трансформации и модернизации социокультурного пространства
208
обусловили новые тенденции в современных компаративных исследованиях культуры.
The paradigm of comparative studies of culture
originated in the context of an implicit understanding of culture diversity and formed consistently as a result of philosophical argumentation and logical justification of the pragmatic sense of comparison of multicultural reality facts in the process of formation and subsequent transformation of comparative research model in the Western anthropology. In the context of comparative studies the original definition of culture is based on its interpretation as a distinguished integrity and qualitative certainty.
The term of comparative culturology (lat. comparatio – comparison, confrontation; comparativus – comparative) has multi-aspect content, which is conveyed through simultaneous definition of the scientific sphere and the research paradigm. If to consider comparative culturology to be a sphere, its Russian equivalent will be сравнительная культурология. Comparative culturology as a paradigm, on the one hand, is an organization model of culture research, which includes the set of theoretical aims, methodological approaches, and, from the other hand, is a system of fundamental knowledge, obtained on the basis of comparative study of cultural phenomena.
The nominal discrepancy of branches of scientific knowledge about the culture, the inadequacy of their meta-languages, inconsistent use of terminology in the Western and post-Soviet (Russian) tradition hinder complete perception and conceptualization of paradigm of comparative studies of culture [Павильч А.А. 2011: 228]. English names entrenched to indicate different aspects of comparison (comparative studies, multicultural studies, cross-cultural studies) are characterized by polysemy and inconsistent use. In the literature cross-cultural research is often viewed as a
209
terminological equivalent of comparative studies, which, however, does not exhaust the essence of the comparative paradigm [Hopkins T.K., 2006: 3–44].
The West has been conducting polemic about the degree of originality and inviolability of the problematic areas of comparative studies of cultural phenomena in various fields of social science [Ragin C., 2000: 159–178; Schmaus W., 2007: 429–458]. The complexity of division of subject fields of comparative research in many social sciences and humanities is due both to the polysemy of notion culture and the impossibility of absolute differentiation of the concepts social and cultural. The absence of clear boundaries of the concept social (socio-cultural) differences makes it difficult (if not eliminates) the possibility of division of competences between the branches of comparative studies, as well as determines the multiplicity of definitions of their subject areas.
Structural-substantive logic and experience in comparative studies of culture allow to identify their competence with intercultural discourse analysis involving the correlation of sociocultural systems, civilizational complexes, historical, regional, ethno-national, confessional types of culture. The essence of intercultural discourse is usually reduced to the interaction (dialogue) of cultures (J. Habermas). In the context of comparative studies it is appropriate to identify intercultural discourse with the representation and reflection of similarities and discrepancies in the texts of different cultures, as well as with the projection of the interactive processes in the synchronic and diachronic aspects [Павильч А.А. 2011: 124–129].
The concept of interactivity as a whole is not limited to the facts of the interaction of discourses themselves and simultaneously implies the ability of textual integrity to the reception of multicultural reality and its communicational processes. Intercultural discourse cannot be reduced to a discourse of multiculturalism. Intercultural discourse is a more
210
complicated meta-category associated with the construction of the discourses of analogy, similarity, and interaction (dialogue) of different cultures. It involves the correlation of cultural texts (in the broad sense) in order to establish parallels and contrasts between them, and thereby compared discourses can be completely closed for the interaction.
Systemic representation of comparative studies of culture reflects the following levels of scientific analysis, confirming the compatibility of the comparative interpretation of empirical data and subsequent theoretical generalizations: private studies, including the correlation of individual artifacts, forms, structural components, types of culture; classification and typology of the results of a comparative analysis of the facts of culture, the correlation of the concepts and categories that form the basis of different thesauri of cultural systems, the identification of the degree of equivalence of languages of their description; the construction of the genotypes of culture; development of meta-language of similarities and differences, which is most adequate to the content of intercultural discourse and the realities of communicative practice.
Comparative model of interpretation of culture, which took shape in the western anthropology before the mid 20th century, subsequently developed in specialized fields of social and human sciences. Paradigmatic changes in the socio-cultural environment led to the emergence of new research priorities and contributed to the shift to solving the urgent problems of the modern society. The transformation of the paradigm of comparative studies of culture research is expressed in the increasing complexity of their structure and content, modernization and correction of problem fields, implementation of new scientific principles and methodological approaches in the analysis.
Common trends in the modern comparative studies testify to integrative ways of solving the problem of meeting and constructive coexistence of cultures in a
211
heterogeneous society, while the comparative research projects in the Western anthropology of the 19th – early 20th century focused primarily on the study of life in traditional societies. Scientific interest in them was often motivated by the colonial policy of the Western world that needed a comprehensive knowledge of territories and peoples conquered by the Europeans to further establish its dominance. However, in modern comparative studies, in comparison with the anthropological tradition, the role of direct observation and experience of textual analysis greatly diminished, which is explained by numerous opportunities and resources of information space under the influence of media centralism, although these alternatives are not always convincing in terms of their factual accuracy and contents depth.
Modern comparative paradigm is notable for syncretism of searches which are characterized by the integration of methodological potential, generality of issues and problems of philosophical, anthropological, sociological, psychological, religious studies and greatly correspond to the essence of culture as a subject of multi-dimensional study. But unlike the classical scheme of a staged comparative analysis, the desire to simplify its structure becomes appreciable. Comparative interpretation of the realities of the contemporary culture is often reduced to a philosophical reflection of its facts, phenomena and events, and becomes isolated in it as in the primary task of comparative studies, and, hence, comparative intentions dissolve in the form of philosophical essays, which occupies an intermediate position between scientific essays, fiction and independent journalism.
The range of problems of modern comparative studies reflects susceptibility to the processes and outcomes of globalization and integration in the world, which is confirmed by a noticeable shift of research interests from the dimension of the diachronic interpretation of cultures (comparison of ancient
212
civilizations, comparison of different historical and cultural epochs) to the area of synchronic relationships of local and religious cultures. In this connection, the focus is transferred to the detection of morphological, structural and functional changes in the environment of national cultures, the study of the transformation of ethno-cultural traditions and the determination of their status in contemporary society, the study of various aspects and methods of co-existence and interaction of cultures within the same time limit.
Meta-textual level of intercultural discourse analysis reflects the theoretical generalization of the empirical reality facts relating to the perception of a multicultural environment, identity of its representatives, mechanisms distinguishing cultural integrities, the degree of their typological similarity or incompatibility, ways of coexistence and interaction. Theoretical reception of cross-cultural differences is represented by philosophical, semiotic, psychoanalytic interpretations of cultural distance, its ontological essence is determined by the morphological discrepancies of different cultural integrities.
According to the degree of thoroughness of their research and conclusions, current studies of cultural differences are significantly lower than theoretical generalizations from the representative of different traditions of classical and non-classical philosophy which have fundamental character and preserve the status of postulates. German classical philosophy marked the beginning of a fundamental study of ethno-cultural differences and the identification of system constants of the national culture, thus anticipating the research in the Western anthropology in the 19th – 20th centuries and preparing a theoretical basis for a comparative analysis of ethno-psychological aspects of the culture of different societies [Павильч А.А., 2011: 187–199]. Logical structures in German classical philosophy are distinguished by the integrity of the design of individual morphological models based on the
213
identification of typological similarities and persistent differences in the compared local cultures.
The model of cross-cultural studies common in modern scientific practice often allows assertion of discrepancies or similarity in correlated cultures taking them out of private, sporadic, changing facts. At the same time, as the basic criteria of the differentiation of cultures the dominance is taken by the characteristics which are not quite convincing and do not exhaust personality and uniqueness of culture, such as moral behavior, intellectual ability, financial prosperity, material well-being, etc. In the study of the nature and content of cross-cultural difference in the various fields of science contextuality, the degree of their stability are not always taken into consideration, the relativeness of personal and psychological characteristics, the variability of the national character and social behavior are not taken into account. Sometimes an ordinary statistical analysis, opinion poll, or test having shallow character and remaining without further comparative interpretation and theoretical generalization are presented as cross-cultural studies.
The pragmatic meaning of comparative studies of culture is expressed in the search for constructive language of interaction [Эко У., 2009: 11], the possibility of which is complicated by the diversity and variability of cultural paradigms, due to inadequate perception of cultural pluralism and the approval of new models of social and cultural reality in the era of global changes [Гидденс Э., 2004: 20].
The theoretic interpretation of multicultural reality is attended by working out the meta-language of intercultural differences and interactive processes in the cultural space. The comparative approach is an important methodological instrument in the theoretic development of the problems of intercultural communication and communicative culture of interaction.
214
Simulation of an intercultural dialogue and formation of a communicative culture are quite topical in the conditions of a social, ethno-national and confessional diversity of modern society. The communicative culture covers a range of knowledge, abilities, and skills, reflexive capacities which are basic in the intercultural competence and ensure efficiency of intercultural contacts. The communicative culture as a level of successful organization of interaction in the multicultural situation along with appropriate speech training supposes a grasp of knowledge of peculiarities of a communicative style, which is typical to one or another socio-cultural system and which identifies intercultural differences which can become a significant communicative barrier.
Literature
Hopkins T.K. (2006) The Comparative Study of National Socienties // Comparative Methods in the Social Sciences; ed. A. Sica. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publ. Vol. 3. P. 3–44. Ragin C.(2006) Comparative Sociology and the Comparative Method // Comparative Methods in the Social Sciences; ed. A. Sica. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publ. Vol. 3. P. 159–178. Schmaus W. (2007) Categories and Classification in the Social Sciences // Philosophy of Anthropology and Sociology; ed. S.P. Turner, M.W. Risjord. Amsterdam: Elsevier. P. 429–458. Гидденс Э. (2004) Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь; пер. с англ. М.: Изд-во «Весь мир». 120 c. Павильч А.А. (2011) Становление и трансформация статуса культурологической компаративистики. Минск: МГЛУ, 260 с. Эко У. (2009) Поиски совершенного языка в европейской культуре; пер. с итал. СПБ.: Александрия, 423 с.
215
Валентина Разумовская
ИНФЕРНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ «МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ»: СЕМАНТИЧЕСКИЙ И
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: В настоящей статье анализируются некоторые инфернальные образы мистического романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Художественный образ рассматривается как уникальная единица художественного перевода, являющаяся носителем культурной и эстетической информации. Материалом исследования послужили четыре английских перевода романа. Abstract: “Infernal images of “The Master and Margarita”: semantic and translation aspects”. The present article studies a number of infernal images of the mystic novel by M.A. Bulgakov “The Master and Margarita“. The literary image is considered to be as an unique unit of literary translation, conveying cultural and aesthetic information. Four English translations of the novel serve as the material of the study.
Многовековая история художественного
перевода наглядно свидетельствует о том, что наряду со стремительным ростом числа переводимых художественных текстов практически в каждой национальной литературной традиции представлено определенное количество текстов, которые являются национальным культурным достоянием и участвуют в формировании текстовых и культурных решеток отдельных культур [Bassnett S., Lefevere A. 1998]. Данные ключевые тексты, несомненно, выступают популярными объектами художественного перевода, образуя известные центры переводческой аттракции. Будучи вовлеченными в интенсивный процесс культурного взаимодействия, взаимовлияния и культурного обмена, такие тексты неизбежно выходят за границы
216
своего языка и своей культуры и становятся мировым культурным достоянием, которое доступно для всего человечества.
Одним из ключевых художественных текстов русской культуры, несомненно, является роман «Мастер и Маргарита». Последний роман М.А. Булгакова, датируемый 1940 годом, справедливо считается одним из выдающихся художественных произведений русской литературы XX века. Роман регулярно включается в списки выдающихся художественных произведений всех времен и народов: 1999 – газета «La Monde», 2003 – список BBC, 2010 – «Независимая газета». Будучи опубликованным в 1966-1967 годах (более чем через четверть века после смерти автора), уже в 1967 году роман начинает выходить в свет в различных странах мира в переводах. Эстетическая и художественная ценность текста, своеобразие поэтического языка автора, устойчивый интерес к сложным сюжетным линиям и ярким персонажам романа генерируют многочисленные иноязычные переводы «Мастера и Маргариты». Вторичные переводные тексты культового романа были созданы и продолжают регулярно появляться как в родственных и неродственных лингвокультурах, а также и в пределах одной лингвокультуры. В настоящее время известно семь переводов романа на английский язык, выполненных в США и Великобритании, восемь китайских переводов; существуют многочисленные немецкие, французские, испанские, польские, украинские переводы, а также переводы на множество других языков современного мира. Интересно отметить, что в Японии роман впервые был переведен уже в 1969 году Юко Ясуи и опубликован под названием «Дьявол и Маргарита» (перевод выполнен с уже опубликованного итальянского перевода). В 1977 году появляется перевод Т. Мидзуно. В 2000 году третий японоязычный вариант романа «Мастер и
217
Маргарита» был опубликован в двух томах. Существует перевод романа и на язык эсперанто. Текст мистического романа М.А. Булгакова неоднократно выступал объектом межсемиотического перевода (по Р. Якобсону): театральные постановки, оперы. Известно восемь киноадаптаций романа. Первой экранизацией был фильм «Пилат и другие» А. Вайды (1971год, ФРГ). Последняя киноверсия («Мастер и Маргарита») снята В. Бортко (Россия) в 2005 году. Многие киноверсии романа в дальнейшем дублировались для проката в зарубежных странах, что может быть квалифицировано как межъязыковой перевод креолизованного кинотекста романа, являющегося результатом межсемиотического перевода.
Историография переводов романа наглядно свидетельствует, что нередко один переводчик в различные периоды своей профессиональной деятельности неоднократно обращался к русскому оригиналу и предлагал не только новые редакции сделанного им ранее перевода, но и практически новые версии. Несмотря на существование большого количества иноязычных интерпретаций булгаковского текста, «Мастер и Маргарита» продолжает оставаться «зоной риска» и «зоной творческого поиска», предоставляя широкие возможности для толкования текста-шифра не только читателям, литературоведам, лингвистам, но и профессионалам в области перевода. Каждый новый перевод становится, по сути, новым прочтением романа.
Проблематика выбора эффективных переводческих стратегий напрямую связана с вопросами выделения единицы перевода – «вечными» вопросами переводоведения. Можно утверждать, что в художественном переводе представлен уникальный вид единицы перевода – художественный образ, что обусловлено самой спецификой художественного текста, его
218
функциональными особенностями. Рассмотрение художественного образа как самостоятельной единицы перевода определяется тем обстоятельством, что именно относительно данной единицы переводчик принимает решение на перевод. По своим системно-структурным характеристикам художественный образ представляет собой гетерогенную гиперединицу (единицу-гипероним), конституируемую набором более мелких гипонимических единиц. Задача переводчика состоит не только в нахождении наиболее адекватных иноязычных эквивалентов для единиц, конструирующих художественный образ в языковой ткани оригинала, но и в воссоздании в переводе всех эксплицитных и эксплицитных связей, которыми данные единицы обладают. Переводчику необходимо реконструировать весь информационно-художественный (эстетический) комплекс, который генерирует столь сложную и неоднозначную информационную единицу и единицу перевода как художественный образ. Художественный образ, являясь художественной универсалией, имеет буквальный смысл и характеризуется определенной степенью обобщения и расширения [Аверинцев С.С. 1971]. Вырастая из чувственного образа, художественный образ обладает семиотической потенцией и порождает разнообразные знаки и семиотические понятия, структура которых создается взаимодействием двух принципиально разных планов – плана содержания и плана выражения [Арутюнова Н.Д. 1990: 22].
В романе «Мастер и Маргарита» представлена крайне сложная и многоплановая система художественных образов, которые могут быть объединены в отдельные группы на основании различных принципов (писатели, зрители варьете, жители Ершалаима, жители Москвы и т.д.) и закрепленных за ними сюжетными функциями. Наиболее яркой и регулярно встречающейся в
219
тексте романа группой является группа художественных образов инфернальных персонажей. Члены дьявольской свиты дополняют один из центральных образов романа – образ Воланда (Сатаны) и символизируют собой различные человеческие пороки и страсти. Инфернальные образы романа неоднократно становились объектами исследования литературоведов, культурологов и лингвистов [Барков А.Н. 1994; Гаджиев М.А. 2007: Ковалев Г.Ф. 1993; Сидорова Е.Г. 2004; Яновская Л.М. 1987]. Поскольку «Мастер и Маргарита» и многочисленные переводы романа формируют обширный центр переводческой аттракции, то новым и актуальным аспектом исследования инфернальных образов выступает аспект переводческий.
Самым ярким и запоминающимся инфернальным персонажем романа, несомненно, является кот Бегемот. В отличие от определенной схематичности и некой незавершенности образов главных героев, образ кота представлен в тексте романа со многими запоминающимися подробностями, мельчайшими деталями, которые способствуют наиболее полному восприятию данного образа читателями. Нереальный персонаж приобретает реальные человеческие черты, поведенческие и речевые характеристики, что делает образ кота эмоционально интересным и притягивающим внимание. Семантика образа Бегемота, а также семантика крайне противоречивого демонического образа Азазелло, представленная в оригинале и в английских и китайских переводах, уже являлась объектом наших специальных исследований [Разумовская 2012а; Разумовская 2012b]. В настоящем статье рассматривается семантика художественных образов двух других второстепенных инфернальных персонажей – Коровьева-Фагота и Геллы. Материалом исследования стали оригинал
220
[Булгаков М.А. 2011] и четыре английских перевода романа [Bulgakov M. 1987; Bulgakov M. 1995; Bulgakov M. 2008; Bulgakov M. 2011].
Коровьев-Фагот является старшим из подчиненных Воланду демонов, первым помощником в разоблачении человеческих пороков. Он одновременно и черт и рыцарь («темно-фиолетовый рыцарь»), поскольку Воланд и члены свиты используют в качестве обращения к нему слово «рыцарь». Если быть более точным, то соответствующую рыцарскую внешность данный персонаж получает только в сцене последнего полета. Возникнув из необычно знойного майского воздуха («соткался из воздуха», «вылепился из жирного зноя»), в московской жизни Коровьев представляется как переводчик при профессоре-иностранце и бывший регент церковного хора. М.А. Булгаков дает следующее описание внешности персонажа в первых главах романа: «...прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая» [Булгаков М.А. 2011: 6]; «...усишки у него, как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брюки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки» [Булгаков М.А. 2011: 46].
Два приведенных выше отрывка представляют собой первые описания внешности Коровьева-Фагота и поэтому они являются крайне важными для восприятия и понимания данного художественного образа читателями. Переводчики английских текстов практически единодушны в выборе следующих переводческих эквивалентов: «прозрачный» – «transparent»; «клетчатый» – «checked / checkered (Карпельсон)»; «жокейский картузик» – «jockey / jockey’s cap»; «ростом в сажень» – «seven feet tall»; «в плечах узок» – «narrow
221
in the shoulders / narrow-chested (Карпельсон)»; «худ» – «thin / lean (Гинзбург)»; «усишки» – «moustache / mustache»; «куриные перья» – «chicken feathers / chicken-feather»; «полупьяные» – «half-drunk»; «брюки клетчатые» – «checked trousers / checkered trousers / trousers of checkered material»; «грязные белые носки» – «dirty white socks». В целях создания художественного образа Коровьева автор оригинала широко использует уменьшительные существительные («головка», «картузик», «пиджачок», «усишки», «глазки»), а также регулярно сочетает данные существительные с прилагательным, передающим понятие малого размера («маленький»). Морфологические особенности имен существительных английского языка не позволяют передать смысл «мало», представленный в соответствующих единицах оригинала, путем словообразования. В арсенале переводчиков имеются только прилагательные «small», «little», «tiny», «wispy». Большие расхождения обнаруживаются при переводе экспрессивно-маркированной лексики: «престранного вида» – «of most bizarre appearance» (Бургин и О’Коннор), «of very strange appearance» (Альпин), «of the strangest appearance» (Карпельсон; Гинзбург); «физиономия � глумливая» – «his face had a jeering look» (Бургин и О’Коннор) , «a physiognomy � that was mocking» (Альпин), «insolent mug» (Карпельсон), «a jeering expression on his physiognomy» (Гинзбург); «глазки маленькие, иронические» – «beady little eyes» (Бургин и О’Коннор), «eyes were small, ironic» (Альпин; Гинзбург), «sardonic little eyes» (Карпельсон). С нашей точки зрения наиболее удачными переводческими решениями, передающими особенности и полноту художественного образа оригинала, являются следующие: «of most bizarre appearance», «a jeering expression on his physiognomy», «beady little eyes». В английских
222
переводах полностью утрачен культуроним «сажень».
В анализируемых отрывках имя собственное «Коровьев-Фагот» отсутствует. Для номинации персонажа в переводе Карпельсона используется единица «gentleman»; у Бургин и О’Коннор – «man». Вариант «citizen», представленный у Альпина и Гинзбург, наиболее точно соответствует единице оригинала «гражданин».
В булгаковедении традиционно считается, что имя персонажа восходит к фамилии героя Ф.М. Достоевского «Коровкин». Известно, что художественный образ Коровьева-Фагота имеет несколько литературных и демонологических прототипов, представленных как в русской, так и в зарубежной культуре и литературе, а также реальных прототипов среди знакомых автора романа [Соколов, 2000]. В отличии от всех других имен инфернальных персонажей, имеющих явное иноязычное происхождение (итальянское – «Азазелло», немецкое – «Воланд», «Гелла», библейское – «Бегемот») и сигнализирующих об «иностранности» носителей данных имен, имя «Коровьев» имеет русскую этимологию, что выделает его носителя из свиты профессора-иностранца. Он менее других является демоном и более других членов свиты Воланда похож на реального человека. Определенная принадлежность героя к «чужому», «иностранному» миру обеспечивается его профессией – переводчик, а также вторым именем. Во всех анализируемых английских переводах профессия героя обозначается лексической единицей «interpreter», служащей для обозначения переводчика, выполняющего устные переводы. Таким образом, при переводе был использован прием конкретизации понятия. Исходя из речевого портрета Коровьева, можно предположить, что устный перевод более близок герою по его психо-физиологическим
223
характеристикам, коммуникативным навыкам. Второе имя («Фагот») происходит от названия музыкального инструмента, поскольку фигура персонажа обладает определенные сходства с данным инструментом – длинный, тонкий, сложенный втрое. В английских переводах антропоним «Коровьев» имеет несколько вариантов: «Koroviev» ( Карпельсон и Гинзбург) , «Korovyov» (Бургин и О’Коннор), «Korovyev» (Альпин), что соответствует вариативным возможностям транслитерации русского имени собственного средствами системы английского языка и отражает особенности восприятия «трудного» русского имени носителями английского языка. Второе имя «Фагот» передано во всех переводах вариантом «Fagot», передающим звуко-буквенный образ русского слова оригинала. Переводчики не использовали английское обозначение музыкального инструмента «bassoon», что, несомненно, ведет к потере образности оригинального антропонима. В анализируемых английских переводах имя данного персонажа в переводческих комментариях не объясняется.
Гелла – это образ женщины-вампира. По сравнению со старшим демоном Коровьевым героиня занимает в инфернальной иерархии свиты самую нижнюю ступеньку (относится к низшему разряду нечистой силы), что, вероятно, и объясняет отсутствие данной героини в сцене последнего полета. Гелла участвует только в ряде сцен романа (но, несомненно, сцен ключевых) – сцена в Театре Варьете, сцена Великого бала у Сатаны, сцены в нехорошей квартире. В тексте романа представлено следующее описание внешности героини: «�совершенно нагая девица – рыжая, с горящими фосфорическими глазами» [Булгаков М.А. 2011: 117]; «Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее�»
224
[Булгаков М.А. 2011: 131]; «Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове � сложением � безупречным� зеленые распутные глаза» [Булгаков М.А. 2011: 210].
В английских переводах обнаружены следующие совпадения переводческих решений: «нагая» – «naked»; «с горящими фосфорическими глазами» – «burning / flaming (Карпельсон) phosphorescent / phosphoric (Альпин) eyes»; «в черном вечернем платье» – «in black evening dress /gown (Карпельсон)»; «кокетливый кружевной фартук» – «coquettish / frivolous (Гинзбург) lace apron»; «зеленые глаза» – «green eyes». Цвет волос Геллы – «рыжая» передан двумя вариантами: «red hair / red-haired» и «redhead / redheaded» (Карпельсон). Наиболее значительные расхождения между оригиналом и переводами обнаруживаются при передаче единиц, выполняющих экспрессивно-оценочную номинацию: «причудливый шрам» – «a strange scar» (Бургин и О’Коннор), «a weird scar» (Альпин), «an odd scar» (Карпельсон), «the fantastic scar» (Гинзбург); «распутные» – «lecherous» (Бургин и О’Коннор), «dissolute» (Альпин; Карпельсон), «lewd» (Гинзбург). Сопоставительный анализ четырех переводов отрывков, содержащих описание внешности Геллы, свидетельствует о высокой степени адекватности переводов, достигнутой посредством выбора соответствующих лексических эквивалентов.
Принадлежность к группе демонических образов и внешность Геллы эксплицируют проявление в данном художественном образе архетипа ведьмы. Ведьминская сущность Геллы определяется и такими важными атрибутами как отсутствие одежды, боязнь петушиного крика, запах погреба, зеленые пальцы, пятна тления, способность к передвижению по воздуху, щелканье зубами,
225
В специальной литературе регулярно отмечается, что имя «Гелла» заимствовано М.А. Булгаковым из статьи «Чародейство», опубликованной в популярном энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, где данное имя определяется как имя безвременно погибших девушек, живших на острове Лесбос и превратившихся после смерти в вампиров. С другой стороны, имя «Гелла» встречается в греческой мифологии (погибшая в водах пролива Геллеспонт сестра-близнец Фрикса и дочь Нефелы и Афаманта), в мифах германцев – воплощение ада и смерти, богиня подземного мира мертвых, в древненорманской мифологии – богиня, обитавшая в преисподней, а также в индийской мифологии.
Во всех анализируемых английских переводах используется антропоним «Hella». Данный антропоним семантически и этимологически связан с лексической единицей «hell», имеющей протогерманское происхождение и используемой для обозначения места нахождения мертвых, постоянного страдания, ада. Этимологи также отмечают несомненную связь данной единицы с именем богини смерти из норвежской мифологии Хель (Hel / Hell / Hella) – дочерью скандинавского бога Локи и великанши Ангрбоды, сестры Фенрира (громадного волка) и Ермунгада (змея). Как родители, так и дети в этой семье обладали темными сторонами характера. Хель является скандинавским аналогом германской богини Хольды. Царством Хель был языческий подземный мир. В дальнейшем имя владычицы царства мертвых стало использоваться и для обозначения самого места. Таким образом, мифологически контаминированный художественный образ Геллы, его «интернациональный» культурологический характер свидетельствуют о том, что данная единица является носителем общей культурной памяти ряда народов Европы. Если среднестатистический
226
англоязычный читатель и не имеет соответствующих знаний о мифологической природе имени героини, не может расшифровать культурный код булгаковского антропонима, то данное имя все равно будет для читателя значащим, говорящим, поскольку оно формально и этимологически близко единице «hell» и позволяет точно характеризовать героиню как представительницу темных сил.
Предпринятый анализ инфернальных образов романа «Мастер и Маргарита» позволяет определить неизбежные девиации в воссоздаваемых в переводе художественных образах. Обнаруженные девиации обусловлены как естественной асимметрией двух языковых систем, участвующих в переводе, очевидной культурной асимметрией, так и личным опытом и языковыми предпочтениями конкретных переводчиков, что и определяет их переводческие решения. Межкультурная природа ряда имен собственных романа свидетельствует о возможности понимания англоязычными читателями глубинного смысла, заложенного автором в используемые антропонимы, которые являются важной частью семантики художественных образов. Литература:
Аверинцев С.С. (1971) Символ художественный. Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. Москва: Советская энциклопедия, 826-831. Арутюнова Н.Д. (1990) Метафора и дискурс. Теория метафоры. Москва: Прогресс. 5-32. Барков А.Н. (1994) Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение. Киев: Текма. 298. Булгаков М.А. (2011) Мастер и Маргарита. Санкт-Петербург: Азбука. 413. Гаджиев М.А. (2007) Персонажи второго плана в структуре романа М.А. Булгакова «Мастер и
227
Маргарита»: Дис. �канд. филол. наук. Махачкала: Дагестанский государственный университет. 178. Ковалев Г.Ф. (1993) Булгаковский Воланд. Загадка имени. Филологические записки. Вып. 1. Воронеж. 122–133. Разумовская В.А. (2012а) Культурная память в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и археология перевода. Проблемы перевода, лингвистики и литературы: Сборник научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Выпуск 15. Том I. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.А. Добролюбова. 151-166. Разумовская В.А. (2012b) Семантика художественного образа в оригинале и в переводе: кот Бегемот. Проблемы истории, филологии, культуры. № 3. Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет (в печати). Сидорова Е.Г. (2004) Социокультурный генезис художественных образов в творчестве М.А. Булгакова: Дис. ... канд. культурологических наук.: Санкт-Петербург. 185. Соколов Б.В. (2000) Булгаковская энциклопедия. Москва: Локид: Миф. 586. Яновская Л.М. (1987) Треугольник Воланда и Фиолетовый рыцарь: о «тайнах» романа «Мастер и Маргарита». Таллин, № 4. 101-113. Bassnett S., Lefevere A. (1998) Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Clevedon: Multilingual Matters. 143. Bulgakov M. (1987) The Master and Margarita. Translated from the Russian by Mirra Ginsburg. New York: Grove Weidenfield. 402. Bulgakov M. (1995) The Master and Margarita. Translated by Diana Burgin and Katherine Tiernan O'Connor. London: Picador. 367. Bulgakov M. (2008 ) The Master and Margarita. Translated by Hugh Aplin. London: One World Classics. 460. Bulgakov M. (2011) The Master and Margarita. Translated be Michael Karpelson. London: Wordsworth Classics. 416.
228
Liliya Sakaeva, Liliya Bazarova
SEMANTIC IMPLEMENTATION OF
CONCEPTUAL GOD ON THE BASIS OF ENGLISH, RUSSIAN, TATAR AND TURKISH
PHRASEOLOGICAL UNITS, REVEALING CONCEPTS
«HEAVEN» AND «PARADISE»
Abstract: The study of phraseological units of the concepts «heaven» and «paradise» helps to identify the cognitive characteristics and the conceptual content of the concept «God», which in their turn enable to reconstruct certain parts of the linguistic world and identify national characteristics of analyzed languages. Key words: concept, semantic field, phraseological units, phraseosemantic field, microfield, subject area.
The analyzed concept «heaven» applies to
natural concepts, which represents the current object and determines the specialty of its structure – the importance of motivating, conceptual, evaluative, figurative and symbolic peculiarities, reflecting archaic religious world outlook of people. The semantic sphere of the given lexeme is studied by the linguists S.M. Podvigina (2007), O.V. Krivaleva (2008), E.E. Demidova (2010), Zhao Syutsin (2010). The researcher S.M. Podvigina examines the concepts «heaven» and «celestials» in the Russian and German languages, revealing its national feature [Podvigina, 2007]. The author O.V. Krivaleva researches the concepts «heaven» and «earth» in Russian and German world view, taking into consideration the diverse linguistic problems on structural and semantic view [Krivaleva, 2009]. E.E. Demidova defines the constitutive features of the concept «heaven», objectified by various linguistic means in the Russian and English languages [Demidova, 2010]. Zhao Syutsin explores the concepts «sky» and «earth» as the conceptual unity, revealing the structural organization of semantic fields in the Russian
229
language and defining features of the functioning units in coherent relations [Syutsin, 2010]. The concept «heaven» is verbalized by different linguistic means, in the English language – «heaven/sky», in Russian – «небо», in Tatar – «күк/күк йөзе», in Turkish – «gök».
The Oxford English Dictionary, edited by J.M. Hawkins defines the lexeme «sky» as follows: «sky» – «the space above the earth, appearing blue in daylight on fine days» [Hawkins, 2002:663]. According to the grounds of encyclopedic dictionaries in the Russian language by D.N. Ushakov, K.S. Efremova, V.I. Dahl, the given unit has the following meanings – relig. «the abode of the god, gods, saints, where there is heaven (obsolete)», «destiny, fate, providence, divine power». In the dictionary of the Tatar language, edited by F.A. Ganiev «sky» is marked by three meanings: 1) җирдəн өстə гөмбазсыман булып күренə торган hава мəйданы (visible space); 2) дини карашлар буенча: югарыда яши торган Алла, фəрештəлəр (relig. God and heaven); 3) билгеле бер мəдəни həм социаль-тарихый шартлардан гыйбарəт җəмгыять (society, depending on the socio-historical conditions) [Ganiev 2005:36]. In the «Dictionary of the Turkish language» «heaven» – «gök» is given as it is and represented by twelve phraseological units [Bolshoi Turkish-Russian Dictionary, 2006:343]. Therefore, the given facts lead to the existence of two components – physical and spiritual (religious). On the one hand, «heaven» is given as an air space with celestials in it; on the other hand, as the abode of God, angels, saints and souls; paradise, the vault of heaven. Among these meanings, there should be noted the widespread use of the plural form of «heaven» – «heavens» in its sense.
By means of lexicographic sources, definitions of monolingual and phraseological dictionaries, it can be concluded that phraseological units of the concept «heaven» may contain the microfield «distance» within the phraseosemantic field «space», which has the meaning of distant place in its space and time. In the
230
English language, it is defined by phraseological units as far removed as heaven from earth – «быть как до неба/до небес»; ours are voices/crying out in the wilderness – «до Бога высоко, до царя далеко»; Rus. как ни мостись, а на небо/к Богу не взлезешь; до неба высоко, до царя далеко; Turk. – Ağaç ne kadar uzasa ğöğe ermez/ulaşmaz in its meaning «как бы дерево ни тянулось, до неба не достанет», Göğe direk, denize kapak olmaz – «как ни мостись, а на небо не влезешь». The other microfield is «heaven – Paradise, the abode of God». The heaven within the meaning of Paradise and the place of God, is given in different contexts: in English praise/extol someone/smth to the skies – «возвышаться до небес»; Rus. небо – престол Бога, земля – подножие; небо – терем божий, звезды – окна, откуда ангелы смотрят; Tat. hавага ашу, күккə күтəреп/чөеп мактау – «возносить до небес». Having reflected the historical views, proverbs and sayings state the authority of royal power on the ground, often attributing it to the divine nature of God in heaven: Бог на небе, царь на земле, без бога свет не стоит, без царя земля не правится. Hence, the given analysis, reflecting the views and opinions of native speakers, can be interpreted as a reflection of people's moral and ethical standards, formed on the basis of religious beliefs. Phraseological units of the concept «heaven» in the given provide a multilateral approach to life based on the synthesis of high and low, positive and negative, good and evil.
In world outlook «paradise» is a zone of positive events, associated with beautiful eternal life. In the religious view «paradise» is defined as part of another world in which God dwells and is often identified with the sky, the highest ethical and aesthetic values as the world of purity, beauty and perfection, and is opposed to hell. The analysis of the given unit can be explained by the fact that «paradise» is a kind of concept required to implementation of the conceptual understanding of God.
231
The researcher A.F. Gershanova identifies the following features of the lexeme «paradise»: the peculiarity of the spatial locating (the place – heaven, primitive paradise) with characteristic attributes (God, angels, Adam, Eve, Bliss) [Gershanova 2003]. The author L.L. Grigorieva examines «paradise» in the representation of native Russian, English and Arabic.
The concept «paradise» is given in its literal and figurative meanings: in Engl. «paradise/heaven», Rus. «рай», Tat. – «оҗмах/җəннəт», Turk. – «cennet». Let’s consider some definitions of lexicographic sources. «Longman Dictionary of Contemporary English» gives the following definition of «paradise/heaven»: 1. «Paradise» is Heaven, thought of as the place where God lives and where there is no illness, death, or evil [Longman Dictionary of Contemporary English, 2000:1026]; 2. «Heaven» is the place where God is believed to live and where good people are believed to go when they die [Longman Dictionary of Contemporary English 2000:663]. In the «Dictionary of the Russian Language» by S.I. Ozhegov and N.Y. Shvedova, there are two meanings of the word «paradise»: 1. relig. a place where the souls of the dead dwell in eternal bliss (in heaven). 2. figur. Pleasing conditions, earthly paradise [Ozhegov 2004:655]. In the «Tatar-Russian Dictionary», edited by F.A. Ganiev there are given similar definitions of this words: 1) zoolog. bird of paradise; 2) figur. sinless, pure; 3) figur. about naïve, simple person [Ganiev 2007:90]. In Turkish Dictionary (Büyük Tükçe Sözlük) «cennet» is given in two meanings: 1. Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (according to religion, place of sinless after his death). 2. Çok güzel, huzur veren yer (beautiful place) [Büyük Tükçe Sözlük 2007:648]. The analysis of lexicographical sources gives a complete understanding of the concept «paradise» in the disclosure of values and identification with the concept of «God».
232
On the basis of the given meanings, promoting to reveal the substantial value of the concept «paradise» and phraseological units of the English, Russian, Tatar and Turkish languages, there can be defined the group «biological state»: Engl. push up the daisies «отправить в рай»; Rus. – загреметь к Богу в рай; рад бы в рай, да грехи не пускают; отправить в рай; Turk. Delik büyük, yama küçük (lit. «Дыра большая, а заплатка – маленькая»). It should be noted that there is a difference between the values of the lexeme «paradise» in English, Russian and Tatar, Turkish sources. In Turkish sources we don’t observe the meaning «ruler (higher power)», but in some phraseological units the definition «divine place» comes out.
Thus, the basic characteristics of the concepts «heaven» and «paradise», identified on the basis of a study of phraseological units of the concept «God» within the given languages, reflect the current views from the ancient times of people. It can be noted that the examined concepts coincide with the dedicated parameters and at the same time, some of them reflect the opposite perception of the considered units by the representatives of linguistic cultures.
Literature Baskakov A.N. (2006) Turkish-Russian dictionary. A.N. Baskakov, N.P. Golubeva, A.A. Kyamileva. M. : Zhivoy yazik. 960 p. Ganiev F.A. (2007) Russian-Tatar dictionary Kazan : Rannur, 632 p. Gershanova A.F. (2003) Concepts «Paradise» and «hell» in linguistic world of V. Nabokov: diss. ... candidate of Philology, A.F. Gershanova. Ufa, 226 p. Dahl V. (2006) Illustrated explanatory dictionary of the Russian Language Moscow: Astrel, 348 p. Demidova E.E. (2010) Structures and ways of actualizing features of the concept «heaven» in Russian and English
233
linguistic world: diss. ... candidate of Philology, E.E. Demidova. Kemerovo, 229 p. Explanatory Dictionary of the Tatar language. (2005) . Vol.1. Kazan : Tat. knizh. press, 476 p. Krivaleva O.( 2009) The concepts «heaven» and «earth» in Russian and German linguistic world: diss. ... candidate of Philology, O. Krivaleva. Ufa, 213 p. Ozhegov S.I. (2004) Russian explanatory dictionary. 4th ed., ext. M. : Azbukovnik, 944 p. Podvigina S.M. (2007) National specific character of lexico-phraseological verbalization of concepts «sky» and «heavenly body»: on the material of the Russian and German languages: diss. ... candidate of Philology, S.M. Podvigina. Voronezh, 171 p. Hawkins J.M. (2002) The Oxford English Dictionary. Moscow: Astrel Ltd., 828 p. Longman Dictionary of Contemporary English. (2000). Oxford, 1668 p. Zhao Syutsin. (2010) «Heaven» and «earth» in Russian linguistic world: diss. ... candidate of Philology, Zhao Syutsin. M., 198 p.
234
Олег Семенюк, Виктор Белоус
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ ПЕРИОДА
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»: ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности интерпретации и вербализации некоторых ключевых концептов в произведениях жанра политического детектива. Концепты анализируются более в философском, чем лингвистическом контексте. При этом учитываются позиции автора и читателей, как англо-, так и русскоязычных. В качестве примера выбран роман “Охота за “Красным Октябрём” Тома Клэнси.
Abstract: Specific peculiarities of interpreting and verbalizing certain key concepts in political thriller fiction are viewed in this paper. The concepts are being analyzed more from the philosophical than from linguistic standpoints. Positions of the author as well as of his readers (both English and Russian-speaking) are considered. Ton Clancy’s „The Hunt for „Red October„ has been chosen as an example.
Художественный текст, созданный в жанре
политического детектива, да еще и написанный в период политико-идеологических конфликтов, имеет особенно четкую, хотя иногда и имплицитно выраженную, задачу воздействия на «своих» и «чужих». Сила этого воздействия напрямую связана с потенциальными возможностями его интерпретации реципиентами. В нашей статье проанализируем некоторые аспекты романа “Охота за “Красным Октябрём” Тома Клэнси, который увидел свет в 1984 году и неоднократно переиздавался в последующем. Тогдашний президент США признался, что стал ярым поклонником этой книги. Известно, что роман активно раскупался сотрудниками Пентагона. Оценки книги прессой содержали высокую степень восторга: “восхитительное произведение...сюжет
235
сложен и щекочет нервы”, “от волнения аж дух захватывает!”,“сюжет потрясает своей реалистичностью”. Сюжет и в самом деле заслуживал внимания: новая, технологически непревзойдённая, советская атомная подлодка “Красный Октябрь” под командой капитана 1 ранга Марко Рамиуса направляется к побережью США. Американское правительство считает, что Рамиус намерен нанести ракетный удар. И только один молодой аналитик ЦРУ Джек Райан уверен, что Рамиус хочет перейти на сторону США. Вся военно-морская и военно-воздушная мощь СССР брошена на поиски “Красного Октября”, приведена в боевую готовность и оборона США. У Райана лишь несколько часов, чтобы найти Рамиуса и проверить правильность своего предположения.
Том Клэнси не военный моряк и не сотрудник спецслужб. Он страховой агент, мечтавший написать приключенческий роман. Газетная статья о восстании на одном из сторожевых кораблей Балтийского флота СССР подсказала идею сюжета о “Красном Октябре”. Клэнси проштудировал материалы о военно-морских флотах СССР и США и сел за пишущую машинку. После успеха романа он стал зарабатывать на жизнь литературным творчеством. Его книги расходятся по свету многомиллионными тиражами. Секрет подобной популярности, на наш взгляд, во вполне правдоподобных сюжетах, в жизненности и осязаемости героев, во включении в повествование реально существовавших личностей или упоминание о них в связи с описываемыми событиями (так, в “Охоте” это адмирал флота СССР С. Горшков, полковник ГРУ О. Пеньковский, капитан-лейтенанат В. Саблин, высокопоставленный партийный чиновник Ю. Падорин и др.). Характерные для творчества Тома Клэнси приёмы срабатывают безотказно, но книга стала популярна не только благодаря этому.
236
Цель нашей статьи – рассмотреть особенности интерпретации и вербализации концептов “личность” и “родина” в произведении жанра политического детектива, учитывая позицию автора и позицию (восприятие) читателей, как англо- , так и русскоязычных. Концепты рассмотрим с позиций больше философских, чем лингвистических.
Роман “Охота за “Красным Октябрём”, как и многие последующие произведения Т. Клэнси, построен вокруг таких важных для человека концептов, как “родина”, “долг”, “свобода”, “личность”. Каждый из них в тексте романа продуманно структурирован, наполнен смысловым содержанием, увязан с системой действующих лиц.
И роман, и снятый по нему фильм, концентрируются прежде всего на конфликте личностей (clash of personalities). Остановимся на этом подробнее. Основных героев два: Рамиус и Райан (правильнее было бы сказать “Райан и Рамиус”, поскольку Джек Райан в серии последующих романов проходит путь от рядового аналитика ЦРУ до президента США), вокруг них сосредоточены группы остальных, по-своему довольно разноплановых, персонажей.
Как формировалась личность Марко Рамиуса? Он родился в смешаном браке: отец – литовец, мать – русская из Ленинграда. Клэнси несколько раз подчёркивает, что Рамиус был записан как великоросс (Great Russian), что давало ему ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с представителями других национальностей. Отец Рамиуса, Александр, ветеран и один из руководителей партии, активно способствовал советизации Литвы в 1940 году и после освобождения республики от фашистов (“dubious liberation from the Germans”, p.30) в 1944. Его сын находился на попечении бабушки, верующей женщины, которая на ночь рассказывала внуку библейские сказки с обязательной моралью о добре
237
и зле, о вознаграждении за добродетельную жизнь. Водить ребёнка на церковные службы она не решалась, так как католицизм в странах Балтии жестоко искоренялся 15(“Roman Catholicism had been brutally suppressed in the Baltic states”, p.31).
После того, как воспитанием ребёнка снова занялся отец, эти уроки религиозного обучения отступили в глубины памяти, но не были утрачены (“neither fully remembered nor fully forgotten” [p.31]. Ещё в детском возрасте Марко понял, что марксизм-ленинизм не терпит другой веры (“Marxism-Leninsm was a jealous god, tolerating no competing loyalties” [p.31], ещё ребёнком он скорее почувствовал, чем понял, что коммунизм игнорирует важную потребность человека. "Во имя человека, на благо человека" – прекрасная цель, однако, лишив человека права на душу, марксизм лишил его человеческого достоинства, личностной ценности. Одновременно он отбросил объективную справедливость и этику, главное наследие религии в современном мире.
Отец Рамиуса, “a Party chieftain”, “a cinematic image of a Party apparatchik” твердил пятилетнему мальчику, что партия – душа народа, что Советский Союз держится единством партии, народа и державы (“The Party was the Soul of the People; the unity of Party, People and Nation was the holy trinity of the Soviet Union”, [p. 32]. Использовав христианскую идею Святой Троицы, страна создала свою религию, своё божество, однако ещё только начав взрослеть, Марко уже сформировал своё понимание правильного и неправильного, которое отличалось от общепризнанного в государстве. Это мерило помогало ему оценивать свои поступки и действия других. Он научился тщательно скрывать этот
15 Ссылки на текст даются по изданию: CLANCY, Tom. (1985) The Hunt for Red October, Вerkley Books, New York, 316 р.
238
эталон, служивший своеобразным якорем для души (якорь – один из символов Веры, религии), который, как и надлежит якорю, находился глубоко под видимой поверхностью. Марко Рамиус вырос индивидуалистом, даже в спорте он предпочитал лёгкую атлетику, а не командные игры. Но самым большим грехом по канонам коммунистической морали было то, что его мышление стало индивидуалистическим (“by choice Marko became individual in his thinking, and so unknowingly committed the gravest sin in the Communist pantheon” [p.32]).
Так, “на основе создания материально-технической базы коммунизма, в процессе развития коммунистических общественных отношений и воспитания нового человека” сформировалась “целостная, всесторонне развитая.., духовно богатая, морально чистая и физически совершенная” личность офицера-подводника, члена КПСС Марко Рамиуса. Только не приняла эта личность господствовавшую в стране идеологию, не согласилась с практикой “развития коммунистических общественных отношений и воспитания нового человека” и двигалась по жизни, мимикрировав под рядового гражданина. Внешне “the model Soviet child”, “the model of a Party member's son” Рамиус подолжал играть по правилам и исполнять свой долг перед партией (“he played the game carefully and according to all the rules”,“he did his duty for all party organizations”, [p.32]). Нелепая смерть горячо любимой жены в результате типичной для ситуации в отечественной медицине врачебной халатности даёт Рамиусу идею отомстить не отдельным лицам, а истинному виновнику – государству.
На определённом этапе становления личность начинает осознавать себя частью родины. (“Родина, 1) отечество, отчизна, страна, в которой человек родился; исторически принадлежащая данному народу территория с её природой,
239
населением, особенностями исторического развития, языка, культуры, быта и нравов” [СЭС, 1982:1127]). Информация о родине накапливается в результате личных наблюдений, жизненного опыта, контактов с другим людьми и т.д. В возрасте 8 лет жизнь Марко Рамиуса получила новый поворот: он встретил Сашу, старого рыбака, который служил офицером царского флота при адмирале Макарове, участвовал в восстании на крейсере “Аврора”, за последовавшее несогласие моряков крейсера с Лениным отбыл 20 лет в исправительно-трудовых лагерях и был освобождён только с началом Великой Отечественной войны: Родине понадобились опытные моряки (“The Rodina has found herself in need of experienced seamen to pilot ships into the ports of Murmansk and Archangel... Sasha had learned his lesson in the gulag: he did his duty efficiently and well, asking for nothing in return”). За свою работу он получил определённую степень свободы и право на изнурительный труд в условиях постоянной подозрительности, так и не став в глазах этой самой Родины полноправным гражданином: “Even after years of faithful service to the Rodina, Sasha had been an unperson” [pp. 32-34]. Несложный авторский неологизм «unperson» мы рассматриваем в качестве одного из основных ключевых слов всего произведения. Употреблённое в одном контексте с известными в истории государства именами Макарова, Ленина, названиями портов Мурманска и Архангельска это слово (даже в сочетании с именем “Саша”!) подчёркивает “не-человечность” обозначенного им винтика громадной машины.
Капитан 1 ранга Марко Рамиус принимает очень непростое решение, реализация которого затрагивает жизни многих людей. Автор исподволь подводит читателя к восприятию такого решения как правильного и как единственно возможного. В этом ему помогает и подбор лексических единиц, создающих виртуальный мир полуигры-полуправды:
240
отец Рамиуса – (“cinematic image”), Саша – “unperson”, сам герой – “образец”, “идеал” (“model”), он участвует в игре по придуманным кем-то правилам. Ситуация игры тем и удобна, что позволяет варианты выхода: можно нажать кнопку “A new game” и всё переиграть, а на крайний случай есть и опция “Game over”. По нашему мнению, Клэнси намеренно аттенюирует нравственный аспект измены, убирает его реальность, сводя всё к варианту сложной игры.
Упоминание в описании процесса становления и формирования личности героя персоналий (Макаров, Ленин), названий известных в истории России боевых кораблей (крейсер “Аврора”, линкор “Петропавловск”), ссылки на ГУЛАГ помогают параллельному наполнению и ещё одного из ключевых концептов книги, концепта “родина”. В «западной» традиции существуют два взгляда на природу и сущность концепта: рационалисты считают концепт откровением Разума, а эмпирики – квинтэссенцией перцепций из мира опыта, что сводит значимость концептов сугубо к перцепциям, которые являются их характеристиками. На наш взгляд, отдельными составляющими концепта “родина” есть понятия “честь”, “слава”, “гордость”, “гуманизм” и т.п. Концепт неразрывно связан с такими ощущениями из мира опыта, как тепло родного дома, любовь родных и близких, дружба и товарищество и многое другое. Этот тезис можно подтвердить строкой классика “И дым Отечества нам сладок и приятен”, в которой конкретное существительное-перцепция “дым” есть выразительной составляющей абстрактного концепта “отечество”.
Написанное латиницей, выделенное автором курсивом, слово “родина” неоднократно появляется в тексте буквально с первых страниц книги: “So, my Captain, again we go to sea to serve and protect the Rodina!” Captain Second Rank Ivan Yurievich Putin
241
poked his head through the hatch...Putin was the ship's zampolit (political officer). Everything he did was to serve the Rodina (Motherland), a word that had mystical connotations to a Russian and, along with V. I. Lenin, was the Communist party’s substitute for a godhead” [p. 3]. Здесь же зафиксирована и позиция автора, по мнению которого мистическое для русских слово “родина” и образ В. И. Ленина были использованы Компартией для создания суррогатного божества.
Рассмотрим особенности использования автором собственно языковых средств для наполнения содержанием концепта “родина”, одной из сторон которого есть перцепция “дом”. В детстве Марко Рамиус жил у бабушки в небольшой рыбацкой деревушке (“Ramius, half Lithuanian, had childhood memories of a better place, a coastal village whose Hanseatic origin had left rows of presentable buildings” [p.4]). Во время последнего выхода в море замполит "Красного Октября" Путин сожалеет, что в этот декабрьский день он не в своём родном городе Горьком: “On a day like this the faces of the children and the women glow pink, your breath trails behind you like a cloud, and the vodka tastes especially fine. Ah, to be in Gorkiy on a day like this!” Для замполита на переднем плане номинативы “румяные лица детей и женщин”, “облачка пара при дыхании”, “особенный вкус водки”. Рамиусу пришлось дважды побывать Горьком, “it had struck him as a typical Soviet city, аull of ramshackle buildings, dirty streets, and ill-clad citizens. As it was in most Russian cities, winter was Gorkiy's best season. The snow hid all the dirt” [p. 4]. В его воображении противопоставляются близкий с детства образ “presentable building”" и воспринятый в зрелом возрасте образ “ramshackle buildings”. Последний усилен упоминанием о грязных улицах и плохо одетых жителях. Зима названа наиболее удачным временем года, поскольку снег, символ России, скрывал всю грязь. Клэнси неоднократно использует образ общей мрачности, неряшливости,
242
нечистоплотности, даже некоторого загнивания при описании природы, людей, предметов, связанных с “Красным Октябрём”, что невольно проецируется и на восприятие родины: в поход корабль молча, даже не помахав рукой, провожают моряки и портовые рабочие (“a collection of sailors and dockyard workers watched his ship sail in stolid Russian fashion, without a wave or a cheer” [p.1] ); в доке лодку ремонтировали рабочие в грязных сапогах, воздух в помещениях пропитан запахами пота, машинного масла и капусты (“air around them, which was already thick with the odor of sweat, machine oil and cabbage”, [p.339]).
Море, неотъемлемая часть территории родины, загрязнено нефтью. Она не испаряется при низких температурах и оставляет на скалистых берегах залива чёрную полосу, как на стенках ванны, в которой купался неряшливый великан. Рамиус, выросший на морском побережье и представляющий жизнь только в гармонии с природой, ворчит про себя, что советского великана не волнует оставленная им на земле грязь (“The water was coated with the bilge oil of numberless ships, filth that would not evaporate in the low temperatures and that left a black ring on the rocky walls of the fjord as though from the bath of a slovenly giant. An altogether aрt simile, Ramius thought. The Soviet giant cared little for the dirt it left on the face of the earth, he grumbled to himself. He had learned his seamanship as a boy on inshore fishing boats, and knew what it was to be in harmony with nature”, [p.2]).
Во время процедуры кремации тела его жены Марко Рамиус внезапно осознаёт, что государство (то есть, та самая Родина!) не только лишило его любимой женщины, оно отняло у него возможность ослабить горе молитвой, отняло надежду, пусть иллюзорную, увидеться с женой в загробной жизни (“Marko Ramius watched the coffin roll into the cremation chamber to the somber strain of a classical requiem, wishing that he could pray for Natalia's soul,
243
hoping that Grandmother Hilda had been right, that there was something beyond the steel door and mass of flame. Only then did the full weight of the event strike him: the State had robbed him of more than his wife, it had robbed him of a means to assuage his grief with prayer, it had robbed him of the hope—if only an illusion— of ever seeing her again”). Мрачные реалии крематория - стальная дверь и огненный вихрь (the steel door and mass of flame) – не только разделили жизнь героя на “до” и “после”, но и стали перцепциями Родины. Думается, перцепциями “второго ряда” стали и номинативы coffin, cremation chamber, requiem, сочетание слов soul – beyond, а троекратное, как в сказке или в заклинании, повторение глагола to rob (грабить, обкрадывать, лишать чего-либо) в форме перфектного времени had robbed указало на наличие результата действия и засвидетельствовало безысходность ситуации, в которой оказался герой. Рамиус решает, что заплатит за это государство (“he decided that the State would be made to pay”, “ and Мarko planned to wreak his own vengeance on the Soviet Union” [рp. 41,4]). Автор использует стилистически окрашенное выражение to wreak one’s vengeance (отомстить, ср. “Отмщенья мне и аз воздам!”)
Командир подлодки и его замполит не просто по-разному видят Родину – Родины у них разные. Переходя на сторону противника, Рамиус предаёт не свою Родину, а родину замполитов, угрюмых “пролов” и прикрытой снегом грязи. Деяние, трактуемое Уголовным кодексом СССР как “измена Родине в форме перехода на сторону врага”, предательство, под пером мастера слова выглядит благородным и достойным подражания поступком. Основную роль в этом сыграли умелый выбор и правильное использование средств вербализации отдельных ключевых концептов произведения. Творчество Тома Клэнси, в частности серия романов о Джеке Райане (“the Ryanverse”), изобилует
244
примерами использования языковых средств для изложения, пропаганды и отстаивания идей автора. Анализ идиолекта Т. Клэнси, работу над которым мы продолжаем, может быть потенциально полезен не только филологам, но и историкам, политологам, специалистам по PR и рекламе. Литература
СЭС: Советский энциклопедический словарь (1982) Гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Сов. Энциклопедия. 1600с. ФС: Философский словарь (1980) Под ред. И.Т. Фролова. 4-е изд. М.: Политиздат. 444 с. CLANCY, Tom (1985) The Hunt for Red October, Вerkley Books, New York, 316 р.
245
Елена Сирота, Нина Мигирина
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО И
ТРАНСЛИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
Аннотация: В статье рассматриваются экстралингвистические и интралингвистические причины, обусловливающие отсутствие адекватности оригинального и транслированного текста художественного дискурса; подчеркивается необходимость при исследовании корреляции единиц художественного текста ориентироваться на фундаментальные понятия: текст, подтекст, интертекст, межтекстовые связи и особенности жанровой спецификации художественного дискурса; дается сопоставление системы наименований различных статусов лица в русском и английском языках .
Abstract: The Problem of Correlation Between the Original and Translated Discourse in Fiction.The essay deals with extralinguistic and intralinguistic factors that condition the absence of adequate translation of a discourse in fiction. The author emphasizes the necessity white investigating the correlation of units in fiction to be guided by such fundamental notions as text, implication, intertext, intertextual connections and the peculiarity of a discourse in fiction, as well as to compare the systems of different statuses in different cultures when causes of convergence of functional meanings in contrastive pairs caused by national specific character such as Russian and English names and titles are revealed.
Проблема соотношения оригинального и
транслированного художественного дискурса представляется чрезвычайно важной и в экстралингвистическом, и в интралингвистическом аспектах, особенно в период обострения конфессиональных, этнических конфликтов, так как только приобщение к культуре другого народа может в эпоху глобализации стать залогом минимизации нежелательных и весьма опасных противоречий носителей разных культур. И процесс этнической
246
абсорбции, и стремление к сохранению национальных особенностей культуры разных этносов в значительной степени должны быть ориентированы на максимально адекватное восприятие оригинальных художественных текстов в их транслированном виде.
Отсутствие адекватности художественного дискурса и его перевода объясняется целым рядом интралингвистических причин: системное различие типологии различных языков влияет на степень эквивалентности оригинального и переводного текстов художественных произведений, но, как отмечают М.В. Вербицкая и Н.В. Косарева в статье «Отражение лексико-семантических различий американского и британского вариантов английского языка в переводах художественных текстов» [М.В. Вербицкая, Н.В. Косарева 2007: 81], степень коррелированности переводных и оригинальных художественных текстов зависит даже от вариантов одного и того же языка. Так, авторы данной статьи подчеркивают, что лексико-семантические различия американского и британского вариантов английского языка находят отражение в переводах художественного текста. И, к сожалению, «�практически неисследованными остаются аспекты функционирования лексико-семантических различительных элементов АЕ и ВЕ�в рамках переводоведения [М.В. Вербицкая, Н.В. Косарева 2007: 81]. Такие маркеры играют чрезвычайно важную роль при переводе именно художественного произведения.
Лингвисты подчеркивают многоаспектный характер проблемы корреляции оригинальных и переводных текстов, коммуникатов устной и письменной речи, одним из видов которых является художественный дискурс. М.В. Вербицкая и А.А. Гусева рассматривают проблему перевода интертекстуальных элементов в художественной литературе. Решение данной задачи потребовало
247
одновременного рассмотрения различных аспектов интертекстуальности, из которых авторы выделили три категории интертекстуализмов: 1) категория известности прототекста; 2) категория доминантной функции интертекстуального элемента; 3) категория уровня функционирования интертекстуального элемента [М.В. Вербицкая, А.А. Гусева 2009: 9-11].
Нам представляется необходимым, исследуя проблему корреляции единиц художественного дискурса, ориентироваться на такие фундаментальные понятия, как: текст, подтекст, интертекст, межтекстовые связи и особенности жанровой специфики художественного текста.
Так, Омри Ронен, изучая проблему подтекста, подчеркивает, что «межтекстовые связи – это такой вид внетекстовых, который, вводя понятие «подтекста», преодолевает оппозицию между «имманентным» структурным анализом произведения самого по себе и традиционным сравнительно-историческим анализом в широком смысле, например, описанием механизма литературного наследования» [Омри Ронен 2012: 230-231]. Кроме того, он подчеркивает, что авторское высказывание само по себе, и объем возможного восприятия подтекста�также зависят от того, что Мандельштам назвал «исполняющим пониманием», потому что в актуализации скрытого или явного подтекста, как и в поэтической семантике вообще с ее якобсоновской «установкой на сообщение», присутствует элемент речи. И читатель, и перечитывающий свое произведение автор – в известном смысле «исполнители» [Омри Ронен 2012: 231].
Так, Омри Ронен отмечает, что «критерий релевантности» предлагаемых исследователями подтекстов, разумеется, не всегда очевиден, и из-за этого происходит много споров. На мой взгляд, чем больше разных элементов темного текста освещает подтекст (или сочетание нескольких подтекстов), тем
248
он предпочтительней. Но так или иначе компонентное исследование подтекста кладет предел произвольному пониманию трудных стихов и учит тех «отсутствующих знаков и указателей», которые делают текст «понятным и закономерным». Такое требование четко сформировал сам Мандельштам: «�легче провести в России электрификацию, чем научить всех грамотных читателей читать Пушкина так, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности» [Омри Ронен 2012: 233].
Но совершенно очевидно, что еще более сложной оказывается задача максимально адекватной корреляции оригинальных текстов А. С. Пушкина при их переводе на другие языки.
Так, сопоставление системы наименований различных статусов лица в русском и английском языках позволяет заметить существование в них и инвариантной, и релевантной типологии признаков представления референтов данного класса. При этом существует определенная корреляция между типом внутренней формы знака номинации и статусом лица. Системные отличия в типологии репрезентации объектов континуума и структурных моделей их наименования являются тем объективным фактором, который приводит к нарушению семантического тождества единиц оригинального текста и транслятов. К сожалению, данный аспект контрастивного анализа единиц номинации референтов этого класса до сих пор остается вне поля зрения исследователе, а данная проблема оказывается существенно важной, так как несовпадения функциональных сем у членов контрастивных пар правомерно относятся к национальной специфике семантики русских и английских наименований лиц.
Так, сопоставляя оригинальный текст А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и его перевод,
249
выполненный Аврилом Пиманом, с точки зрения особенностей передачи структурных моделей и типов внутренней формы наименований лиц в данных языках, следует отметить, что только 11 единиц номинаций лиц из 24 знаков оказывались идентичными и с точки зрения признака референта, и с точки зрения структурной модели наименования. В остальных случаях либо системные отличия в двух языках, либо субъективный характер интенции переводчика приводят к отсутствию строгой идентичности знаков номинации в оригинальном и переводном текстах.
В оригинальном тексте «Моцарта и Сальери» поэт употребляет фразовую номинацию: И не пошел ли бодро вслед за ним//Безропотно, как тот, кто заблуждался. Данная структурная модель номинации служит наименованием лица, для которого в русском языке нет соответствующего словесного наименования. Его отсутствие и компенсируется употреблением фразовой номинации. Поэту необходимо было выразить категорию времени в наименовании лица, поэтому фразовая номинация является единственно возможной. Для данной номинации характерен процессуальный тип признака представления лица: заблуждаться – тот, кто заблуждается. При переводе Л. Пиман нарушает идентичность характера номинации с точки зрения ее структурного типа, используя лексему traveler(путешественник), которая представляет собой лексическую номинацию. Did I not follow him with eager tread//As uncomplaining as an erring traveler (Л. Пиман). При дословном переводе данная фраза переводится так: Разве я не следовал за ним нетерпеливым шагом, столь же безропотным, как допускающий ошибку путешественник.
Кроме того, при переводе совершенно некорректно нарушается семантическая корреляция наименования лица в оригинальном и переводном тексте. Так, в тексте А.С. Пушкина в наименовании
250
лица подчеркивается тот признак представления референта, который связан с семантикой глагола «заблуждаться». В словаре русского языка – «заблуждаться» в отличие от заблудиться» - сбиться с путь, потерять дорогу. Пиман абсолютно некорректно использует для названия лица существительное «путешественник», что полностью искажает смысл пушкинской фразы: в семантической структуре слова « путешественник» отсутствует такая сема, которая несет информацию об ошибочных взглядах человека.
В тексте А.С. Пушкина употребляется субстантивированное прилагательное встречный, называющее лицо мужского пола и являющееся лексической номинацией: И не пошел ли бодро вслед за ним// Безропотно, как тот, кто заблуждался// И встречным послан в сторону иную? При переводе Л. Пиман нарушает идентичность характера номинации с точки зрения ее структурного типа, используя выражение (случайно встретившийся с тем, кто лучше знает дорогу), представляющее собой фразовую номинацию. Did I not follow him with eager tread//As uncomplaining as an erring traveler||Chance –met with who better knows the road. Абсолютно некорректна попытка переводчика заменить лексему «встречный» фразовым наименованием «с тем, кто лучше знает дорогу», так как семантически данные наименования не совпадают: встречный человек не всегда лучше знает дорогу.
В оригинальном тексте А.С. Пушкина дважды использует лексему завистник. Во–первых, словосочетание завистник презренный называет лицо мужского рола, завистливого человека, который заслуживает презрения. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был// Когда-нибудь завистником презренным// Змеей, людьми растоптанного вживе,// Песок и пыль грызущего бессильно? В переводном тексте Л. Пиман нарушает идентичность
251
наименования лица и с точки зрения структурного типа, и с точки зрения признака представления референта. Who dares to say that proud Salieri ever// Was subject to the most despised of vices, // Impotent envy, Writhing weak, down – trodden//A dust-choked serpent on the public highway? Что при дословном переводе имеет следующий смысл: Кто смеет говорить, что гордый Сальери когда-либо подвергался наиболее презираемым недостаткам бессильной зависти. Переводчик использовал совершенно иную структуру, не называя при этом человека завистливого и презираемого. Во–вторых, в тексте А.С. Пушкина лексема завистник используется еще раз: А ныне – сам скажу – я ныне// Завистник. (А.С. Пушкин)
Пушкин использовал существительное завистник, называющее статус лица по действию. Этот тип внутренней формы отображает процессуальный признак представления референт: завидовать – завистник. Данное лексическое наименование возникло в результате реализации словообразовательной модели «именная основа + суффикс –ник». При переводе на английский язык переводчик нарушает идентичность характера наименования, используя следующую конструкцию: But today – myself I say it -// Today I envy. ( А сегодня – непосредственно я говорю это – сегодня я завидую). То есть переводчик передал сам процесс, который лег в основу наименования лица. Однако при переводе данной лексемы на английский язык совершенно утрачивается семантическая идентичность знаков номинации: словом «завистник» мы называем того, для кого чувство зависти является постоянным, а человек, который признается, что однажды в определенной ситуации может сказать себе: «Я завидую» - не является завистником по складу своего характера.
В тексте А.С. Пушкина используется существительное – безумец, представляющее собой
252
лексическое наименования лица. Где ж правота, когда священный дар,// Когда бессмертный гений – не в награду// Любви горящей, самоотверженья,// Трудов, усердия, молений послан - //А озаряет голову безумца, //Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт! В переводном тексте А. Пиман употребляет вместо словосочетания голова безумца, словосочетание trifler’s head (голова бездельника) при сохранении структурной модели, понимая под безумцем «беззаботного сумасшедшего».
В русском тексте «Моцарта и Сальери» употребляется словосочетание фигляр презренный, данное выражение так же, как и предыдущие, носит неодобрительный характер. Оно называет лицо мужского пола по роду деятельности. Фигляр – фальшиво игравший Моцарта уличный скрипач. Но он честно делал свое дело – только умел его делать плохо. Он не был «позером, кривлякой» - а именно такого человека сегодня называют фигляром. Он был тем, кем и должен был быть: уличным артистом. Устаревшее, но все же отмеченное современными словарями значение слова фигляр– «фокусник, акробат, шут». Фигляр пришел в русский язык из польского, а там figliarz произошло от figiel – «проделка, шалость». В переведенном тексте используется словосочетание a vile rhymester (мерзкий рифмоплет), это говорит о том, что переводчик нарушает семантическое тождество.
Франсуаза Вюильмар в статье «Перевести – значит прочесть» обращает внимание на то, что «сегодня, в эпоху глобализации и возросшей потребности в общении, перевод любого типа текстов: научных, технических, культурных – особенно необходим. Проклятье Вавилонской башни стало счастьем для нас, переводчиков; выходит, что Господь Бог – наш старейший и первейший работодатель. И мы в нашей обители благодарим его ежедневно и ежечасно» [Франсуаза Вюильмар 2011: 272]. И, несомненно, это требует от того, кто
253
переводит художественный тексты на другие языки обязанности помнить, что перевести – значит прочесть, избегая при этом в максимальной степени субъективной интерпретации транслируемого текста [Франсуаза Вюильмар 2011: 272].
Проблема корреляции оригинальных и транслированных коммуникатов устной и письменной речи оказывается чрезвычайно важной в рамках оптимизации межкультурного и полиэтнического диалога. Так, межъязыковые различия являются следствием несовпадения набора корреляций между прагматическими значениями с одной стороны, и лексико-грамматическими образованиями, с другой стороны. Помимо лингвистических трудностей, состоящих в различии языковых баз русского и английских языков, изучающие английский язык испытывают психолингвистические трудности, определяющиеся различием моделей мировосприятия представителями английской и русской культуры, различием в способах функционирования их языкового сознания, то есть в совокупности способов отражения и формирования элементов «образа мира» на родном и иностранном языке.
Литература Вербицкая М.В., Косарева Н.В. (2007) Отражение лексико-семантических различий американского и британского вариантов английского языка в переводах художественных текстов. Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. №2, с. 81-96. Вербицкая М.В., Гусева А.А. (2009)Проблема перевода интертекстуальных элементов: категориальный подход. Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. №2, с. 9-18. Вюильмар Франсуаза. (2011)Перевести – значит прочесть. Иностранная литература.. №11, с.272-276. Омри Ронен. (2012) Подтекст. Звезда. №3, с.230-237.
254
Ольга Скачкова, Карина Астахова
VERBORUM PENSITATORES
Аннотация: В статье рассматриваются особенности профессионального и любительских переводов романа Стефани Майер «Сумерки». Автор пытается ответить на следующие вопросы: что заставило трех переводчиц взяться за работу над текстом столь невысокого художественного достоинства, и как личная заинтересованность в теме данного романа отразилась на качестве переводов. Abstract: The article is devoted to the issues of professional and amateur translations of the fiction material of poor artistic quality - the novel by Stephanie Mayer “Twilight”. The questions to answer are: what are the reasons for choosing this text for translation and how personal involvement of the translators in the theme of the novel predetermined the characteristics of the target texts.
Verborum pensitatores, то есть «взвешиватели слов» - удачное определение для переводчиков, которым словари, справочники, грамматики служат лишь второстепенным подспорьем. Как писала известный французский переводчик Валери Ларбо, наша «работа была бы легкой, если бы мы взвешивали не слова автора, а слова из словаря» [Ларбо В., 1965:.214], - но на самом деле мы обращается главным образом к «словарю» своей памяти, опыта, культуры, чувств, особенно, если сами выбираем текст для перевода. Существует немало исследований, посвященных сравнению нескольких переводов одного текста; как правило, оригинал в этом случае - произведение настолько замечательное, что потребность ввести его в свою культуру, свой язык возникает у многих профессиональных переводчиков или писателей. Их видение оригинала будет различаться настолько же, насколько они различаются как личности, что не
255
удивительно – великое искусство обращается к каждому индивидуально и напрямую, способствуя самопознанию. Но зачем же во второй и в третий раз переводить текст, который явно не отличается художественными достоинствами? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы обратились к трем переводам фрагмента романа Стефани Майер «Сумерки». Первый сделан профессиональным переводчиком Аллой Ахмеровой в 2008 году, на пике популярности вампирской саги Майер на Западе; второй размещен в Интернете некой Аделаидой Рич; третий выполнен студенткой Балтийской международной академии в процессе работы над бакалаврским сочинением. Ахмерова делает переводы современных бестселлеров для издательства АСТ по заказам и в соответствии с конъюнктурой, поэтому ответ на вопрос, почему ею выбраны «Сумерки», очевиден. Однако, две других переводчицы взялись за эту работу по иным соображениям: Рич предложила свою версию в ответ на критику, которой фанаты Майер подвергли перевод Ахмеровой, полагая, что ее вариант окажется «на высоте» оригинала; студентка БМА посчитала оба предшествующих перевода неудовлетворительными. Иными словами, обе «добровольные» переводчицы не только увлечены сочинениями Майер, но и хотят своим увлечением поделиться с другими. Поэтому, первым делом, надо разобраться, чем так притягивает современных молодых женщин (нам неизвестен возраст А.Рич, но смеем предположить, что она не намного старше той аудитории, для которой пишет Майер) этот нехитрый вампирский опус. Вампиры начали проникать в беллетристику, адресованную прекрасной половине человечества, так называемые «романы для домохозяек», задолго до Майер, при этом, подход к теме был совершенно иной, чем в традиционных, классическом вариантах. На Западе первоначальный фольклорный персонаж
256
вампир не выделялся из прочей смертоносной нечисти, он был также отвратителен, звероподобен видом и повадками, как гоблины или огры-людоеды.[Саммерс М., 2010: 1-4] Затем романтический неомифологизм, для которого характерна эстетизация зла, обогатил литературу образами прекрасных демон, заметное место среди которых занял лорд Рутвен, вампир из одноименной повести Полидори. Популярности этого персонажа способствовало то, что он легко проецировался на своего пра-автора, лорда Байрона, устный рассказ которого лег в основу повести Полидори [Дьяконова Н.,1980: 22-23]. Загадочный, утонченный красавец, тем более неотразим для дам и девиц, чем больше они чувствуют угрозу, скрытую за его обаянием - погибнуть за его любовь представляется более желанной участью, чем терпеть всю долгую жизнь общество скучного мужа! Так был сделан первый шаг к будущим «вампирофильским» настроениям нашего времени. Правда, промежуточным этапом стал знаменитый граф Дракула Брэма Стокера, во многом сохранивший отталкивающие черты фольклорных вампиров, но способный на время принимать вполне человеческий вид, сливаясь с толпой цивилизованных лондонцев викторианской эпохи. Отметим, что на этом этапе вампирскую тему разрабатывали писатели-мужчины, и их целевой аудиторией были не только женщины. В русской фольклорной традиции вампиры представлены мало, это так называемые «заложные покойники», то есть те, кто по разным причинам, умер «неправильной« смертью или был неправильно похоронен; они ненавидят людей и пытаются уничтожить, прежде всего, оставшихся в живых членов их семей. [Зеленин Д., 1999: 17-34] В литературе вариации вампирской темы (точнее, темы упырей), предложил А.К.Толстой, немного дополнив ее фольклорными балканскими мотивами, но упыри по-прежнему описывались как
257
отталкивающие, похожие на зомби из современных «ужастиков» существа. И только у символистов, наследников романтиков, как и следовало ожидать, появляются вампиры-соблазнители, охотящиеся за человеческими душами [Одесский М., 2005:.7-53]. Сегодняшняя беллетристика, как западная так и русская, предлагает многочисленные образцы развития данной темы. [Асмолов К., 2010: 4-7]. Вампиры, действительно, «герои нашего времени» [Хапаева Д., 2011:111], герои книг и фильмов самой разной жанровой природы, в которых они неизменно неотразимы (хотя и монстры!), наделены мудростью и отвагой, недоступными человеческому роду, владеют огромными богатствами (результат долголетия – накопили за 300- 500 лет), высокообразованны и культурны (тоже наследие веков); им открыты тайны колдовства и магии, они почти неуязвимы�Чего же боле? Какой смертный сравнится с этими сверхъестественно обаятельными чудовищами? И кто вспоминает о том, что их пропитание – человеческая кровь, а плата за бессмертие – утрата души? В романах Лорел Гамильтон, Кейти Макалистер, Мэри Дженис Дэвидсон и других (список мог бы быть очень длинным), которые ценители данной темы ставят намного выше вампирской саги Майер, эти этические проблемы ловко решены: вампиры живут на легальном положении, как своего рода этническое меньшинство, а для пропитания получают квоты на отлов преступников и социально опасных маргиналов. Наличие или отсутствие души в привычном христианском понимании сегодня не актуальная тема. Гораздо важнее тема социальной самоидентификации, остро стоящая перед девочками-подростками и юными женщинами. Они обладают теми же социальными правами, что и мужчины, но жестко ограничены таким экстра-социальным фактором, как физическая привлекательность. Независимо от того, насколько
258
далеко зашла эмансипация в обществе, женщина обречена на сексуальную дискриминацию: дурнушка должна быть рада любому мужскому вниманию, не имея права на чрезмерную разборчивость, но и красавица знает, что ей не подобает оценивать мужчину по наружности, это как-то «неприлично», ведь важны его ум, талант, порядочность и т.д., то есть, все те составляющие личности, которые и формируют нечто, называемое душой. Таким образом, бунт против сложившихся в веках стереотипов вызвал сегодняшний расцвет «вампиромании»: с одной стороны, героиня влюбляется в красавца – вампира, пренебрегая отсутствием у него «души», с другой стороны, он выбирает ее не за внешнюю привлекательность, а за некие скрытые от ее человеческого окружения достоинства, (например, как в книгах Майер, особый запах ее крови), что, естественно, подразумевает «душу». Молодые женщины хотят, чтобы их избранник обладал красотой сказочных принцев, мог защитить их, в силу своего особого положения, от всех невзгод жизни, но не потому, что она секс-бомба, а потому что она духовно богатое существо. Хотя этот сюжет похож на сказку, в нем героиня все-таки не превращается из лягушки в царевну, потому что герой готов любить и лягушку. Определенно, вампиры менее привередливы в вопросах экстерьера и более проницательны, чем принцы. Вот эта личная заинтересованность в теме и делает рассматриваемые переводы - Интернет перевод, в дальнейшем именуемый ИП, и студенческий перевод, далее обозначаемый СП - такими выразительными на фоне профессионального, далее именуемого ПП. Анализируемый фрагмент – 13 глава, «Признания», сюжет которой стал, по словам Майер, зерном всего романа. (Online 1). В ней описывается свидание героев в уединенном месте, в лесу, где героиня
259
может, наконец, подробно рассмотреть своего избранника. Пример 1. Edward in the sunlight was shocking. (Здесь и далее тексты цитируются по изданиям, указанным в списке литературы, далее даются только страницы, с. 153 ) ПП - На ярком солнце он выглядел более, чем странно. (С. 170) ИП – для меня это был шок. (С. 172) СП - Эдвард, лежащий на солнце, все больше удивлял меня. (Текст цитируется по бакалаврской работе, указанной в списке литературы, далее даются только страницы, с.18) Все русские варианты стилистически некорректны, потому что shock, как следует из предшествующих глав, вызван необычными, нечеловеческими свойствами героя, кожа которого на солнце светится, как некий неорганический материал Неуместно описывать это зрелище с помощью оборотов, применяемых в повседневных житейских ситуациях:»Вы ведете себя/ выглядите более чем странно!» - то есть, неправильно, нелепо; или :»Ты все больше удивляешь меня - то есть, «Не ожидала я от тебя такого!». Оба варианта могут использоваться, когда речь идет о сознательном поведении человека, более того, когда к нему применимы общечеловеческие нормы, но, поскольку герой – существо сверхъестественное, это производит едва ли не комический эффект. ИП употребил слово «шок», которое в современном русском языке часто используется как синоним слов «потрясение», «крайнее изумление», но только в разговорных контекстах и, как всякий избыточный варваризм, отмечено известной вульгарностью. Пример 2. His skin, white despite the faint flush from yesterday’s hunting trip, literally sparkled, like thousands of tiny diamonds were embedded in the surface. (С. 153)
260
ПП – Бледная кожа, слегка покрасневшая после вчерашней охоты, сияла, словно усыпанная алмазами. (С.170) ИП - Его кожа – белая, несмотря на слабый румянец, окрасивший лицо после вчерашней охоты, - искрилась так, словно ее покрывали мириады крошечных бриллиантов.(с.172) СП – Его белоснежная кожа слегка покраснела после вчерашней охоты и переливалась так, будто ее украсили миллионы маленьких бриллиантов. (С.18-19) Не удивительно, что ИП и СП не приняли вариант ПП, которая, как будто, не видит разницы между белой (в дальнейшем сравниваемой с мрамором, то есть, благородным и прекрасным материалом) и бледной (то есть, наводящей на мысль о нездоровье) кожей и не подозревает, что покраснение на коже вызывает предположение об избыточном загаре или кожном заболевании. Кроме того, ПП упустила из виду, что в русском языке, в отличие от английского, есть два слова для перевода diamond - бриллиант и алмаз. Последний не блестит, пока его не огранят, и употребляется в метафорах, сравнениях как символ твердости, надежности. В ИП и СП множество бриллиантов, «покрывающих» или «украшающих» кожу тоже вызывает забавные ассоциации с ювелирным изделием, словно герой изготовлен в мастерской какого-нибудь Фаберже, но этот образ целиком на совести автора оригинала. Пример 3. A perfect statue, carved in some unknown stone, smooth like marble, glittering like crystal. (С. 154) ПП – Мне казалось, что передо мной статуя, вытесанная из неизвестного людям камня, гладкого, как мрамор, сверкающего, как хрусталь.(С.171) ИП – Великолепная статуя, высеченная из неизвестного камня, гладкого, словно мрамор, и горящего, как хрусталь.(С.173)
261
СП – Он выглядел как изящная статуя, сделанная из неизвестного камня, гладкого, словно мрамор, блестящего, словно хрусталь. (С.20) Главное различие трех версий – перевод слова glittering, которое должно передать свойства хрусталя. Нам представляется, что авторы этих переводов видели разные «хрустали», тем более, что это слово в русском языке, как и crystal в английском. обозначает и природный минерал, и вид стекла. Первый не отличается ярким блеском, тогда как созданный человеком хрусталь, действительно, может «гореть» в подвесках люстры или «сверкать» гранями бокалов - остается задуматься, какой же хрусталь более уместен в соседстве с мрамором. Пример 4. �he asked tenderly, reaching out slowly, carefully, to place his marble hand back in mine. (с.156) ПП –�заботливо спросил Эдвард, и его рука осторожно коснулась моей.(С. 174) ИП - �нежно спросил он и осторожно протянул мраморную руку и вложил ее в мои ладони. (С.175) СП -� спросил он ласковым голосом, медленно взял своими холодными руками мои ладони. (С.27) Слишком частое повторение в оригинале мотива «мрамора», очевидно, показалось излишним ПП, которая опустила этот эпитет, и это решение представляется оправданным на фоне неуклюжего предложения, которое находим в ИП: герой «протянул мраморную руку�» - чью? куда? зачем? Поневоле приходят на ум страшные рассказы про «черную руку» (варианты «белую, красную�» и т.п.), пользовавшиеся популярностью в пионерских лагерях. Это сочетание и в английском языке нельзя считать удачным, а уж по-русски оно совсем невозможно: ИП не задалась вопросом, какие коннотации есть у слова «мрамор» в русском языке. Прежде всего, это цвет – яркая белизна, затем – благородство, принадлежность к миру высокого искусства (в русской культуре мрамор появляется
262
вместе с интенсивной европеизацией в 18 веке, как привозной, дорогой материал, из которого сделаны статуи прекрасных, но чужих богов) и, наконец – холод, как характеристика всякого камня. Поэтому вариант, предложенный СП, представляется вполне удачным – несмотря на нечеловеческий холод рук героя, он ведет себя как нежный возлюбленный – собственно, вся история именно об этом, и именно это определяет ее успех у многочисленных мечтательниц. Такой же подход к переводу эпитета marble видим в следующем примере. Пример 5. Softly he brushed my cheek, then held my face between his marble hands. (С. 159) ПП - �вкрадчиво проговорил он и, нежно коснувшись щеки, взял мое лицо обеими руками, бережно, словно хрустальную вазу. (С. 178) ИП- Он нежно погладил мою щеку, а потом взял мое лицо в свои мраморные ладони (С.179) СП – Эдвард нежно коснулся моей щеки, затем взял мое лицо в свои ледяные руки. (С.34) ПП по-прежнему избегает эпитета «мраморный»; ИП пользуется им, не задумываясь очувственном смысле мотива – если герой прикасается к лицу девушки руками, она вряд ли коситься на них, любуясь белизной, она, разумеется, ощущает холод его прикосновения, что и подчеркнуто СП. Сравнение героини с хрустальной вазой в ПП – не только переводческая отсебятина, но и образцовый «ляп», так как любой носитель русского языка чувствует, что у этого сравнения иронический, а вовсе не положительный подтекст. Пример 6. I placed my check against his stone chest. (С.162) ПП – я наклонилась вперед и прижалась щекой к его груди.(С.180) ИП - �прижалась щекой к его каменной груди. (С.181)
263
СП – Я прикоснулась своей щекой к его холодной, каменной груди. (С.37) Что именно должен означать stone в этом контексте, читатель волен догадываться: грудь твердая, как камень (сравнение, часто встречающееся в дамских романах при описании мужской мускулатуры, бесспорно лестное); или холодная, как камень, или безупречная по форме, как у мраморных статуй, но, в любом случае, необходимо было употребить сравнительный оборот, чтобы избежать неуклюжей фразы и неясного образа в русском тексте (варианты ИП и СП). Пример 7. Now and then, his lips would move, so fast it looked like they were trembling. (С.163) ПП – Побледневшие губы то и дело двигались, причем очень быстро, словно подергиваясь дрожью. (С.181) ИП – Время от времени его губы начинали двигаться, но так быстро, что это напоминало трепет крыльев колибри. (С.182) СП – Время от времени по его губам пробегала дрожь.(С.20) Словосочетание «подергиваясь дрожью» находится за пределами русского языка и должно быть отнесено на счет небрежности ПП. Кроме того, русский человек «шевелит» губами, а не «двигает», что, очевидно, не известно ни ПП, ни ИП. «Движущиеся губы» - пугающее зрелище, которое становится и вовсе нелепым после сравнения с крыльями колибри, окончательно уничтожившего образ и смысл сцены: даже если бы русскому читателю это сравнение было близко (колибри – не частое зрелище в наших широтах, а в литературе этот образ употребляется только как метафора для обозначения очень маленьких, или очень ярких объектов), он, определенно, предположил бы, что герой, производящий губами такие движения, должен немедленно обратиться к врачу, отложив
264
нежное свидание до лучших времен. СП пожертвовала «скоростью» («would move so fast»), но это небольшая потеря, принимая во внимание то, что ей удалось найти внятный и естественный русский вариант. Пример 8. His eyes were wild, his jaw clenched in acute restrain, yet he didn’t lapse from his perfect articulation. (С.162) ПП - ИП – Его глаза горели диким огнем, челюсти были отчаянно сведены, но он все так же прекрасно владел своим старомодным произношением.(С.181) СП – Его глаза стали дикими, челюсти были сжаты, но он по-прежнему говорил правильно и красиво.(С.42) Герой, как известно, прибыл в Америку из Европы, поэтому у него не «старомодное», а британское произношение, которое, действительно, является признаком принадлежности к более старой культуре, но вовсе не устарело. Это известно американцам, об этом упоминает героиня в начале книги, но это, почему-то, кажется не понятно ПП и ИП. Вариант СП правомерен, потому что именно так, как более «совершенное» (“perfect”), воспринимается британское произношение по сравнению с американским. Глаза Эдварда многократно упоминаются в оригинале, и сопровождающие их эпитеты повторяются, чем, вероятно, и объясняется желание переводчиц внести в их версии большее разнообразие. Заметим, что в литературе для дам глаза героев и героинь всегда невероятных цветов, то изумрудные и лазурные, то подобны «расплавленному серебру», грозовому морю и т.п. Пример 9. Butterscotch today, lighter, warmer after hunting. (С.155)
265
ПП – после вчерашней охоты они были цвета жженого сахара, светлее и теплее, чем обычно. (С.173) ИП – Сегодня они были светлые, теплого цвета сливочной тянучки. (С.174) СП - После охоты глаза выглядели светлыми и теплыми.(С.21) Буквально точным является ИП, который не обедняет авторского образа (как СП) и не озадачивает сегодняшних молодых читателей, которые, скорее всего, никогда не видели леденцовых петушков на палочке, сделанных из жженого сахара. Пример 10. �his golden eyes ...(С.155) ПП -� я заглянула в его золотисто-медовые глаза. (С.173) ИП - �золотистые глаза уже закрывались. (С.174) СП –Его золотистые глаза .(С.22) Переводы практически идентичны, хотя ПП несколько усложняет образ, что и понятно – повторенный десяток раз эпитет golden утомляет читателя. Пример 11. His golden eyes mesmerized me. (С.163) ПП – тигриные глаза подчинили меня своей власти. (С.181) ИП – Но переливы жидкого золота в его глазах околдовали меня. (С.182) СП – Его глаза загипнотизировали меня.(С.23) ПП и далее настойчиво внедряет свою сомнительную находку – «тигриные глаза», даже когда в оригинале нет никакого эпитета, временами заменяя их «медовыми глазами». Кроме цвета глаз переводчиков заботит их выражение, и здесь вариантов гораздо больше, чем в вялом, монотонном оригинале. Пример 12. He glanced at me grimly. (С.159)
266
ПП – Эдвард мрачно на меня посмотрел. (С.178) ИП – Он затих, сжигая взглядом деревья вокруг. (С.179) СП – Он сурово посмотрел на меня. (С.31) Как видим, ИП пытается добавить оригиналу экспрессии, «страстей», не замечая, как комически выглядит ее «улучшение». Любовь к предмету – вампирам вообще и Эдварду в частности – еще не залог успеха перевода; знания английского языка тоже недостаточно, если переводчик не чувствует родного, как видим в следующем примере. Пример 13. His voice was just a soft murmur. (С.158) ПП - ИП – �его голос был похож на слабый шелест. (С.178) СП – �его голос был полон нежности.(С.23) Перевод на русский язык глагола murmur -задача непростая, о чем свидетельствует и данный пример. ПП отказалась от этого предложения, возможно, потому что словарные значения murmur – «шептать», «роптать», «ворчать», »шелестеть»,»журчать» и др. – плохо соединяются с контекстом, доказательством чему служит вариант ИП: возможно ли представить молодого мужчину с «бархатным» голосом (о котором неоднократно упоминалось в других эпизодах) « слабо шелестящим» что-то на ушко своей возлюбленной? Вариант СП, отказавшейся от перевода «вредного» глагола, оптимален. В оригинале находим несколько образов, воспринимаемых англоязычным читателем как привычная банальность, но «не работающих» в русском тексте. Пример 14. His angel’s face was only a few inches from mine. (С.155) ПП – Лицо греческого бога оказалось всего в нескольких сантиметрах от моего. (С. 175)
267
ИП – Лицо ангела придвинулось вплотную к моему.(С.176) СП – Его прекрасное лицо было всего на расстоянии нескольких сантиметров от моего. (С.23) Дословный перевод ИП – «лицо ангела» - невнятен русской читательнице, потому что она воспитана не в той христианской традиции, которая сделала красоту ангелов источником соблазна, объектом вожделения. Это в католических храмах с куполов смотрят на молящихся дев грозные, нечеловечески прекрасные архангелы и серафимы, это католические монахини в религиозном экстазе называли себя «невестами» Христа и писали обращенные к нему любовные стихи. Ангелы православия бесплотны, они не вызывают эротических мечтаний. Вариант, предложенный ПП, тоже не представляется вполне удачным. Несмотря на бытующее шутливое выражение «Красив, как бог», сочетание «греческий бог» лишено образной силы в той русскоязычной читательской среде, для которой предназначен перевод: если в чьем-то сознании и мелькнет античная статуя безупречных пропорций, лицо этой статуи останется неотчетливым. Поэтому-то СП, представитель этой среды, и переводит так, как ей понятно – закономерное решение. Пример 15. His lovely eyes seem to glow with rash excitement. Then, as the second passed, they dimmed. His expression slowly faded into a mask of ancient sadness. (С.165) ПП- Глаза, которые я так любила, глаза, горевшие от дикого возбуждения, через секунду потускнели. На бледном лице отразилась вселенская грусть. (С.183) ИП – Его глаза горели от бешеного возбуждения. Но постепенно они стали гаснуть, лицо превращалось в античную трагическую маску. (С.184)
268
СП – Его красивые глаза горели от волнения. Но вскоре они стали угасать, и на лице появилась маска грусти. (С.26) Ни одна из переводчиц не догадывается, о какой «древней грусти» (вечной грусти падших ангелов, проклятых душ) идет речь в оригинале, поэтому ПП предложила стертый фразеологизм, а ИП, по обыкновению, использовала образ, который сама не понимает, потому что античная трагическая маска изображает человеческое лицо довольно условно, а главная ее особенность – огромная щель с выразительно опущенными уголками на месте рта – не прибавит герою красоты! Вариант СП лучше двух других хотя бы тем, что не претенциозен. Приведенный нами примеры не исчерпывают материала, но позволяют сделать выводы о двух тенденциях, характерных для «бескорыстных» переводчиц: - ИП дополняет оригинал и «улучшает» ПП, придавая тексту больше экспрессии, делая его «еще красивей», вербует новых фанатов, желая показать русским читателям все достоинства книги, которая для нее самой гораздо больше, чем книга. Это давно известный социо-культурный феномен, одна из разновидностей эскапизма, принявшего в эпоху глобальной Интернет-культуры новые формы. Книги и прежде нередко воспринимались как альтернатива реальности, они помогали мечтателям спрятаться от удручающей действительности. Порою, это были шедевры, как «Вертер», порою – посредственная беллетристика, но не художественные достоинства текста предопределяли влияние книги на умы. Скорее, наоборот, высокое качество текста сужает круг читателей, а вот книга, в которой автор нехитрым способом делится с читателем страхами, комплексами, наивными представлениями о жизни и, затем, предлагает свою формулу счастья, будет иметь массовый успех, если
269
данный автор, как говорят англичане, «репрезентативный образец» (“representative sample”) времени. Таким образом, текст Аделаиды Рич в своей невинной безвкусице имеет не меньше права называться переводом, чем сочинение Стефании Майер книгой. - СП свидетельствует о том, что начинающая переводчица хочет профессионально подойти к оригиналу, не украшая его там, где он вполне понятен, но адаптируя в соответствии с своим читательским опытом, знанием родного языка и родной культуры там, где образы оригинала оказываются чуждыми ей, не вызывают личного эмоционального отклика. Это и делает ее перевод таким интересным объектом для анализа. Литература: Асмолов К.В. (2010) Введение в структурную вампирологию. 07.06.2010. from http://www.rusf.ru/star/doklad/2001/asmolov l/htm Дьяконова Н.Я. (1980) Английская проза эпохи романтизма. В кн.: Английская романтическая повесть. Москва, 1980, с. 5-40. Зеленин Д.К. (1999)- Древнерусский языческий культ «заложных» покойников. В кн.: Зеленин Д.К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 1917-1934. Москва, 1999, с.17-34. Ларбо В. (1965) Весы переводчика. В кн.:Перевод – средство взаимного сближения народов. Москва, 1987, с.214-216. Майер С. (2008) Сумерки. Перевод А.Ахмеровой. Москва,. Майер С. (2010) Сумерки. Перевод А.Рич .. from http://twilighters.ru/forum/forum 88/topic 1347/messages Одесский М.П. (2005). Явление вампира. В кн.: Стокер Б. Дракула. Гость Дракулы. Москва, 2005, с. 7-53. Саммерс М. (1928). История вампиров. 07.06.2010. from http://serebrkniga.narod.ru/polkalit/634Montegyu-Istoriya_vampirov.html Хапаева Д. (2011). Вампир – герой нашего времени. Новое литературное обозрение, № 109, 2011.
270
Astahova K.(2012) The image of the main character Edward in the translations of “Тwilight” – the novel by Stephanie Mayer (on the basis of 3 translations). Bachelor paper. Riga, 2012. Online 1. Personal site of Stephanie Mayer : www.stepheniemayer.com Mayer S.( 2005) Twilight.
271
Надежда Сосновская
КИТАЙСКИЕ АНТРОПОНИМЫ В ЗЕРКАЛЕ ИЕРОГЛИФИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению китайской антропонимики в ракурсе когнитивного подхода. В диахроническом аспекте представлены тенденции изменения когнитивного значения китайских антропонимов. Будучи хранителем социокультурного кода китайской нации, антропонимы играют важную роль в межкультурной коммуникации, умение раскрывать который входит в профессиональную компетенцию переводчика. Abstract: This article is devoted to the Chinese anthroponymy in light of the cognitive approach. The tendencies of changes in cognitive meaning of Chinese anthroponyms are presented in diachronic aspect. Anthroponyms play an important role in cross-cultural communication, being the keeper of the socio-cultural code of the Chinese nation; and the ability to decode it is included in the professional competence of the translator. В современном мире со стремительно развивающимися глобализационными процессами, наибольшую значимость приобретает проблема построения полноценного иноязычного межкультурного диалога. Обучение межкультурной коммуникации как цели подготовки лингвистов приобретает в настоящее время аксиоматическое значение, обоснованное широким рядом исследователей: С.Г. Тер-Минасова [8], Г.В.Елизарова [5], Н.Д Гальскова [3], Н.И Гез [4] и др. Язык выступает, с одной стороны, средством межкультурной коммуникации, с другой, способствует усвоению мирового культурного многообразия, тем самым стимулируя духовное и интеллектуальное развитие любого человека.
272
В этой связи вполне закономерно то, что в рамках исследования межкультурной коммуникации ряд исследователей обращается к понятиям концепта и концептосферы. Данные понятия «связаны, с одной стороны, с инструментальной стороной в описании коммуникативного поведения: выводят нас на коды, организующие информацию в режиме интеллектуально-речевого акта; а с другой стороны, с концептуальной и социально-прагматической стороной: с принятыми и усвоенными в данный момент языковой личностью явлениями, ценностями и стереотипами, которые предложены современной культурой» [1:158]. Владение языком предполагает владение концептуализацией мира, отраженной в этом языке [2]. Китайское письмо, насчитывающее более четырех тысяч лет, эксплицировало некоторые «скрытые» механизмы вербализации мыслительных структур в процессе познания мира, создав, таким образом, китайскую иероглифическую концептуальную картину мира, рассмотрение которой возможно через призму когнитивного подхода, в основу которого составляет изучение природы и сущности человека, его языкового сознания и коммуникативного поведения. Частью иероглифической концептуальной картины мира являются китайские антропонимы, которые обладают рядом лингвистических и социокультурных особенностей. Разнообразие китайских личных имен практически не ограничено. В отличие от фамилий, представляющих самую устойчивую часть китайских антропонимов, личные имена у китайцев могут меняться несколько раз на протяжении всей жизни. Среди них различаются детские, школьные, взрослые, творческие псевдонимы, прозвища и другие имена [7]. Под антропонимом в лингвистике обычно понимается «имя собственное (или набор имен,
273
включая все всевозможные варианты), официально присвоенное отдельному человеку как его опознавательный знак, антропоним называет, но не приписывает никаких свойств» [6:54]. Антропонимы в китайской языковой картине мира имеют аксиологическое значение, обладающее онтологическими, темпоральными, эстетическими, религиозными, социальными и прочими характеристиками, что отчасти противоречит данной дефиниции. При передаче китайских имен собственных на русский язык традиционно используется прием транскрибирования, который, передавая фонетическую оболочку слова, зачастую утрачивает его концептуальное значение, в котором отражены значимые элементы жизненного опыта, состоящие из ассоциаций, образов, оценок, подтекста и прочих характеристик. Китайскими лингвистами были выявлены некоторые закономерности, основанные на статистических данных, в наречении новорожденных в разные периоды развития китайского общества в 20 веке [11]. Постараемся проследить особенности некоторых периодов, так в 1912-1948гг., относящимся к «старому китайскому обществу», характеризировавшемуся нестабильностью политической и экономической ситуации в Китае, военной экспансией иностранных держав и всеобщим обнищанием, народные массы давали своим детям такие имена, как ኳభ㸦небо хранит㸧, ᚫᐆ㸦получить сокровище㸧, ⍹峊(разбогатеть) в надежде на «защиту неба», безбедное существование и стабильную жизнь. В 1948-1950гг. особой популярностью пользовались имена, связанные с историей создания Китайской народной республики, освобождением, светлыми надеждами, поэтому символом эпохи были имена, в состав которых
274
входили иероглифы ゎᨺ (освобождение), ᘓᅜ (учреждать государство), ኳ 㸦светлое небо㸧. 1951-1953гг. были ознаменованы протестом КНР против действий США в Корее, а также поддержкой Китаем Северной Кореи, появились антропонимы 樔⚦㸦проявлять блестящие способности㸧, ᢠ⨾ 㸦противодействие Америке㸧, ᬮᮅ 㸦поддержка Северной Корее㸧, ㇀㸦прекращение войны㸧, отражающие чаяния китайского народа на скорейшее завершение военных действий в Корее, а также гражданскую позицию китайского народа. 1954-1957гг. в истории Китая проходят под лозунгом строительства социалистического хозяйства, на селе появляются бригады взаимопомощи, сельхоз кооперативы, что также находит свое отражение в именах людей, появляются ຓ 㸦взаимная помощь㸧, ᘓ学(строительство)㸪ᚿ᪉(надежда на Восток)㸪ᖹ(мир). 1958-1959гг. овеяны мечтами о строительстве коммунизма в КНР в кратчайшие сроки, выдвинута политика «большого скачка», лозунгом трудовых соревнований становиться: «Соревнуемся, учимся, догоняем, помогаем, опережаем» 㸦ẚ㸪Ꮫ, ㉲㸪ᖎ㸪㉸㸧㸪эти реалии также представлены в китайских антропонимах: 嵫徃㸦большой скачек㸧 摩㯱㸦железный муж㸧㸪傄ኳ㸦победа Поднебесной㸧㸪乊ⰼ (красный цветок). Последующие три года (1960-1963) Китай подвергся сильнейшим стихийным бедствиям, большая часть урожая была уничтожена, наступило голодное время, наложившее свой отпечаток и на имена людей: ᢠὥ㸦противодействие паводкам㸧, ⛣ᒣ 㸦от фразеологизма ហබ⛣ᒣ, упорным трудом возможно достигнуть невозможного㸧, ✂⻢ (сильный).
275
1964-1965 гг. период китайского народного героя – символа Лэй Фэна (㞾撳), вся поднебесная учиться у него бескорыстному, жертвенному служению народу. В это время возникло немало имен, отразивших восторженное почитание данного героя населением, так появились Ꮫ撳, Ꮫ㞾㸦учиться у Лэй Фэна㸧,ᚿ⅄ 㸦стремиться стать крестьянином㸧. Период с 1966 по 1976гг. явился для Китая трагическим временем «культурной революции», временем хунвэйбинов, «перевоспитания» интеллигенции сельхоз работами, призывов «ввысь в горы, вниз в села» и прочих радикальных мер. Атмосфера этой эпохи наложила отпечаток и на судьбы людей, носящих имена типа: 㠉 㸦культурная революция㸧, せṊ 㸦стремиться быть военным㸧, ⌓ර 㸦хунвэйбин㸧, Ọ乊 㸦вечно красный㸧, 㸦быть всегда с Мао Цзэдуном㸧, ⌓乊㸦защищать власть красных㸧, ⌓㸦защищать Мао Цзэдуна 㸧,Ꮫ⅄㸦учиться у крестьян㸧, Ꮫ⅃㸦учиться у военных㸧. После десяти лет лихолетья с 1976 г. в Китае наступает период восстановления и развития национальной экономики. В это время намечается две основные тенденции в присвоении имен. В одной прослеживалось тяготение к односложным, незатейливым именам: Ἴ (волна), ⇂(храбрость), ᾏ (море), ⻈ຬ(смелость), ệ(величие), в которых отразилось стремление простого народа к спокойной, простой, без «великих скачков» и революций жизни. Данные имена были наиболее распространены в провинциальных сельскохозяйственных районах, уровень образования в которых был достаточно невысоким, при наречении родители больше обращали внимание на то, какие имена носят в их окружении, не вдаваясь в размышления о глубине и
276
символичности, выбираемого имени. Согласно статистическим данным, в этот период в Китае было зарегистрировано более 250 тысяч человек с
именами ⋤ệ (величие) и столько же с
именем⋤ⰾ(благоухание). Другая тенденция шла вслед за экономическими успехами Китая, становлением «рыночной экономики» и зарождением класса имущих, воплощаясь в антропонимах как пожелание благоденствия, процветания и высокого социального положения, например: 枑⋶㸦развитие Китая㸧, 嵫⋶㸦большой скачек Китая㸧, ᏵỌ⚟(вечное счастье㸧, 崝 (образованный и культурный㸧[10]. Основным подходом в наречении с 90-х гг. прошлого века по настоящее время стал индивидуальный подход, при котором особое внимание уделяется уникальности того или иного имени: ᵶ刢 созвучно с (полкило овощей), ⿁࿘ᚊ ࿘⋡⚮созвучно с (знак пи), его фонетической и семантической составляющей, метафоричности создаваемого образа, каллиграфичности и благозвучию иероглифов㸦⻈➗桄 (радостное лицо), 㜐Ꮚ㐶 (идущая впереди), (созвучно с ⌮, мечта㸧). В имени часто употребляются архаические иероглифы, редко или вовсе неиспользуемые в современном китайском языке: ᭑, ⾯, 䟣. Отмечается также тенденция увеличения числа иероглифических знаков в составе фамилии. Несмотря на то, что подавляющее количество традиционных китайских фамилий состоит из одного иероглифического знака: ⋤㸪㸪崝, стало появляться достаточно большое количество фамилий из двух знаков, которые в подавляющем большинстве были образованы из сложения иероглифов фамилий отца и матери ребенка,
277
например: ⦻ᶘ㦓ᶠ, Ҿ⣴ᆀẀ [12]. В этом факте отслеживается современная социальная тенденция гендерного уравнивания в правах. Мотивация присвоения имени при рождении стала более разнообразной, процедура более сложной, в погоне за индивидуальностью китайцы обращаются в многочисленные компании, занимающиеся услугами в области наречения новорожденных.
Социокультурное послание китайского личного имени весьма высоко, так прочитав чье-либо имя на визитке, мы можем с достаточно высокой долей вероятности определить примерную дату рождения реципиента, его социальное происхождение, пол (в китайском языке нет грамматического показателя рода), а также чаяния родителей, которые сопровождали его появление на свет и прочие нюансы. Фонетическая составляющая антропонима для китайца гораздо менее важна, чем семантическая составляющая, а также социокультурный фон. Так имена и фамилии первых лиц КНР, хорошо известных в России, в переводе на русский язык звучат, как Мао Цзэдун, Цзян Цзэминь, Вэн Цзябао. В китайском иероглифическом варианте данные имена представлены следующими символичными для китайцев семантическими значениями:
ẟ㲥(облагодетельствовать восток), Ụ㲥≁
(облагодетельствовать народ), ᐙᐆ (государственное сокровище). Из выше приведенных примеров, мы можем сделать вывод, что социокультурный потенциал китайской антропонимики весьма высок. Антропонимы являются важной составляющей китайской контептосферы, в них отражается общественная история этноса, культурные ценности, прослеживается специфика социокультурной знаковой системы и динамика языковых
278
закономерностей. Будучи хранителем социокультурного кода китайской нации, антропонимы играют важную роль в межкультурной коммуникации, умение раскрывать который входит в профессиональную компетенцию переводчика. Проблема же передачи данного кода является одной из наиболее актуальных тем. При переводе китайских имен возникает множество ошибок и недочетов, связанных как с грамматическим, так и социокультурным контекстом, так в учебном пособии Щичко В.Ф. приводиться пример, когда в одном из сборников переводов на русский язык статей из китайской прессы автор встретил фразу «Сян Линьсао был убит старым обществом» [9]. Переводчик, по-видимому, не знал, что речь идет не о мужчине, а о женщине из рассказа Лу Синя «Моление о счастье». Однако догадаться об этом было бы можно, если посмотреть на последний иероглиф в данном имени 㸦⚈ᯘ᎒㸧, он содержит ключ «женщина», наличие данного ключа в мужском имени считается весьма нежелательным. Задача разработки в дальнейшем рекомендаций по переводу имен собственных с китайского языка на русский с учетом социокультурного и грамматического кода имеет важное значение для лингвистов, целью подготовки которых, является выполнение функции посредника в сфере межкультурной коммуникации, обладающего свойствами медиатора культур. Литература. Антонова Л.Г. (2008) «Концепт» и «контекст» в условиях современного коммуникативного пространства. Ярославский педагогический вестник. №4. С.157-160. Байрамова С.И. (2006) Учет когнитивных репрезентативных схем при формировании базовой переводческой компетенции. Лингводидактические аспекты перевода в процессе подготовки переводчиков:
279
материалы международного научно-практического семинара (15 ноября 2005 г., Иркутск). Иркутск. С. 15-25. Гальскова Н.Д. (2004) Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. М.:АРКТИ. 192с. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. (2006) Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия. 335с. Елизарова Г.В. (2005) Культура и обучение иностранным языкам. – СПб.: КАРО. 352с Ермолович Д.И. (2001) Имена собственные на стыке языков и культур. – М.: Р. Валент. 200с. Концевич Л.Р. (2002) Китайские имена собственные и термины в русском тексте (Пособие по транскрипции). М.: Муравей. 263с. Тер-Минасова С.Г. (2000) Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М.: Слово. 624с. Щичко В.Ф. (2010) Китайский язык. Теория и практика перевода. – М.: Восточная книга. 224с. 㜐ᚫᓠ. 㯱宕旭. – ி.: ≉༳Ḏ椮, 2012. – 280栝 㒌擎ᱧ. 㯱宕୰ᅜỈ亇. –ி.: ≉༳Ḏ椮, 2012. – 418栝
280
Ванда Стец
НАИМЕНОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ: В ПОИСКЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ НОМЕНКЛАТУРНЫХ
СООТВЕТСТВИЙ Аннотация: В статье затрагиваются вопросы переводческой эквивалентности названий функциональной группы лекарственных растений с точки зрения их разновидностей и особенностей употребления. С целью подтверждения вывода, даются примеры на русском, польском и латинском языках. Автор обращает внимание на большую роль латинской научной ботанической номенклатуры в процессе международной коммуникации в специальных отраслях знания. Abstract: „Names of medicinal plants: in search of a cross-language equivalents”.This article examines the role of translational equivalence of the names of medicinal plants (their functional group) from the point of view of their varieties and characteristics of usage. For the purpose of confirming the thesis, the examples in Russian, Polish and Latin languages are given. The author draws attention to the important role of scientific Latin nomenclature in the international communication in specialized branches of knowledge.
Наименования лекарственных растений являются чрезвычайно интересной группой номинантов с точки зрения лингвистических исследований. Лекарственными считается довольно большая функциональная группа, как дикорастущих, так и культивируемых растений, используемых в медицинской и ветеринарной практике для лечения и профилактики болезней (ввиду содержания в их органах биологически активных веществ), а также применяемых в пищевой и парфюмерно-косметической промышленности, и разводимых как пряные и декоративные культуры [См.:
281
Сельскохозяйственный энциклопедический словарь, 1989].
В связи с широким употреблением и большой значимостью лекарственных растений в жизни человека, их наименования функционируют не только в профессиональном общении, как составляющая специальной лексики, но и встречаются в повседневной речи неспециалистов. Однако разными группами носителей языка употребляются разного типа названия одних и тех же растений: 1) состоящие из двух структурных частей – родовой и видовой – научные латинские названия, т. е. международная научная ботаническая номенклатура (напр., Artemisia absinthium L.), 2) соответствующие им в таксономическом отношении ботанические названия растений на национальных языках (построенные по бинарному принципу латинской номенклатуры – напр., ‘полынь горькая’), а также функционирующие в обиходе и имеющие, пожалуй, наибольшую частотность употребления, т. н. литературные или тривиальные названия, происходящие от ботанических названий на национальных языках, и представляющие собой обычно их первую, т. е. родовую часть (иногда – видовую: напр., в русском языке имеется ‘полынь’ от ‘полынь горькая’, но в польском соответственно ‘piołun’ от ‘bylica piołun’), 3) народные названия растений, функционирующие на определенной территории и распространенные в основном среди сельского населения, общающегося на одном диалекте или говоре [Стец В.,2011: 462-463].
Все перечисленные выше наименования являются частью языковой, т. е. по сути, семиотической системы, предназначенной для общения различных социальных групп людей, причем две первые разновидности употребляются преимущественно в научной среде и профессиональной коммуникации, поэтому
282
встречаются, главным образом, в специальных текстах. Как считает З. Бердыховска, „целью коммуникации в специальных отраслях знания является, в отличие от ежедневного общения, не столько распознание коммуникативных намерений отправителя сообщения, сколько, достижение взаимопонимания с получателем в отношении специального содержания сообщения” [Berdychowska Z., 2008:122]. Поэтому в межъязыковой коммуникации в специальных отраслях знания (ботаника, медицина, фармакология, сельское хозяйство, и др. сферы, в которых употребляются наименования лекарственных растений), имеем дело со специальным информационно-коммуникативным переводом, неотъемлемой частью которого являются терминология и номенклатура. Ввиду своего системного характера они непосредственным образом связаны с понятийной сетью (системой) данной науки или отрасли человеческой деятельности. Термины и номены, являясь ключевым звеном специального текста, вызывают в памяти у получателей сообщения соответствующую концептуальную сеть, вокруг которой формируется не только восприятие, но и правильное понимание воспринимаемого. В случае если специальный текст составлен на иностранном языке, чрезвычайное значение имеет подборка межъязыковых лексических соответствий, необходимых для полноценности его перевода, основанной, в первую очередь, на эквивалентных соответствиях терминологии и номенклатуры, т.е. постоянных равнозначных соответствиях, не зависящих от контекста [Нелюбин Л. Л.,2003:254]. Н. Морцинец считает, что „в сопоставительном анализе лексики двух языков нужно выделить три типа эквивалентности, т. е. разновидности меры взаимного соответствия: 1) полную, когда по семантическому объему слова обоих языков
283
соответствуют друг другу, 2) нулевую, когда у слова в одном языке нет соответствия в другом языке, 3) частичную, когда по семантическому объему слова обоих языков соответствуют друг другу всего лишь в некоторой степени”[Morciniec N.,2007:22-23]. Независимая от контекста полная эквивалентность типична для научной терминологии и номенклатуры, так как при переводе специальных научных текстов термины и номены должны полностью соответствовать друг другу, вплоть до проверки правильности написания названия соответствующего вида.
Х. Вадас-Возьны приводит иную классификацию переводческих эквивалентов. По ее мнению существуют полные (абсолютные) и частичные эквиваленты, причем к первой группе принадлежат эквиваленты, охватывающие все референции единицы, ко второй – только некоторые. Кроме того, лингвистка приводит понятие «точного эквивалента» в языке перевода [Wadas-Woźny H., 2010:88]. Принимая во внимание такую классификацию, можем считать соответствующие друг другу ботанические названия лекарственных растений на национальных языках точными и полными эквивалентами.
Зато латинские названия, по нашему мнению, не являются переводческими эквивалентами, так как это международная ботаническая номенклатура. Со времен известного шведского ученого Карла Линнея, и созданной им единой системы классификации растительного и животного мира, основанной по бинарному (биноминальному) принципу, ботанические наименования растений на национальных языках сопоставляются c официально установленной научной номенклатурой на латинском языке, регламентируемой Международным кодексом
284
ботанической номенклатуры 16, и, таким образом, выявляются межъязыковые соответствия названий отдельных таксонов.
Нулевая эквивалентность в отношении ботанических названий может существовать тогда, когда носителям языка неизвестен не только номинант (наименование), но и номинат (именуемый объект, т. е. растение). В таких случаях возможно „принятие” иноязычного названия вместе с именуемым объектом, а именно заимствование названия (лексическое или структурное), либо образование отечественного названия (согласно бинарному принципу) и присвоение его новому растению на данной языковой территории. Однако этим занимаются не переводчики, только ученые – ботаники, составляющие подробное научное описание любого нового таксона.
Сегодня все мы осознаем, что классическим древним языкам, какими являются латинский и греческий, отводится огромная и неоценимая роль в развитии цивилизации. Латинский язык в течение длительного времени был основным в международной коммуникации ученых – специалистов разных научных отраслей, а в области биологии, медицинских и сельскохозяйственных наук остается таким и по настоящее время – именно в сфере систематики, в том числе номенклатуры. Е. Биневич, исследуя истоки польской ботанической терминологии, констатирует, что независимо от циклично возвращающихся в науке пуристских языковых тенденций, латынь была и все остается основным источником заимствований в польской ботанической номенклатуре, и уже в XVIII веке люди осознавали, что латинская ботаническая номенклатура играет положительную роль в
16 В настоящее время: Международный кодекс номенклатуры водорослей, грибов и растений (International Code of Nomenclature of algae, fungi, and plants).
285
развитии науки и общении ученых из разных стран [Biniewicz J., 2002:164]. Известный польский ботаник Я. Мовшович с огорчением писал, что „молодые люди не знают латыни, а без знания этого языка невозможна международная коммуникация в сфере науки”.[ Mowszowicz J., 1980:8]
На латинские ботанические названия основываются переводчики разных языков, когда ищут эквиваленты на переводимых языках. На них построены справочные материалы по ботанической статистике, в том числе многоязычные указатели (словари) названий лекарственных растений. Такой подход кажется очень разумным, так как предохраняет от ошибок, которые могут повлечь за собой серьёзные последствия.
В науке наблюдается процесс глобализации, и, что с этим связано, обнаруживается тенденция к интернационализации результатов научных исследований, а также к увеличению интенсивности и расширению охвата международного обмена информацией [Griniewicz S., 2009:89]. В настоящее время ученые не могут себе позволить оставаться с результатами своих изысканий наедине, или в узком национальном кругу – должны делать их доступными на международной арене, так как участие в профессиональной коммуникации является просто необходимым. Именно поэтому в их карьере престижными считаются научные статьи, публикуемые в известных заграничных научных журналах. Однако, несмотря на то, на каком иностранном языке издается публикация, если в ней приводятся наименования растений, автором всегда должны предоставляться официальные версии на латинском языке – с целью передачи точной информации. Поэтому с лингвистической точки зрения латинская научная ботаническая номенклатура является своеобразным tertium comparationis, облегчающим межъязыковую профессиональную коммуникацию и эффективную
286
передачу научных знаний. Для этой цели она была и создана, так как получение и передача специальных знаний с помощью общелитературного языка не являются возможными.
Стоит также отметить, что значительное количество наименований лекарственных растений на русском и польском языках – это греко-латинские заимствования – как лексические, так и структурные (языковые кальки17), что тоже в значительной степени упрощает профессиональное общение: • барбарис обыкновенный / berberys zwyczajny
(Berberis vulgaris L.), • тимьян обыкновенный / tymianek pospolity
(Thymus vulgaris L.), • шалфей лекарственный / szałwia lekarska (Salvia
officinalis L.) – название рода Salvia происходит от латинского salvus – ‘здоровый’ или от salvo – ‘лечить, спасать’[Griniewicz S., 1986:390];
• майоран садовый / majeranek ogrodowy (Majorana hortensis Mnch.) – „По мнению французских ученых-энциклопедистов XI века, относящееся к этому растению определение majoracus выводится от латинского слова amaracus (от amarus – ‘горький, терпкий’)”[ Griniewicz S., 1986:329].
Иногда названия, которые заимствовались славянскими языками из латинского и греческого языков, попали туда из других языков, так как в латинскую научную номенклатуру перешли слова из многих национальных языков18:
17 При чем, как следует из приведенных примеров, довольно часто языковой калькой является видовая часть названия: vulgaris = обыкновенный, zwyczajny, pospolity; officinalis = лекарственный, lekarski. 18 Однако, в соответствии с принципом универсальности, изложенным в Международном кодексе ботанической номенклатуры, научные названия таксонов рассматриваются как латинские, независимо от их происхождения.
287
• алоэ древовидное / aloes drzewiasty (Aloё arborescens Mill.) – Aloё выводится из древнееврейского слова ‘halal’ – ‘блестящий и горький’[Leksykon, 1990:29];
• иссоп лекарственный / hyzop lekarski (Hyssopus officinalis L.) – название происходит от арабского ‘azzof’ или древнееврейского ‘ezob’, что означает ‘святое зелье’ [Leksykon, 1990:175];
Лексические заимствования менее образны, чем словообразовательные кальки (и полукальки), которые отражают не только ставшие основой мотивации отличительные черты растений, но и связанные с ними коннотации: • страстоцвет мясо-красный / męczennica cielista
(Passiflora incarnata L.) „название Passiflora выводится из латинских слов passio – мучение, истязание и flos – цвет. Испанские монахи в строении цветка усмотрели эмблему и орудия19 Страстей Христовых, и посчитали это знаком, приказывающим им обращение индейцев в христианство” [Leksykon, 1990:303];
• красавка белладонна / pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) „родовая часть названия Atropa происходит от имени одной из трех греческих богинь судьбы – Atropos, перерезавшей нить жизни, и ссылается на ядовитые свойства растения. Название вида belladonna – ‘прекрасная дама’, связано с тем, что в Древнем Риме женщины воспользовались ягодами растения с косметическими целями – для покраски щек и расширения зрачков”[ Leksykon, 1990:303]. Таким образом, русское ботаническое название является заодно лексическим заимствованием и калькой латинского названия этого вида – belladonna.
19 3 гвозди (рыльца пестика), 5 ран (тычинки), терновый венец (внешняя корона между околоцветником и тычинками в виде ярко окрашенных нитей) и др.
288
Происхождение польского ботанического названия тоже связано с ядовитыми свойствами растения, однако оно не заимствовано, и его объяснение иное;
• ложечница лекарственная / warzucha lekarska (Cochlearia officinalis L.) –название рода выводится из латинского слова cochlear – ‘ложка’, по причине ложковидных прикорневых листьев. Русское родовое название – аналогично, польское – связано с глаголом ‘warzyć’ – ‘готовить пищу’[Leksykon, 1990:511], но аналогичный корень у устаревшего слова ‘warząchew’–‘большая кухонная деревянная ложка’[Uniwersalny słownik, 2004].
Можно ли говорить о поиске межъязыковых соответствий и рассуждать о вопросе эквивалентности в случае народных названий лекарственных растений в двух языках – польском и русском, и есть ли такая необходимость? Для лингвиста, наверное, более интересным будет сопоставление мотивационных аспектов народных названий в этих языках, т. е. по сути, выявление и сравнение экстралингвистических фрагментов внеязыковой действительности, которыми руководствовались носители языков, создавая эти названия, а затем соотнесение наименований функционирующих в обоих языках.
Народные названия растений отражают фрагмент языковой картины мира в говорах, диалектах, речи сельского населения – показывают растительный мир таким, каким воспринимают его сельские жители. Кроме информативной части, эти наименования обладают специфической коннотативной окраской, вызывая дополнительные ассоциации, и могут по-разному восприниматься. В основу их мотивации положены отличительные, но к тому же иногда совершенно разные черты растений, в зависимости от того, которые из них сочтены главными, поэтому иногда сложно найти
289
переводческий эквивалент, так как для одного таксона имеется много разных народных определений. Примером могут служить функционирующие в диалектах и говорах различные названия мать-и-мачехи обыкновенной / podbiału pospolitego (Tussilago farfara L.): русские – ‘двоелистник’, ‘мать-трава’, ‘односторонник’, ‘царь-зелье’, ‘конское копыто’, ‘околоречная трава’, ‘ранник’; польские – ‘boże liczko’, ‘końskie kopyto’, ‘ośla stopa’. Поиск межъязыковых соответствий для народных названий лекарственных растений иногда может вызывать дополнительные затруднения также ввиду того, что они обладают омонимией, которая недопустима в случае ботанических названий на национальных языках 20. По мнению М. Калезич, „омонимия осложняет лингвистам задачу точной идентификации растения, т. е. определения референта с его отличительными свойствами” [Калезич М., 2009:112], следовательно, осложняет также и подбор переводческого эквивалента. В качестве примера можно привести довольно популярное народное название ‘куриная слепота’, которое по данным словарей Анненкова и Даля относится к тридцати четырем видам растений (в частности, так называют лютик едкий, очный цвет полевой, фиалку трехцветную, ястребинку зонтичную, яснотку пурпурную) 21.
К тому же народные названия растений устаревают, либо вытесняются другими, более популярными. Итак, у переводчиков крупнейшего произведения Адама Мицкевича – поэмы «Пан
20 Эти названия, так же, как и латинские, должны быть построены по принципу уникальности, т.е. каждый таксон может иметь только одно название - наиболее раннее и соответствующее правилам Кодекса. 21 Данный пример приводим из: Колосова В.Б. (2009) Лексика и символика славянской народной ботаники. Этнолингвистический аспект. Москва: Издательство «Индрик», с. 101.
290
Тадеуш» возникали затруднения с подбором межъязыковых соответствий народных названий некоторых растений, например регионального определения ‘dzięcielina’22, которое в современном литературном польском языке означает, скорее всего, вид клевер розовый / koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.). При переводе на корейский язык оказалось, что в нем существует для клевера народный эквивалент – ‘заячья трава’23. Аналогичная проблема возникла в процессе перевода поэмы на русский язык24. Как нам кажется, при поиске переводческих эквивалентов народных названий лекарственных растений, следует выбирать те (из реально существующих), которые наиболее полным образом передадут не только основу мотивации, но и все имеющиеся в исходном названии ассоциации. Литература: Калезич М., (2009) Еще раз об омонимии в фитонимии: Colchicum, Crocus, Gymnadenia, Iris, Orchis, Sternbergia. Этнолингвистика. Ономастика. Этимология, Изд. Уральского университета, Екатеринбург. Колосова В.Б. ( 2009) Лексика и символика славянской народной ботаники. Этнолингвистический аспект. Издательство «Индрик», Москва. Нелюбин Л. Л. (2003) Толковый переводоведческий словарь, Флинта – Наука, Москва. Сельскохозяйственный энциклопедический словарь (1989) Москва, «Советская энциклопедия».
22 русские диалектные слова: дятлина, дятловина, дятельник. 23 см. статью "Pan Tadeusz" po koreańsku, http://wiadomosci.wp.pl/kat,12351,title,Pan-Tadeusz-po-koreansku,wid,8100722,wiadomosc.html?ticaid=1e634 [дата обращения: 20.04.2012] 24 см. статью Osiem lat nad "Panem Tadeuszem", http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/osiem-lat-nad-panem-tadeuszem [дата обращения: 20.04.2012]
291
Стец В. (2011) Лингвокультурные аспекты наименований лекарственных растений в русском и польском языках, в кн.: „Русистика и современность”. 13-я Международная научная конференция. Сборник научных работ, Изд. Балтийской международной академии, Рига, с. 462-463. Berdychowska Z.( 2008) O przesłankach, przejawach i następstwach wielojęzyczności nauki. Wielojęzyczność nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław – Warszawa. Biniewicz J. (2002) Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole. Griniewicz S., Zaniewski J., Skopiuk T., Sorokina E. (2009) Antropolingwistyka (nowa nauka XXI wieku), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok. Kawałko M. J. (1986) Historie ziołowe, Krajowa Agencja Wydawnicza, Lublin, с. 390. Leksykon roślin leczniczych (1990) pod red. A. Rumińskiej i A. Ożarowskiego, PWRiL, Warszawa. Leksykon roślin leczniczych (1990) red. A. Rumińskа i A. Ożarowski, PWRiL, Warszawa. Morciniec N. (2007) O językowym obrazie świata, czyli czym różnią się języki. For the Love of the Embedded Word – in Society, Culture and Educaton, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Mowszowicz J. (1980) Zarys systematyki roślin, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa Wadas-Woźny H. (2010) Семантическая и прагматическая вариативность языка в русско-польском переводе, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce. Uniwersalny słownik języka polskiego, wersja 1.0 CD, (2004)Wydawnictwo Naukowe PWN SA. "Pan Tadeusz" po koreańsku, http://wiadomosci.wp.pl/kat,12351,title,Pan-Tadeusz-po-koreansku,wid,8100722,wiadomosc.html?ticaid=1e634 [дата обращения: 20.04.2012] Osiem lat nad "Panem Tadeuszem", http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/osiem-lat-nad-panem-tadeuszem [дата обращения: 20.04.2012]
292
Марина Фильцова, Людмила Кочергина
СЛОВА С ГРАММАТИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТЬЮ
ИНФИНИТИВА: РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ
ЯЗЫКОВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ
Аннотация: В статье изложены результаты поиска глубинных причин обязательной сочетаемости группы лексических единиц с глаголами в форме инфинитива в русском и английском языках, а также ставится задача описания лексико-семантических полей, организующих весь корпус словосочетаний с зависимым инфинитивом, в целях прикладного языкознания – обучения русскому языку иноговорящих.
Abstract: The article presents the results of the search of the mechanisms, determining the origin of obligatory compatibility of the Russian and English infinitive as well as the task of the description of semantic fields that organize the entire case with dependent Infinitive phrases, to Applied Linguistics - teaching the Russian language as non-native.
Современная лингвистика характеризуется
активными исследованиями, касающимися путей и закономерностей функционирования морфологических и синтаксических форм (с учётом их системных структурно-семантических и коммуникативно-прагматических особенностей), образования функционально-семантических парадигм таких форм и установления иерархии функций в структуре функционально-семантических парадигм. Это является следствием целостного восприятия мира, исследования языковых явлений в неразрывной связи с потребностями коммуникативной деятельности человека. Именно поэтому сегодня идёт активный поиск объяснений там, где ранее считалась возможной в лучшем случае простая констатация разрешений и запретов. Ср.: «Наряду с решительным поворотом к семантике в числе основных тенденций постструктуралистского
293
этапа развития лингвистики можно назвать � требование вполне эксплицитного и исчерпывающего характера лингвистических описаний» [Булыгина Т. В., Шмелёв А. Д., 1997: 9].
Соотношение понятийной и языковой картин мира изучается в двух направлениях: от языковой картины мира к понятийной и наоборот. Направление анализа лингвистического материала от понятий к языку кажется нам более соответствующим естественному процессу языкового оформления мыслей, когда решается вопрос о том, как выразить тот или иной фрагмент действительности. Именно с этих позиций нас не устраивают существующие классификации слов с грамматической валентностью инфинитива в русском языке, сделанные носителями языка для носителей же и потому не имеющие объяснительной силы. Ни одна из имеющихся на сегодняшний день трактовок инфинитива не даёт ответа на вопрос: какая причина заставляет использовать в определённых случаях именно эту форму? Таким образом, актуальность предпринятого нами исследования определяется недостаточным описанием той части лингвистической прагматики инфинитива, которая служит целям обучения иноговорящих. Проблема становится ещё более актуальной в силу того, что в настоящее время в ряде медицинских вузов Украины, ведущих подготовку иностранных специалистов, в качестве основного языка обучения всё чаще выступает английский язык, и коммуникация происходит не только в русскоязычном, но и в англоязычном культурном пространстве. Поскольку и русский, и английский языки входят в одну индоевропейскую семью языков, хотя и относятся к разным её ветвям, логично предположить, что вопросы обязательной валентности инфинитива должны решаться не только с позиций традиционной лингвистики (тем более, что инфинитив в обоих языках – весьма
294
древняя форма), но и на глубинном уровне. И потому мы обращаемся к рассмотрению детерминант поведения индивида в онтогенезе, за пределами наличного состояния индивида и его конкретных желаний. На эту мысль наталкивает нас определение инфинитива, данное А. А. Потебнёй: «Неопределённое наклонение глагола� есть воля души, выражаемая голосом, являемая речью» [Потебня А. А. , 1958: 335].
Источником активности живых систем, побуждением и целью их поведения в окружающем мире в психологии и психофизиологии считается потребность, которая понимается как избирательная зависимость живых организмов от факторов внешней среды, существенных для самосохранения и саморазвития. Потребность лежит в основе внутреннего напряжения, которое составляет основу активности живого организма. Возникнув же, потребность должна быть без промедления удовлетворена: иначе в некоторых ситуациях невозможно выжить. Желание – главный ускоритель человеческих действий. Связь желания с волевыми явлениями и тесная функциональная связь его с оценивающими эмоциональными переживаниями признаётся и подчёркивается как психофизиологией, так и философией. Желание в свою очередь направлено на предмет-цель. Целеполагание является наиболее характерной формой детерминации поведения живых систем. Организм строит своё поведение так, чтобы добиться определённых целей – удовлетворения тех или иных (прежде всего биологических) потребностей: утоление голода, жажды, избегание опасности и. т. д. На предмет-цель направлено желание, которое и толкает человека на совершение естественных действий. В этом смысле, возможно, справедливо утверждать, что в ряду естественных действий потребность создаёт цель. Иными словами, под целью поведения живой
295
саморегулирующейся системы следует понимать тот полезный приспособительный результат (удовлетворение определённых биологических, социальных и интеллектуальных потребностей), на достижение которого направлена деятельность этой системы. В картине мира, которая представлена в естественном языке, понятие цели занимает одно из центральных мест наряду с такими понятиями, как действие, свойство, время, причина. Цель побуждает к действию, придаёт ему смысл. Интересно отметить, что язык цели включает в себя, в частности, следующие имена, группирующиеся вокруг существительного цель: задача, назначение, предназначение, намерение, стремление, замысел, план и др. Заметим попутно, что все эти слова имеют грамматическую валентность инфинитива. Так потребность, мотив, цель и её достижение сополагаются, являясь организующим началом большого комплекса понятий, относящихся к человеку.
Наконец, анализ организмом окружающей среды невозможен без информации о его собственном функциональном состоянии, о собственной внутренней среде: ведь именно от неё зависит, как организм оценит внешние события. То есть восприятие – это не только действие, но и эмоциональная оценка, определение ценности прежде всего на уровне жизненных функций, на уровне биологических интересов, полезности или вредности. Таким образом, побуждение формируется на основе оценки. На родственную природу оценивающих и побуждающих переживаний указывал ещё И. Кант. Отметим, что оценка вероятности достижения цели (удовлетворения потребности) по своей природе есть информационная категория, что, на наш взгляд, оправдывает привлечение сугубо естественнонаучных трактовок в лингвистические изыскания.
296
Анализируя взаимоотношения русского инфинитива с личными глаголами, именами и наречиями, мы приходим к выводу, что в семантике опорного слова отчётливо видны значения, имеющие тесную связь с перечисленными выше детерминантами поведения субъекта: «потребность, обязательная необходимость, долженствование», «хотение (желание)», «цель», «достижение цели», «эмоциональная оценка». Почему здесь присутствует именно инфинитив? Мы предполагаем, что это связано с общим инвариантным значением инфинитива. Таковым, как известно, является потенциальность действия [см.: Бондарко А. В., 1976]. Как отмечает А. В. Бондарко, именно в соответствии с этим значением инфинитив часто характеризуется лексически или синтаксически выраженной различной модальностью – волюнтативной модальностью, модальностью возможности / невозможности, модальностью долженствования и другими модальными значениями. Как отмечалось выше, именно эти модальные значения присутствуют в семантике опорного слова, имеющего обязательную грамматическую валентность инфинитива.
Итак, если свести воедино употребления формы инфинитива, расположив их при этом так, чтобы наглядно прослеживались их семантические взаимоотношения, можно увидеть, что позиция инфинитива в русском языке обязательна при словах, обозначающих:
I.
Потребность, обязательность: Мне надо / нужно / необходимо это сделать; я должен это сделать.
II. Потребность переходит в желание её удовлетворить: Я хочу это сделать; я собираюсь это сделать; я надеюсь это сделать.
III. Цель придаёт действию смысл: Я планирую это сделать; я могу это
297
сделать. IV. Определив для себя цель, субъект
старается её достигнуть: Я отправился это делать; я начал / продолжаю / закончил это делать; я научился это делать.
V. Наконец субъект даёт эмоциональную оценку тому, что является для него важным, необходимым, нужным: Мне приятно / неприятно / полезно / имеет смысл� это делать.
В английском языке инфинитив также неотделим от выражения модальных значений – значений необходимости, возможности, намерения, предположения и др. Так же, как и в русском языке, английскому инфинитиву свойственно чаще всего употребляться в функции существительного (субъект или дополнение к глаголу), он может быть приименным определением и обстоятельством, т.е. создавать обязательную валентность. Ср.: Я должен ехать: I must go
Мне надо посоветоваться с врачом:
I need to consult a doctor.
Больному нужно принимать лекарство 3 раза в день:
The patient has to take medicine 3 times a day.
Эту задачу можно решить очень быстро:
This problem can be solved very quickly.
Что ты собираешься делать завтра?
What are you going to do tomorrow?
Он не способен ничего понять:
He can' t understand anything / He is unable to understand anything.
Она готова помочь мне: She is ready to help me. Надеюсь увидеть тебя ещё:
I hope to see you again.
Начал говорить, продолжаю работать:
I began to speak, I continue to work.
298
Мне пора ехать: I must go (It is time for me to go).
Пора начинать: It is time to begin. Мне тяжело уезжать: It is hard for me to leave. Мне больно смотреть на свет:
It hurts me (It is painful for me) to look�
Нам вредно дышать пылью:
It is harmful for us to inhale dust.
Хорошо здесь жить: It is good to live here. Трудно сказать: It is hard to say / It is
difficult to say. Приведённые примеры дают возможность
утверждать, что в конкретных грамматических формах языка выражаются универсальные логические формы мышления, которые преломляются в семантических формах. Это подтверждает наше предположение о том, что в сфере глубинной семантики между русским и английским языками существует значительное сходство, что имеет значение в практике преподавания языка как неродного: при сопоставлении грамматических структур двух языков соответствия между ними гораздо легче установить на уровне мышления, на уровне языковых универсалий.
Названные детерминанты поведения индивида в онтогенезе составили пять лексико-семантических полей в выполненной нами лексикографической классификации слов с грамматической валентностью инфинитива («Толковый словарь лексических единиц с грамматической валентностью инфинитива»: содержит около 1260 лексических единиц с толкованием, примерами употребления и английскими эквивалентами). Основанием для выделения лексико-грамматических группировок слов являются одновременно категориально-лексическая сема и уточняющий её существенный семантический признак. Внутри групп лексические
299
единицы располагаются не по алфавиту, а с учётом их естественной смысловой связи друг с другом, по типу парадигмы: во главе группы находится лексическая единица с наиболее общим отвлечённым значением, остальные члены группы составляют оппозиции по отношению к базовому слову. Лексические единицы располагаются на разных уровнях иерархии в зависимости от количества семантических компонентов в своей структуре. Наиболее содержательные единицы отличаются от базового слова группы наличием нескольких дифференциальных признаков. Таким образом, весь массив слов с обязательной валентностью инфинитива представлен в виде иерархически упорядоченного множества на основании конечного списка базовых семантических признаков. Выделение таких признаков позволяет формулировать правила, предписывающие употребление инфинитивных конструкций в речи иноговорящих, что, с нашей точки зрения, соответствует одному из ведущих принципов функционального представления языка в учебных целях: способ описания системы языка должен не только создавать основу знаний по иностранному языку, но и охватывать существенные аспекты деятельности на этом языке.
Литература Бондарко А. В. (1976) Теория морфологических категорий. Л.: Наука. 255 с. Брицын В. М. (1990) Синтаксис и семантика инфинитива в современном русском языке . АН УССР. Ин-т языковедения им. А. А. Потебни. Киев: Наук. думка. 318 с. Булыгина Т. В., Шмелёв А. Д. (1997) Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Школа «Языки русской культуры». 574 с. Потебня А. А. (1958) Из записок по русской грамматике: в 4 т. М.: Учпедгиз. Т. 1 – 2. 536 с.
300
Сеченов И. М. (1953) Избранные произведения. М.: Учпедгиз. 415 с. Симонов П. В. (1987) Мотивированный мозг. М.: Наука. 375 с. Симонов П.В. (1981) Эмоциональный мозг. М.: Наука. 215с. Шелякин М. А (2006) Русский инфинитив (морфология и функции). М.: Флинта: Наука. 160 с.
301
Елена Цыбина
ЯВЛЕНИЯ «АКТАНТНАЯ ДЕРИВАЦИЯ» И
«ЛАБИЛЬНОСТЬ» В ЯЗЫКОЗНАНИИ
Аннотация: Статья подробно рассматривает такие лингвистические явления, как «актантная деривация» и «лабильность». Автор выделяет виды актантной деривации, приводит примеры данного явления. Abstract: The article considers such linguistic phenomena as “actant derivation” and “liability”, their interaction and the key difference. The author points out the types of actant derivation, gives some examples of this phenomenon.
В данной статье рассматривается
взаимосвязь таких понятий, как «актантная деривация» и «лабильность». В науке состоялось, что лабильные глаголы - это глаголы, имеющие и переходную, и непереходную модели управления. Показано, что хотя в русском языке такие глаголы редки, можно заметить некоторые закономерности в их семантике.
По мнению А.Б. Летучего противопоставление по переходности и преобразования, связанные с переходностью, находятся в центре лингвистических исследований уже долгие годы [Летучий, 2005: 10].
Под переходностью долгое время понималось чисто синтаксическое свойство – способность или неспособность глагола управлять прямым дополнением. Тем не менее, довольно рано было замечено, что синтаксическая переходность связана с семантическими свойствами глагола – в частности, в работе П. Хопера и С. Томпсона, где было предложено девять семантических параметров ситуации и её участников, связанных с семантической переходностью [Хопер, 1980: 251-299].
302
Тем не менее, лабильность (способность глагола быть и переходным, и непереходным без изменения внешней формы) – тема, без которой невозможно полное изучение проблематики переходности – не столь полно представлена в лингвистических работах.
В исследованиях по отдельным языкам лабильным глаголам уделяется место, только если они особенно характерны для данного языка – прежде всего, в описаниях эргативных языков. Монографических описаний лабильных глаголов в языках мира почти нет. Можно отметить только работу М.С. Полинской «Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков», где подробно анализируются группы лабильных и диффузных глаголов в эргативных языках различной генетической принадлежности [Полинский, 1986].
По мнению А.Б. Летучего, лабильными называются глаголы, имеющие и переходную, и непереходную модель управления: например, английский глагол to break может означать и «ломать» (переходная модель), и «ломаться» (непереходная). Как правило, явление лабильности рассматривалось на примере языков, где оно сильно развито: прежде всего, английского и нахско-дагестанских, хотя есть и типологические исследования (Летучий 2005: 38). Лабильных глаголов в русском языке совсем не так мало, как может показаться: около 30 лексем. Ниже постараемся понять, можно ли говорить о классе русских лабильных глаголов или же нужно считать, что в русском языке лабильность случайна и должна считаться только особенностью отдельных лексем.
Судя по всему, хотя бы для части глаголов лабильность нужно считать закономерностью. В русском языке лабильны многие глаголы движения, как можно заметить из приведённого списка.
303
Приведем некоторые примеры (первыми приводятся непереходные употребления): По дороге мчал серебристый автомобиль; Поезд мчал нас в сторону Парижа. Мы не дошли до горы и повернули назад; Мы решили повернуть стол к стене. Он побыл на войне три месяца да и двинул в тыл; В конце концов гроссмейстер двинул пешку вперёд на два поля.
Термин «актантная деривация» не распространен и относительно мало употребителен. Один из первых систематических обзоров актантно-деривационных значений был дан У. Чейфом [Чейф, 2009: 139-161]. Из отечественных лингвистов можно назвать А. И. Коваль, которой был предложен термин «актантно-значимые преобразования», ис-пользуемый, в частности, в исследовании актантной деривации в языке пулар-фульфульде [Коваль,1997]. Также актантная деривация рассматривается И.А. Мельчуком [Мельчук, 1995: 377-378]. Но более подробное описание актантной деривации можем наблюдать в работе В.А. Плунгяна «Общая морфология: введение в проблематику», где он подробно описывает данное явление в языкознании, даёт классификацию и проводит границу между понятиями актантной деривацией и залогом [Плунгян, 2000: 153].
В языкознании актантная деривация представляет собой грамматическое преобразование, в результате которого предикатная лексема, претерпевая регулярное изменение лексического значения, приобретает вторичный (не соответствующий никакому партиципанту вершинного слова) актант или утрачивает один из партиципантов. В соответствии с семантическими преобразованиями, составляющими содержание актантной деривации, можно выделить следующие её типы:
304
• повышающая — увеличивает число актантов по сравнению с исходной описываемой предикатом ситуацией:
o каузатив — создаёт для глагола вторичное подлежащее со значением агенса;
o аппликатив — создаёт прямое дополнение;
o версия (бенефактив) — создаёт косвенное дополнение
• понижающая — уменьшает число участников. Единственная зафиксированная в языках мира разновидность актантной деривации, состоящей в устранении актанта — декаузатив, устраняющий из значения глагола партиципант со значением агенса. В славянских языках декаузатив служит для образования непереходных глаголов от переходных, например в русск. нагревать — нагреваться, где декаузатив с -ся имеет значение действия, происходящего самопроизвольно;
• интерпретирующая — не изменяет числа актантов, но меняет их типы и референцию. К интерпретирующим актантным деривациям могут быть отнесены рефлексив, реципрок; Нужно заметить, что между залогом и актантной
деривацией отстуствует жёсткая граница. В частности, в пределах одного языка и те, и другие значения могут выражаться одними и теми же грамматическими средствами (к примеру, с помощью -ся в русском языке).
Однако залог и актантная деривация различаются выражаемыми значениями: залоговые преобразования затрагивают лишь прагматическую интерпретацию описываемой внеязыковой ситуации, в то время как при актантной деривации изменяется её семантическая интерпретация: состав участников и их семантические роли.
305
Сейчас очень распространена концепция В.А. Плунгяна, по которой залог и актантная деривация – разные вещи. Залог – это всего лишь изменение отношений между участниками ситуации, а актантная деривация изменяет сам состав участников: например, появляется или исчезает пациенс и т.п. [Плунгян, 2000: 153].
Как было замечено в работе А.Б. Летучего «Типология лабильных глаголов: синтаксические и морфосинтаксические аспекты» лабильность почти всегда сосуществует с показателями залога и актантной деривации - каузатива, рефлексива, реципрока, декаузатива, пассива и т.д. [Летучий, 2005: 156].
Для лабильных глаголов чрезвычайно характерна сочетаемость с показателями деривации. Возможность лабильных глаголов сочетаться с деривативными показателями показывает, что сама лабильность не может считаться «показателем» деривации – это несколько иной механизм, не мешающий каузативации.
Классы глаголов, сочетающихся и не сочетающихся с показателями, определяются индивидуально для каждого языка. В частности, они зависят от первичности маркированной или немаркированной формы и от смысла лабильного глагола (русский лабильный глагол повернуть сочетается с показателем деривации, но обозначает не то же, что в немаркированном непереходном употреблении).
А также неожиданным для науки является тот факт, что в некоторых языках лабильность (в особенности окказиональная) может выражать редкие типы каузации, в частности, наблюдение (supervision) и социативную каузацию.
Нестандартный тип каузативного значения, возникающий у лабильных глаголов, связан с их сочетаемостью. Некоторые из свойств лабильных
306
глаголов задают и тип каузации, применимый к ситуации.
Окказиональная лабильность – особое явление. Хотя в данной работе оно не рассматривается, нужно оговориться, что его механизм может быть несколько иным, нежели у обычной лабильности.
В частности, многие употребления глаголов, образованные таким способом, остаются вне языковой нормы и используются как игра: именно так ведёт себя глагол уйти: хотя его переходное употребление очень частотно, вряд ли носители считают его нормативным. Однако исключить их из рассмотрения нельзя: по семантическим и синтаксическим критериям они полностью удовлетворяют определению лабильности (более того, многие лабильные глаголы в действительности имеют такие неравноценные употребления).
О нестандартных типах рефлексива и реципрока в случае лабильности говорить сложнее. В отличие от каузативов или декаузативов, эти деривации не имеют такого количества вариантов, хотя реципрокальная и взаимная лабильность также отличаются от маркированных дериваций.
Литература Коваль, А.И., Нялибули, Б.А. (1997) Глагол фула в типологическом освещении. М.: Ин-т языкознания РАН, Ин-т рус. яз. РАН. 253 c. Летучий, А.Б. (2005) Непрототипическая переходность и лабильность: фазовые лабильные глаголы. Вопросы языкознания, №4. М.: Академиздатцентр «Наука» РАН. 344 с. Мельчук И.А. (1995) Об одном словообразовательном аффиксе и об одной синтаксической фраземе современного русского языка. В: Мельчук И. А. Русский язык в модели «Смысл ↔ Текст». М. Вена, «Языки русской культуры». с. 325-346.
307
Плунгян, В.А. (2000) Общая морфология. Введение в проблематику. — М.: Эдиториал УРСС, 384 с. Полинская М.С. (1986) Диффузные глаголы в синтаксисе эргативных языков: Автореф. дис. канд. филол. наук. М.С.95 . Саидов М.-С.Д. (1967) Краткий грамматический очерк аварского языка. В: Аварско-русский словарь. М. Чейф, У. (2009) Значение и структура языка. М.: Либроком. 424с. Hopper, P. and S. Thompson. (1980) Transitivity in Grammar and Discourse. Language. Vol. 56.2. 251-299.
308
Игорь Чекулай, Ольга Прохорова
КОНЦЕПТ ВЛАСТЬ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация: У русского народа всегда было особое отношение к власти. Но, очевидно, это особенность не только русского народа, а универсальная черта человеческого менталитета в целом, поскольку вопрос о власти, начиная от власти старейшин первобытного общества и кончая властной структурой XXI века, всегда был одной из важнейших проблем функционирования социального организма. В Священном Писании встречается много апелляций к данной проблеме, и все они имеют далеко неоднозначное решение. Интересная трактовка отношения к власти встречается в частности, в Евангелии от Матфея:
Больший из вас да будет вам слуга: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится (Матф., (Гл. 23,ст.11-12). Власть как таковая всегда находилась в двойственном, щекотливом положении; с одной стороны, необходимо удерживать своё господствующее положение, а с другой стороны, необходимо если не заигрывать с подданными, то, по крайней мере, суметь не перегнуть палку в отношениях власть имущих и людей. Именно по этой причине народ, видящий это двойственное положение, в зависимости от ситуации по-разному относится к власти. Это всё находит отражение и в системе языка в целом, и в фразеологической системе языка, в частности. Переходя к языковому осмыслению данного явления, считаем необходимым обратиться к словарным дефинициям данного термина в русском языке:
309
1. Право управления государством, политическое господство, права и полномочия государственных органов. 2. Органы государственного управления, правительство, должностные лица, начальство. 3. Право и возможность распоряжаться, повелевать, управлять кем-либо или чем-либо. 4. Могущество, господство, сила. Ваша власть – как вам угодно, ваше дело. В моей (твоей, его и т.д.) власти – зависит от меня, касается меня. Во власти или под властью – под воздействием, под влиянием. Отдаться во власть, отдаться или предаться власти – подчиниться кому-либо или чему-либо, оказаться под воздействием кого-то или чего-то. Терять власть над собой – терять самообладание. Глагол “властвовать” используется в значениях управлять, править (страною, государством), подчинив своей воле, распоряжаться кем-либо или чем-либо, управлять, оказывать . воздействие, подчинять своему влиянию [СРЯ 1985: 183–184].
В английском языке слово power употребляется в следующих значениях:
1 способность делать что-то или действовать... 2 определенная способность (свойство) человеческого тела или ума... 3 а правление, влияние или авторитет; б политическое или социальное господство или контроль... 4 санкция, делегированный авторитет... 5 персональное господство; 6 влиятельный человек, группа или организация... 7 а военная сила; б государство, имеющее международное влияние, особенно основанное на военной силе... 8 сила, энергия; 9 действующее свойство или функция чего-либо... 10 разг. большое число или количество чего-либо... 11 возможность использовать механическую силу или делать какую-то работу (лошадинаясила). 12 механическая или электрическая энергия (в отличие от ручного труда)... 13 а доставка (особ. электрической) энергии; б определенный источник или форма энергии (гидроэлектрическая энергия); 14
310
используемая механическая сила... 15 физ. показатель выходной мощности; 16 продукт, полученный в результате увеличения (умножения) какого-то числа в несколько раз... 17 увеличительная способность линз...” [OERD: 1135–1136]. Как нетрудно заметить, в основе этих дефиниций лежит такой деонтологический категориальный концепт, как ВОЗМОЖНОСТЬ, СПОСОБНОСТЬ. Действительно, человек или группа людей, обладающих властью в социуме в целом или в определенной области развития данного социума, всегда имеют какие-то дополнительные возможности по сравнению с «простыми» людьми. С другой стороны, очень важным семантическим компонентом, слагающим понятие ВЛАСТИ, является концепт СИЛА. Именно в этой области наблюдается большое количество метафорических и метонимических переносов, как правило, представленных ассоциациями с определёнными лицами или животными. Так, в русском языке очень много пословиц представлено концептом ЦАРЬ, в частности: Народ – тело, царь – голова. Нельзя земле без царя стоять. Царь думает, а народ ведает [ПРН: 199-200]. То же следует сказать и об английском языке, где соответствующий, но не совпадающий по семантическим параметрам концепт KING имеет аналогичные семантические функции, в частности: The King can do no wrong. Kings go mad, and the people suffer for it. Kings have long arms [БАРФС: 425]. Что же касается анималистической семантики в области фразеологии, отражающей концепт ВЛАСТЬ, подавляющее большинство случаев относится к метафоре власти в знаковой форме таких животных, как лев и орёл (или иная хищная птица), как в русском, так и в английском языке. Это, очевидно, явная семиотическая универсалия,
311
поскольку символика орла (Российская Федерация, США, Соединённые Штаты Мексики, Австрии и многих других стран) является характерной чертой оформления гербов государств. Но то же можно сказать и о льве (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Чешская Республика и др.). Примечательно, что ни в русском, ни в английском языках данная семантическая черта не нашла яркого отражения в семантической структуре фразеологических единиц. Тем не менее, отдельные случаи употребления лексических единиц, отражающих данные концепты, находят отражение в устойчивых словосочетаниях английского и русского языков в несколько иной импликации: неустойчивого, опасного положения в контакте с кем-то сильным, обладающим властью, в частности: The lion is not so fierce as he is painted (ср.: англ. The devil is not so black as he is painted, рус. Не так страшен чёрт, как его малюют). В принципе, семантика власти весьма обширна для того, чтобы передать все её тонкости в пределах одной статьи. Поэтому мы хотели бы остановится только на одной стороне семантических категориальных признаков данных концептов в их отражении в фразеологической системе языка, а именно, на аксиологической специфике фразеологических единиц с данными компонентами. Что же касается предметного содержания концепта ВЛАСТЬ, то хотелос бы остановиться на прототипическом значении, наиболее часто ассоциируемого в связи с данной лексической единицей, а именно – на государственной власти. Как известно, аксиология является составной частью философских знаний, предметом которой являются ценность и оценка как порождения человеческой мысли в отражении внешних феноменов. Мы намеренно не говорим «оценочная специфика фразеологизма», поскольку, как будет
312
показано дальше ценность и оценка не суть одно и то же. Ценность является квалификационным представлением о людях, живых существах, вещах, природных и социальных феноменах и тому подобному, а оценка – это отражение ценности в формах экспликации человеческих знаний, и прежде всего – в форме языковых единиц, в том числе и фразеологических. Поэтому следует различать ценностное содержание определённых концептов и их оценочную экспликацию, которую и следует назвать оценкой (Чекулай 2006). С этих позиций ВЛАСТЬ, несомненно, является ценностью. Можно по-разному судить об одном и том же временнóм состоянии дел в государстве, непосредственно связываемым с людьми, стоящими у его руля, и, как правило, так и происходит. В частности, в русском менталитете по-разному оцениваются периоды пребывания в должности Генерального секретаря КПСС И.В.Сталина, Н.С.Хрущёва, Л.И.Брежнева, М.С.Горбачёва, равно как и пребывание последнего в роли Президента СССР, а Б.Н.Ельцина – Президента РФ. Оценки разнятся, но объективно состояние государства в годы правления определённого человека представляет собой историческую ценность. Такая ценностная специфика концепта ВЛАСТЬ получает очень противоречивые оценочные импликации в форме фразеологических единиц языка в абстракции концепта ВЛАСТЬ от определённого периода в правлении той страны, в языке которой существуют такие паремии. Наиболее важным в исследовании данного феномена, по нашему мнению, является то, что, независимо от страны и языка, независимо от общего взгляда на историю государственной власти в стране фразеологическая система отражает ценностную и оценочную многогранность этого понятия. Обратимся непосредственно к устойчивым единицам английского и русского языков.
313
Как отмечалось выше, наиболее стабильная метонимическая модель связывает власть с правителем или иным главным лицом в иерархии государственной системы. В русском языке это ЦАРЬ, а в английском – KING. К царю-батюшке люди относились по-разному, что и нашло отражение в таких специфических пословицах: Положительное оценочное содержание: Нельзя земле без царя стоять. Без царя – земля вдова. Царь города бережет. Царь от Бога пристав и др.; Противоречивое оценочное содержание: Не судима воля царская. У царя руки долги. Царский глаз далече сягает. Близ царя – близ смерти. Близ царя – близ чести и др. Отрицательное оценочное содержание: Царь не огонь, а, ходя близ него, опалишься. Царю из-за тына не видать. Царские милости в боярское решето сеются (ПРН: 199-201). В английском языке количество пословиц с вершинным лексическим компонентом king намного меньше, нежели в русском, но и эти показатели дают достаточно объективную картину противоречивой оценочной квалификации высшей государственной власти: Положительное оценочное содержание: The king can do no wrong. Отрицательное оценочное содержание: Kings go mad, and the people suffer for it. Kings have long arms [БАРФС , 2005: 425]. Говоря о принципиальной гомогенности неоднозначного отношения к высшей государственной власти в оценочно-фразеологической картине мира в английском и русском языках, следует, однако, заметить, что в русском языке выделяются две важные фразеологические сферы, о существовании которых в английской фразеологии в системном виде говорить едва ли можно. Это сферы отношения царя
314
к Богу и к своему близкому окружению. Бог как высшая абсолютная и тем самым наиболее справедливая власть всегда представляется носителем положительного оценочного отношения к власти. Царь же может выступать либо в качестве верного слуги и соратника Господня, либо же он предстаёт в антитезе Богу, поскольку царь – это человек с его слабостями и недостатками. Именно поэтому пословицы этой подсферы можно разделить на две группы: - Царь – соратник Бога, его представитель на земле: Бог помилует, а царь пожалует. Бог помилует, так и царь пожалует. Кто Богу не грешен, царю не виноват. Всё во власти Божией да государевой. Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится и др.
- Царь – не Бог, а человек со слабостями: Народ согрешит – царь умолит; царь согрешит – народ не умолит. Суд царев, а правда – Божия. Без правды боярской царь Бога прогневит [ПРН: 199-201].
Здесь также можно условно выделить подсферу, где отношение к царю в связи с его ролью как главного Божьего слуги противоречиво и зависит от той ситуации, в которой эксплицируются данные фразеологические единицы: Одному Богу государь ответ держит. За царское согрешение Бог всю землю казнит, за угодность милует. Коли царь Бога знает, Бог и царя и народ знает (ПРН: 200). Другая важная оценочная сфера ценностного отношения к высшей государственной власти как единой аксиологической сущности является отношение царя и его близкого окружения, прежде всего, тех прочих государственных деятелей и даже просто царской обслуги, которые прямо или косвенно оказывают влияние на государственную политику. В русском менталитете сложилось достаточно устойчивое мнение о том, что благие намерения правителя всегда искажаются его
315
приближёнными, ищущими личную выгоду, и на эту тему существует достаточно большое количество пословиц, в частности: Жалует царь, да не жалует псарь. Воля царю дать ино и псарю. В этой пословице отражается известная историческая аллюзия на опричнину во времена правления Ивана Грозного. Как известно, своего рода эмблемой опричнины была метла с собачьей головой, за что их в народе и прозвали «псарями». Интересны и другие многочисленные пословицы данной оценочной сферы: Не от царей угнетение, а от любимцев царских. Не бойся царского гонения, бойся царского гонителя. Царю из-за тына не видать. Царь гладит, а бояре скребут. Не князь грешит, а думцы наводят и др. (ПРН, 2006: 200-201)., ср. также в украинском Не так страшнi пани, як пiдпанки. В отношении простого народа к «промежуточной» власти также наблюдаются черты, общие и в русском, и в английском менталитете, и это находит отражение в устойчивых словосочетаниях. В целом можно утверждать, что и у русского, и у английского народов в целом сложилось отрицательно-недоверчивое отношение к власть предержащим. Здесь можно выделить следующие ценностно-оценочные подсферы: - суд и юриспруденция: в русском языке Не бойся закона, бойся судьи; Закон как дышло: куда повернёшь – туда и вышло; Законы святы, да законники супостаты, в английском языке as grave as a judge (т.е. надутый, важный); devil’s advocate (злостный критикан, злопыхатель); - высшее военно-морское начальство: в русском языке Красная нужда – дворянская служба; Не довернёшься – бьют, и перевернёшься – бьют (солдатская пословица со значением «Начальству не угодишь»), в английском языке The admiral of the
316
red (военно-морской фразеологизм, означающий пьяницу, обычно высокого ранга); - начальник безотносительно сферы деятельности: в русском языке Я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак; Хоть мочальник, да твой начальник; Из грязи да в князи; Кто в кони пошёл, тот и воду вози! Хотелось бы отметить ещё одну важную общую черту, отмечающую фразеологические единицы, обозначающие представителя частной формы власти, в английском и русском языках. Это высокая степень их метафоричности. Для обозначения начальства используется достаточно большое количество лексем из семантических сфер растительного и животного мира, например Большая шишка, Большой перец, Вожак стаи, Big fish/big dog/big bug и многие другие.
Таким образом, концепт ВЛАСТЬ достаточно широко представлен во фразеологических картинах мира в русском и английском языках в основных сферах актуализации данного концепта, что позволяет достаточно легко найти адекватные способы перевода английских устойчивых словосочетаний и паремий в русский язык и наоборот. Литература: БАРФС (2005): Кунин, А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь, 5-е изд., перераб. М.: Рус. яз Медиа. 1210 с. ПРН (2006): Пословицы русского народа: сборник В.И.Даля. 2-е изд., стереотип. М.: Рус. яз.-Медиа,. 814 с. СРЯ (1985): Словарь русского языка в четырех томах. Т. 1. 3-е изд. М.: Русский язык. Чекулай (2006): И.В.Чекулай. Ценность и оценка в категориальной структуре современного английского языка: Дис. � д-ра филол. наук, Белгород, 473 с. OERD (1996): The Oxford English Reference Dictionary,/ ed. by J. Pearsell and B. Trumble. 2nd ed. Oxford, New York: Oxford University Press.
317
Елена Чистова
МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ АСИММЕТРИЯ В ПЕРЕВОДЕ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ BRAND
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы межъязыковой асимметрии в переводе на примере заимствованной из английского языка терминологической единицы brand. Данный пример демонстрирует определенные закономерности в языке, вызывающие трудности при переводе и требующие детального исследования. Abstract: The article refers to the problems of the interlingual asymmetry in the light of translation. It shows the results of the linguistic research on borrowing the terminological item brand from English into Russian as an example of the systematic language case.
Любая отрасль знаний имеет собственный
понятийный аппарат и терминологическую систему, с помощью которой выражаются внутренние связи между объектами. В настоящее время происходит активный обмен информацией между специалистами в одной области из разных стран. Зачастую возникшая в одной стране область специальных знаний или деятельности вместе с технологией и системой понятий перенимается специалистами других стран: примером тому служит терминосистема branding. Это обусловливает заимствование целых терминосистем из одного языка в другой, что усугубляет проблему перевода терминов.
Невозможно не согласиться с утверждением И.Э. Клюканова: «В процессе межкультурного общения происходит обязательное языковое смещение, поскольку нельзя искусственно изъять языковую составляющую из целостного процесса семиозиса, не затрагивая остальные составляющие»
318
[Клюканов, 1998:26]. Вследствие языковых смещений при переводе заимствованных терминосистем, возникают ассиметричные структуры родственных концептов, свойственных различным национальным культурам. Это приводит к явлению межъязыковой асимметрии на разных языковых уровнях.
Проблема асимметрии знака характеризуется отсутствием точного соответствия между означаемыми и означающими. На это несоответствие в строении плана выражения в естественном языке указывал еще Ф. де Соссюр, подчеркивавший, что «каковы бы ни были факторы изменения, действуют ли они изолированно или в сочетании друг с другом, они всегда приводят к сдвигу отношения между означаемым и означающим». К аналогичному выводу пришел и Ш. Балли, отметивший, что «несоответствие между означаемыми и означающими является правилом» [Балли, 1995: 21].
Наиболее четко асимметрия отношений между единицами плана содержания и единицами плана выражения или теория асимметрии языкового знака была обоснована С.И. Карцевским, который первый в своей статье «Об асимметричном дуализме языкового знака» [Карцевский, 1965:91] воспользовался терминами симметрия и асимметрия в приложении к языку. Известно, что теория асимметрии, разработанная С.И. Карцевским, включала лишь асимметрию на парадигматической оси, имеющую два проявления: вариативность при неизменном означаемом (алломорфия, вплоть до ее предельного случая – синонимии, супплетивизма, омосемии) и вариативность означаемого при неизменном означающем (полисемия, вплоть до ее предельного случая – омонимии).
В.Г. Гак предложил новую, расширенную трактовку асимметрии языкового знака, не
319
ограниченную парадигматическим аспектом, которую мы далее подробно рассмотрим в нашей работе. Согласно его теории, асимметрия проявляется и в синтагматическом и в семиотическом плане. Синтагматический аспект асимметрии включает: а) выражение одной смысловой единицы сочетанием двух и более формальных единиц, б) выражение одной формальной единицей сочетания двух и более смысловых единиц. Асимметрия в семиотическом плане охватывает такие явления как: а) отсутствие ожидаемой формальной единицы при наличии соответствующей смысловой, б) отсутствие ожидаемой смысловой единицы при наличии соответствующей формальной.
Таким образом, теория асимметрии В.Г. Гака включает шесть проявлений асимметрии. При этом типы асимметрии тесно взаимосвязаны исторически и функционально: так, эллипсис приводит к конденсации (сокращенному обозначению), развернутое (аналитическое) обозначение связано с десемантизицией одного из членов конструкции и т.п. [Гак, 1992: 23].
Предельная обобщенность этой концепции асимметрии позволяет применять ее в самых разных областях лингвистики: в лексикологии, морфологии, синтаксисе, теории речевых актов, в семиотике письма (типы асимметрии графем), а также в переводе, говоря о межъязыковой номинативной ассиметрии.
В рамках данной статьи примем, что номинативная асимметрия – это различие в количестве, а следовательно, и номинативной плотности средств, стремящихся к обозначению одного и того же объекта [Бунаева, 2010: 95]. Как известно, даже в родственных языках функциональный объем системно соотносительных средств выражения полностью не перекрывается. Соответственно, можно предположить, что объем межъязыковой диспропорции при сопоставлении
320
неродственных языков, в данном случае русский и английский, будет гораздо внушительнее.
В подтверждение этому при изучении терминологии в области брендинга выяснилось, что в результате недостаточной ее унифицированности в тезаурусах и глоссариях встречаются различные варианты переводов, что приводит к путанице в употреблении терминов. Например, в настоящее время термин бренд/брэнд в средствах массовой информации и маркетинге употребляется как синоним термина товарный знак, что, по мнению специалистов-патентоведов, является не вполне корректным. Понятие торговая марка приравнивается в своем значении к товарному знаку. Как считает М.В. Умерова, в связи с практическими потребностями перевода и с проблемой выбора переводного эквивалента при расхождении целых терминологических систем возникает необходимость компонентного анализа и сопоставления этих терминосистем [Умерова, 2009:56]. Таким образом, в качестве примера рассмотрим подробнее план содержания и план выражения терминологической единицы brand.
Лексема brand в современном английском языке является многозначной. В качестве основного значения в словаре представлено «a kind, grade, or make, as indicated by a stamp, trademark, or the like» [Longman Business English Dictionary, 2004: 57], то есть значение, ставшее терминологическим. По своему второму значению, которое исторически эта лексема приобрела первым от древнескандинавского brandr – «жечь, огонь», brand обозначает «a mark made by burning or otherwise, to indicate kind, grade, make, ownership, etc.». Так называлось тавро, которым владельцы скота помечали своих животных [Kevin Lane Keller, 2005: 704].
Терминологический элемент brand в своем первом значении встречается в терминосистемах
321
многих областей: менеджмент, реклама, маркетинг, юриспруденция, патентоведение и др. Однако подобное употребление данного терминоэлемента следует считать межсистемным заимствованием из терминологии branding.
Первое явление, привлекающее внимание лингвиста, – это расхождение в написании данного термина: бренд/брэнд. Возможно, предположить, что перевод термина brand осуществлялся параллельно несколькими переводчиками, которые руководствовались различными правилами при транскрибировании его на русский язык, что привело к асимметрии терминологической единицы на графическом уровне. Так, оба варианта перевода быстро распространились среди носителей русского языка. При исследовании специальных текстов было замечено, что даже в одном предложении авторы допускают различные написания одного и того же термина: «В Москве наградили лауреатов высшей российской профессиональной награды в области построения брендов и маркетинговых коммуникаций «Брэнд года / EFFIE 2009», организованной компанией РБК» [РБК. Оценка проектов // Эл. доступ: http://brandgoda.ru/projects_marks.html].
В рамках этимологического анализа определим мотивированность термина brand в исходном языке (английском). Под мотивированностью термина предлагается понимать семантическую прозрачность термина, свойство его формы давать представление о называемом им понятии [Гринев-Гриневич, 2008: 165]
В оригинале основным мотивировочным признаком является значение «маркированность», «принадлежность определенному владельцу / производителю». При переводе термина brand на русский язык как бренд/брэнд (то есть при переводе посредством транскрибирования) данный мотивировочный признак не сохраняется. Таким образом, термин brand, при переводе которого
322
оригинальный мотивировочный признак утрачен, относится к демотивированным, что свидетельствует о нарушении симметрии в ономасиологическом аспекте и автоматически предполагает его неточное понимание и некорректное использование в русской культуре. И действительно, в русском языке при заимствовании данного термина появляется дополнительное значение – известная торговая марка. Например, в названии магазина можно увидеть следующий эпитет: Shopomanya – интернет магазин брендовой одежды и аксессуаров [http://www.shopomaniya.ru], что совершенно точно выражает оценочную коннотацию.
Обратимся к определениям термина brand с позиции американских исследователей в области брендинга. Итак, бренд (англ. brand, [brænd] – марка) – термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о компании, продукте или услуге. Существует два подхода к определению бренда: миссия и также индивидуальные атрибуты: название, логотип и другие визуальные элементы (шрифты, дизайны, цветовые схемы и символы), позволяющие выделить компанию или продукт по сравнению с конкурентами; образ, имидж, репутация компании, продукта или услуги в глазах клиентов, партнеров, общественности [Kevin Lane Keller, 2005: 704].
Бренд – это не вещь, продукт, компания или организация. Бренды не существуют в реальном мире – это ментальные конструкции. Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его восприятие вещи, продукта, компании или организации. Бренды существуют в виде сознания или конкретных людей, или общества (James R. Gregory из книги «Leveraging the Corporate Brand» в переводе автора статьи).
Таким образом, мы наблюдаем нарушение симметрии в плане содержания терминологической
323
единицы brand в русском и английском языках, что демонстрирует ассиметрию на семантичееском уровне.
Необходимо различать правовой и психологический подход к пониманию бренда. С правовой точки зрения в английском языке рассматривается только товарный знак, обозначающий производителя продукта и подлежащий правовой защите. С точки зрения потребительской психологии (consumer research) речь идёт о бренде как об информации, сохраненной в памяти потребителей.
С точки зрения специалистов в области товарных знаков и юристов, специализирующихся в области товарных знаков, понятия «бренд» и «брендинг», строго говоря, не правовые понятия, а термины, используемые в потребительской среде для объединения этапов продвижения товаров на рынок [Kevin Lane Keller, 2005]. Понятие бренда, по мнению этих авторов, является некоторой совокупностью объектов авторского права, товарного знака и фирменного наименования. Именно совокупность всех этих качеств несёт в себе дополнительную потребительскую стоимость, характеризующуюся понятием «бренд».
Торговая марка – словесная калька с английского «trade mark», используется как синоним понятия «товарный знак». Хотя этот термин активно используется на бытовом уровне, российской правовой системе известны только понятия «товарный знак» и «знак обслуживания». Именно они подлежат правовой охране.
Торговая марка (товарный знак) – обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), служащее для индивидуализации товаров [Данилина, 2008] юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Законом признаётся исключительное право на товарный знак,
324
удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его использование другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован).
Следует подчеркнуть, что право на товарные знаки составляют одну из разновидностей объектов сферы прав интеллектуальной собственности, и относятся к правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Итак, маркетинговое понятие бренд иногда на бытовом уровне используется в качестве синонима понятия «товарный знак» или «знак обслуживания», что является совершенно неверным, хотя товарный знак или знак обслуживания часто и являются основополагающей составляющей понятия бренда.
При сопоставлении терминологических единиц неродственных языков в переводческом аспекте всякое отклонение от системных соответствий относится к явлениям асимметрии. В связи с этим представляется актуальным дальнейшее изучение проблемы межъязыковой асимметрии при переводе целых терминосистем с целью предотвращения и выравнивания ассиметричных структур в случае гармонизации – межъязыкового упорядочения терминологий. Литература Балли, Ш. (1995). Общая лингвистика и вопросы языкознания [Текст] / Ш. Балли. М.,Иностранная литература. Бунаева Н.А. (2010) К проблеме межъязыковой номинативной асимметрии (на примере английской
325
заимствованной лексемы «аутсорсинг»). Вестник ИГЛУ: Иркутск. №1 (9). С. 94-100. Гак В.А.( 1992) Сопоставительная прагматика [Текст], Филологические науки, № 3, с.78. Гринев-Гриневич С.В., (2008). Терминоведение. МГУ: Москва. С. 165 Данилина Е.А.(2008) Правовая охрана средств индивидуализации. Москва, ОАО ИНИЦ Патент. Карцевский С.О. (1965) Об асимметричном дуализме лингвистического знака. В: Звегинцев В. А. История языкознания Х1Х-ХХ веков в очерках и извлечениях. М.,.3-е изд. Ч.2. С.85-93. http://philologos.narod.ru/classics/karz.htm. Кевин Лейн Келлер (2005) Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом .Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. М.: Вильямс. С. 704. Клюканов И.Э.(1998) Динамика межкультурного общения. Системно-семиотическое исследование. Тверь: Тверской гос. ун-т.. Умерова М. В. (2009) Формирование и развитие терминологий и терминосистем Университетское переводоведение. Вып.10: Материалы X международной научной конференции по переводоведению «Федоровские чтения», 23-25 октября 2008 г. Спб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 644 с. Longman Business English Dictionary. Person Education Limited. – Edinburgh: Gate, Harlow, Essex CM20 2JE, England, 2004.
326
Насима Шарафутдинова
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
НА РУССКИЙ
Аннотация: В данной статье изучаются трудности перевода научно-технических текстов с немецкого языка на русский на материале технических инструкций к программным средствам. Результаты исследования показали, что основные трудности при переводе связаны с лексическим наполнением инструкций, с особенностями синтаксического строя немецкого языка и с соблюдением требований к стилю изложения инструкций на русском языке.
Abstract: “Difficulties in translation of scientific and technical texts from German into Russian”. The article deals with the difficulties in translation of scientific and technical texts from German into Russian by the example of technical manuals for software. Study results pointed out that main problems in translation are resulted from the lexical structure of manuals, peculiarities of syntactic structure of the German language, and the observance of requirements for exposition style of manuals in the Russian language.
Технический перевод является одним их наиболее сложных видов перевода. В качестве одного из подвидов научно-технического перевода можно выделить перевод технической инструкции с одного языка на другой.
Несмотря на большое количество специалистов с переводческим, лингвистическим или филологическим образованием, переводчиков, умеющих хорошо переводить технические тексты, чрезвычайно мало. В то же время нам неизвестны учебно-методические пособия для начинающего переводчика, созданные специально для этих целей опытными техническими переводчиками.
327
Цель исследования – выявить и изучить трудности перевода научно-технических текстов с немецкого языка на русский.
В качестве материала для исследования были использованы 14 технических инструкций к системным и программным средствам на немецком языке и их переводы на русский язык.
По признаку функционального стиля инструкция относится к научно-техническим текстам, по признаку функционального подстиля научно-технические тексты делятся на собственно-научные тексты и технические тексты. В качестве отдельного подуровня выступает дальнейшая субкатегоризация выделенных подстилей. В текстах технического подстиля инструкция относится к инструктивным текстам.
Для жанра инструкции характерно большое прагматическое значение, четкая композиционная структура, формализация единиц языкового типа. В России есть несколько стандартов, с которыми работают разработчики технической документации, например, стандарт в области информационных технологий ГОСТ 19.*, определяющий общие положения и правила выполнения документации на разработку, изготовление и сопровождение программных продуктов. В области программной документации известен лишь один российский ГОСТ на процесс разработки пользовательской документации ГОСТ Р 15.910 (переводной эквивалент стандарта ISO 15.910). Оригинал немецкой инструкции создается согласно требованиям стандарта ISO, однако на русский язык он будет переводиться с учетом требований отечественных стандартов.
К тексту технического перевода предъявляются требования адекватности, эквивалентности, сжатости, лаконичности и литературности. Главные качества, характеризующие технический перевод, – адекватность и репрезентативность текста перевода
328
тексту оригинала. Комиссаров В. Н. рассматривает эквивалентный перевод и адекватный перевод как понятия неидентичные, хотя и тесно соприкасающиеся друг с другом. Эквивалентность понимается им как смысловая общность приравниваемых друг к другу единиц языка и речи. Термин «адекватный перевод», по его мнению, имеет более широкий смысл и используется как синоним «хорошего» перевода, т. е. перевода, который обеспечивает необходимую полноту межъязыковой коммуникации в конкретных условиях [Комиссаров, В. Н., 1990: 233-234].
Исходя из вышесказанного и учитывая задачи перевода инструкции, считаем, что для достижения адекватности перевода инструкции необходимо произвести разнообразные трансформации, чтобы текст полно и точно передавал содержание оригинала с соблюдением норм языка перевода.
Что касается эквивалентности перевода инструкции, то она заключается в том, чтобы максимально приблизить текст перевода тексту оригинала. Деятельность переводчика связана, прежде всего, с выявлением смысла текста. Смысл текста, скрытый от переводчика, обусловлен процессом формулирования мысли и, следовательно, одновременно формированием стиля. Что касается переводчика, то задача, поставленная перед ним, намного сложнее: он должен не только выявить смысл, содержащийся в тексте, но и, сохранив его, довести до сведения пользователя то, что он должен выполнить.
Технический перевод будет буквальным только в части смысла, в части языкового оформления перевода буквальность не является обязательным требованием. В следующих примерах переводчик преобразовал архитектоническую структуру команд с целью обеспечить полное понимание.
Sobald der Hardware-Assistent erscheint, klicken Sie auf Weiter .
329
Когда появится окно с предложением "Добавить новое устройство" - нажмите "Далее". В немецком примере речь идет о появлении на
экране компьютера «мастера установки программного обеспечения» Hardware-Assistent. Переводчик, в свою очередь, уточняет, что появится окно с предложением «добавить новое устройство». Полагаем, что он пошел на этот шаг предвидя то, что для некоторых пользователей термин «мастер установки программного обеспечения» не вызовет ассоциаций с тем диалоговым окном, которое возникнет на экране в действительности.
Ziehen Sie die Rändelschrauben nach dem Anschlieβen fest, um die Verbindung zu sichern. Подключив разъем сигнального кабеля к выходному разъему PC, заверните винты для фиксации соединения. В немецком варианте инструкции вообще не
говорится о подключении разъема сигнального кабеля к выходному разъему PC. Переводчик снабдил текст дополнительными комментариями.
Трудности в передаче смысла могут быть обусловлены также лексическим и грамматическим наполнением текста-оригинала.
Говоря о стереотипизации языковых явлений в научно-технической информации, следует выявить те из них, которые характерны для лексики технической инструкции и представляют собой сложность для процесса перевода.
Лексический состав научно-технических текстов находится сейчас в стадии наиболее интенсивной эволюции. В этой связи особую важность получают исследования, направленные на изучение реального функционирования лексических единиц в научно-технических текстах.
Весь словарный запас, употребляющийся при создании научно-технических текстов и, соответственно текстов инструкций, можно
330
разделить на специальную, общенаучную, общетехническую и общеупотребительную лексику.
Под специальной лексикой понимаем совокупность лексических единиц, кроме общеупотребительных, общенаучных и общетехнических, применяемых для обеспечения профессиональной коммуникации между специалистами определенной сферы человеческой деятельности [Шарафутдинова, Н. С.,2006: 7]. Специальная лексика в данном значении соответствует также понятию «отраслевая лексика» [там же]. Значительную и основную часть отраслевой лексики составляет ее терминология.
Специальную лексику рассматриваемой нами предметной области составляют в большинстве своем термины компьютерных технологий. В компьютерной терминологии очень много терминов-неологизмов и терминов-заимствований из английского языка, что вызывает определенную трудность в практике перевода на русский язык.
Примеры терминов-заимствований: LCD-Monitor (Liquid Crystal Display –
жидкокристаллический дисплей Recovery-DVD-Kit – набор DVD-дисков с
операционной системой Hardware-Assistant – мастер установки ViewSonic Website – страница корпорации
ViewSonic в Интернет Примеры терминов-неологизмов: die Farbbandkassetenabdeckung – крышка
картриджа die Papierrollenabdeckung – крышка отсека
рулонной бумаги der LCD Display-Bildschirm – монитор LCD
Display das Wandinstallation-Kit – комплект настенного
монтажа Как показывают примеры, переводить
термины-неологизмы, создавая новые термины в
331
переводном языке по той же словообразовательной модели, что и в оригинале, часто не удается.
Немецкие термины в большинстве своем представляют собой многокомпонентные слова. Трудность их перевода заключается в том, что существует определенный порядок их «расшифрования», не зная которого переводчик не сможет понять значение сложного слова. Например: das Diskettenlaufwerk – оптический дисковод, der Stromanschluss – провод питания, die Scanner-Software – программное обеспечение для сканера.
Довольно часто в тексте инструкции встречаются термины, образованные путем конверсии: субстантивации Invinitiv, Partizip. Например: das Anschlieβen – подключение, das Anbringen – прикрепление, das Auswechseln – замена.
Трудности при переводе вызывают термины-существительные, образованные от инфинитива глагола путем прибавления суффикса –ung, обозначающий процесс, а иногда результат действия. Например: die Verbindung – связь, die Abbildung – рисунок, die Darstellung – изображение. Рассматриваемые образования не всегда можно перевести с помощью отраслевого словаря, поэтому у неопытного переводчика могут возникнуть проблемы с подбором русского эквивалента данному термину.
В инструкциях очень высока плотность когнитивной информации. В частности, она достигается за счет сокращений, что при переводе требует тщательного предварительного анализа текста и использования специальных справочников. Например: OSD- Fenster – окно системы управления настройкой экрана, OSD- Einstellung – настройка в OSD.
Кроме того, говоря о тексте инструкции, необходимо упомянуть прочно устоявшуюся манеру изложения, принятую в этой сфере. Любое
332
отклонение от формулировок, принятых среди специалистов в определенной области, немедленно бросается в глаза, вызывая ощущение непрофессионализма переводчика. Согласно Рейману Е. А., «устоявшийся язык документации подразумевает использование одних и тех же слов и выражений, не только в области терминологии, но также из областей общетехнической и обычной лексики, некоего полупрофессионального жаргона. Замена этих выражений на синонимы является недопустимой» [Рейман, Е. А.,1976:180]. Манера изложения в инструкциях довольно строгая, как правило, обязательно выделяется последовательность действий, используется повелительное наклонение.
Нами проведенные исследования 14 инструкций к системным и программным средствам и их переводов на русский язык позволяют выделить стереотипные грамматические конструкции, перевод многих из которых вызывает особую сложность. Стереотипными грамматическими конструкциями для текста инструкции являются придаточные предложения времени, цели, условия; конструкции с предлогами vor, bei, nach; конструкции с модальными глаголами; инфинитив и инфинитивные группы; пассивные формы; причастия I, II; повелительное наклонение. Причем придаточные предложения переводятся на русский язык не обязательно придаточным предложением. Например:
Zum Vermeiden von Schäden der Komponenten darf das System nicht ans Stromnetz angeschlossen werden, bevor die Installation vollständig ausgefűhrt ist.
Во избежание выхода из строя комплектующих не подключайте питание к компьютеру до полного завершения установки.
Особую трудность вызывает перевод конструкций с модальными глаголами, инфинитивными группами и пассивными формами.
333
Инфинитив страдательного залога в зависимости от контекста переводится на русский язык по-разному:
• сочетанием глагола «быть» и причастия пассивной формы
Der Speicher kann wegen einer Kerbe auf dem Speichermodul nur in eine Richtung eingesetzt werden.
Модуль памяти имеет выемку, благодаря чему он может быть установлен в разъем только в одном положении.
• активной формой глагола Die CPU vorsichtig vor Ort anbringen und dabei
sicherstellen, dass die Stifte der CPU richtig in die Löcher eingeschoben werden können.
Аккуратно вставьте процессор в разъем. Убедитесь, что все контакты процессора вошли в гнезда процессорного разъема.
• формой глагола на «-ся» с модальным глаголом и без него
Die Kabel, Stromanschlűsse und Audioanschlűsse sind mit einem ausfallsicheren Design versehen und können nur in eine Richtung angeschlossen wеrden.
Кабели, провода питания и аудиокабели могут вставляться в разъемы только в одном положении.
• сочетанием модального глагола с инфинитивом активной формы
Die CPU kann nicht eingepaßt werden,�. Процессор нельзя установить� • повелительной формой основного глагола без
модального глагола Vor der Installation műssen die Einstellungen der
Steckbrűcke (Master und Slave) ihrer IDE-Geräte űberprűft werden.
Перед установкой проверьте настройки IDE-устройств- Master или Slave.
Анализ текста технических инструкций показал, что громоздкость немецких предложений и использование рамочных конструкций затрудняют
334
их перевод на русский язык. Рамочную конструкцию образуют составные части сложного сказуемого, а также глагол с отделяемой приставкой. Например,
Űberlicherweise ist die erste Position der Stromkabel mit roter Farbe gekennzeichnet.
Первый контакт обычно помечен красной полоской на шлейфе.
Halten Sie das Speichermodul an beiden Seiten und setzen Sie es vollständig in den Steckplatz ein.
�и, удерживая модуль памяти за края, вставьте его в разъем до упора.
В процессе анализа языкового материала инструкций на немецком языке и их переводов нами были выявлены и рассмотрены трудности при переводе на русский язык, связанные с лексическим наполнением инструкций, с особенностями синтаксического строя немецкого языка и с соблюдением требований к стилю изложения инструкций на русском языке.
Полученные результаты могут быть полезны в переводческой деятельности, а также могут быть использованы в разработке методики перевода инструкций с немецкого языка на русский.
Литература Комиссаров, В. Н. (1990) Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высшая школа, 253 с. Рейман, Е. А.( 1976) О нетерминологической лексике научных текстов в кн.: Е. А. Рейман. Особенности стиля научного изложения. М., с. 180-230. Шарафутдинова, Н. С.(2006) Лингвокогнитивные основы научно-технической терминологии. Ульяновск: УлГТУ, 131 с.
335
Валентина Щаднева, Елена Вельман-Омелина
ТРАДИЦИИ И НОВОВВЕДЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНО-
ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
ПЕРЕВОДОВ В УСЛОВИЯХ ДИАСПОРЫ) Abstract: “Traditions and innovations in official / commercial communication (based on translations in the context of diaspora)”.This article is devoted to official/commercial communication in the context of diaspora. Verbal and nonverbal parameters of thematically varying translated texts are discussed from the viewpoint of traditions and innovations in the mentioned sphere. In Estonia, introduction of e-State systems has resulted in development of the system for document-related digitalization of corporate communication that promoted emergence of web pages in Russian on state and private web sites. This article demonstrates that modern electronic documentation management has expanded the traditional frameworks of official/corporate communication. Innovations are observed in communication channels, in ways for registration of the information, in a set of official/corporate genres, and in the language of documents. In connection with this, different approaches to English loans in Estonian, in the Russian language of the mother country, and in the Russian language of the diaspora complicate translation from Estonian to Russian. Аннотация: Статья посвящена официально-деловому общению в условиях диаспоры. Вербальные и невербальные параметры тематически разнообразных переводных текстов обсуждаются в аспекте традиций и инноваций в названной сфере. Создание в Эстонии системы электронного государства (e-riik) повлекло за собой развитие системы документной электронизации делового общения, что способствовало появлению русскоязычных веб-страниц на государственных и частных сайтах. В статье показано, что современное электронное документационное обеспечение расширило традиционные рамки официально-делового общения. Новшества наблюдаются в каналах общения, в способах оформления информации, в наборе официально-деловых
336
жанров и в языке документов. При этом различия в отношении к английским заимствованиям в эстонском языке, в русском языке метрополии и в русском языке диаспоры осложняют перевод с эстонского языка на русский. Введение Специалисты единодушно считают официально-деловую речь одним из важнейших книжных стилей любого развитого литературного языка. Играя большую роль в жизни общества и внося особый вклад в лексикон национального языка, этот стиль обслуживает сугубо официальные и чрезвычайно важные сферы взаимоотношений между странами, государственной властью и населением, личностью и социальными институтами, между предприятиями, учреждениями, организациями. Именно поэтому официально-деловой стиль отличается от всех остальных вариантов литературного языка повышенной консервативностью и традиционностью.
Характерные черты делового стиля проявились уже в тексте «Русской правды» (XI век) — своде законов Киевской Руси [Голуб 2006: 58]. Древнерусские деловые документы имели определенные правила написания, например, формулировку в начале грамот «Се азъ�», реквизиты и подписи в конце грамот. В наше время нормы деловой речи воплощают в себе сложившиеся традиции построения текстов в соответствии с выражаемым содержанием, целью высказывания и охватывают языковые средства всех уровней языка. Достаточно жесткая стандартизованность проявляется не только в речевых формулах с официально-деловой окраской, но и распространяется на внешнюю форму деловых бумаг, вырабатывавшуюся если не веками, то десятилетиями. Сохранению устоявшихся традиций, которые закрепились в унифицированности языка и структуры текстов многих жанров, способствует
337
высокая степень регламентированности самой официально-деловой коммуникации. Консервативность стиля обусловлена необходимостью точно и четко передать информацию, не допустить искажения смысла и оформить документ с соблюдением всех текстово-языковых норм. Все это породило мнение о том, что официально-деловой стиль подвержен изменениям в меньшей степени, чем другие варианты литературного языка.
Однако в условиях современной коммуникации выработанные ранее традиции, сложившийся стандарт испытывают давление инноваций, ставших результатом реформирования общества и мировой глобализации, приведшей к возрастанию значимости официально-делового общения. Новшества прослеживаются в каналах общения, в способах оформления информации, в наборе официально-деловых жанров, в языке и структуре документов. При этом изменения наблюдаются в условиях как метрополии, так и диаспоры, языковые контакты которой обусловлены обязательностью межкультурного диалога, что для русской диаспоры означает необходимость учета особенностей делового общения и в России, и в стране проживания.
Особенности официально-делового общения в условиях диаспоры
Свою лепту в деловую коммуникацию внесли сравнительно недавнее появление электронного канала делового общения и бурное развитие современного информационно-технологического документационного обеспечения. В современной компьютеризированной Эстонии официально-деловое общение, осуществляемое представителями русской диаспоры в рамках трудовой деятельности и функционирования разных социальных институтов, все чаще осуществляется
338
посредством именно электронного канала общения, а не только традиционного бумажного. Более того, часто документы вовсе не печатаются на бумажных носителях, а создаются и распространяются только в электронном виде, например, отдельные договоры о предоставлении различных услуг, счета за услуги, заявления и т. д. При этом оформление ряда жанров предусматривает дигитальную подпись.
Создание системы электронного государства (e-riik) и документная электронизация в разнообразных коммуникативных областях способствовали появлению русскоязычных веб-страниц и на государственных веб-ресурсах, и на официальных сайтах частных предпринимателей. Поскольку в Эстонии в соответствии с Законом о языке деловое общение, делопроизводство в государственных учреждениях и в частном секторе осуществляются на эстонском языке, то в условиях диаспоры официально-деловая коммуникация оказывается преимущественно переводной [Щаднева 2011: 540–545].
При этом структурно-смысловая и языковая организация русского переводного текста формируется в рамках не только конкуренции языковых сознаний и противостояния систем русского и эстонского языков, но и влияния английского [Щаднева 2009: 226, 236–238]. Степень этого влияния на эстонский и русский языки разная [Щаднева, Кудрявцев 2011: 256–257], как и отношение к заимствованиям в диаспоре и метрополии [там же: 255]. Вследствие этого сложным оказывается перевод на русский язык эстонских названий учреждений, организаций, предприятий, а также профессий.
Воздействие эстонского языка на русский заметно при переводе этикетных речевых элементов, т. е. различных формул вежливости. Именно в официально-этикетных ситуациях нередко сталкиваются особенности традиций русского
339
официально-делового стиля и эстонского ametikeel, т. е. официального, служебного языка (в зависимости от ситуации используются и термины: ärikeel – деловой язык, язык бизнеса; asjaajamiskeel – язык делопроизводства). Определенные трудности вызывает даже составление и перевод простого делового письма (при условии, что данное письмо должно быть написано на двух языках). Например, в письменной речи эстонский деловой этикет позволяет в определенных ситуациях использовать в отношении собеседника как форму обращения Sina – Ты (с нестандартным употреблением прописной буквы), так и Teie – Вы, русский же — только Вы. В то же время — в силу прагматических причин — в русском языке диаспоры из традиционного делового письма почти исчезла вежливая форма обращения по имени и отчеству как несвойственная общению на эстонском языке. Все это означает, что смягчились нормы деловой переписки, поскольку она стала выполнять не только информативную функцию, но и функцию убеждения.
Представителям диаспоры приходится одновременно ориентироваться не только на социолингвистические особенности официально-деловой коммуникации в метрополии, на литературные нормы и нововведения языка метрополии, но и на социолингвистическую специфику общения в стране проживания, на жизненно важные языковые единицы, появляющиеся в государственном языке Эстонии, что в целом и влечет за собой инновации под влиянием и английского (опосредованно), и эстонского языков.
Нововведения в официально-деловом общении Развитие электронного канала общения, электронного документооборота, расширение сфер деятельности частного предпринимательства и другие современные процессы, обусловливающие
340
изменения в реальной жизни, стимулируют появление деловых текстов новых жанров, которые еще не имеют однозначных наименований. Подобные речевые продукты, различающиеся по степени официальности, сложно дифференцировать с точки зрения традиционных жанров, поскольку эти тексты нередко выполняют сразу ряд функций: информирующую, разъясняющую, регламентирующую, инструктирующую и отчасти рекламирующую. В первую очередь сказанное затрагивает жанр современного видоизмененного сообщения. В отличие от «классических» документов, такие тексты обладают совокупностью качеств, которые одновременно присущи и документным, и недокументным текстам [о различии между ними см.: Кушнерук 2008: 63 – 65], поэтому их можно расценивать как промежуточную форму представления официальной информации. В свою очередь, возникновение новых жанров способствует увеличению номенклатуры языковых средств (нередко заимствованных) или же замене традиционных, например, вместо инвалид и в России, и в Эстонии появились словосочетания лицо с ограниченными возможностями, лицо с нарушениями здоровья (правда, в переводах с эстонского порой используется и ошибочное лицо с недостатками здоровья).
В современных деловых текстах наблюдается более широкое, чем раньше, сочетание вербальных средств с невербальными, что влияет и на композицию документов. Интернационализация документных процессов способствует увеличению количества таблиц, схем, графиков как в российской, так и в эстонской официально-деловой практике. Распространенность невербальных компонентов в современных документных текстах объясняется тем, что они, иллюстрируя, дополняя или дублируя данные, представленые вербальными средствами, обладают высокой степенью наглядности и
341
усиливают фактологические качества информации [см. подробнее: Кушнерук 2008].
Разнообразнее стали и способы оповещения населения. Кроме информационных брошюр, в деловой коммуникации сравнительно недавно стали использоваться и такие способы информирования населения, как буклеты (англ. booklet — согнутый в определённом порядке печатный лист с информацией на обеих его сторонах) и так называемые флаеры (англ. flyer — листовки, отпечатанные с одной стороны или с двух сторон). В отличие от красочных рекламных изданий, официальные буклеты и флаеры с различными социально значимыми сведениями обычно выполняются на белой бумаге черными или синими буквами (третий цвет добавляется редко). Тем самым официально-деловые издания стали более разнообразными и по размеру, который также является важной характеристикой документа, ибо связан с его композиционной сложностью.
Формальные новшества сопровождаются языковыми инновациями. Через законы, нормативные акты в Эстонии в деловой обиход активно вводится новая деловая терминология, что обычно означает перевод англоязычных понятий на эстонский язык — с последующим переводом на русский. Существенно то, что увлечение англицизмами (американизмами) в России носит характер эпидемии, в процессе которой порой вытесняются и русские по происхождению слова разных тематических групп, и ставшие привычными старые заимствования из других европейских языков. Это создает дополнительные трудности для переводчиков, поскольку картины мира представителей метрополии и диаспоры всё-таки полностью не совпадают. В России в объявлениях о приеме на работу используется большое количество англицизмов типа супервайзер, брокер, дистрибьютор, коучер, медиа-байер, хэд-хантер и
342
даже клинер и т. п., в основном чуждых и эстонскому языку, и русскому языку диаспоры. В то же время и в России, и в Эстонии появился своеобразный эвфемизм оператор уборки (koristusoperaator), который, как и слово клинер еще не кодифицирован.
Поскольку в эстонском языке проявляется более высокая степень иммунитета к заимствованиям, чем в русском, то следствием ориентированности на государственный язык, а также повышенной мотивированности и прагматичности речи становится отсутствие в языке диаспоры многих заимствованных слов, заполонивших речь представителей метрополии. Попутно стоит отметить, что в эстонском языке новые слова преимущественно переводятся, а не транскрибируются / транслитерируются, как в русском, например: sales manager — müügijuht (менеджер по продажам), developer — arendaja (девелопер), businessman — ärimees (бизнесмен), marketing — turundus (маркетинг), importer — maaletooja (импортер).
В то же время русский перевод эстонского слова широкой семантики может содержать и старые понятия. Например, в эстонско-русских словарях отсутствует перевод актуального в современных условиях сложного слова klienditeenindaja. В толковом словаре эстонского языка [Eesti keele...] klienditeenindaja объясняется как название должности, за которой может скрываться кассир, продавец, администратор или иной работник, обслуживающий клиентов. На эстонском интернет-портале CV Keskus (keskus – центр), специализирующемся на трудовом посредничестве, английскому customer service officer (начальник отдела обслуживания / сервисного отдела) также соответствует эстонское klienditeenindaja. Иначе говоря, во всех этих случаях русское соответствие обусловлено контекстуально.
343
К лексическим новшествам официально-деловой речи относится слово рекрутмент (одно из значений этого многозначного слова — подбор персонала), которое в современных русскоязычных словарях пока не представлено, но используется и в России, и в Эстонии. Например, на русскоязычной веб-странице портала CV Keskus указано (текст приводится в оригинале): CV Keskus успешная и действующая во многих сферах интернет фирма, цель которой быть лучшей интернет средой в сфере рекруитмента в Прибалтике — CV Keskus on edukas ettevõte, mille eesmärgiks on olla parim tööportaal Baltikumis. Эдесь эстонское tööportaal (буквально «рабочий, трудовой портал») тоже переводится как рекруитмент (написание слова сохранено).
Нововведения в деловом общении диаспоры затрагивают и орфографию, и графику, где кириллица переплетается с латиницей, например, в именных композитах типа ID-kaart – ID-карта. Но наиболее ярко отличия языка диаспоры от языка метрополии проявляются в лексике, ибо ее существенная особенность — непосредственная обращенность к явлениям действительности. Лексический уровень сразу отражает происходящие в жизни общества изменения: появление новых предметов, понятий и т. п.
Заключение
Итак, в условиях современной официально-деловой коммуникации традиции в области как формы, так и языка сопровождаются инновациями. По прагматическим причинам в языке диаспоры и метрополии нововведения могут не совпадать. Это осложняет процесс перевода с эстонского языка на русский, поскольку переводчики используют в своей работе словари и справочники, изданные в России и включающие в себя современную деловую терминологию, которая порой отличается от
344
используемой в Эстонии. В язык диаспоры нововведения могут внедряться как путем заимствования лексем, так и калькирования структуры слов эстонского языка (например, korrakaitsebüroo – бюро охраны порядка), что в процессе перевода ограничивает возможности преодоления трудностей в силу различия языков в способах словообразования.
Литература
Голуб И. Б. (2006) Русский язык и культура речи. М. Кушнерук С. П. (2008) Документная лингвистика. М. Щаднева В. П. (2009) О месте и лингвистических особенностях русских официально-деловых текстов в языковой ситуации современной Эстонии. Humaniora: Lingua Russica. Активные процессы в русском языке диаспоры и метрополии. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XII. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu. С. 224 – 242. Щаднева В. П., Кудрявцев Ю. С. (2011) Языковые нормы и речевые аномалии: к вопросу о вариативности языковых средств в языке метрополии и диаспоры. Humaniora: Lingua Russica. Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика XIV. Развитие и вариативность языка в современном мире II. С. 246 – 265. Щаднева В. (2011) Характеристика современного эстонско-русского перевода утилитарных официально-деловых текстов. Русистика и современность. Сборник научных статей. С. 540–545. Рига: Балтийская международная академия. Eesti keele... — Eesti keele seletav sõnaraamat. Веб-ресурс: http://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=klienditeenindaja&F=M
345
Йоланта Юзвяк
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ В ПЕРЕВОДЕ Аннотация: Целью настоящей статьи является указание на проблемы, которые могут возникать в процессе перевода лексических единиц, участвующих в создании национального колорита текста. Материалом для проведения исследования послужили примеры из детективного рассказа Б. Акунина Одна десятая процента из тома Нефритовые четки и соответствующего ему текста перевода Е. Роевской-Олеярчук на польский язык Jedna dziesiąta procenta. Рассматриваются также последствия выбора переводчиком определенной стратегии, которая может привести к усилению или ограничению впечатления чуждости у представителей другой культуры. Abstract: “Cultural background in the process of translation”. The aim of the paper is to pay attention to problems which may occur in the process of translation of lexical units carring cultural background information. The subject matter of the analysis is a Polish version of a Russian detective story One tenth of one percent from volume The Jade Rosary, written by Boris Akunin and translated by E. Rojewska-Olejarczuk.
The author brings out into relief the consequences of using by translator different strategies, which may lead to intensification or neutralization of feeling of strangeness by recipients of the other culture. В научных исследованиях, особенно литературно ориентированных, неоднократно упоминается, что переводимые тексты становятся частью литературы другого культурного круга. Переводы воспринимаются представителями переводящего языка, которые, как правило, не знают оригинала. Однако, в любом тексте находятся моменты, в которых внимание реципиентов особо направляется на восприятие элементов исходной культуры. Они могут появляться на разных уровнях организации текста, начиная с отражения звукового
346
отличия, а заканчивая на тексте, воспринимаемом как одно целое, например, как особый жанр. Перевод часто рассматривается как акт межъязыковой коммуникации. Посредником в процессе передачи всех смыслов и пластов литературного произведения является первый интерпретатор исходного текста, т.е. переводчик. Именно он является первым сознательным читателем иноязычного текста, и только он может оценить, насколько известны представителям другой культуры элементы исходного культурного фона и какие ассоциации могут возникать при их восприятии.
В настоящей статье на примерах, почерпнутых из одного из рассказов Б. Акунина, помещенных в томе Нефритовые четки (Nefrytowy różaniec), т. е. Одна десятая процента, а также из текста его перевода на польский язык Jedna dziesiąta procenta, составленного Э. Роевской-Олеярчук, рассматриваются такие элементы текста, которые выполняют роль т. н. потенциальных носителей чуждости, т. е. могут вызывать при восприятии впечатление чужого [Lewicki, 2000:45].Анализу подвергаются имена собственные, реалии и словообразовательные элементы. Целью является также представление возможных стратегий и техник, а также конкретных решений переводчика, пытающегося отразить в языке перевода вышеупомянутые фрагменты оригинала. В любом художественном тексте появляются антропонимы, называющие главных и второстепенных персонажей, обладающие понятийным значением, которому присуще также „указание на принадлежность к национально-языковой общности” [Ермолович, 2001: 38]. В текстах на русском языке выступают антропонимические наименования в виде трехэлементных конструкций, содержащие, кроме личного имени и фамилии, отчество. Как известно,
347
отчества широко используются в русском языке и „представляют собой известную проблему для переводчиков с русского на иностранные культуры” [Ермолович, 2001: 56]. Важно отметить, что при передаче на польский язык переводчики сохраняют традиционный состав русских персоналий, хотя осознают, к каким затруднениям это может привести. Проблема заключается в том, что в литературных текстах выступает много персонажей, в ходе событий они появляются неоднократно, вследствие чего персоналии не всегда появляются в полной модели, ср. Иван Дмитриевич Кулебякин − Iwan Dmitrijewicz Kulebiakin, Иван Дмитриевич − Iwan Dmitrijewicz. С точки зрения польского реципиента в последнем случае отчество занимает место фамилии, и часто в таком именно значении воспринимается. Такое восприятие еще углубляется, если учитывается факт, что в анализируемом рассказе персоналии чаще всего построены по модели имя + фамилия, напр. Фрол Ведищев − Froł Wiediszczew, Афанасий Кулебякин − Afanasij Kulebiakin, Ксаверий Грушин − Ksawierij Gruszyn. Существенным примером может послужить введение в текст польского перевода персонажа генерал-губернатора Москвы, ср. Владимир Андреевич − Władimir Andriejewicz. Не вполне оправданным следует считать решение переводчика о механическом переносе имени и отчества, конечно, с помощью транскрипции,. Данный выбор привел к неполной передаче когнитивной информации. У русскоязычных читателей вероятно возникают преднамеренные автором ассоциации на основании их культурно-исторического опыта, но почти невозможно достигнуть подобного рода ассоциаций у представителей другой культуры, в том числе и у поляков. Генерал-губернатор не первый раз появляется в цикле о приключениях Эраста Петровича Фандорина, но речь идет об одном из рассказов. Польские читатели не обязаны
348
ориентироваться во всех произведениях цикла. Следовательно, хорошим выходом из положения вероятно оказалась бы экспликация фамилии, ср. Władimir Andriejewicz Dołgorukoj, чтобы избежать возможных неточностей или недоразумений. В анализируемом переводе появляются также топонимические названия. Их несколько, например, два наименования городов, имеющие полные и общепринятые соответствия, т. е. Москва − Moskwa, Петербург − Petersburg. Встречается также транскрибированное наименование города: Звенигород − Zwienigorod, которое выступает и в производной полонизированной форме прилагательного, включенной в языковую систему перевода, ср. Звенигородский уезд − do powiatu zwienigorodzkiego. Однако в другом выражении, имеющем в своем составе прилагательное звенигородский, переводчик использовал другой прием, отказываясь от прилагательного и возвращаясь к мотивирующему топониму в транскрибированной форме, ср. к звенигородскому исправнику − do isprawnika w Zwienigorodzie. Решение переводчика следует считать правильным, так как таким образом он старался хотя бы немного смягчить впечатление чуждости у получателей из другого языкового круга, возникающее при восприятии словосочетания, состоящего из двух иноязычных транскрибированных элементов. Следует также отметить, что в любом языке имеется только небольшое количество дериватов, образованных от иноязычных имен собственных, хотя они иногда появляются в текстах, и при их создании используются продуктивные в данной деривационной функции модели и суффиксы [Lewicki, 2000: 53].
В свою очередь, полонизированное наименование известной московской улицы, ср. по Тверской − po Twerskiej, которое склоняется согласно грамматическим правилам языка перевода,
349
передается без классифицирующего элемента, поскольку в контексте высказывания ясно, что речь идет об улице, даже в случае, если читатель не обладает нужными знаниями. Самым интересным является способ передачи неофициального названия топонима Москва, т.е. выражения в Белокаменной. В сознании реципиентов оригинала наименование Белокаменная ассоциируется со столицей России и историей московского Кремля. Такие культурные ассоциации у неподготовленных представителей польской культуры не возникают, поэтому выбор переводчика, заключающийся в замене топонима классифицирующим элементом stolica, можно считать оправданным. Получается следующая пара соответствий: в Белокаменной − w stolicy. Очередной группой наименований, вызывающей у переводчика потребность оценки знаний читателей переводческого варианта текста, являются культурно коннотированные реалии. Как отмечает Н. К. Гарбовский, вопросы перевода этнографических реалий изучаются особенно пристально, поскольку в художественных текстах они придают высказываниям определенный национальный, региональный или местный колорит, составляющий неотъемлемую часть поэтики переводимого текста [Гарбовский, 2007: 483].
Согласно классификации В. С. Виноградова в тексте рассматриваемого рассказа имеются примеры бытовых реалий, реалий мира природы, реалий государственно-административного устройства и общественной жизни. Вышеописанные антропонимы и топонимы относятся исследователем к ономастическим реалиям [Виноградов, 2006: 105-113].
В соответствии с определением А. С. Бархударова слова и выражения, которые не имеют ни полных, ни частичных соответствий в языке перевода, представляют собой так
350
называемую безэквивалентную лексику [Бархударов, 1975: 94].
Различные виды упомянутых единиц выделяются в научных работах, когда исследуется проблематика непереводимости. Данные единицы служат примерами непереводимости, возникшей в результате невозможности передать на языке перевода некоторые понятия, выражаемые на языке оригинала, т. е. невозможности вызвать у иноязычного получателя такие же ассоциации, какие возникают у получателей оригинала [Wojtasiewicz, 1996: 52]. Примеры такого типа наименований находятся и в анализируемом рассказе и передаются путем переводческой транскрипции, ср.: isprawnik, katorga, pop, rubel, samowar, smorodina. Все они коннотируют русское культурно-языковое пространство, но вызывают отличающиеся друга от друга ассоциации у читателей оригинала и перевода. Некоторые сомнения может вызывать последний пример, потому что слово smorodina встречается в польских словарях с пометой: диалектизм, но у большинства реципиентов будет вызывать ощущение чуждости. Комментария требует также слово isprawnik, которое не является вполне понятным польскому читателю, даже в условиях контекста, и как элемент культурного фона усиливает впечатление чуждости. Интересным является факт, что в некоторых других произведениях цикла о Фандорине данное слово обеспечивается соответствующей сноской.
Следует отметить, что исследуемые лексические единицы в рассматриваемом произведении являются элементами, помогающими создать определенный национальный колорит, но в данном рассказе не имеют первостепенного значения, как это бывает в текстах культурологического характера.
351
При передаче имен собственных и реалий переводчик может обратиться к стратегии освоения или экзотизации, но иногда возникают ситуации, когда у переводчика нет выбора, если он хочет достигнуть соответствующего коммуникативного результата. Это такие случаи, когда эффект сильно опирается на грамматическую систему, а точнее его словобразовательные возможности. Примером может служить следующий фрагмент: „Как говаривал покойный Ксаверий Грушин, первый наставник Эраста Петровича в сыскных делах, «либо асть, либо ысть, либо есть, либо ость», то есть, должна присутствовать страсть, корысть, месть или опасность”, и его перевод: „Jak mawiał świętej pamięci Ksawierij Gruszyn, mentor Erasta Pietrowicza, gdy ten stawiał pierwsze kroki w rzemiośle detektywa, «albo ość, albo yść, albo iść, albo enie», co znaczyło, że przyczyną zbrodni musi być namiętność, korzyść, nienawiść albo zagrożenie”. Как видно, перевод словобразовательных элементов требовал словообразовательной адаптации к системе переводящего языка вследствие появления слов, образованных по другой модели. Конечно, в обоих языках сохранилось графическое выделение суффиксов. Языковой облик текста перевода является результатом осознанного принятия переводчиком определенной стратегии: адаптации или экзотизации. Как следует из приведенных примеров переводческих решений, общую стратегию, которая была принята для рассказа можно определить как экзотирующую, о чем свидетельствуют хотя бы транскрипционные записи антропонимов, топонимов, реалий, сохранение отчества. Однако оказывается, что не всегда возможно придерживаться принятой стратегии. С одной стороны, в процессе перевода учитываются системные возможности языка перевода (как в случае словообразовательной
352
адаптации). С другой стороны, переводчик все время должен иметь в виду фоновые знания и реакцию инокультурного реципиента (ср. в Белокаменной). Важно также отметить, что чуждость, ощущение иного при восприятии переводов в рамках другой культуры может выступать на разных уровнях, т. е. как результат переводческой ошибки, как результат осознанной неизбежности, а также как результат стратегии, даже если есть возможность избежать такого ощущения [Lewicki, 2000: 134-135].
Следует вспомнить, что ситуация осложняется вследствие присутствия в тексте произведения интертекстуальных ссылок на другие культуры, чужие культурам, в которых рождается как оригинал, так перевод. Переводчик должен тогда учитывать различия в восприятии так называемой „третьей культуры” представителями исходного и переводящего языков. Литература Akunin B.. (2009) Jedna dziesiąta procenta. Akunin B. (2009), Nefrytowy różaniec. Świat książki, Warszawa, с. 189 – 209. Акунин Б. 2008 – Одна десятая процента. В кн.:Акунин Б. (2008) Нефритовые четки. Издательство «Захаров», Москва, с. 200 – 219. Бархударов А.С. ( 1975) Язык и перевод. Издательство «Международные отношения»Москва. Виноградов В.С. (2006) Перевод. Общие и лексические вопросы. Издательство КДУ, Москва . Гарбовский Н.К. (2007) Теория перевода. Издательство Московского университета Москва. Ермолович Д.И. (2005) Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. Р.Валент, Москва. Lewicki R. (2000) Obcość w odbiorze przekładu. Wydawnictwo UMCS, Lublin. Wojtasiewicz O. (1996) Wstęp do teorii tłumaczenia, Wydawnictwo TEPIS, Warszawa.
353
Elena Yurchenko
A CULTURALLY COMPETENT LEARNER: THE APPLICATION
OF THE INTERCULTURAL APPROACH AT THE TERTIARY
LEVEL
Аннотация: Развитие межкультурной коммуникативной компетенции является важной составляющей современного процесса обучения иностранным языкам и развития у студентов основных языковых навыков, необходимых для успешной самореализации в культурно разнообразном обществе. Приемы и подходы, используемые в современной дидактике, должны формировать у студентов умения использовать иностранный язык в различных социо-культурных контекстах. Одним из способов для достижения этой цели является межкультурный подход к обучению иностранным языкам. В статье рассматриваются основные принципы этого подхода и их применение на примере курса английского языка для студентов программы «Управление культурой» в Балтийской Международной академии.
Learning English nowadays in a EFL class enables the students to become a part of intercultural communication rather that international, and the target language becomes an instrument for interaction with people all over the world not only in everyday situations, but in many professional fields such as business, science, thechnology, tourism, culture, entertainment, art, etc. It’s obvious that in order to successfully function in a culturally diverse society modern language learners need to develop intercultural communicative competence. In 2001 the Council of Europe produced a list of learners competences which characterise them as culturally competent. According to framework a culturally competent learner must possess:
- sociological competence;
354
- pragmatic competence; - sociocultural competence; and - intercultural awareness.
Thus a culturally competent learner should possess the cultural experience consisting of four interconnected learning interactions:
Knowing about
Knowing how
Knowing why
Knowing oneself
The acquisition and mediation of effective intercultural communication skills have become a new objective in modern language learning and teaching and require new methodological approach. Since the mid to late 1980s there were discussions on what a language course should achieve, but only in 90s there appeared a number of publications by Michael Byram with Carol Morgan (1994), by Michael Byram in 1997, 1998, Clair Kramsch in 2000 and many others. In these works the authors pointed out to the necessity to integrate “culture” into the communicative curriculum thus there were formulated the main principles of the intercultural approach to teaching and learning languages. They are as follows:
1. Intercultural knowledge and skills are in the centre of teaching and learning.
2. Intercultural knowledge and skills are the integral part of the curriculum.
3. The goal of language education is intercultural communicative competence.
355
Intercultural approach places intercultural knowledge and skills centre-stage, and makes them an integral part of the curriculum. It radically redefines the ultimate goal of language education which becomes “intercultural communicative competence” rather than “native-speaker proficiency”. Moreover, intercultural communicative competence is seen as a complex combination of valuable knowledge and skills. In 1997 Michael Byram produced the most fully worked-out specification of intercultural competence, which involves five the so-called savoirs, or five formulations of the kinds of knowledge and skills needed to mediate between cultures: 1. Knowledge of self and other; of how interaction
occurs; of the relationship of the individual to society; 2. Knowing how to interpret and relate information 3. Knowing how to engage with political consequences
of education, being critically aware of cultural behaviours;
4. Knowing how to discover cultural information; 5. Knowing how to be: how to relativise oneself and
value the attitudes and beliefs of the other. [M. Byram, 1997]
The intercultural approach assimilates some of the features of the earlier approaches to culture in the communicative curriculum. According to John Corbett intercultural approach assumes that:
Cultural topics are interesting and motivating
Acculturation (the ability to function in another culture while maintaining one’s own identity) is important;
Cultural awareness-raising is an aspect of value education;
356
Intercultural language education should cast a critically reflective eye on its own workings. [J. Corbett, 2003]
In order to apply successfully the intercultural approach at the tertiary level it is essential to specify the course content which increases intercultural understanding, equips the learner with ways of analysing and interpreting culture and helps them reflect on their own and others’ cultures, moreover its application also means defining, teaching and testing intercultural knowledge and skills as well as language skills. A standard curriculum usually covers the topics from the so called big-C culture part, which comprises history, geography, institutions, literature, art, music, while the culturally-influenced behaviours, attitudes, views etc. which constitute little-C culture have tended to be treated in an anecdotal or supplementary way, depending on the interest and awareness of teachers and students. Ideas and cultural dimensions are usually neglected in the school textbooks and as Alan Maley states the generations of learners have been taught about culture but not why culture which is a valuable component of foreign-language programmes.
Culture as the ESP course subject matter can be identified from following five dimensions: tangible forms or structures (products) that individual members of the culture (persons) use in various interactions (practices) in specific social circumstances and groups (communities) in ways that reflect their values, attitudes, and beliefs (perspectives) (Patrick R. Moran, 2001). The interplay of five dimensions is very helpful to both teachers and students in understanding culture as it presents a relatively clear construct for defining cultural content, though the connections are not always obvious and it can take some effort to identify products, practices, perspectives, and communities of cultural phenomena that we have not known yet. Basing upon
357
these five interrelated dimensions Moran defines culture as follows:
Culture is the evolving way of life of a group of persons, consisting of a shared set of practices associated with a shared set of products, based upon a shared set of perspectives on the world, and set within specific social contexts. [Patrick R. Moran, 2001]
In this definition the evolving way of life reflects the dynamic nature of culture and it also stresses that the persons of the culture are in the permanent process of creating and changing products, practices, perspectives and communities.
This definition of culture in some respect is similar to the great number of definitions by culture researchers, anthropologists, philosophers, but Moran’s idea of culture facilitates the application of the intercultural approach depending on the aims of the course, students’ background, teaching and learning environment. Moreover, it demonstrates the interrelation between culture and language that helps language teachers to implement and combine the five dimensions of culture in the process of teaching and learning.
Language teachers, of course, are primarily interested in how to implement and combine the five dimensions of culture in the process of teaching and learning. And make the study of cultural aspects an integral part of each lesson. I again chose the models by Patrick Moran because it is clearly demonstrates that language and culture are interrelated. The language usually taught in the classroom context and the language to learn culture is specialized because when culture is the topic the language it is the means to comprehend, analyze and respond to it. As a culturally competent learner possesses the cultural experience consisting of four
358
interconnected learning interactions then four language functions are needed:
Knowing how - language to participate in the culture (in cultural practices and in specific cultural communities) i.e. vocabulary for communicative exchanges and expressions
Knowing about - language to describe and manipulate cultural products i.e. specific vocabulary and expressions related to literal and figurative description
Knowing why - language to interpret the culture i.e. the language used to identify, explain, and justify cultural perspectives and to compare and contrast these with perspectives from the individual’s own culture and other cultures (the vocabulary and expressions associated with critical thinking or inquiry into perceptions, values, beliefs, and attitudes)
Knowing oneself - language to respond the culture i.e. the language individuals use to express their thoughts, feelings, questions, decisions, strategies, and plans regarding the cultural experience (the words and expressions needed to voice opinions, feelings, intentions, etc.)
These four functions mirror the stages of cultural experience cycle: participation, description, interpretation and response and they indicate language content as well as language functions the learner needs.
The majority of textbooks used in the classroom are full of information on intercultural knowledge, on products and practices, on communities and persons, but very often they don’t make teachers and students become fully aware of their own cultural conditioning, not to say about other cultures assumptions and values. Cultural
359
knowledge can be useful because it helps us to understand ourselves and other people, but at the same time it can be misleading as it is dependent on the other people’s expertise, objectivity and integrity, it is fixed in time and therefore often out of date, sometimes simplified. On the other hand, cultural awareness involves a “gradually developing inner sense of the quality of cultures, an increased understanding of your own and other people’s cultures�. Such awareness can broaden the mind, increase tolerance and facilitate international communication” ( Tomlinson, 2001 ). Thus, the ESP course at the tertiary level has to focus mainly on perspectives which represent the perceptions, beliefs, values and attitudes that underlie the products and that guide persons and communities in the practices of the culture. [Patrick R. Moran, 2001]
The ESP course delivered in the Baltic International Academy was designed for students majoring in culture administration (project management in culture) and it is aimed to teach “knowing why and knowing oneself” culture i.e. perspectives which correspond to perceptions, values, believes, attitudes, concepts etc. though the other culture and language items are not neglected. During the course the students are encouraged to make connections with their previous experience, make comparisons with other cultures, interpret the significance of cultural behaviour, observe conflicts caused by cultural misunderstanding and become a mediator between the sides involved in a culture bump situation, and what is really important the students try not to be instantly critical of other people’s deviant behaviour.
In order to enable students to function successfully in multicultural groupings and to get prepared for intercultural encounters the following general aims of the course were stated:
360
- to develop and improve the students’ intercultural communicative competence to become an effective communicator in the professional field and in various public settings (socializing, presentations, conferences, negotiations);
- to help the students discover and relativise their own culturally determined values, behaviour and ways of thinking in relation to other people’s cultures by creating cross-cultural awareness;
The topics covered in the course deal with cultural matters which are usually not discussed in the secondary level class environment and they are meant to help students to discover and reflect on aspects of their own and other cultures that probably they have not been aware of. The criteria for selection were based on the following assumptions and beliefs about culture and intercultural learning:
• culture should be seen as a dynamic, changing and developing process;
• culture is a complex entity and this complexity should be represented;
• educational approaches should equip learners with the means of accessing and analysing a broad range of cultural practices and meanings;
• educational approaches should afford learners opportunities to analyse and reflect on their encounters, identify any conflict areas, describe them, and in the light of their experience recognise opportunities for building relationships, and/or changed future actions or behaviour. (D. Humphrey, 2002)
361
Below there is a list of themes which constitute the course:
1. Cultural identity, culture dimensions and culture components.
2. Types of societies and types of cultures. 3. Culture and communication. Intercultural
communication. Small Talk. 4. Non-verbal communication. Body language.
Status symbols. 5. Cross-cultural awareness. Culture shock. Culture
clash. Culture bumps. 6. National stereotypes. 7. Traditions and customs. Festivals and
celebrations. Prejudices and superstitions. 8. Business Cultures.
The teaching materials for the course have been collected and compiled from various sources such as cultural researches, textbooks, reference books, articles, Internet sites etc. The teaching and learning framework aims to provide the basis for the effective acquisition and development of intercultural communication skills. It also combines theories of teaching and learning from the fields of intercultural education and intercultural communication studies and practical materials and activities. The course explores how students can be involved in developing the awareness, knowledge, skills and strategies for effective intercultural communication. The course consists of short lectures, seminars based on guided reading, case studies, discussions, peer tutoring, practical research assignments, language study and student-led presentations and each new unit is supported with what has been taught previously. The classroom friendly and supportive atmosphere enables to engage the students in developing greater self-awareness and self-discovery, to be open, flexible, tolerant and accepting, thus it allows students to get
362
prepared for intercultural encounters and become a culturally competent person.
Appendix 1.
Unit 6. National Stereotypes.
The learning objectives:
- to explore the concept of stereotyping and practise observation and interpretation skills;
- to reflect on students’ own culturally determined national stereotypes;
- to develop open-mindedness and respect for otherness;
- to enrich students’ vocabulary with adjectives describing a personality;
- to practise the language to describe, compare and contrast national stereotypes;
Stage 1. Knowing how.
Cultures are so complex and vast that it is easy to use stereotypes to describe them. There is often a tendency to use judgments and generalizations in describing what we usually call “American culture”, “Chinese culture “or “Italian culture”. So although there is something recognisable in our statements, it is extremely important to notice diversity within those cultures or we risk saying that absolutely everyone in a particular culture is the same. Thinking in this way we narrow our understanding of the complexity of any culture and might become unaware of values, views and attitudes underlying this complexity.
Ask students to define what stereotype is.
363
A stereotype is a belief that all people from a culture behave a certain way. It is an opinion based on one’s own cultural values and prejudices and on little information about the other culture.
Before reading. Questions to answer and discuss:
1. Do people in your group often stereotype and what are the sources of stereotypes?
2. Do stereotypes impact the way we act towards or feel about others, or even ourselves?
3. Are stereotypes harmful? Should we react to these statements or should we ignore such half truths, stereotypic judgements and over simplifications?
4. Are there any positive national stereotypes in your group?
Read the anecdote:
What is the difference between heaven and hell? In heaven, the French are the cooks, the Germans are the engineers, the British are the politicians, the Swiss are the managers, and the Italians are the lovers. In hell, the British are the cooks, the French are the managers, the Italians are the engineers, the Germans are the politicians and the Swiss are the lovers.
What are the first things that come into your mind when you hear the word: French; Belgian; German; Swiss; Italian; Dutch; British? Make a list of your ideas and compare them with your partner. What issues are similar or different?
Vocabulary to describe a personality. Find words with similar and opposite meanings.
arrogant chaotic hard- devious
364
generous lazy narrow-minded quiet conservative
hospitable lively individualistic relaxed trustworthy
working noisy mean progressive reserved unfriendly
tolerant modest public-spirited serious well-organized
Stage 2. Knowing about. Read the text and compare your ideas with the ones in the text.
PARKLAND FINDINGS We are repeatedly warned to beware of generalizations yet, paradoxically, it seems that the human mind cannot resist categorizing people and things. We love to “pigeon-hole”, to make order out of a universe that frequently seems to us confusing and even chaotic. Nowhere is this tendency more evident that in our willingness to generalize about nationalities. We create national stereotypes and cling tenaciously to our prejudices. To illustrate this point, we shall take a look at the findings of a survey carried out by the market research firm, Parkland Research Europe. This organization carried out a detailed study of European attitudes by questioning 185 business executives, lawyers, engineers, teachers and other professional people from seven European countries. These were: Germany, France, Britain, Switzerland, Italy, the Netherlands, Belgium. The resulting publication , Guide to National Practices in Western Europe, gave some idea of what Europeans think of each other. It revealed many widely-held stereotypes, but also came up with a few surprises. GERMANS. Liked themselves best of all. Most Europeans agreed that the Germans had the highest proportion of good qualities. They considered themselves very tolerant, but nobody else did. They saw themselves as fashionable. Others found them “square”.
365
FRENCH. Not really admired by anyone except the Italians. Other Europeans found them conservative, withdrawn, chauvinistic, brilliant, superficial, hedonistic. Also, not very friendly. The French agreed o the last point! BRITISH. Mixed reactions. Some found them calm, reserved, open-minded, trustworthy; others deemed them hidebound, insular and superior. Everyone was unanimous that the British had an excellent sense of humour. The British most admired the Dutch. SWISS. Showed considerable lucidity and powers of self-analysis. Saw themselves as serious, trustworthy, but too money-minded and suspicious. Most Europeans agreed. The Swiss liked the Germans best. ITALIANS. Generally considered by everyone to be lazy and untrustworthy, and the Italians agreed! Most also found them to be vivacious, charming, hospitable and noisy. The Italians admired the French and the Dutch. Hardly anyone loved the Italians except the French. DUTCH. Most admired people in Europe – except by their neighbours – the Belgians. Everyone agreed that the Dutch are hard-working, thrifty, good-natured, tolerant and business-minded. The Netherlands, however, was not considered to be a good place to live in. BELGIANS. Least admired in this group. They see themselves as easy-going and diligent workers. Other Europeans consider them undisciplined and narrow-minded – and lousy drivers! As a follow-up to this study, businessmen were asked to imagine they were setting up a multinational company. They had to choose national for the positions of president, managing director, chief cashier, public relations officer and skilled and unskilled labour. The Germans were universal choice for the top jobs, and also first choice for skilled workers. The Italians were relegated to unskilled jobs; the French received massive support for the light-weight public relations post. According to Parkland research, “No European
366
picked an Italian as president or chief cashier. Moreover, no Italian or Frenchman picked one of his own nationals as chief cashier!”
Answer the questions: 1. How does the author account for people’s
irresistible desire to create stereotypes? 2. What was the study carried out by Parkland
Research Europe devoted to? 3. What did the study result in? 4. What is typical of Germans, according to the
study? 5. What makes the Italians admire the French? 6. What does the study say about the British? 7. What makes the Dutch the most admired
people in Europe? 8. How do the Belgians differ from the French?
Do you think they have anything in common? 9. How similar or different were your ideas to
those in the text? Stage 3. Knowing why. Look back at the descriptions and discuss in groups:
1. What is portrayed as positive? What is portrayed as negative? Do stereotypes help or hinder the relationships? How not to generalize? 2. What values, views and attitudes can you find
in the above characteristics? 3. Is there any contradiction between the surface values (what we see without thinking about) and the hidden messages we don’t readily notice? The statements below can help you.
They believe that personal relations and friendships are more important than rules and formal procedures. They believe that rules are very important, and exceptions shouldn’t be made for friends.
367
They’re collectivist, so they dislike the idea of one person in a group earning much more than his or her colleagues. They’re efficient, punctual, and highly organized. They’re great believers in analysis, rationality, logic and systems. They are individualistic, so paying people according to their performance is highly successful. They like to spent time getting to know people before doing business with them. They place great stress on personal relation, intuition, emotion, feeling and sensitivity. They seem to be very disorganized, but on the other hand, they get their business done. They accord status and respect to older people, and promotion comes with age. They’re keen to find a consensus and to avoid confrontations. They’re very short-term oriented, thinking only of quarterly results.
4. How do the values, behaviours, expectations,
and attitudes that you have uncovered in stereotypes relate to the culture at large?
5.How do your personal cultural encounters correspond to the stereotypes you have read about?
Stage 4. Knowing oneself. Answer the following questions:
- Can you think of some stereotypical images of other cultural groups living in your country? Write a list and compare it with your partner.
- Are they generally positive or negative images? - Do you feel that some of the images are true for
everyone in your cultural group? If they are not which group would be exempt from these stereotypes?
- Can you think of some stereotypical images of your own cultural group? Write a list.
368
- What values, views, attitudes underlie your descriptions?
Prepare a talk presenting your ideas. Discuss other students’ views and try to find a common idea how to break stereotypes. Stereotypes are usually based on our own experiences, knowledge and relationships, first impressions and believes. We develop stereotypes when we are unable or unwilling to obtain all the information we need to make fair judgements. People tend to stereotype when they lack personal relationships or significant experiences with certain groups of people and make uninformed assumptions based on limited information. We may initially rely on stereotypes to learn about culture, but it is ultimately important to ask questions and accept the information which might contradict the stereotype. Literature
Byram M. (1997) Teaching and assessing intercultural competence. UK Clevedon: Multulingual Matters Ltd. Corbett J. (2003) An Intercultural Approach to English Language Teaching. UK Clevedon: Multulingual Matters Ltd. Council of Europe. (2001) Common European framework for reference for languages: Learning, teaching, assessmnet. Cambridge, CUP. www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf English Laura M., Lynn S. (1995) Business Across Cultures: Effective Communication Strategies. NY: Addison-Wesley-Publishing Company, Inc. Hofstede G.J., Pedersen P.B., Hofstede G.(2002) Exploring Culture. Yarmouth, Main: Intercultural Press, Inc. Huber-Kriegler M., Lazar Ildiko, Strange J.( 2003) Mirrors and Windows. An intercultural communication textbook. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Humfrey D. (2002) Intercultural Communication: teaching and learning framework. www.llas.ac.uk/resources/paper/1303 Moran P.R. (2001) Teaching Culture: Perspectives in Practice. Heinle&Heinle, Tomson Learning.
369
Tomalin B., Stempleski S.(1997) Cultural Awareness. Oxford: OUP. Беляева О.В., Петрищева О.С. (2011) Дополнительные материалы к учебнику International Express Intermediate. 2. Москва: МГИМО-Университет.
370
Сведения об авторах Аббасова Ульвия Вагиф гызы преподаватель кафедры английского языка, Азербайджанский государственный университет языков. Баку, Азербайджан Астахова Карина студентка программы Устный и письменный перевод. Балтийская Международная академия. Рига, Латвия Базарова Лилия Вязировна старший преподаватель ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет». Казань, Татарстан -РФ Белоус Виктор Борисович кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания и перевода частого высшего ученого заведения «Социально-педагогический институт Педагогическая академия», Кировоград, Украина Берг Елена Борисовна Кандидат филологических наук, доцент, консультант отдела разработки нормативных правовых актов.Уральский институт регионального законодательства, Екатеринбург, Россия. Борман Жанна доктор филологии, доцент Балтийской Международной академии. Рига, Латвия Вегвари Борис аспирант, младший научный сотрудник Кафедры управления человеческими ресурсами Печского университета, Печ, Венгрия
371
Вегвари Валентина кандидат педагогических наук, доцент кафедры славянской филологии Печского университетаю Печ, Венгрия Вельман-Омелина Елена Михайловна магистр филологии (Mg Philol), докторант, преподаватель Центра языков. Тартуский университет, Тарту, Эстония Галиева Марианна Андреевна аспирантка, Факультет филологии, Ивановский Государственный университет. Иваново, Россия Гаш Агнешка кандидат филологических наук,. филологически факультет (г.Сосновец) Силезский университет в Катовицах (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Польша Горбань Виктория Владимировна кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского языка, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина.
Гукова Лина Николаевна кандидат филологических наук, доцент кафедра русского языка Одесского Национального университета. Одесса, Украина Эва Дзвежиньска кандидат филологических наук, адъюнкт, Жешувский университет (Uniwersytet Rzeszowski), Жешув, Польша Малгожата Дзедзиц (Dziedzic Małgorzata), кандидат филологических наук, Жешувский университет (Uniwersytet Rzeszowski), Жешув, Польша Гжегож Зеталя (Grzegorz Ziętala), Кафедра русской филологии Жешувский университет (Uniwersytet Rzeszowski), Жешув, Польша
372
Кит Марк (Mark Kit ) West Hartford , US. Language Interface Inc. (USA), директор компании, M.S. in Electronics and Automatic Control Systems Короглу Ленура Аблямитовна аспирант, Крымский инженерно-педагогический университет. Симферополь, Украина,
Koссаковска-Марас Мария (Kossakowska-Maras Maria), Кандидат филологических наук, адъюнкт, Кафедра русской филологии, Жешувский университет (Uniwersytet Rzeszowski). Жешув, Польша Костанди Елизавета Илмаровна Кандидат филологических наук (PhD); доцент; отделение славянской филологии, Философский факультет, Тартуский университет. Татрту, Эстония
Кочергина Людмила Васильевна, кафедра иностранных языков, старший преподаватель, ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского», Симферополь, АР Крым, Украина
Купп-Сазонов Сирье Докторант. Переводческий центр Тартуского университета. Тарту, Эстония.
Манакова Наталья Александровна Аспирант, издательский отдел ФГБОУ ВПО "Таганрогский государственный педагогический институт имени А.П. Чехова", Таганрог, Россия.
373
Марек Маршалек доктор филологических наук наук (Dr.Phil.), профессор Университета Казимира Великого в Быдгоще. ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, POLSKA) Быдгощ, Польша Мигирина Нина Иосифовна кандидат филологичесаких наук, доцент кафедры славистики Бельцкого госуниверситета им. А. Руссо. . Бельцы, Молдова Мурадян Ирина Владимировна доцент, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Одесского национального университета им.И.И.Мечникова. Одесса. Украина.
Наумова Ирина Олеговна Кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой иностранных языков Харьковской национальной академии городского хозяйства. Харьков. Украина
Никитенко Валентина Владимировна, соискатель кафедры восточных языков ИФиЯК, Сибирский Федеральный университет, Красноярск, Россия
Новрузов Фарид Рафик оглу соискатель Института литературы Национальной Академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан Павильч Александр Александрович (Pavilch Alexander) кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории мировой культуры.Минский государственный лингвистический университет. Минск. Белоруссия.
374
Прохорова Ольга Николаевна доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английского языка и методики преподавания Белгородского государственного научно-исследовательского университета. Белгород, Россия
Разумовская Вероника Адольфовна кандидат филологических наук, кафедра делового иностранного языка, Сибирский Федеральный университет. Красноярск, Россия Сакаева Лилия Радиковна доктор филологических наук, профессор, декан факультета иностранных языков ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Казань, Татарстан -РФ Семенюк Олег Анатольевич доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой перевода и общего языкознания Кировоградского государственного педагогического университета имени В.К.Винниченко Кировоград, Украина
Сирота Елена Владимировна кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой славистики Бельцкого государственного университета им. А. Руссо. Бельцы, Молдова Скачкова Ольга доктор филологии, доцент. Балтийская Международная академия. Рига, Латвия Сосновская Надежда Игоревна старший преподаватель, Сибирский федеральный университет, Красноярск. Красноярский край, Россия
375
Стец Ванда, доктор филологических наук, адъюнкт, кафедра восточнославянского языкознания и теории перевода Гданьский университет (Uniwersytet Gdański), Польша
Столярова Ирина Витальевна кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Россия, Санкт-Петербург)
Фильцова Марина Сергеевна кафедра русского языка, старший преподаватель;ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», Симферополь, АР Крым, Украина
Фомина Людмила Фёдоровна кандидат филологических наук доцент, кафедра прикладной лингвистики Одесского национального университета. Одесса, Украина
Цыбина Елена Александровна Кандидат педагогических наук, доцент, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск, Россия
Чекулай Игорь Владимирович доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английского языка и методики преподавания Белгородского государственного научно-исследовательского университета, Белгород, Россия. Чистова Елена Викторовна старший преподаватель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». Красноярск, Россия.
376
Шарафутдинова Насима Саетовна кандидат филологических наук. доцент, заведующая. кафедрой иностранных языков Ульяновского государственного технического университета. Ульяновск, Россия Щаднева Валентина Петровна доктор философии (PhD), старший научный сотрудник отделения славянской филологии. Тартуский университет. Тарту, Эстония Йоланта Юзвяк (Jolanta Jóźwiak) кандидат наук, адъюнкт ,Университет Казимира Великого (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, POLSKA) г. Быдгощ, Польша Елена Юрченко (Elena Yurchenko), Mg Phil, лектор, Балтийская Международная академия Рига, Латвия