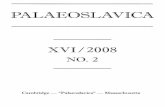философя перевода
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of философя перевода
Перевод: наука или искусство?
“Самое интересное то, что в человеке
особенно, неповторимо”. Т. А.
Флоренская
Серхио Мас Диас, Барселона
Ключевые слова: теория перевода, философия языка, диалогическая философия,
коммуникационная теория, лингвистика, герменевтика
Резюме: В центре внимания автора статьи доказательство возможности интерпретации
речевого акта сквозь призму личности. Автор, опираясь на философское осмысление,
доказывает диалогизм всякого высказывания. Основываясь на методах
интерпретационной теории, как лучшем способе, чтобы уравновесить субъективные и
объективные аспекты любого коммуникативного акта, автор убедительно доказывает,
что всякий перевод личностно ориентирован.
Я долго спрашивал себя, как я должен выступать перед Вами.
Возникло много вопросов, прежде всего - на каком языке? (Мое знание
английского языка намного лучше, чем русского, но как гостю мне было
бы хорошо говорить по-русски)? И, во-вторых, как выступать? Я имею в
виду, в каком аспекте? Так как я имею некоторый опыт обучения языкам
(два иностранных языка, немецкий, французский языки, которые я
преподавал испанцам, и испанский для иностранцев), я также преподавал
лингвистику, что могло бы сделать мою речь наукообразной, также
можно было бы сделать некоторые замечания из моего собственного
профессионального опыта. Я мог бы также говорить как эксперт по
Международным отношениям не только потому, что я изучил некоторые
работы по этой теме и издал ряд работ по международной политике, но и
потому, что это тоже входит в круг вопросов, которые мы здесь
рассматриваем. Среди них: обучение языкам, превалирование некоторых
языков над другими, постколониальные следы, затрагивающие изучение
или отказ от изучения некоторых языков в определенных частях планеты,
где прослеживаются явные политические и экономические моменты,
прямо или косвенно влияющие на языковую и культурную политику
конкретного общества.
И все же, главный для меня аспект - философский, я - философ вне
всех своих других титулов и квалификаций. Я дипломированный
специалист по филологии и философии, доктор философии, но что же
дает мне право выступать перед Вами? Официальные титулы и звания?
Что же может сказать доктор философии? Это должно быть что-то
глубокое, интересное, трудное, и новое?
Я полагаю, что Вы понимаете то, к чему я клоню с самого начала. Я
хочу привлечь Ваше внимание к тому факту, что речь – это, прежде всего,
акт, перевод - тоже. Конечно, каждый речевой акт - часть особого вида
действий, человеческих действий, которые, как показал Бахтин, являются
двойственными: “Акт нашей деятельности, нашего переживания, как
двуликий Янус, смотрящий в разные стороны: в объективное единство
культурного пространства и в неповторимую уникальность проживаемой
нами жизни” [Бахтин].
Как вы понимаете, я прошу, чтобы Вы сосредоточились на
личностных аспектах любой коммуникации. Даже этот текст, который
является устным текстом, станет письменным, и нам, как гуманитариям,
считающим текст главным объектом нашего исследования, придётся
решать, возможен ли подход, который бы основывался не на объективном
знании, а на том, что за каждым текстом стоит человек, и человек
ответственный.
Гуманитарные науки рассматривают человека говорящего или,
выражаясь точнее - рассматривают то, что мы делаем , когда пытаемся
говорить о говорении?
Я пытаюсь объединить имплицитную тему нашей встречи, находящуюся
в основе наших обсуждений коммуникации, перевода и филологии с
центральными аспектами дискуссий. Обсуждение сосредоточено не
только вокруг теории языка, технологии или методики его преподавания,
но вокруг людей говорящих, их слов, их потребностей и действий, каждое
из которых имеет определенную меру ответственности и последствия.
Благодаря особым людям, мы в состоянии говорить. Это, прежде
всего, те, кто учил разговаривать нас на родном языке, это плеяда
учителей, научивших нас всем тонкостям языка. У меня были и все еще
есть учителя французского, английского, польского и любого другого
языка, который я пытался учить. Должен сказать, что найти в Испании
учителя русского тридцать лет тому назад было не так просто, как теперь,
а преподаватель испанского в Мордовии и сейчас более редкая персона,
чем преподаватель английского или программист. Я очень благодарен
всем моим учителям русского языка, преданным своему делу и высоко
квалифицированным. Двое из них - известные переводчики. Если мой
русский язык все еще плох, это не их вина, а моя.
Перевод важен, потому что он позволяет нам осознать
собственные лингвистические предпочтения и пристрастия, позволяет
нащупать путь, по которому наш собственный язык ведет нас в некоем
направлении. Особенно часто это происходит, если мы не сознаем выбора
слов, которые мы используем, если мы позволяем языку как бы говорить
отдельно от нас. Иногда это происходит, когда мы позволяем языку идти,
как -будто он, своего рода, автономный механизм, некий официальный
кодекс, как это было, например, в советские времена. У языка бизнеса
есть много клише, таким образом, мы не должны думать о выборе
конкретной языковой единицы, мы только используем нужное клише.
Примером такого использования служат деловые письма. Мы следуем
правилам, согласно кодексу; у любого жанра есть специальный кодекс,
способ говорения. Однако мы действуем более или менее творчески, когда
мы используем наш язык или другие языки, и мы особенно осознаем это,
когда говорим на иностранном языке.
Как философ и филолог я имею дело с переводом каждый день, я
читаю тексты в оригинале на нескольких языках, проверяю переводы, я
полностью осведомлен о недостатках и достоинствах хорошего перевода,
именно поэтому я выражу здесь свое восхищение переводчиками.
Особенно я хотел бы выразить свое трепетное восхищение Русской
школой художественного перевода: я думаю, что в западных странах нет
ничего подобного. Филология и философия связаны с гуманитарными
науками, так же как связаны с ними литературоведение и культурология,
но мои выпускные квалификации позволяют мне представить себя не как
знатока и тем более мастера перевода, а как поклонника, любителя. Вы
знаете, что лексема « любовь, philia», входит в слова «философия» и
«филология».
Я рад воспользоваться возможностью, чтобы напомнить, что в
начале знания находится любовь. Любовь к другой культуре, другому
языку, другому предмету. «Любящий» на испанском языке <Un Amante>-
каждый, кто любит (в испанском -это причастие настоящего времени) оно
напоминает по форме слово cantante, и переходя от испанского к
французскому, я могу признать себя un amаteur – любитель, но un amante
также означает «любящий».
Так что я могу сказать, что люблю Мудрость, в точном
сократовском смысле, я – eщё не мудрец, но ищущий мудрость. Именно
Сократ ввёл слово philo-sophos , хотя уже использовались другие
слова:sophists или sophoi.
Мои отношения с переводом - также "любовная интрига", и я люблю
книги, я - библиофил (Любитель и собиратель книг). Я люблю изучать
языки, а это сложное, трудоемкое дело. Только после того, как Вы
начинаете сознавать, что знаете язык, вы можете познать чужую
культуру, это - процесс обратной связи: мы изучаем язык, изучая культуру
и также наоборот. Только если Вы знаете культуру, вы можете стать
хорошим переводчиком, словаря недостаточно, чтобы знать контексты, в
которых оживают слова, означающие уникальные реалии. Многие
нюансы могут быть поняты только тогда, когда язык изучен во всей
полноте. Не случайно, некоторые из лучших этнологов, например Сэпир,
Боас или Бейтсон, были замечательными лингвистами.
Углубляясь в рассмотрение предмета любви, переводчики
осознают, что два испанских глагола тесно связаны: Amar и querer,
любить и желать, хотеть. Корнилов остерегается, что мы не можем
перевести “te quiero” как “я хочу тебя”. Мы обычно не говорим “amo esta
ciudad” или “este autor es muy amado” на испанском языке, но говорим “yo
quiero ciudad”, в то время как Пушкин знал, что должен быть любезен: и
долго буду тем любезен я народу. Набоков перевел это стихотворение
дважды, и никак не мог найти должного варианта для слова «народ».
И долго буду тем любезен я народу,..( Вы видите, что narod - также
очень трудный термин для перевода, но я все же придерживаюсь своей
темы и продолжаю говорить о любви. На польском языке есть слово
kochac со значением значение querer и amar: kocham Я люблю;
kochana/дорогая.
Чтобы закончить с этими предварительными замечаниями, я задамся
вопросом, должно ли переводить philia как любовь или нет, и как говорить
об этом filia: Я нашел выход: великий дипломат Грибоедов ведь тоже
имел “хобби” и прекрасный химик Бородин? Это - действительно хобби?
Я думаю, что лучший вариант – это употребление слова "призвание". На
немецком языке это - то же самое слово "Beruf", которое означает и
профессию и призвание, мой beruf может быть: xiмик или дипломат, но
beruf в его этимологическом значении происходит из rufen, prizvanie,что
означает « назначение». «Не забывай высокого, святого назначения.» Что
же у Грибоедова «Дипломат» было хобби? Я бы так сказать не решился.
Теория перевода развилась в течение многих лет в рамках теории
языка, но реальный бум исследований по переводу приходится на
последние двадцать лет. Один из пионеров теории перевода в России
вспоминает свои героические шаги в области перевода в книге, которую я
прочитал с интересом, я имею в виду Корнея Чуковского. Другой шаг,
послуживший развитию теории перевода и его практике, начался с работ
таких людей, как Efim Etkind. Но, если не учитывать размышлений
практиков, то нужно признать, что большая часть теории перевода
основана на результатах теории языка.
Язык и видение языка близко связаны с нашим видением
человечества, его достоинства и предназначения. Если мы думаем о языке
как о механизме, сравниваемым с машиной, это - потому что много
теоретиков теряли из виду существенное различие между системой
искусственных знаков, основанных на коде, и представлением языка как
energeia, как способности создавать новые значения известных
элементов. Эта способность была обнаружена Шлайермахером и
Гумбольдтом, и не случайно, что это произошло во время периода
романтизма. Романтизм был философским движением, защитой
достоинства творческого потенциала в отличие от классицизма
(основанного на повторении серии стандартов). Именно романтизм
впервые провозгласил достоинства всех языков и всех культур в отличие
от космополитических элит, у которых в чести был преимущественно
французский язык, противопоставляющий простой народ и слуг знати.
Нет никакой необходимости провозглашать идеи Гумбольдта в
России, где они и так были всецело поддержаны Потебней, а позднее
были развиты такими этнолингвистами, как Алефиренко, Корнилов,
Воркачев, Колесов и многими другими. Новая когнитивная лингвистика
полностью базируется на глубоком проникновении в суть учения
Гумбольдта, что в дальнейшем повлекло за собой появление работ
Лакоффа и Вежбицкой. Но было бы нелогично, говорить с Вами о
выдающихся теоретиках, которых Вы знаете, лучше меня.
Итак, позвольте мне сосредоточиться на другом основателе
диалогической философии и диалогического ведения коммуникации,
которую я пытаюсь обрисовать. В 1813 году философ, богослов и
переводчик, Ф. Шлейермахер (Schleiermcher) продемонстрировал в своей
лекции различие между двумя полюсами в процессе перевода: это по сути
была градация между формальным и художественным переводом.
Первый связан с предметами повседневного пользования и действиями, в
которых субъективность тех, кто взаимодействует, не очень важна, но чем
более выразителен язык говорящего, тем более важен его стиль. Еще
труднее получается перевод, передающий уникальные черты дискурса –
успешность их воспроизведения требует таланта переводчика.
Шлейермахер стал не только основателем новой лингвистики, не
базирующейся на старой модели, но также и основателем герменевтики в
современном смысле интерпретации, позднее развитой другим немецким
мыслителем, Гадамером. Последний говорил о соединении двух
горизонтов, основанных на понимании потребности изучать любое
высказывание в контексте, что обеспечит его адекватное понимание. У
каждого человека или группы людей есть свой собственный способ
использования языка, свой стандарт – абстракция, и чем более
оригинально и творчески это использование, тем более талантливым
должен быть переводчик, тем труднее, в принципе, преподавать. Перевод
поэзии или философии требует определенного чувства, ближе к
артистическому чувству, нежели чем к технике.
Эти авторы, которых я упоминаю в своем докладе, и другие, такие
как, российский психолог Татьяна Флоренская, являются персоналистами.
Данные ученые ставят во главу угла человека, который выступает в
качестве объекта исследования.
Позвольте мне наконец упомянуть двух новаторских основателей,
которые непосредственно относятся к нашей беседе: M. Бахтин и Л.
Выгоцкий. Интерес к их научному наследию возрос в шестидесятых и
достиг апогея в восьмидесятые годы в западном мире. Параллельно
возрастал интерес к таким областям знания, как педагогика, психология и
культурные исследования.
Диалогическая философия нашла свое развитие благодаря Бахтину
и некоторыми немецкими авторам, таким, как Buber, Rosenzweig и
Rosenstock. Первые два из них были переводчиками еврейской Библии, а
Rosenstock-Huessy - автор огромной книги о языке, переведенной на
русский язык. Rosenstock был также автором любопытной книги о
психологии, и даже предложил не назвать свое исследование психологией,
но создал новое слово Seelenkunde « исследование души», потому что
новая психология была «одушевленной» soul/les. Это не только вопрос
терминов, это не только различие между умом и душой, но также и наш
имидж непосредственно. Если мы думаем о мужчинах как о двигателе,
который везет другая машина, названная мозгом, мы говорим о чем-то что
нельзя в полной мере назвать людьми. Мы можем сделать машину,
которая переводит один язык на другой, но, действительно ли это кодекс
- лучшая модель, чтобы думать о естественных языках?
У слова есть свое значение, закрепленное не только словарем, но и
обусловленное его прагматическим потенциалом. И если язык жив,
возможности слова безграничны. Это как раз проясняет появление новых
значений слов, новых метафор, новых словосочетаний. Все мы являемся,
в некоторой степени, творцами языка.
Именно поэтому диалогическая философия подчеркивает личный
творческий потенциал, вовлеченный в любой непоследовательный акт,
чем более творческим является этот акт, тем более творческим должен
быть переводчик. Позвольте мне вновь процитировать Бахтина:
Точные науки - это монологическая форма знания: интеллект созерцает вещь и
высказывается о ней. Здесь только один субъект - познающий (созерцающий) и
говорящий (высказывающийся). Ему противостоит только безгласная вещь.
Любой объект знания (в том числе человек) может быть воспринят и познан как
вещь. Но субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь,
ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным,
следовательно, познание его может быть только диалогическим
Как Вы все знаете, официальный день переводчиков связан с днем смерти
Джерома - переводчика Библии на латынь. Я настаивал на различии
между человеком и личностью, понимание которой предлагает
персоналистская традиция. Эта приверженность традиции и
великодушие, так же как творческий потенциал и свобода - ключевые
факторы, которые говорят о достоинстве людей. Личные отношения и
процесс диалога являются главными в этой традиции. Но надежда на
понимание друг друга есть не что иное, как мечта. Эмануэль Мунир, один
из основателей персонализма говорит в своей Декларации, теперь
доступной и на русском языке ”дух может соединять только на
расстоянии”. Это динамическое видение человека интерпретирует его не
как неподвижное вещество, но как открытую субстанцию. Открытая
субстанция также связана с отношением известного философа
Мамардашвили, который сказал “человек - это не естественное, не от
природы данное состояние, а состояние, которое творится непрерывно”
[Мамардашвили, 2004:13]
Я говорил и настаивал на этом личном аспекте коммуникации,
теперь я хотел бы сравнить две идеи, которые возникли у нас в процессе
исторического воскрешения теорий языка и перевода. Во-первых, мы
столкнулись с традицией из мифа о Башне Столпотворения, который
рассматривает различие как помеху, препятствие, и ностальгию к
первобытному единству и гармонии. Это, пожалуй, - основное настроение
в этих подходах. Мы говорили об искушении создать новый
искусственный язык. Напротив этой тенденции мы обнаружили другой,
очень отличающийся подход, согласно которому разнообразие культур и
лиц понимается как обогащение, открытость прошлому. Гумбольдт
интерпретирует эту возможность в качестве обогащения нашей
собственной точки зрения, нашего собственного Bildung, через контакт с
другими.
Данная идея предполагает, что гармония не самопроизвольна, но
есть что-то, за что мы должны бороться. Это нечто большее, нежели мы
знаем и понимаем. Чем лучше мы понимаем братьев и сестер, тем ближе
мы к тому метаисторическому пункту космического единства, которое для
тех, кто верит в это, является апогеем Духа в нас. Schleiermacher и
Rosenzweig, вдохновленные этим библейским обещанием, принимают за
фактическое расстояние не промежуток между людьми и культурами, но
импульс к диалогическому, внутреннему росту. Каждая культура
развивается в диалоге с другими, так же как и человек, развивающий себя
благодаря общению с социумом. Это диалогическое видение охватывает
положительное видение каждого человека как кого-то уникального; это -
то, где диалогическая психология Rosenstock и Florenskaya связывается с
их верой в работу Духа.
Я хотел бы вспомнить другой специальный день, который мог бы
стать официальным праздником переводчиков, я имею в виду день,
известный на французском языке как Pentecote, и на русском языке как
день Троицы.
Вещь, открывающая вновь понятие духа ведет нас к воссоединению
и миру, и могла бы помочь нам преодолеть новый период самозакрытия и
агрессивного отношения к другим. Есть много видов ксенофобии, Бердяев
предупредил нас об этом уже давным-давно, и, к сожалению, его
предупреждение все еще живо:
“национальность есть положительная ценность, обогащающая жизнь
человечества, без этого представляющего собой абстракцию, национализм же
есть злое, эгоистическое самоутверждение и презрение и даже ненависть к
другим народам. Национализм порождает шовинизм и ксенофобию, и его
нужно решительно отличать от патриотизма” (Бердяев Н.А, 1950)
Так, чтобы поддержать этот дух открытости, позвольте мне согласиться с
трёхъязычной цитатой о любви и речи:
1 Послание к коринфянам 13:1-3New Международная Версия (NIV)
13, Если я говорю в языках мужчин или ангелов, но не имею любви, я - только
звучный гонг или лязгающая тарелка.
Stephanus Новый Завет
13 Ἐὰν ταῖς • • • • • • • • τῶν • • • • • • • • λαλῶ καὶ τῶν • • • • • • • , • • • • • • δὲ
μὴ ἔχω, • • • • • • • • • • • • ἠχῶν ἢ • • • • • • • • • • • • • • • •
1-е Коринфянам 13:1-3 российская Синодальная Версия (RUSV)
13 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь
звенящая или кимвал звучащий.
Ссылки
1 Aвтономова Н.С..-Познание и перевод. Опыты философии языка / М. 2008.
2. Бахтин М.М.-“ К философии поступка” Собр. Сочин. В 7 т. / Институт мировой
литературы им. А. М. Горького РАН. Т. 1. Философская эстетика 1920-х годов. - М.:
Русские словари; Языки славянских культур, 2003.
3 Бахтин. Эстетика словесного творчества. Изд. 2-е, М., 1986
4 Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря 1950
5 Библер В.С.-Мышление как творчество-Политиздат (1975)
6 Винокур Г.О. Избранные работы по русскому языку М., 1959
7 Воркачев С. Г. “лингвокультурная концептология и ее терминосистема,
Политическая лингвистика. 2014. №3
8. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. - Язык и культура. М., 1973
9. Флоренская Т.А. - Диалог в практической психологии, М. ВЛАДОС, 2001.
10 Колесов В. В. Язык и ментальность. СПб., 2004
11 Мамардашвили, M.-Язык теней Cosmopolitiques (1990, N 14-15) Пер. Франц.
12. Мамардашвили.M.-Cознание и цивилизация Изд. «Логос» М. 2004
13.-Махлин В. Л.-Второе сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. М.
Знак, 2009
13. Розеншток-Хюсси. Избранное: Язык рода человеческого., СПб: Университетская
книга, 2000
15 Бермана, A-L’epreuve de l’etranger, Париж, 1984
16 Gadamer, H G.-Wahrheit und Methode, 1960 (Гадамер.-Истина И Метод.Основы
Философской, Москва, "Прогресс" 1988
17 Lantolf, J.P.&G Appel. - Vygotskian приближается к второму языковому
исследованию. (1994).
18. Лэкофф и Johnson.-метафоры мы живем, 1980
19. Rosenzweig, Ф.-Дай Шрифт 1976
20 Schleiermacher.-“ Uber умирают verschiedene methoden des ubersetzens”, 1813, Werke
21 Venuti, Lawrence. Невидимость Переводчика: История Перевода 1975
22 Wierzbicka, культуры A.-.Understanding через их ключевые слова: английский,
Русский язык,
Польский, немецкий, и японский, Оксфорд, 1997