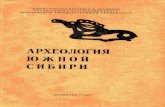Резная кость могильника Малый Кауп //...
-
Upload
archaeolog-ru -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Резная кость могильника Малый Кауп //...
УДК [940+902/904(4)](082)
Інстытут гісторыі НАН Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». Дадзены выпуск прысвеча-ны 95-годдзю з дня нараджэння І. М. Ігнаценкі. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягненні гістарычнай навукі, паказалі найбольш знакавыя адкрыцці гісторыкаў, археолагаў і антраполагаў. У артыкулах вучоных з Беларусі, Расіі і Украіны раскрываюцца сучасныя погляды на актуальныя праблемы айчыннай і замежнай гісторыі ад першабытнасці да сучаснасці.
Выданне разлічана на прафесійных вучоных-гісторыкаў, археолагаў, антраполагаў, выкладчыкаў, студэнтаў і аспірантаў, шырокае кола чытачоў, якія не абыякава ставяцца да гістарычнага мінулага.
Выданне адноўлена ў 1993 годзе
Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я:
А. А. Каваленя, член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар (галоўны рэдактар); В. В. Даніловіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік галоўнага рэдактара);
А. Б. Доўнар, кандыдат гістарычных навук; М. У. Глеб, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;В. Ф. Голубеў, доктар гістарычных навук, прафесар; А. І. Груша, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;
М. Г. Жылінскі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; М. П. Касцюк, акадэмік, доктар гістарычных навук, прафесар;
У. І. Кузьменка, доктар гістарычных навук, прафесар; В. Л. Лакіза, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; А. М. Літвін, доктар гістарычных навук, прафесар; В. М. Ляўко, доктар гістарычных навук, прафесар;
М. І. Мініцкі, доктар гістарычных навук, прафесар; А. П. Салаўянаў, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; М. У. Смяховіч, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (адказны сакратар);
С. А. Траццяк, кандыдат гістарычных навук; У. В. Тугай, доктар гістарычных навук, прафесар; А. У. Унучак, кандыдат гістарычных навук (намеснік адказнага сакратара);
А. І. Шаланда, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; В. В. Яноўская, кандыдат гістарычных навук, дацэнт; Я. П. Бязлепкін, кандыдат гістарычных навук (тэхнічны сакратар);
Р. А. Аляхновіч (тэхнічны сакратар)
Р э ц э н з е н т ы :
доктар гістарычных навук, дацэнт Г. Я. Галенчанкадоктар гістарычных навук, прафесар П. І. Зялінскі
ISBN 978-985-08-1771-6 © ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», 2015 © Афармленне. РУП «Выдавецкі дом «Беларуская навука», 2015
З М Е С Т
ДА 95-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ІЛАРЫЁНА МЯФОДЗЬЕВІЧА ІГНАЦЕНКІ
Г І С Т О Р Ы Я
Метельский Андрей. Лавришевский мона-стырь и его основатели: мифы, агиографиче-ские предания, историческая реальность, ги-потезы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Andrej Metelsky. Lavrishev monastery and its founders: myths, hagiographic tradition, the his-torical reality of the hypothesis . . . . . . . . . . . . . . . 38
Авдеев Александр. Путь формулы «престави-ся раб божий»: от поминальных граффити до эпитафий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Aleksandr Avdeev. The path of formula «servant of god departed» From memorial graffiti to epi-taphs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Груша Александр. Центры и группы продвиже-ния документальной письменности в Великом Княжестве Литовском в конце XIV – первой тре-ти XV в. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Aliaksandr Hrusha. The centres and the groups of documentary writing advancement in the Grand Duchy of Lithuania in the end of fourteen – first third of fifteen centuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Волкаў Мікалай. Абарончыя рэзідэнцыі як сімвал самарэпрэзентацыі магнатэрыі (на пры- кладзе роду Радзівілаў) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Mikola Volkau. Fortified residences as the sym-bol of self-representation of magnates (the case of the Radziwiłł family) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Мацук Андрэй. Мазырская шляхта ў час бес-каралеўя 1733–1735 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Andrei Matsuk. Mozyr gentry during interregnum 1733–1735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Аніпяркоў Вадзім. Арганізацыя і дзейнасць канфедэрацкіх судоў на землях Вялікага Кня-ства Літоўскага ў 1792–1793 гг. . . . . . . . . . . . . 84
Vadzim Anipiarkou. The organization and activi-ties of the courts of confederations on the lands of the Grand Duchy of Lithuania in 1792–1793 . . . . 84
Ерашэвіч Аляксандр. Арганізацыйна-штатная структура ўстаноў ведамства водных шляхоў зносін у Беларусі (канец XVIII – першая пало-ва XIX ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Aliaksandr Yerashevich. The organizational-re-gular structure of waterway department estab-lishments on the territory of Belarus in the end of 18th – first half 19th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Новік Наталля. Развіццё воднага транспарту на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – пачат-ку XX ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Natallia Novik. Development of water transport on the territory of Belarus in the end of 18th – be-ginning of 20th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Филатова Елена. Политика правительства Российской империи в отношении иудаизма на территории белорусско-литовских губер-ний (конец XVIII – начало XX в.) . . . . . . . . . . . 106
Alena Filatava. Russian empire governments politicy towards judaism on the territory of bela-rusian-lithuanian provinces in thе end of 18th – be-ginning of 20th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Касцюк Міхаіл. Імкненне І. М. Ігнаценкі да наватарскіх падыходаў у развіцці гістарычнай навукі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mikhail Kostiouk. I. M. Ignatsenka’s aspiration for innovative approaches in progress of historical science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Смольянинов Михаил. Илларион Мефодье-вич Игнатенко: основные этапы жизни и дея-тельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mikhail Smalyaninau. Ilaryyon Miafodz’evich Ignatsenka: main stages of life and activity . . . . . 11
Барановский Евгений. Ученый с большой буквы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Evgeny Baranovsky. Big scientist . . . . . . . . . . . . 15
Паўлава Таццяна. Расійскія рэвалюцыі пачат-ку XX ст. і іх уплыў на працэс стварэння бела-рускай дзяржавы ў працах І. М. Ігнаценкі . . . . 21
Tatiana Pavlova. Russian revolutions of the be-ginning of 20th century and it’s influence on the process of formation of the belarusian state in works of I. M. Ignatsenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Мазец Валентин. Октябрьская революция 1917 г. в трудах академика И. М. Игнатенко . . 26
Valentin Mazets. October revolution of 1917 in the works of academician I. M. Ignatsenka . . . 26
Рудовіч Станіслаў. Усебеларускі з’езд 1917 г. у асвятленні І. М. Ігнаценкі . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Stanislau Rudovich. All-belarusian congress of 1917 in the views of I. M. Ignatsenka . . . . . . . 32
ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. ВЫП. 304
Палкин Алексей. Герой Отечественной войны 1812 года генерал П. М. Капцевич . . . . . . . . . 112
Alexey Palkin. The hero of the Рatriotic war of 1812 general Р. М. Kaptsevich . . . . . . . . . . . . . . . 112
Токць Сяргей. Валасныя старшыні і пісары ў сістэме мясцовага сялянскага самакіраван-ня беларускіх губерняў у паслярэформенны перыяд (1863–1914 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Sergej Tokts. Volost foremen and clerks in the local self-government system of belarusian pro-vinces in the post-reform period (1863–1914). . . . 117
Косов Александр. Политика США в отноше-нии китая в конце ХIХ – начале ХХ в. . . . . . . . 125
Aliaksandr Kosau. The U.S. Policy towards China at the end of 19th – the beginning of the 20th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Самович Александр. Патриотизм учащейся молодежи Минской губернии в годы Первой мировой войны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Alexander Samovich. Patriotism of the studying youth of the Minsk province in the years of world war I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Волкава Вольга. Чыгунка на акупаванай тэ-рыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Volha Volkava. Railway transport in the occupied territories of Belarus during the world war I . . . . 136
Анисяев Михаил. Структура органов безопас-ности в Литовско-Белорусской ССР . . . . . . . . . 142
Mikhail Anisiayeu. Structure of security service in Lithuanian-Belarusian the Soviet Socialist Re-public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Бароўская Вольга. Беларускае пытанне ў дзей - насці юрыдычна-прававой камісіі Рыжскай мірнай канферэнцыі (кастрычнік 1920 – сака-вік 1921 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Olga Borovskaya. Belarusian issue in the work of the law and the legal affairs committee of the Riga peace conference (october 1920 – march 1921) . . . 147
Пушкін Ігар. Нацыянальна-дзяржаўная па-літыка ў БССР (1920–1930-я гг.) . . . . . . . . . . . . 151
Igar Pushkin. National and state policy in the BSSR (1920–1930s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Даніловіч Вячаслаў. Моладзь у прафсаюзным руху Савецкай Беларусі (1921–1939 гг.) . . . . . . 161
Viachaslau Danilovich. Youth in the trade-union movement of the Soviet Belarus (1921–1939) . . . 161
Ходзін Сяргей. Дэмаграфічныя змены ў сель- скіх населеных пунктах БССР (1921–1939 гг.) 171
Sergej Hodzin. Demographic changes in rural areas of the BSSR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Воронкова Ирина. Становление и развитие советско-монгольского военного сотрудниче-ства: белорусский аспект (1921–1937 гг.) . . . . . 176
Irina Vоronkovа. Formation and development of soviet-mongolian military cooperation: belaru-sian aspect (1921–1937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Алена Дубовік. Удзел прафсаюзаў БССР у рэгу - ля ванні рынку працы: барацьба з беспрацоўем у перыяд НЭПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Alena Dubovik. Participation of labor unions of BSSR in regulation of labour market: fight against unem-ployment in the period of the new economic policy . . . 184
Вялікі Анатоль. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР: міжнародна-прававы аспект (1939–1945 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Anatol Vialiki. Reunion of the Western Belarus with BSSR: international legal aspect (1939–1945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Барабаш Наталья. «Организованный набор рабочих» и «общественный призыв» в БССР (1946-1965 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Natalia Barabash. "Organized set of workers" and "public appeal" in bssr (1946–1965) . . . . . . . 203
Смяховіч Мікалай. Машынна-трактарныя станцыі ў СССР і БССР (1944–1958 гг.) . . . . . . 210
Mikalai Smiakhovich. Machine and tractor stations in the USSR and the Belarusian SSR (1944–1958) . 210
Несцяровіч Мікалай. Беларуская эканоміка ў па- чатку рыначнага рэфармавання (1990–1991 гг.) . . 220
Mikalai Nestsiarovich. Belarusian economy at the beginning of market reform (1990–1991) . . . . 220
Глеб Марына. Беларусь – Вялікабрытанія: ас-ноўныя кірункі супрацоўніцтва (канец XX – пачатак ХХI ст.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Marina Hleb. Belarus – UK: main areas of coope-ration (1990s – early 21th) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Г І С Т А Р Ы Я Г РАФ І Я , К Р Ы Н І Ц А З Н А Ў С Т ВА І М Е Т А Д Ы Г І С Т А Р Ы Ч Н А ГА Д А С Л Е Д А ВА Н Н Я
Рыбчонак Сяргей. Крыніцы па генеалогіі шлях- ты Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалі-тай: праблемы класіфікацыі і інтэрпрэтацыі . . . 238
Siarhey Rybchonak. Sources on gentry’s genea logy in GDL and the Polish-Lithuanian commonwealth: problems of classification and interpretation . . . . . . . 238
Груцо Игорь. Вещественные источники изуче-ния событий военной кампании 1812 г. . . . . . . 246
Ihar Hrutso. Material sources studying of events of military campaign in 1812 . . . . . . . . . . . . . . . . 246
5ЗМЕСТ
А Р Х Е А Л О Г І Я
Аль-Талаби Джома Хариз Муеши. Основные этапы развития поселений и архитектуры Се-верной Месопотамии в неолитический период (около 8300–5000 гг. до нашей эры) . . . . . . . . . 270
Al-Talabi Jumaah Hariz Mwaishi. The main stages in the development of the settlements and architecture in Northern Mesopotamia in the neo-lithic age (а. 8300–5000 bc) . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Юрэцкі Станіслаў. Тэхналогія керамікі ляс-нога неаліту Беларускага Панямоння: магчы-масці пазнанскай даследчай схемы . . . . . . . . . . 278
Stanislau Yuretski. Technology the of ceramics of forest neolithic age of Belarussian Poniemen: opportunities of poznan's research scheme . . . . . . 278
Кулаков Владимир. Резная кость могильника Малый Кауп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Vladimir Kulakov. Carved bone of a burial ground Small Kaup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Готун Игорь. Домостроительство в неукре-пленных пригородах Киева X–XIII вв. . . . . . . . 294
Igor Gotun. Housing construction at non-fortified outskirts of Kyiv in X–XIII centuries . . . . . . . . . . 294
Коваленко Владимир. Археология в творче-ском наследии Тараса Шевченко . . . . . . . . . . . . 305
Vladimir Kovalenko. Archaeology in creative heritage of Taras Shevchenko . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Курловіч-Бяляўская Паліна. Шкляныя вы-рабы XVI–XIX стст. з тэрыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі: пытанні гістарыяграфіі 312
Palina Kurlovich-Bialiauskaya. Glassware of XVI–XIX centuries from North and Central Be-larus: historiography questions . . . . . . . . . . . . . . . 312
Сакольчык Алена. Гістарыяграфія рэвалю-цыйных падзей 1905–1907 гг. . . . . . . . . . . . . . . 250
Alena Sakolchyk. Historiography of revolution-ary events of 1905–1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Цымбал Аляксандр. Дакументы Галоўнай чыгуначнай дырэкцыі «Мінск» як крыніца па вывучэнні эканамічнай палітыцы германскіх акупацыйных улад і працоўнай штодзённасці ў Беларусі ў 1941–1944 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Alexander Tsimbal. The documents of the Main railway directorate «Minsk» as a source of eco-nomic policy of the german occupation authorities and the everyday labor in belarus (1941–1944) . . . 256
Солодилова Анастасия. Когнитивные формы представления исторического знания: аспекты статики и динамики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Nastassia Saladzilava. Cognitive presentation of historical knowledge: static and dynamic as-pects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
А Н Т РА П А Л О Г І Я
Марфина Ольга. Разработка методологиче-ских принципов и методических подходов в антропологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Olga Marfina. Development of methodological principles and methodological approaches in an-thropology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Г І С Т А Р Ы Ч Н Ы Я Б А З Ы Д А Н Ы Х
Кандыбович Сергей, Солопова Оксана, Бого-мазова Ольга, Соколов Артем. Белорусские национальные общественные объединения в мире: база данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Sergej Kandybovich, Oksana Solopova, Olga Bogomazova, Artyom Sokolov. Belarusian na-tional public organization in the world: database . 330
ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. ВЫП. 306
П Р Ы Н Я Т Ы Я С К А РАЧ Э Н Н ІААНД ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі» – Архіў археалагічнай навуковай дакументацыі ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі»АЗП РФ – Архіў знешняй палітыкі Расійскай ФедэрацыіБГПУ – Белорусский государственный педагогический университет имени Максима ТанкаБГУ – Белорусский государственный университетБГУИР – Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроникиБДМУ – Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэтБДПУ – Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма ТанкаБДУ – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэтБДУІР – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікіБДЭУ – Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэтБелНДІДАС – Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справыБелНИИДАД – Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного делаБРФФИ – Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследованийГАВО – Государственный архив Витебской областиГАЗ – Гістарычна-археалагічны зборнікГАРФ – Государственный архив Российской ФедерацииГрДУ – Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэтДАВВ – Дзяржаўны архіў Віцебскай вобласціДАГАГВ – Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Гродзенскай вобласціДАГАМВ – Дзяржаўны архіў грамадскіх аб’яднанняў Магілёўскай вобласціДАРФ – Дзяржаўны архіў Расійскай ФедэрацыіДГАЛ – Дзяржаўны гістарычны архіў ЛітвыДКПНД – Дзяржаўная комплексная праграма навуковых даследаванняўИА РАН – Институт археологии Российской академии наукИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наукКСИА – Краткие сообщения Института археологииЛЦДА – Літоўскі цэнтральны дзяржаўны архіўМАБ – Матэрыялы па археалогіі БеларусіМГУ – Московский государственный университетМИА – Материалы и исследования по археологии СССРНА ІА НАНУ – Науковий архів Інституту археології НАН УкраїниНАРБ – Нацыянальны архіў Рэспублікі БеларусьНГАБ – Нацыянальны гістарычны архіў БеларусіНГАБ у Гродне – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў ГроднеНИАБ – Национальный исторический архив БеларусиПСРЛ – Полное собрание русских летописейРАН – Российская академия наукРГАДА – Российский государственный архив древних актовРГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической историиРГИА в С.-Петербурге – Российский государственный исторический архив в Санкт-ПетербургеРГВИА – Российский государственный военно-исторический архивРДАСПГ – Расійскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай гісторыіРНБ – Российская национальная библиотекаУІЖ – Український історичний журналЦНА НАН Беларуси – Центральный научный архив Национальной академии наук БеларусиЧНПУ імені Т. Г. Шевченка – Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
AAN – Archiwum Akt NowychAGAD – Archiwum Główne Akt DawnychAR – Archiwum RadziwiłłówLMAB RS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Rañkraščių skyriusLVIA – Lietuvos Vastybes Istorijos ArchyvasVUB RS – Vilniaus universiteto biblioteka Rañkraščių skyrius
Резная кость крайне редка в археологическом ма-териале юго-восточной Балтии 1-го тысячелетия н. э. Это связано, прежде всего, с тем, что по сей день в Литве и в Калининградской области России от-сутствуют широкомасштабные раскопки поселений, в слоях которых должны присутствовать изделия из резной кости. Надо отметить, что в ранних напласто-ваниях городов, локализованных на территории суще-ствования Тевтонского Ордена, этот материал пред-ставлен обильными находками [10, рис. 57, с. 114]. Основное место среди них занимают вырезанные при помощи примитивного циркулеобразного резца звенья четок в виде уплощенного цилиндра (нем. die Paternoster).
В погребальных памятниках пруссов резная кость ранее была крайне редкой находкой прежде всего ввиду господства в прусском племенном ареале эпо-хи раннего средневековья обряда кремации, при ко-тором детали инвентаря, изготовленные из органи-ческих материалов, не сохраняются. Лишь в нижних
ярусах дружинных захоронений вместе с конскими костяками весьма нечасто встречаются вырезанные из рога псалии удил. Нехарактерные для древностей балтов находки псалий с фигурными изображениями имеют, как правило, скандинавское происхождение [3, с. 22].
На фоне всего этого полной неожиданностью ста-ло обнаружение летом 2009 г. группы костяных из-делий в рамках проводившихся Балтийской экспеди-цией Института археологии РАН раскопок прусского грунтового могильника Малый Кауп (Kleine Kaup), расположенного на южной окраине г. Зеленоградск (Калининградская обл.), в северной части полуостро-ва Самбия, у истоков Неманского торгового пути эпо-хи викингов (рис. 1). Изучая костные остатки коня в погребении К28, Хильке Онат и Штефани Кнорре – молодые немецкие археологи, работавшие вместе с нами на раскопках комплекса памятников архео-логии в урочище Кауп, – обратили внимание на то, что среди конских костей присутствует костный тлен
УДК 902/904+903.01/083(470.26)Владимир Кулаков,
ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук (Москва, Россия)
РЕЗНАЯ КОСТЬ МОГИЛЬНИКА МАЛЫЙ КАУП
Рис. 1. Племенные ареалы на западном отрезке Неманского торгового пути IX–XI вв. и расположение комплекса археоло-гических памятников в лесном уррочище Кауп
285ВлАДИМИР КУлАКОВ. РЕЗНАя КОСТь МОГИльНИКА МАлЫй КАУП
с отличающейся от них фактурой. В случае с по-гребением К28 сохранность этих артефактов была практически нулевой. Несколькими днями позже ка-лининградский историк и педагог А. В. Чоп, работав-ший на расчистке погребения К32, обратил внимание на мелкие обломки плоских костей в районе хребта коня в погребении [11, с. 69]. Заполнение нижнего яруса погребения К32 было представлено гранули-рованным слоем, то есть грунт был «промывной». Атмосферные осадки (дождь и снег), попадая в за-полнение могилы (поверхность лесного урочища Кауп, как правило, большей частью лишена дерно-вого покрова), достаточно свободно проникали через грунт и, омывая костный материал и прочие предме-ты в погребении К32, не способствовали их уничто-жению путем коррозирования. Лишь этот природный феномен и тщательность расчистки, проводившейся А. В. Чопом и прочими сотрудниками нашей экспе-диции (за что им – глубокая признательность), факти-чески сохранили для науки те уникальные предметы, которыми являются костяные накладки на седла из погребений Малого Каупа. Накладки были обнару-жены в четырех погребальных комплексах.
Погребение К32 – яма нижнего яруса имеет овальную в плане форму шириной не менее 1 м, ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Могила вошла в пределы Раскопа 4 своей северо-за-падной частью, она имела абсолютную глубину 0,6 м. Заполнение могильной ямы погребения однородно и представлено переотложенным предматериковым суглинком в смеси с золой и прокаленным песком. На заполнении нижнего яруса были обнаружены следующие предметы инвентаря верхнего яруса, лежавшие группой диаметром 0,1 м: два обломка бронзовой подковообразной фибулы с шестигран-ным сечением дуги, круглая серебряная накладка с центральным умбоном и плетеной орнаментальной полосой вокруг него (от конского снаряжения). Не-сколько в стороне от этих находок был обнаружен обожженный фрагмент боченковидного пряслица, сделанного из песчаника (готландского?). В верхнем ярусе, кроме того, выявлены 12 фрагментов ранне-гончарных сосудов и 25 обломков кальцинированных
костей, не образовывавших групп. В 40 см ниже этой группы, среди плохо сохранившихся ребер коня были найдены накладки, вырезанные из кости. Они раз-мещались полосой поперек хребта коня, сломанного несколькими камнями, брошенными в могильную яму в процессе засыпки. Конь, судя по положению его костей, лежал на правом боку вдоль западного борта могильной ямы, а его голова была повернута на север. Находки представлены тремя целыми на-кладками, изготовленными из ребер коней или коров, и 10 обломками таких же накладок. На четырех на-кладках видно вырезанное резцом с треугольным се-чением лезвия изображение пса в профиль. Все они составляли in situ конструкцию, обладавшую сим-метрией (рис. 2). Наряду с костяными накладками, в состав этой конструкции входили три бронзовые круглые накладки с серебряной плакировкой и с пле-теным и концентрическим орнаментами, а также одна миндалевидная накладка. Реконструкция позволяет предполагать наличие некоей деревянной плоскости, на которую при помощи небольших железных гвоз-дей набивались упомянутые накладки. Таким пред-метом может быть только лука седла. Среди конских костей найдены три обломка костяных накладок. Кроме того, здесь же обнаружены три бронзовые с серебряным покрытием накладки, железная пряжка от конской подпруги с концентрическими (орнамен-тированными псевдозернью) окружностями. Судя по фрагментам подковообразной фибулы, близкой вари-анту Carlsson FAC:SORA [17, s. 20, 70], погребение К32 является захоронением мужчины (?) и датирует-ся Х в. [6, s. 155–158].
Из 15 костяных накладок различной сохранно-сти в погребении К32 шесть накладок имели выпол-ненное резцом с миниатюрным П- или V-образным острием изображение оскаленной морды пса и про-резные круглые отверстия, одна накладка имела цир-кульный орнамент. К деревянному седлу некоторые накладки крепились бронзовыми гвоздями.
Погребение К34 – нижний ярус занимает могиль-ную яму овальной в плане формы размером не менее 2,40 × 1,73 м. Абсолютное значение глубины могилы 0,58 м. В верхнем ярусе могильной ямы погребения
Рис. 2. К32. Реконструкция
ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. ВЫП. 30286
были обнаружены два пятна остатков погребального костра со скоплениями предметов. В первом пятне – до 10 мелких обломков кальцинированных костей, перекрытые лежавшими крест-накрест наконечники копья и дротика. Северо-восточнее пятна, у восточ-ного борта могилы найдены обломок бородчатого ключа, характерного для скандинавских древностей Х в. [16, Taf. 270]. К западу от этого пятна – фраг-мент бронзовой подковообразной фибулы, мелкие железные предметы. Во втором пятне – 30 обломков кальцинированных костей, среди которых лежали по-бывавшие в огне погребального костра шпора, брон-зовая лировидная пряжка с железным язычком, нож, остатки костяного гребня. Восточнее пятна найдены бронзовые пряжка с обоймицей и монетовидная на-кладка. К западу от скопления костей обнаружены железная П-образная ручка от ларца, фрагмент костя-ной накладки от луки седла, обломок венчика ранне-гончарного сосуда и проч.
После устранения заполнения нижнего яру-са погребения К34 (остатки погребального костра с примесью каленого песка) были выявлены костные остатки коней. Расположение этих костей позво ляет установить относительную хронологию создания погребения, то есть очередность попадания коней в могилу. Древнейшими костными остатками являет-ся конский череп, выявленный в западной части дна погребения. Голова была ориентирована по линии за-пад–восток, передними зубами направлена на запад. В зубах черепа найдены удила с остатками роговых псалиев, под нижней челюстью – ботало, на черепе – стремя. Останки второго («позднего») коня обнару-жены лежащими на брюхе у северного борта моги-лы. В зубах у коня находились удила с серповидными псалиями. У двух костей задних ног отмечен костяк собаки без черепа. У черепа коня найдены: заклепка, пряжка, стремя, в районе спины – железная пряж-ка, скопление костяных накладок (13 экз.). In situ эти накладки формировали конструкцию луки седла (рис. 3). Форма луки, покрытой накладками, была П-образной. Особенности этой формы указывали
на то, что накладки с резным геометрическим и зоо-морфным декором были изготовлены специально для этого предмета. Отдельные накладки от данного сед-ла встречены к западу от ребер коня и между ними, у стремени. От места находки комплекса костяных накладок по дну погребения К34 выявляется неболь-шая ступенька, на котором лежал костяк «позднего» коня. По пряжке это захоронение датируется второй половиной Х в. [6, s. 158–161].
Среди 14 накладок (большей частью фрагмен-тированных) имеются три накладки с оскаленными мордами пса и сквозными круглыми отверстиями (рис. 4, А); несколько обломков накладок треуголь-ной и трапециевидной форм (рис. 4, В); пять накла-док с различными вариантами косицеобразного де-кора (рис. 4, Б); шесть накладок S-образной формы с циркульным декором. Последние в своих торцевых частях встречены in situ с маленькими накладками с косицеобразным декором (рис. 4, Г).
Погребение К39а – яма его нижнего яруса имеет овальную в плане форму 1,48 × 1,03 м. Глубина нижнего яруса достигает 0,30 м, могила заполнена в основном переотложенным предматериковым су-глинком в смеси с частицами золы и крупного обо-жженного гравия. Под группой камней выявлено скопление из незначительного количества мелких фрагментов кальцинированных костей, вокруг кото-рых располагались относящиеся к верхнему ярусу четыре заклепки. К юго-западу от этих камней был открыт развал очень плохо сохранившегося лепного сосуда. В южной части центрального сектора верх-него яруса в слое остатков погребального костра найдена обожженная железная пряжка с серебря-ной плакировкой (рис. 7: 1). Конструктивно сходные бронзовые пряжки выявлены в погребении Y-119 (могильник Ирзекапинис, Зеленоградский р-н), отне-сенном к середине XI в. [4, c. 255]. У каменной кон-струкции группой были найдены четыре серебряных германских денария Оттона III, горстью брошенные в верхний ярус в процессе засыпки могилы. Судя по небольшим размерам черепа коня и весьма слабой
Рис. 3. Реконструкция комплекса накладок из погребения К34
287РЕЗНАя КОСТь МОГИльНИКА МАлЫй КАУП
Рис. 4. Типы накладок из погребения К34
Рис. 5. 39а-24а - псалии
ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. ВЫП. 30288
Рис. 6. Накладки из К39а
Рис. 7. Шпора и пряжка из К39а
Рис. 8.Реконструкция седла в К39а
289РЕЗНАя КОСТь МОГИльНИКА МАлЫй КАУП
сохранности костей, можно осторожно предполо-жить, что это был жеребенок. В зубах у его черепа находились удила с роговыми псалиями (рис. 5), снабженными прорезным орнаментом в виде (Миро-вого?) древа, к востоку от него на дне могилы лежа-ла пара стремян подтреугольной формы. К западу от черепа коня у дна могилы встречены остатки костяка пса. На дне могилы (как и у погребения К34) видны следы сожженного столба. У дна могилы – стремя и плакированная серебром шпора (рис. 7: 2, 2а). В развале разбитых камнями костей коня найдены чрезвычайно плохо сохранившиеся накладки (сере-бро + олово), украшавшие ремни конского оголовья и упряжи. К последней также относились и 12 брон-зовых бубенчиков. К югу от черепа коня в трех груп-пах обнаружены расслоившиеся костяные накладки (рис. 6). Их толщина не превышала 1 мм, тогда как обычно накладки на Малом Каупе имеют толщину около 2 мм. Находки к моменту обнаружения были уже неоднократно(?) переотложены при заброске по-гребения К39а камнями, расщеплены и потревожены корнями. Лишь одна из групп накладок сохранила свой порядок расположения на декорируемой пло-скости, которой, несомненно, являлась лука седла. На это указывает прежде всего место находки групп накладок – к северо-западу от костей крупа коня, в районе не сохранившихся костей его позвоночни-ка. Форма луки в реконструкции (рис. 8) выбрана по контурам накладок внешнего обвода накладок с наи-более грубым декором, окружавших в ряде случаев in situ тонкие (менее 1 мм толщины) накладки, распо-лагавшиеся в центре композиции. С учетом релятив-но наиболее позднего положения погребения К39а в ряду могил в северо-западной части Раскопа 5, его можно отнести к началу XI в. Этой датировке не про-тиворечит общий облик инвентаря этого погребения и специфика декора на накладках луки седла, харак-терного для финала эпохи викингов [7].
В данной статье представлены 24 фрагмента на-кладок из погребения К39а в соответствии с декором в следующих типах:
четыре одиночные со сложной (в обломках – неразборчивой) композицией (рис. 6, А);
три накладки со свастикообразными переплете-ниями лент (рис. 6, Б);
восемь фрагментов с двумя версиями косице-образного декора (рис. 6, В);
четыре накладки с фигурами «птиц» (рис. 6, Г); пять обломков накладок с циркульным орнамен-
том (рис. 6, Д). Погребение К70 – яма нижнего яруса имеет оваль-
ную в плане форму размером 1,6 × 1,1 м, глубиной в пределах материка 0,4 м. Верхний ярус заполнен аморфным по своим очертаниям в плане скоплением остатков погребального костра, в которых рассеяны некомплектные фрагменты круговых сосудов. На дне нижнего яруса, заполненного переотложенным мате-риковым суглинком с золистой примесью, находит-
ся костяк коня со сломанной шеей, перекрытый не-сколькими крупными камнями. С конем найдены пара стремян, кольчатые удила, ботало, с остатками ремней оголовья – несколько бронзовых бубенчиков. В райо-не спины коня Р. В. Гулюк, тщательно расчищая кон-ские кости, нашел небольшую по размерам группу костяных накладок, расщепленных под давлением грунта заполнения могилы и ввиду действий корней, пронизавших могилу. Согласно находке стремян типа Goßler А1 (вариант 1), датируемых в целом Х в. [18, Abb. 3] и связываемых со скандинавским этно-куль-турным импульсом [18, s. 128], погребение К70 следу-ет отнести к развитой фазе эпохи викингов [8].
Удалось восстановить в процессе реставрации 11 накладок из погребения К70. Большая их часть слабо изогнута, что является, видимо, результатом не до конца проведенного процесса подготовки кост-ного сырья к обработке. Прямоугольные накладки по декору подразделяются на следующие типы:
три накладки с антропоморфными изображения-ми (рис. 9: А);
шесть фрагментированных (разорванных корро-зией железных гвоздей пополам) накладок с циркуль-ным орнаментом (рис. 9: Б);
Рис. 9. К70. Типы накладок
ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. ВЫП. 30290
типологического метода, активно использовавшегося в прусской археологии Нильсом Обергом [15, s. 13–15]. Кратко этот принцип можно обозначить в виде констатации развития предмета в рамках его локаль-ной формы от простого к сложному через увеличе-ние (на первых порах) числа минимально дробных его деталей.
Наиболее простыми по деталям своего орна-мента являются накладки с циркульным орнамен-том из погребения К70 (см. рис. 9: Б). Потертости их поверхности, приведшие в одном случае даже к частичной утрате, прямо свидетельствуют в пользу долговременного нахождения накладок на луке сед-ла в процессе верховой езды. Комплекс накладок из погребения К70 отличается наличием в его составе изображения женской и детских(?) фигур. Судя по условиям своего обнаружения в нижнем ярусе по-гребения К70, несшие эти изображения костяные накладки располагались по гребню центральной ча-сти передней(?) луки деревянного седла и крепились к ней при помощи железных гвоздиков длиной около 1 см. С течением времени этот крепеж коррозировал и привел к разрушению прилежащих участков накладок. Самая крупная из них, имеющая размер 5,5 × 3,7 см, на своей лицевой стороне несла прорезанное мини-атюрным резцом с П-образной режущей кромкой фронтальное изображение женщины (см. рис. 9: А). Женщина обращена к реципиенту лицом, ее согнутые в локтях руки подняты вверх, причем на правой руке видны несколько пальцев. Женщина одета в длинное расклешенное книзу платье, из-под подола которого проглядывают две ее ноги, намеченные циркульным орнаментом. Им же заполнен фон фигуры. Рядом с этой накладкой была обнаружена другая, к сожале-нию – фрагментированная. Ее сохранившаяся часть, имеющая размер 2,5 × 5,0 см, представляет собой не-кую фигуру, как бы закутанную в подобие распаш-ной бурки (см. рис. 9: А, справа) с косо вырезанным воротом. В этнографической одежде поляков изредка встречается подобного рода одежда, изготовлявшая-ся для зим из войлока, обшитого по краю тесьмой. Наконец, в комплексе накладок была найдена еще одна такая же накладка. Она также фрагментирована, имеет размер 2,0 × 3,6 см (см. рис. 9: А, слева). На представленной фигуре вдоль вертикальной кромки «бурки» показаны две группы рисок, каждая из кото-рых состоит из пяти коротких полосок. Они, вероят-но, призваны отображать пальцы рук, которыми оде-тый в «бурку» персонаж удерживает ее в запахнутом состоянии. У нижнего края «бурки» двумя группа-ми циркульного орнамента показаны ноги персона-жа. К сожалению, головы двух персонажей, одетых в «бурки», не сохранились из-за феномена коррози-рования железных гвоздей, которыми в их районе накладки крепились к деревянному массиву седла. С очень большой осторожностью можно полагать, что на описанных накладках была изображена жен-щина и двое детей. На последнее указывает неболь-
Рис. 10. Накладки из K72
одна разорванная пополам накладка с изображе-нием декоративной полосы из свернувшихся змей (рис. 9: В);
одна разорванная пополам накладка с косице-образным орнаментом (рис. 9: Г).
Погребение К72 – нижний ярус могилы находит-ся в яме овальной в плане формы размером 1,60 × 1,25 м, глубиной в пределах материка 0,5 м. Верхний ярус представляет собой массив остатков погребального костра с небольшим по своим размерам скоплением золы, в котором лежат обломки кальцинированных костей. Верхний ярус был перекрыт мощной камен-ной кладкой, продавившей его заполнение местами вплоть до конских костей на дне могилы. В верхнем ярусе найдено 26 ладейных заклепок, что свидетель-ствует о присутствии на погребальном костре части ладьи. Кроме того, в остатках погребального костра сохранились фрагменты двух лепных сосудов, один из которых на своем дне имел вырезанный знак V. На дне могилы, в ее нижнем ярусе, найден костяк коня со сломанной шеей, сопровождавшийся парой стре-мян типа Goßler А1 (вариант 1). В зубах коня были кольчатые удила, под его нижней челюстью – ботало. В районе спинных позвонков были найдены среди мелких конских костей две фрагментированные ко-стяные накладки от луки седла (рис. 10), крепивши-еся к нему при помощи железных гвоздей. К востоку от накладок на дне могилы был выявлен скелет пса. По стременам погребение К72 датируется Х в.
Относительная хронология накладок, вырезан-ных из кости ребер лошади или коровы и обнару-женных в погребениях могильника Малый Кауп, выявляется через сопоставление различных версий типологических признаков этих артефактов. Общая линия их развития может быть определена в рамках
291РЕЗНАя КОСТь МОГИльНИКА МАлЫй КАУП
шая длина двух последних накладок, явно бывших короче центральной.
После анализа накладок, занимавших в луке сед-ла из погребения К70, очевидно, центральное по-ложение, становится ясным весьма нетривиальный социальный статус его хозяина. Возможно, именно из-за его высокого положения в обществе пруссов, обитавших в окрестностях урочища Кауп, кроется причина копирования накладок его седла в позд-нейшее время. Следующая фаза развития накладок с циркульным декором отражена в погребении К39а (см. рис. 6: Д). Эти накладки также нередко имеют изогнутую форму, что уже зависит от работы резца по их контуру. Круги расположены на накладках уже не вплотную, как в погребении К72, а на расстоянии около 1,5 см. Длинные стороны накладок крашены полосами, заполненными поперечными линиями. В этом комплекте также присутствуют накладки с ко-сицеобразным орнаментом, но, в отличие от погребе-ний К72 и К70, их очертания в ряде случаев плавные. В этом комплексе появляются одиночные накладки сложных очертаний (см. рис. 6: А), трудно (кроме изображения плетеного креста) интерпретируемые. Новацией являются четыре накладки со стилизован-ными изображениями асимметрично представлен-ных фигур «птиц» (см. рис. 6: Г) и «плетенки» со свастикообразными узлами (см. рис. 6: Б). Асимме-трия этих «птиц» и упомянутые узлы указывает на знакомство мастера этих накладок со скандинавским декоративным стилем Маммен [20, fig. 13]. Финаль-ный для Малого Каупа этап развития накладок отра-жен в комплексах погребений К34 и К32. Накладки получают сквозные круглые отверстия, в которых к деревянной основе седла бронзовыми гвоздями кре-пятся роговые шайбы (см. рис. 4: А). Имея эффект-ный вид, эти артефакты совершенно не применимы при длительных верховых поездках. Таким образом, седла с костяными накладками в погребениях К34 и К32 становятся престижными, сугубо церемони-альными предметами. Это их значение подчеркива-ется появлением на концах накладок изображений оскаленных песьих морд. Как показывают многочис-ленные аналогии, эти культовые по своему смыслу изображения служили оберегами для хозяина пред-мета, ими украшенного [6, s. 164]. На финальной фазе развития накладок косицеобразный орнамент представлен в своих двух – плавном и угловатом – вариантах (см. рис. 4: Б).
Cледует обратить внимание на детали накладок с фигурками «птиц» из погребения К39а (см. рис. 6: А). Изображенные на накладках зооморфные фигуры названы «птицами» из-за того, что действительно напоминают пернатых существ со сложенными кры-льями, повернувшими голову с циркульно прорисо-ванным большим глазом в сторону. Плетение нижних частей этих фигур напоминает плетение на фрагмен-те большой накладки из погребения К72 (см. рис. 10) и находит аналоги в декоре стиля Маммен [19, fig. 5].
Тем самым еще раз подчеркивается ориентировка мастера этих накладок на образцы декоративного ис-кусства севера Европы.
Абсолютная хронология наиболее ранних по сво-ей типологической принадлежности костяных на-кладок на луки седел из погребений К72 и К70 уста-навливается по сопутствующему им в комплексах погребальному инвентарю в рамках Х в. Накладки с более развитым декором датируются соответствен-но концом Х в. (погребение К34) и началом XI в. (по-гребение К39а).
Примечательно то, что накладки с ранними фор-мами орнамента в погребении К72 имеют прототипы не только в скандинавских древностях (декоративный стиль Маммен), но и в древнерусских изобразитель-ных традициях. Геометрический орнамент на резной кости Восточной Европы домонгольского времени обя-зательно включает чередование вырезанных при помо-щи циркульного резца окружностей, наиболее доступ-ной и легкой в отображении фигуры [13, табл. 119, V].
Обращает на себя внимание отсутствие в погре-бениях с костяными накладками какого-либо ору-жия. Другой важный признак этих комплексов – на-личие мощных каменных кладок или групп камней, перекрывавших верхние ярусы могил и основатель-но повредившие конские костяки в нижних ярусах (и, кстати, находившиеся с ними костяные наклад-ки). Отсутствие предметов вооружения указывает на непричастность персонажей, захороненных в этих могилах, к дружинной среде. Каменные массивы, со-оружавшиеся над этими могилами с привлечением значительных людских ресурсов, были призваны, оче-видно, для того, чтобы разграничить мир живых от ме-ста последнего упокоения хозяев костяных накладок. Последний факт, по-видимому, указывает на нема-лый социальных статус этих индивидуумов [1, c. 97]. Примечателен факт принадлежности найденного в Великом Новгороде седла с костяными накладками (в том числе – с циркульным орнаментом) середины XII – начала XIII в. комплексу усадьбы, которая «вхо-дила в состав городских владений боярской семьи Мирошкиничей» [14, c. 341].
Кроме костяных накладок, в могилах Малого Капа при раскопках при удилах, находившихся в зу-бах коней, были встречены роговые псалии, изготав-ливавшиеся из отростков рогов косуль: погребение К33 [9], погребение К39а, погребение К36 [2, рис. 4], погребение К76 [8]. Как правило, декор на внешних сторонах этих псалиев представляет собой схема-тичный рисунок растения («Мировое древо») разной степени тщательности. Судя по стертости верхних частей псалиев, они активно использовались при верховой езде и вряд ли могут считаться деталью па-радного убранства прусского коня. Дата роговых пса-лиев Малого Каупа по комплексам, сопровождающих их в могилах, – Х – начало XI в.
Изредка в верхних ярусах погребений Малого Каупа вместе с кальцинированными костями челове-
ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. ВЫП. 30292
ка встречаются кальцинированные остатки роговых многочастных гребней. Однако их нахождение на по-гребальном костре не способствовало сохранности и их типы неопределимы.
Итак, могильник Малый Кауп дал заметное на фоне остальных погребальных памятников пруссов количество костяных и роговых изделий. Еще при начале археологического исследования комплекса памятников археологии в лесном урочище Кауп было обращено внимание на большое количество отходов рогового производства, встречаемых на распаханной поверхности поселения Кауп [5, c. 20]. Очевидно, что на севере Самбии, где расположен Кауп, в эпоху ви-кингов было такое изобилие животных, что добыча рога и кости для изготовления различных поделок (в том числе и накладок) не являлось проблемой. В связи с этим положением обилие сохранившихся
в могилах Малого Каупа (чего не скажешь о других могильниках Балтии) костяных накладок не должно вызывать удивления. Возможно, торгово-ремеслен-ное поселение Кауп было средоточием изготовления косторезной продукции, которая потом могла распро-страняться прусскими и куршскими купцами по Не-манскому торговому пути. Люди, связанные с произ-водством или с торговлей этими предметами, могли быть захоронены в описанных в статье могилах Ма-лого Каупа. Отсутствие в них предметов вооружения указывает на мирный характер занятий погребенных там пруссов. Мощные каменные кладки, перекры-вавшие их останки, богатый, нередко плакирован-ный серебром их инвентарь, серебряные монеты, по-жертвованные им при захоронении, свидетельствуют в пользу глубокого уважения, которыми пользова-лись эти мастера или купцы при жизни.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кулаков, В. И. Балтская часть могильника Кауп / В. И. Кулаков // Archaeologia Lituana. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2011. – T. 12. – S. 87–98.
2. Кулаков, В. И. Железное кнутовище из могильника Kleine Kaup и роль статусных бичей в восточноевропейских древностях X–XI вв. / В. И. Кулаков // Archaeologia Lituana. – Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. – T. 13. – S. 117–127.
3. Кулаков, В. И. Зооморфные роговые навершия эпохи викингов в Пруссии и на Руси / В. И. Кулаков // КСИА. – М. : Наука, 2004. – Вып. 216. –– С. 15–26.
4. Кулаков, В. И. Ирзекапинис / В. И. Кулаков // STRATUM plus. – 1999. – Т. 5. – С. 211–273.
5. Кулаков, В. И. Неманский янтарный путь в эпоху викингов / В. И. Кулаков. – Калининград : Калининград. ПЕН-Центр, 2012. – 222 с.
6. Кулаков, В. И. Остатки седел Х в. на могильнике Kleine Kaup / В. И. Кулаков // Lietuvos archeologija. – Vilnius : Diemedžio leidykla, 2011. – Т. 37. – S. 153–166.
7. Кулаков, В. И. Отчет о работе Балтийского отряда в 2010 г. / В. И. Кулаков // Архив ИА РАН. – Ф. 1.
8. Кулаков, В.И. Отчет о работе Балтийского отряда в 2013 г. / В.И. Кулаков // Архив ИА РАН. – Ф. 1.
9. Кулаков, В. И. Отчет о разведках и раскопках, про-веденных Балтийской экспедицией ИА РАН в 2009 г. на курганно-грунтовом могильнике и на поселении Кауп (Зе-леноградский р-н Калининградской обл.), о разведках, про-веденных в Зеленоградском р-не Калининградской обл. / В. И. Кулаков // Архив ИА РАН. – Ф. 1.
10. Кулаков, В. И. Раскопки Лёбенихта в 1999. Кениг-сберг под Калининградом / В. И. Кулаков. – Калининград : Калининградгражданпроект, 2005. – 186 с. – (Prussia Antiqua ; т. 3).
11. Кулаков, В. И. Сторожевые псы в декоративном ис-кусстве викингов / В. И. Кулаков // Наука в России. – 2013. – № 2. – С. 69–73.
12. Кулаков, В. И. Языковидные фибулы: происхожде-ние и стилистика / В. И. Кулаков // Stratum plus. – 2013. – Т. 5. – С. 303–308.
13. Макарова, Т. И. Методика изучения орнамента. Ор-намент Древней Руси / Т. И. Макарова // Древняя Русь. Быт и культуры / отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. – М. : Наука, 1997. – С. 203–207.
14. Хорошев, А. С. Седло начала XIII в. из Новгоро-да / А. С. Хорошев // Восточная Европа в Средневековье. К 80-летию Валентина Васильевича Седова. – М. : Наука, 2004. – С. 329–341.
15. Åberg, N. Ostpreussen in der Völkerwanderungszeit / N. Åberg. – Uppsala ; Leipzig : Universitetfond, 1919. – 210 s.
16. Arbman, H. Birka / H. Arbman. – Uppsala : Almqvist & Wiksells Roktrickenri-Aktiebolag, 1940. – Bd. I : Die Gräber (Tafeln). – 275 t.
17. Carlsson, A. Vikingatida ringspännen från Gotland / A. Carlsson. – Stockholm : Stockholms Universitet, 1988. – 274 s.
18. Goßler, N. Die mittelalterlichen Steigbügeln aus dem Berliner Bestand der Prussia-Sammlung (ehemals Königsberg/Ostpreußen) – Studien zu Typologie, Chronologie und Kulturgeschichte / N. Goßler // Acta Praehistorica et Archaeologica. – Berlin : Preussische Kulturbesitz, 2013. – Bd. 45. – S. 109–215.
19. Jansson, I. Ar 970/971 och vikingatidens kronologi / I. Jansson // Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid / red. M. Iversen. – Mosgård : Jysk Arkæologisk Selskab, 1991. – S. 267–283.
20. Stoklund, M. Runesten, kronology og sam fund-srkonstruktion, Nogle kritiske overvejelser med udgangspunkt i runestenene I Mammenområdet / M. Stoklund // Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid / red. M. Iversen. – Mosgård : Jysk Arkæologisk Selskab, 1991. – S. 284–297.
293РЕЗНАя КОСТь МОГИльНИКА МАлЫй КАУП
Уладзімір Кулакоў
РАЗЬБЯНАЯ КОСТКА МОГІЛЬНІКА МАЛЫ КАЎП
Рэзюмэ
Могільнік Малы Каўп даў адметную на фоне астатніх пахавальных помнікаў прусаў колькасць касцяных і рагавых вырабаў. На поўначы Самбіі, дзе месціцца Каўп, у эпоху вікінгаў было такое багацце жывёлы, што здабыча рогу і косткі для стварэння розных вырабаў не з’яўлялася праблемай. У сувязі з гэтым становішчам шматлікасць касцяных накладак, якія захаваліся ў магілах Малога Каўпа, не павінна выклікаць здзіўлення.
Звяртае на сябе ўвагу адсутнасць якой-небудзь зброі ў пахаваннях з касцянымі накладкамі. Іншая важная прыкмета гэтых комплексаў – наяўнасць магутных каменных выбруковак ці груп камянёў, якія перакрывалі верхнія ярусы магіл і моцна пашкодзілі конскія касцякі ў ніжніх ярусах. Адсутнасць прадметаў узбраення павінна ўказваць на недатыкаль-насць персанажаў, пахаваных у гэтых магілах, да ўласна дружыннага асяродку. Каменныя масівы, збудаваныя над гэтымі магіламі з прыцягненнем значных людскіх рэсурсаў, былі прызначаныя, відавочна, для размежавання свету жывых ад месца апошняга ўпакаення гаспадароў касцяных накладак. Апошні факт, як бачыцца, указвае на немалы сацыяльны статус гэтых індывідуўмаў. На тым фоне прыкметны факт прыналежнасці знойдзенага ў Вялікім Ноўгарадзе сядла з касцянымі накладкамі сярэдзіны XII – пачатку XIII ст. (яго накладкі шмат у чым аналагічныя знаходкам на Малым Каўпе) комплексу сядзібы, якая ўваходзіла ў склад гарадскіх уладанняў баярскай сям’і Мірошкінічаў.
Акрамя касцяных накладак, у магілах Малога Каўпа падчас раскопак побач з цуглямі, якія знаходзіліся ў зубах коней, сустракаліся рагавыя псаліі, вырабленыя з адросткаў рагоў касуль. Як правіла, дэкор на знешніх баках гэтых дэталей прадстаўляе сабой схематычны, рознай ступені стараннасці, малюнак расліны. Мяркуючы па сцёртасці верхніх частак рагавых дэталей цугляў, яны актыўна выкарыстоўваліся падчас верхавой язды і наўрад ці прыдатны лічыцца складнікам параднага ўбрання прускага каня. Дата рагавых цугляў Малога Каўпа па комплексах, якія суправаджаюць іх у магілах, – Х – пачатак XI ст.
Верагодна, гандлёва-рамеснае пасяленне Каўп было цэнтрам вырабу касцярэзнай прадукцыі, якая потым магла распаўсюджвацца прускімі і куршскімі купцамі па Нёманскім гандлёвым шляху. Людзі, звязаныя з вытворчасцю ці з ганд-лем гэтымі прадметамі, маглі быць пахаваныя ў апісаных у артыкуле магілах Малога Каўпа. Адсутнасць у іх прадметаў узбраення ўказвае на мірны характар заняткаў пахаваных там прусаў. Магутныя каменныя выбрукоўкі, што перакрывалі іх рэшткі, багаты, нярэдка плакіраваны срэбрам іх інвентар, срэбраныя манеты, ахвяраваныя ім падчас пахавання, сведчаць на карысць глубокай павагі, якой карысталіся гэтыя майстры ці купцы пры жыцці.
Vladimir Kulakov
CARVEd BONE OF A BURIAL GROUNd SMALL KAUP
Summary
Burial ground Small Kaup gave quantity of bone and horn products, noticeable against other funeral monuments of Prussians. In the north of Sambia where Kaup is located, during an era of Vikings there was such abundance of animals that production of a horn and a bone for production of various hand-made articles wasn’t a problem. The abundance of the bone slips which remained in Small Kaup’s graves shouldn’t be surprising.
Absence in burials with bone overlays of any weapon attracts attention. Other important sign of these complexes – existence of powerful stone layings or groups of the stones which were blocking the top circles of graves and thoroughly damaged horse frames in the lower circles. Lack of subjects of arms has to indicate non-participation of the characters buried in these graves to a team to Wednesday. The stone massifs constructed over these graves with attraction of considerable human resources were called, it is obvious to differentiate the world of owners of bone slips, living from a place of the last rest. The last fact, apparently, specifies on considerable social the status of these individuals. The saddle accessory fact with bone overlays of sulfurs is remarkable. XII – the head of the XIII centuries. found in Veliky Novgorod (its slips are in many respects similar to finds on Small Kaup), to a complex of the estate which was a part of city possession of a seigniorial family Miroshkinichy.
Except bone slips, the horn stange made of shoots of horns of roes were found in graves of the Small Kaup. As a rule, the decor on outer sides of these details represents schematical drawing of a plant of different degree of care. Judging by a styortost of the top parts of horn details of a bit, they were actively used when riding and can be hardly considered as a detail of smart furniture of a Prussian horse. Date of the horn bit of Small Kaup on complexes accompanying them in graves – X – the head of the XI centuries.
Perhaps, the trade and craft settlement of Kaup was the center of production of the bone carving production which could extend then Prussian and Curonians merchants on the Neman trade way. The people connected with production or with trade in these subjects could be buried in the Small Kaup’s graves described above. Lack of arms subjects in them indicates peaceful character of occupations of the Prussians buried there. The powerful stone layings blocking them remains rich, quite often – their stock plated by silver, the silver coins offered it at burial testify in favor of deep respect which these masters or merchants used during lifetime.
Дата поступления в редакцию: 23.01.2015