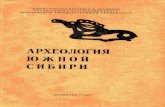НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НОВЫХ РАСКОПОК МОГИЛЬНИКА НА БОЛЬШОМ ОЛЕНЬЕМ ОСТРОВЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Наземные склепы Борижарского могильника
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Наземные склепы Борижарского могильника
УДК 902/904 ББК 63,4 К, 18
КАЗАХСТАН АРХЕОЛОГИЯСЫНЫН М0СЕЛЕЛЕР1. З -mi шь^арылым. Гылыми мак,алалар жина-Fbi. - ВОПРОСЫ АРХЕОЛОГИИ КАЗАХСТАНА. Сборник науч. статей. Выпуск 3. - Алматы, 201 1. - 584 с., илл.
ISBN 978-601-7312-01-5
Сборник представляет собой продолжение серийного издания «Вопросы археологии Казахстана». Настоящий, третий, выпуск издан в честь 75-летнего юбилея Бекена Нурмуханбетова. Этим событием обусловлена открытость сборника, выражающаяся в широком «географическом» формате - авторы статей работают в различных научно- исследовательских центрах Евразии, а представленные работы посвящены актуальным проблемам археологии ойкумены. Тематика статей охватываетпериод отдревнекаменного века до этнографической современности.
Сборник будет интересен как специалистам, так и всем тем, кому не безразличны проблемы историко-культурного наследия.
ISBN 978-601-7312-01-5
Ответственный редактор - А.З. Бейсенов
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:Б. А. Байта наев, К. М. Байпаков, 3. Самашев, Г. С. Джумабекова,
Г.А. Базарбаева (отв. секретарь), А. Касеналин
Рецензентыдоктор исторических наук, профессор М.Е. Елеуов
доктор исторических наук, профессор В.В. Евдокимов
Рекомендовано к печати Ученым советом Института археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК
Издание осуществлено на средства Сарыаркинской экспедиции (руководитель - А.З. Бейсенов) и ТОО «НИЦИА Бегазы-Тасмола»
© Авторы статей, 2011 © Институтархеологии им. А.Х. Маргулана © ТОО НИЦИА «Бегазы-Тасмола»
Е.А. СмагуловИнститут археологии им. А.Х. Маргулана КН МОН РК,
г. Алматы, Казахстан
Наземные склепы Борижарского могильника
Борижарский могильник наиболее крупный и наибо- лее изученный некрополь Южного Казахстана. Земляные курга
ны могильника протянулись по левому берегу р. Арысь на более чем 13 км от искусственного холма Карауылто- бе до устья р. Бадам, которая впадает в р. Арысь напротив пос. Обручевка (теперь аул Караспан). Ширина могильного поля местами достигает 1-2 км, захватывая верхнюю речную террасу1. Склон речной террасы в этом месте изрезан разветвленными древними оврагами (саями). Сотни бессистемно расположенных курганов занимают склоны и поверхность межсаевых возвышенностей. Все это огромное могильное поле примерно из 2400 «курганов» может быть расчленено на несколько разновременных комплексов курганов, отдельных могильников, которые со временем слились в один огромный массив. Два основных вида погребаль
ных сооружений, выявлены в ходе ар хеологических исследований - под- курганные катакомбы и наземные склепы. Катакомбы локализуются исключительно на поверхности верхней террасы и в самом начале ее склона. Склепы же расположены ниже по склону. Территория, на которой фиксируются склепы, обращена в сторону городища Жу- антобе, холм которого возвышается на площадке нижней террасы р. Арысь. На этом участке склона холмы с наземными склепами и холмы земляных курганов видимо так плотно подходят друг к другу, что до раскопок разграничить их можно лишь условно. Но очевидно, что склон с холмами простирается вверх и вниз от городища (по течению реки) не более чем на 500 -600 м. Эту часть м о гильника предложено именовать «городским некрополем Жуантобе» [Бай- паков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., 2005, с. 99]. По предварительным подсчетам к некрополю Жуантобе мо-
Чопография Борижарского могильника теперь детально представлена в материалах разработки темы «Создание геоинформационной системы Борижарского могильника для решения вопросов учета, определения границ охранной зоны..», в виде серии дешифрованных аэрофото, топокарт и топосьемок выполненных в 2007гпод руководством К.М.Байпакова.
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
жет быть отнесено примерно до семисот холмов (700), под которыми по нашему мнению могут скрываться руины наземных склепов2. Погребения в катакомбах относятся к расположенному выше более протяженному Борижар- скому могильнику3 и датируются б о лее ранним временем (первые века до и н.э.), и, естественно, относятся к иной историко-культурной эпохе.
Изучение этого могильника, можно сказать, началось в конце XIX в. и продолжается, с перерывами, до сего дня. Работы Б. Нурмуханбетова в конце 60-х и в 70-е гг. прошлого века внесли значительный вклад в исследование этого памятника, как по количеству вскрытых объектов, так и по предварительно поставленным им проблемам. Некоторых из них нам придется ниже коснуться, но прежде необходимы некоторые общие замечания.
Топографическая структура могильника. Обширный могильник, занимающий достаточно протяженный участок левой террасы р. Арысь, должен был иметь свою структуру, т.е. отдельные участки разновременной застройки и/или участки занятые сооружениями различного типа. Впервые на это обстоятельство - наличие различных по характеру участков могильника - обратили внимание еще сотрудники ЮКАЭ, проводившие в 50-х гг прошлого века первые научные исследования могильника. В отчетах ими использованы определения «нижняя группа курганов» - «верхняя группа курганов»
и отмечены различия в результатах их раскопок [Агеева Е.И., Пацевич ПИ., 1951, с. б]. Хотя, нужно отметить, исследователи не были последовательны и называли весь БМ «некрополем города бывшего на месте Жуантобе» [Агеева Е.И., Пацевич ПИ, 1956, с. 55]. Т.е. очевидный факт наличия различных зон на БМ был осмыслен лишь после того, как на нем были выявлены различные типы погребальных сооружений, т.е. после раскопок Б. Нурмуханбетова. В статье «Свода памятников...» 1994 г. К.М. Бай- паковым было отмечено, что все это огромное могильное поле «состоит из разновременных комплексов курганов, отдельных могильников, которые со временем слились в один огромный массив» [Байпаков К.М., 1 994, с. 109]. В дальнейшем этот подход нами был развит и предложено выделять во всем огромном БМ зону «некрополя Жуантобе» (будем обозначать далее - НЖ, имея в виду курганообразные холмы расположенные на склоне речной террасы обращенном к городищу Жуантобе), и соответственно, зону «некрополя городищ Караспан» (НК) в части ниже р. Бадам. А за всей остальной частью могильника, расположенной на поверхности речной террасы, сохранить название Борижарский могильник (БМ) [Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., 2005, с. 98-99]. Нужно отметить, что выделение объективно существовавших участков обширного пространственного явления, будь то городище или некрополь, т.е. выявле-
2Для сравнения отметим, что на некрополе наиболее известного и изученного среднеазиатского раннесредневекового города Пенджикент зафиксировано всего около 150 холмов, под которыми подозревают руины наземных склепов [Мейтарчиян М.Б., 2001, с. 74].
3Для удобства изложения далее будем обозначать «Борижарский могильник» - БМ; «некрополь Жуантобе» - НЖ.
120
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
ние планиграфической структуры, это один из закономерных результатов его изучения. Такой подход является традиционным в источниковедческих ар хеологических разработках. Очевидно, что, выявляя структуру, мы делаем шаг в познании объекта исследования [см. напр.: ГабуевТ.А., Малашев В.Ю., 2007, с. 459-461].
Из истории изучения. Нужно сказать, что БМ наиболее продолжительно и систематически изучаемый некрополь в Казахстане. Впервые раскопки здесь были проведены в 1893 г. по инициативе Н.П. Остроумова, являвшегося в то время представителем Российской Императорской археологической комиссии в Туркестанском крае. Эти работы выявили, судя по описанию в отчете, погребения, ориентированные головой на СВ, в «огороженном сырцовым кирпичом четырехугольнике» [Остроумов Н.П., 1899, с. 125-126] Очевидно, что здесь первые исследователи столкнулись с остатками наземных склепов, которые вследствие обрушения кровли и многовековой деструкции и дефляции, имеют вид курганообразных холмиков, а после расчистки остатки его глиняных стен предстают в виде сырцовой «ограды».
Такие же «оградки» были расчищены под девятью «курганами», расположенными на склоне террасы этого же могильника в ходе работ ЮКАЭ (рук. А.Н. Бернштам) в сезоны 1949, 1951 гг. Еще в шести курганах, расположенных по верху речной террасы, тогда не
было обнаружено никаких погребений, и они были определены как кенотафы4. В статье, посвященной итогам работ ЮКАЭ в 1953 г., Е.И. Агеева и ГИ. Пацевич характеризовали итоги предшествовавших работ 1949 и 1951 гг. на Борижарском могильнике на фоне первых незначительных результатов раскопок на цитадели Жуантобе. Полученный материал позволил авторам да тировать ранее вскрытые погребальные сооружения в рамках VIII-X вв. А тип всех вскрытых прежде погребальных сооружений определен как «площадки на уровне горизонта с прямоугольными оградками» [Агеева Е.И., Пацевич ГИ. 1956, с. 55]. В результате со свойственной тому времени смелостью было сформулировано и высказано мнение, что эти погребения принадлежат осевшим тюркам-карлукам, жителям городка, существовавшем на месте городища Жуантобе [Агеева Е.И., Пацевич ГИ., 1 9 5 6 ,с. 3 3 -60 ].
Исследования Б. Нурмуханбетова. В 1967 г. целенаправленные и си стематические исследования на БМ были продолжены Семиреченской археологической экспедицией (САЭ). По поручению руководителя экспедиции К.А. Акишева, эти работы проводил Б. Нурмуханбетов. В первый же сезон им было вскрыто более сорока курганов, и в некоторых случаях результаты раскопок были интерпретированы как «наземные постройки» (5 экз.). Автор раскопок так обобщил итоги первых рас- копочных сезонов: «Общее для всех вскрытых курганов то, что захоронения
Дальнейший опыт работ на Борижаре показал, что на гребнях межсаевых участков, на вершине террасы расположены погребения в подкурганных катакомбах. Принятая ЮКАЭ методика раскопок, очевидно, не позволила выявить следы дромосов, которые обычно находятся не по центру кургана [Нурмуханбетов Б.Н., 1975, с. 106].
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
в них совершены не в обычных могильных ямах, а на специально приготовленных для этих целей могильных площадках. Такие оригинальные в своем роде площадки устраивались на уровне или немногим ниже уровня горизонта. Делались они всегда из битой глины с примесью мелкой речной гальки. Толщина слоя площадок от 5 до 10 см. Внешние очертания их рисуются в самых различных линиях.
Вместе с тем в обрядах погребений прослеживаются и отличные в д е талях разновидности. Выражаются они в следующем: могильные площадки открыты со всех сторон (курганы 5, б, 17, 21); могильные площадки огорожены четырехугольными, близкими к квадрату оградками из пахсы (курган 27 )5; на могильных площадках построены архитектурные наземные погребальные сооружения (курганы 29 и 33)» [Нурмуханбетов Б., 1969, с. 173]. Б. Нурмуханбетовым были опубликованы краткие описания лишь половины из всех раскопанных «курганов» [Нурмуханбетов Б., 1969, с. 165-173; Нурмуханбетов Б., 1970, с. 109-119]. И из них около пяти-шести определены им как «наземные погребальные постройки». Как нам теперь представляется, и все остальные «курганы», ин терпретированные ранее как погребения на «оригинальных в своем роде площадках» или «в оградках», содержали в себе остатки погребальных построек - наземных склепов. Т.е. три намеченные Б. Нурмуханбетовым «разновидности» в реальности имеют отличия не «в обрядах погребений» или ф ор
ме погребальной постройки, а в степени сохранности и тщательности фиксации конструкций в «курганной насыпи» и являются остатками одного типа/вида погребальных построек, которые мы в дальнейшем будем называть «наземные склепы».
Однако давление «курганного стереотипа» на Б. Нурмухамбетова оставалось еще достаточно сильным. Первоначально он вполне обоснованно предположил, что постройки были «открытыми надмогильными сооружениями. Холм образовался позднее, вследствие разрушения стен сооружения» [Нурмуханбетов Б., 1969, с. 173]. Т.е. ни о какой «курганной насыпи» в реконструкции формы погребального сооружения речи не было. Значит и в целом БМ вряд ли можно определять исключительно как «курганный могильник». Но в следующей публикации тип погребений в «погребальных постройках» определен им как «трупоположе- ние под курганной насыпью внутри наземных погребальных построек» [Нурмуханбетов Б., 1970, с. 117]. Отметим попутно, что в соседних областях Средней Азии к тому времени археологические исследования наземных погребальных склепов шли довольно интенсивно. Естественно, накапливались комплексы находок, а так же опыт практических работ [Агзамходжаев Т., 1962; Буряков Ю.Ф., 1968; Ставиский Б.Я., Большаков О.Г, Мончадская Е.А., 1953]. Помимо узко археологических публикаций, эти архитектурные погребальные постройки вошли в обобщающие историко-архитектурные рабо-
5 Правда, в списке погребальных сооружений, опубликованном позже «оградки» не упоминаются [Нурмуханбетов Б.Н., 1975, с. 107].
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
ты6, а несколько позже ГА. Пугаченкова увидела в т.н. «наусах» раннего средневековья архитектурный зародыш «исламских мавзолеев» [Пугаченкова ГА., 1983, с. 23-24].
В публикации, посвященной д ей ствительно впервые открытому на БМ типу погребальных сооружений - катакомбам, Б. Нурмухамбетов привел классификацию всех выявленных здесь «типов погребального обряда». Им упомянуты:
1) подкурганные погребения на площадках на уровне древней дневной поверхности;
2) подкурганные грунтовые м о гильные ямы;
3) погребения в хумах;
4) наземные погребальные постройки из сырца и пахсы [Нурмуханбетов Б., 1 975, с. 1 07].
Как видим, в описании результатов исследований Б. Нурмуханбетова описываемой серии «курганов» оставалось много неясного. Называть описанные группы «типами погребального обряда» вряд ли возможно; скорее речь здесь идет о типах/видах погребальных сооружений. Куда-то делись «оградки», но появились некие «погребения в хумах», о которых, ни в одной публикации или отчете по могильнику, ни сказано, ни слова. В целом интерпретация Б. Нурмуханбетовым результатов своих раскопок уже была под
вергнута критике [Байпаков К.М., Смагулов Е.А., Ержигитова А.А., 2005, с. 139-140]. Наибольшее сомнение вызывала интерпретация результатов раскопок курганов с трупоположением «на могильных площадках без оградок». Получалось, что трупоположение происходило на специально сделанную из пахсы с галькой площадку; трупы укладывались или рядом параллельно, или под углом 90° друг к другу; покойники были в одежде, с украшениями и прочими атрибутами (оружием, пищей и питьем в сосудах и пр.). Сразу же над ними насыпался курган, т.е. покойники как-то изолировались. И тут же, на этом же некрополе практиковались трупопо- ложения в глиняную квадратную ограду без перекрытия, и тут же в сырцово- пахсовую погребальную постройку, над которой холм образовывался «позднее, вследствие разрушения стен сооружения»7. Вряд ли такое разнообразное отношение к покойникам было возможно в рамках одной компактной общ ины, населявшей на протяжении веков, в общем-то. небольшое поселение на Жуантобе.
В случае с «открытыми площадками», которые сразу же закрывались курганной насыпью, невозможно объяснить - почему тогда кости одного скелета или обломки одного сосуда оказываются разбросанными по всей площадке? Надо было признать, что родственники насыпали курган над уже разо-
6 Например: [Нильсен В.А., 1 966, с. 87-110].
7 О том, что наземные погребальные постройки (склепы) после совершения погребения не засыпались курганной насыпью, а стояли до полного разрушения открыто, говорят как наблюдения над их расчисткой, так и множество этнографических параллелей. Использование в публикациях названий «курган», «курганная насыпь» невольно создает ложное представление о внешнем облике погребального сооружения. Вследствие этого появляются «подкурганные склепы (наусы) Борижарского и других могильников Южного Казахстана» [Левина Л.М., 1996, с. 89].
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
ренным погребением, что трудно себе представить. Или, если подозревать в разорение погребения «грабителей», то тогда им, грабителям, надо было бы как минимум полностью и аккуратно снять насыпь, перемешать вещи и кости, разбросать их по площадке и вновь насыпать курган. Такая картина размещения инвентаря и костей встречалась чаще всего, и она характерна именно для остатков погребения в сырцово- пахсовых постройках - склепах. Они, оказывается, строились тут же и в то же самое время. Результаты вскрытия курганов № 26, 29, 32, 33 вполне однозначно и верно, как теперь можно заключить, интерпретировались Б. Нурмуханбетовым как наземные склепы, которые можно было сопоставлять со среднеазиатскими «наусами». Склепы имели небольшие проходы-лазы, которые, видимо, заделывались кирпичной кладкой, а в отдельных случаях закрывались специально изготовленными керамическими дверками-заслонками. Одна такая дверка была найдена еще Б. Нурмуханбетовым, вторая найдена нами в 2005 г. при расчистке склепа № 70 (рис.1).
Все эти недоразумения с разнообразием «наземных погребений» «на площадках» снимаются, если признать, что со времен Н.П. Остроумова на БМ раскапывались разной степени сохранности остатки погребальных сооружений для многократных трупопо- ложений в виде сырцово-пахсовых наземных склепов, некогда перекрытых сводами или куполами.
Почему тогда на БМ, точнее - некрополе Жуантобе, не во всех случаях зафиксированы руины стен склепов? Надо учесть чрезвычайную сложность работы в пересохшем лессовом грунте,
а так же неадекватность методики раскопок, которая была обусловлена «курганным стереотипом», т.е. склонностью видеть в любом холме простую грунтовую «курганную насыпь». Современная археология давно рассталась с такими, можно сказать, краеведческими представлениями, и пришла к пониманию кургана как разрушенного и деформированного временем архитектурного сооружения, в какой бы ландшафтной зоне он не находился (об архитектуре курганов см. напр.: [Шульга П.И., 2003, с. 191-193; Ольховский B.C., 1991, с. 172-178]). Хотя еще задолго до того, была ясна порочность методик, «когда на насыпь смотрели не как на объект изучения, а как на препятствие, которое нужно прокопать, разрушить и достигнуть могилы возможно более простым способом, при этом всегда предполагалось, что основная (искомая) могила должна быть в «центре». Этим именно отношением к комплексу и были обусловлены такие печальной памяти приемы раскопок курганов, как траншеи накрест или колодцы в середине насыпи» [Миллер А.А., 1934, с. 139]. Со слов Б. Нурмуханбетова, вскрытие борижарских «курганов» осуществлялось именно «методом» «на снос всей курганной насыпи» [Нурмуханбетов Б., 1969, с. 168]. А во время ЮКАЭ просто в центре холма разбивался небольшой раскоп, обычно 3 х 3 м, и, в случае обнаружения «площадки», его границы расширялись [Агеева Е.И., Пацевич ГИ., 1956, с. 5-7]. Такая методика вскрытия и не предполагает обнаружение каких- то строительных конструкций в «насыпи», если тому не способствуют особо благоприятные обстоятельства (например, очень хорошая сохранность мощ ных пахсовых стен).
Смогу лов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
Шагинский археологический комплекс. Возможно именно лучшая сохранность сырцово-пахсовых конструкций, или применение более адекватной методики позволили другому курганному отряду под руководством А.Г Максимовой практически в те же годы вскрыть на могильнике у аула Шага в соседнем районе ЮКО наземные погребальные склепы. Этот внушительных размеров курганный могильник был открыт еще в 1 969 г. в южных предгорьях Каратау. На нем было зафиксировано более двухсот курганов [Максимова А.Г, 1 974, с. 95 и сл.].
Можно добавить, что археологические памятники в ауле и его окрестностях образуют своеобразный археологический комплекс и этот могильник является его частью. В 2-3 км ниже м о гильника в пойме одноименной речки, на территории современного аула Шага расположены три разновременных городища [Свод памятников истории и культуры.., 1994, с. 312]. Городище Шага 1 отождествляется с известным в источниках городом Шагильджан. Это
подчетырехугольный в плане холм с возвышением («цитадель»), которое занимает северную часть холма площадью в 0,5 га и высотой около 10 м. К холму примыкает с трех сторон «шахри- стан», укрепленный крепостной стеной. Территория пригорода застроена постройками и дво рами современного аула. Общая площадь городища около б га. Керамические комплексы его стратиграфической колонки датируются VIII-XVIII вв.
Хронологическими предшественниками городища Шага 1 можно считать два небольших ранних поселения, находящиеся также на территории этого же аула. Материал, полученный на этих поселениях, может быть отнесен к периоду первые вв. н.э. - VIII в. Т.е. вполне обоснованно можно считать, что могильник у с. Шага, исследованный Южно-Каратауским отрядом (под рук.А.Г М аксимовой), является некрополем этих поселений доисламского периода.
Отметим, что размеры некрополя не ограничиваются зафиксированным количеством "курганов" и площадью ими занятой. В ходе обследования «шагинского комплекса» Туркестанской археологической экспедицией (ТАЭ) в 2000 г. у подножия террасы, на вершине которой расположены курганы, раскопанные А.Г М аксимовой, было об следовано современное кладбище. На некоторых более свежих могильных холмиках были обнаружены раннесредневековые сосуды. Эти сосуды по
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
технологическим и декоративным признакам относятся в Туркестанском регионе к комплексу керамики VI-VIII вв. выявленному при раскопках на городищах Культобе и его некрополе («туркестанский некрополь»), Шойтобе, Сидак и еще на целом ряде памятников [Сма- гулов Е.А., 1998, с. 1 8-25]. Наличие на многих из них «тамгообразных» знаков является характерным признаком этого хронологического комплекса керамики (рис. 2, 1, 5-6, 9, 11-12). В одном из кувшинов найден фрагмент бронзового браслета с декорированной концевой частью. Местные жители пояснили, что иногда при рытье могил в земле на глубине они натыкались на эти кувшины и древние кости. Кости тут же закапывались, а сосуды устанавливались на свежие намогильные холмики8. Исходя из этого, можно предположить, что современное кладбище расположено на территории раннесредневекового некрополя. Внешних поисковых признаков эти ранние погребения теперь не имеют. Можно лишь предположить, что здесь расположена часть некрополя или с катакомбными, или с ямными погребениями.
Проводя в 1970 и 1972 гг. раскопки на могильнике у с. Шага, А.Г М аксим овой удалось методически верно вскрыть новый для себя тип памятников, и реально оценить актуальность открытых в данном регионе подобных погребальных построек для археологии Казахстана. Это следует из того, что она сочла необходимым, прежде всего, опубликовать результаты раскопок именно этих «курганов» [Максимова А.Г, 1 974,
с. 95]. Хотя вскрытые погребальные постройки ею правильно были интерпретированы как открытые наземные постройки, перекрытые Коробовыми сводами, в публикации эти памятники по традиции называются «курганами» - курганы № 67-68 , 75-76, 108 [Максимова А.Г, 1974, с. 96].
Все они представляют собой наземные постройки из сырцового кирпича и пахсы. Зафиксированные размеры кирпича: 50 х 20-25 х 9-10 см; 40 х 25 -30 х 5-1 0 см. Постройки имеют под квадратную в плане форму с размерами по наружному контуру близкими 4-5 х 4-5 м. Ориентированы углами по сторонам света. Вход во внутреннюю камеру в виде длинного (3-3 ,5 м) узкого (0 ,7 -0 ,9 м) сводчатого коридорчика устраивался посередине юго-восточной стены. С наружной стороны входы в камеры после каждого очередного под- захоронения тщательно закладывались пахсой или сырцовым кирпичом, использовались и каменные плиты. В подквадратной погребальной камере вдоль двух-трех стен располагались невысокие (0,1 5 м) суфы - лежанки. Внутренние поверхности стен, суфы и пол тщательно покрывались глиняной штукатуркой. Отмечен и случай побелки.
Останки погребенных зафиксированы внутри камеры и в коридоре обычно в виде перемешанных кучек костей. В разных склепах отмечено разное количество погребенных, от 3 до 25. Среди человеческих костей в склепе № 68 обнаружены черепа трех собак. Скелет одной из них in situ расчищен во входном коридоре.
оОбычай оставлять на могилах керамические сосуды, которые были случайно обнаружены при рытье
могилы, зафиксирован в ряде районов Средней Азии [Грицина А.А., Усманова Е.Л., 1992, с. 195].
126 _________________________________________________________________________________________
Смогу ЛОВ Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
Среди костей в шагинских склепах обнаружена репрезентативная коллекция находок, среди которых одна со гдийская монета конца VII - пер. пол. VIII вв. с квадратным отверстием. Эта находка, а также аналогии другим вещам (керамика, железные наконечники стрел и пр.) позволили А.Г М ак симовой датировать склепы концом VII - пер. пол. VIII вв. [Максимова А.Г, 1974, с. 115]. Эту датировку она распространила и на исследованные и опу
бликованные ранее близкие по набору находок Борижарские погребения.
Таким образом, после исследований шагинского некрополя стало окончательно ясно, что вскрывавшиеся на Борижаре так называемые «погребения на площадках» и «погребения в пахсово-сырцовых оградках» есть различной степени сохранности остатки «гробниц типа наусов» или «наземных склепов».
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
Рис. 3. Планы некоторых склепов расчищенных в 2005-2010 гг.
Смогу лов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
Новый этап изучения БМ. Систематические исследования на БМ были возобновлены в 1997 г. археологическим отрядом Шымкентского областного историко-краеведческого музея и ЮККАЭ. За последнее время накапливаются материалы по различным типам погребений, но в большинстве случаях вскрываются остатки наземных погребальных построек. Более адекватная методика раскопок позволила исследователям во всех без исключения случаях четко фиксировать стены и детали интерьеров построек, которые впервые названы «склепами» [Байпаков К.М. и др., 2000, с. 225]. До этого наземные погребальные постройки назывались исключительно «наусами» [Грищенко А.Н., 1992, с. 93-95]. Из интересных новых данных относительно погребальных построек можно отметить открытие двухка - мерных склепов [Грищенко А.Н., 1999]. Авторы новых раскопок принимают датировку, предложенную А.Г М аксимовой для Борижарских склепов VII-VIII вв., которая, надо отметить, не противоречит датировкам предложенным на основе анализа разного рода находокВ.И. Распоповой и Я.М . Левиной. Эту д а тировку склепов впоследствии поддержал и К.М. Байпаков, также датировавший их втор. пол. VII - VIII вв. [Байпаков К.М., 1 9 9 9 ,с. 171].
Установлено, что на БМ склепам (рис. 3) хронологически предшествуют погребения в подкурганных катакомбах (рис. 4) и в простых подкурганных м о гильных ямах. Но никаких «промежуточных» или «переходных форм» меж ду этими двумя видами погребальных сооружений пока не обнаружено.
Сидакский погребальный комплекс. Вывод о массовости и типичности наземных склепов как погребальных
построек в южноказахстанском регионе, естественно, предполагает их наличие на некрополях других раннесредневековых городов. Начиная с 2001 г., Туркестанской археологической экспедицией (ТАЭ, рук. Е.А. Смагулов) ведутся работы на городище Сидак, в 30 км на СЗ от аула Шага. При этом на берегу высохшего русла Ашасай в 800 -900 м к СЗ от городища обнаружен некрополь в виде сильно размытых не выразительных курганообразных холмов.
На этом некрополе в 2002 г. нами были расчищены шесть холмиков, и оказалось, что они скрывают плохо сохранившиеся руины сырцово-пахсовых квадратных в плане склепов [Ержигито- ва А.А., Смагулов Е.А., 2004, с. 81 -89]. Остатки склепов и совершенных в них погребений во многом повторяют результаты расчистки аналогичных склепов шагинского и борижарского некрополей. В большинстве случаев мы видели хаотично разбросанные по полу и су- фам склепа кости и отдельные мелкие находки. Лишь в одном случае скелеты лежали почти в анатомическом порядке (склеп 4). Из отдельных интересных находок нужно отметить бронзовое зеркало, фрагмент керамической курильницы «ладьевидной» ф ормы и серебряную пряжку с инкрустацией гранатами и пластинки от поясного ремня (рис. 5, 2). Этот пояс с пряжкой имеет ближайшие аналогии среди жетыасарских (джетыасарских) м атериалов III-IV вв. [Левина Л.М., 1996, рис. 133]. Вероятно, что подобные пояса представляют собой своеобразный локально-хронологический тип поясов Евразии. Их характеризуют металлические пряжки (серебро, бронза) с подвижным язычком и пластинчатой обой мой, зачастую инкрустированной. Вся
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
Рис. 4. Ориентация подкурганных катакомб из расчищенных в 2006-2010 гг.
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
Рис. 5. Некоторые из находок в склепах городища Сидак
поверхность, или большая часть, узкой кожаной основы ремня плотно покрыта вертикально расположенными м еталлическими обычно фигурными пластинками, крепящимися двумя «гвоздиками». Отсутствуют свисающие ремешки и прочие элементы.
Назначение склепов. Теперь нам следует кратко коснуться вопроса о функциональном назначении этих ш ироко распространенных на раннесредневековых некрополях Южного Казахстана погребальных построек. А.Г М ак симова определила шагинские склепы как «гробницы типа наусов» [М аксимова А.Г, 1974]. Тем самым, как нам представляется, подчеркнув формальное сходство их внешнего вида с хоро
шо известными к тому времени среднеазиатскими наусами, но отличие ф ормы и сути погребального обряда. Это же обстоятельство было подмечено и Б. Нурмуханбетовым: «..борижарские погребальные сооружения, имея много общего во внешнем строении с наусами, не являются ими по назначению» [Нурмуханбетов Б., 1 969, с. 1 20].
В истории культуры Центральной Азии наусами принято именовать погребальные постройки, свойственные зороастрийскому (или маздеитскому?) погребальному канону, хотя о степени влияния/распространения зороастризма в Средней Азии среди специалистов нет единого мнения. Одни готовы видеть проявление зороастризма в каж
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3,
Рис. б. Реконструкция наземных склепов (по Нильсену В.А.)
дом факте особого отношения к огню, или в любом погребении очищенных костей. Другие отрицают распространение и влияние зороастризма, государственной религии сасанидского Ирана, в оазисах Средней Азии и Жетысу (Семиречья) в эпоху древности и в раннем средневековье. Каждый из этих подходов имеет свои слабые и сильные основания. Рассмотрение их не входит в задачу нашей публикации. Нам следует лишь отметить, что продвинуться в понимании религиозной жизни населения присырдарьинских и среднеазиатских оазисов, при отсутствии однозначно трактуемых письменных источников, можно на основании систематического анализа результатов раскопок погребальных памятников.
Сравнительно недавно нами была предложена в целом не противоречивая реконструкция погребального об ряда как протяженного во времени цикла обрядовых действий, в котором наземные склепы занимают промежуточное/срединное место. При этом обряде наземные склепы служат местом выставления трупа до его полной есте
ственной скелетизации. После чего очистившиеся кости собираются в бытовой или специально изготовленный сосуд, или в специальную урну/оссуарий, или просто заворачиваются в ткань/кошму и погребаются окончательно в укромном месте [Смагулов Е.А., 2004, с. 252- 256; Смагулов Е.А., 2004 а, с. 40-55]. При этом склепы не являются местом погребения, а лишь выставления, т.е. служили сооружениями, за которыми в зороастризме закрепилось название «дахма». А случаи обнаружения одновременно в склепе скелетов, кучек костей, хумов и урн с костями, трактуются как следствие не завершенного погребального обряда, когда некрополь внезапно забрасывался. При таком подходе предлагается рассматривать ситуацию, зачастую выявляемую при расчистке склепов, не как результат законченного обряда, обычно нарушенного последовавшим не санкционированным вторжением-«ограблением», а как результат неоконченного действия, прерванного по какой-то причине (которых в реальной жизни было не мало). Лежащий на суфе скелет в анатомическом
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
порядке, собранные в кучку кости скелета, кости в урне фиксируемые иногда в одном и том же склепе - это разные стадии, которые проходят человеческие останки внутри склепа, при распространенном здесь «обряде выставления». На следующем этапе кости выносятся и хоронятся в укромном месте - так появляются погребения по «оссуарному» или «хумному обряду». Такая реконструкция действительно на наш взгляд объ ясняет многие до сих пор не ясные, но часто встречающиеся при вскрытии наземных склепов моменты. Т.е. концепция имеет эвристическую составляющую. Например, становится ясным, почему большинство более-менее представительных комплексов находок (с монетами, например) в склепах Средней Азии датируются VIII в., т.е. временем арабского завоевания и утверждения ислама. И почему в склепах редки закрытые комплексы находок более раннего времени. При этом акцентируется внимание на тех сторонах этого об ряда, которые никак не могут быть о б условлены зороастрийскими представлениями. В этом автор не оригинален. На несоответствие среднеазиатских погребений в наусах, оссуариях и пр. зо- роастрийской догматике, как она известна по письменным и этнографическим данным, указывают многие авторы, но при этом почему-то продолжают именовать эти обряды зороастрийскими [Мейтарчиян М.Б., 2001, с. 71 ].
Согласно нашей реконструкции погребального обряда применение наземных склепов обуславливает захо
ронения очищенных костей в хумах или керамических урнах-оссуариях.А.А. Грицина считает, что в Уструша- не (Джизакская и Сырдарьинская обл. Узбекистана) захоронения костей в хумах стали появляться с IV-111 вв. [Грицина А.А., 1997, с. 27-28; Грицина А.А.,1999, с. 223-225] Т.е. мы можем предполагать, что с этого времени получают распространение и места для выставления трупов, возможно в виде наземных склепов. При этом захоронения очищенных костей в бытовых сосудах или в специальных урнах-оссуариях не есть некий особый погребальный обряд, а лишь заключительная фаза все того же обряда. Поэтому в случае обнаружения захоронений в хумах или урн с костями можно предполагать наличие где-то в округе, ближе к поселениям с древними и раннесредневековыми слоями, наземных сырцово-пахсовых склепов, и наоборот. Окончательное захоронение костей осуществлялось в особых укромных местах, в которых предполагалось, что они не будут более потревожены, и тем более нарушены. И с этой задачей они справлялись не плохо. Поэтому подобные некрополи обнаруживаются обычно случайно и в самых неожиданных местах. Такое место окончательных захоронений костей из склепов некрополя Жуантобе до сих пор не об наружено.
Противоположная точка зрения изложена в концепции ГИ. Богомолова, который все расчлененные погребения Средней Азии готов объяснять следствием распространения зороастризма [Богомолов Г И., 2007, с. 77 -82 ]9. Им
9 Правда, практически одновременно этот обряд связывается с распространением и укреплением позиций маздеизма и называется «оссуарным обрядом» [Богомолов Г И., 2005, с. 187-196; Богомолов Г И., 2006, с. 183-193]. При этом остается не ясным, что имеется в виду, когда говорится: «зороастрийский обряд погребения», «маздеиский обряд погребения», «оссуарный обряд погребения». Если за этими понятиями стоит одно и то же содержание, то зачем использовать различные названия?
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
отмечено, что «в эпоху раннего средневековья ... для всего Согда, ведущим типом погребальной обрядности становится обряд, состоявший из двух этапов: предварительное выставление трупов и затем захоронение очищенных от мягких тканей костей. Нередко кости помещались в специальные сосуды - оссуарии или однокамерные наземные сооружения - склепы - нау- сы, реже в грунтовые могилы» [Богомолов Г И., 2007, с. 77]. Вероятно, автор имел в виду, что упоминаемые «два этапа», это этапы, которые оставляют наиболее заметные археологические следы. Вообще же в «зороастрийском погребальном обряде» специалисты выделяют больше этапов, оставляющих археологические следы, помимо тех, от которых археологических следов не сохраняется. Например, некоторые исследователи полагают, что действительно первый, подготовительный этап, который не учтен ГИ. Богомоловым, также может быть связан с археологическими объектами. Имеется в виду помещение с ямой в Зб-ом беркуткалинском зам ке Хорезма, наус № 2 пенджикентско- го некрополя и кампыртепинские склепы [Мейтарчиян М.Б., 2001, с. 65-67]. В соответствии со взглядами, развиваемыми ГИ. Богомоловым, наусы служили для окончательного помещения в них оссуариев - керамических урн (или просто сосудов) с очищенными от плоти костями покойного или же для хранения просто кучек очищенных костей. Они являлись как бы завершающими в
ряду канонических погребальных сооружений10. Как известно, этот ряд построек выглядит следующим образом: кед (для временного нахождения трупа в период обряда оплакивания, прощания); дахма (сооружение где выставлялся труп для очистки костей от тканей); оссуарий (урна для очищенных костей); наус (постройка для помещения оссуариев) [Хмельницкий С.,2000, с. 1 99]11. «Типичные наусы», с оссуариями или их обломками внутри, хорошо изучены в ряде регионов Центральной Азии [Пенджикент, Пайкенд, Кафыр-кала, Ток-кала, Красная Речка и т.д.]12. Их устройство, за некоторыми исключениями, единообразно и сводится к единственному помещению квадратной или прямоугольной формы с низким (около 1 м в высоту) сводчатым входом. Входы в наусы ориентированы различно и прорезают обычно посередине одну из стен, если камера удлинена - всегда торцовую. Размеры камер разнообразны - от 4 до 10 м. Внутри под невысоким сводом вдоль стен на сырцовых возвышениях - суфах или просто на полу с песчаной или гравийной подсыпкой стояли оссуарии. Суфы иногда занимали почти все помещение, оставляя, для вошедшего, только небольшую продолговатую площадку перед входом. Таково обобщенное описание наиболее археологически изученных наусов Пянджикента. В свое время В.А. Нильсен, исходя из археологического материала, предложил реконструкцию внешнего облика этих погре-
10 На практике зачастую некоторые функции совмещались в одной постройке [Ртвеладзе Э. В. 1989, с.224-225].
11 НалиМейтарчиян М.Б., 2001, с. 67 и сл]).
134
11 Наличие нескольких обзоров избавляет нас от перечислений (см.напр.: [Хмельницкий С., 2000;
12 Последнюю сводку см.: Хмельницкий С., 2000, с. 199-21 5.
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
Рис. 7. Халцедоновые геммы из «клада» в культовом дворе Сида ка
бальных построек, которую без оговорок принял и С. Хмельницкий [Хмельницкий С., 2000].
Исследования погребальных построек в Ташкентском оазисе на средней Сырдарие открыли наусы иного архитектурного облика. Они имеют круглый план внешнего контура, внутри небольшая квадратная камера с нишами в стенах. По реконструкции В. Нильсена, они могли иметь купол в виде эллиптической полусферы (рис. б) [Нильсен В.Я., 1966, с. 8 7 -100 ]13. Своеобразными
моделями таких погребальных построек принято считать локальный тип оссуариев, свойственный этому региону и Жетысу. Интересно что, только в наусах у городищ Кавардан и Киндык-тепа об наружены оссуарии, в некоторых ахан- геранских отмечено наряду с наличием оссуариев и трупоположения. Во всех остальных известных случаях, а их подавляющее большинство (!), в этих наусах совершались трупоположения. Таким образом, ташкентский материал, вроде бы показывает, что в наземных
13 Интересно отметить, что круглые в плане склепы были исследованы и среди жетыасарских погребальных построек [Левина Л.М., 1996, с. 68].
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
2
ж
4
*
Рис. 8. 7 - рисунок птицы и рыбы на хуме из Сидака (VII! в.); 2 - тамга на хуме из культового двора Сидака (V в.); 3 - тамга и оттиск геммы на хуме из катакомбы Борижарского могильника; 4 - тамга на хуме
из музея г. Туркестан
погребальных постройках VI-VIII вв. со вершались различные по типу погребения (трупоположения и очищенные кости в оссуариях и просто в кучках - все эти ситуации М.И. Майтерчиян, например, называет разными «типами погребений» [Майтерчиян М .И., 2001, с. 70- 71, с. 87]), которые принято связывать с разными религиозными системами, а зороастризм, оказывается, не выработал единого погребального канона, при
всем его особом отношении к вопросу о воскрешении14. М.И. Филанович счи тает, вслед за F. Grenet, что оссуарньи/ обряд появился в Ташкентском регионе не ранее VI в., как и в Жетысу, из Со- гда. Но при этом формы и оссуариев, I/ самих наземные построек, в которые их помещали, трансформировались под влиянием форм традиционных местных намогильных сооружений [Филанович М .И., 1990, с. 85-96]. ГИ. Богомолов обосновывает более раннее появление осуариев в Чаче и видит их генезис в керамических гробах парфянского времени [Богомолов ГИ., 2006, с. 183-193]. В трактовке этого «зороа- стрийского обряда погребения» в последнее время происходит некое переосмысление известных фактов. Если с заключительным этапом погребального обряда в трактовке ГИ. Богомолова более-менее ясно - очищенные кости помещались в оссуарии, затем - в наземные склепы или в грунтовые могилы, то, как и где происходил первый этап «зороастрийского обряда погребения» не совсем ясно. Если наземные склепы - наусы - заняты оссуариями и кучками костей, то где происходит «выставление», причем такое выставление после которого можно собрать все кости и поместить их в специальный сосуд?
Своеобразие в погребальном обряде выявляется при исследовании материалов раскопок городища Сидак (Туркестанский р-н, ЮКО). Возможно, что здесь после очистки костей в наземных склепах, они собирались в хумы и помещались на хранение в специальные комнаты расчищенные на уровне верх-
14 «Способ захоронения не может быть конфессиональным критерием» [Мейтарчиян М.Б., 2001, с. 114].
136 _________________________________________________________________________________________
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
него горизонта (VII-VI11 вв.) и на уровне горизонта с пятиугольным культовым двором (IV-VI вв.) [Ержигитова А.А., Смагулов Е.А., 2004; Смагулов Е.А., 2008]. При расчистке помещений этих горизонтов найдено до сотни археологически целых хумов, зачастую вкопанными в суфы или под пол помещений и закрытых крышками, но совершенно пустых. Лишь в редких случаях в них находились некоторые мелкие ар тефакты. В одном случае найден рядом с хумом зарытый в суфу кувшин с костюмным комплектом и личными атрибутами. Если предположить, что в хумах, обнаруженных пустыми, хранились очищенные естественным образом в склепах костные останки усопших членов данной общины, то тогда этот «клад» украшений и амулетов из кувшина можно истолковать как ком плект личных вещей и не истлевших д е талей костюма, захороненный вместе (рядом) с останками его хозяйки. Со став «клада» свидетельствует о высоком социальном ранге дамы, которой принадлежали эти аксессуары. В нем присутствуют, хотя и символически, изделия из драгоценных металлов, и вполне реальные статусные импортные атрибуты (рис. 7). Вероятно, они были собраны с истлевшего в склепе трупа в специальный сосуд, при перемещении костных останков на место стационарного хранения. При такой интерпретации находят объяснение и, отмеченные выше, находки в некоторых хумах отдельных мелких вещичек, и находки отдельных костей скелетов в развалах хумов, и аб солютное отсутствие во множестве расчищенных целых хумов малейших признаков пищевых продуктов...
В таком случае, «культовый двор», частично расчищенный по уровню СГ2- 3 на «цитадели» Сидака можно пони
мать как поминальный храм предков или всей общины, или какого-то элитного клана (рода). Какого? Возможно, на это указывает тамга, прочерченная на одном из хумов, найденном наряду 'с отдельными костями скелета (рис. 8, 2). Видимо, этот знак присутствует на монетах Чача и Согда в IV - пер. пол. VIII вв. (группа 4 по: [ШагаловВ.Д., Кузнецов А.В., 2006, с. 141]; см.: [Яценко С.А., 2001, рис. 29]). Мы имеем стратиграфическое основание отнести сидакский хум с тамгой к III-V вв. О существовании традиции метить погребальные хумы родовыми тамгами и личными знаками свидетельствует недавняя находка в одной из катакомб Борижарского могильника хума с прочерченной тамгой-свастикой и рядом овальный оттиск геммы с изображением оленя (рис. 8, 3). Тамга-свастика присутствует и на хуме в экспозиции музея истории г. Туркестан (рис. 8, 4). Прочерченные «свастические» там ги, с поворотом концов в разные стороны, известны и в репертуаре тамго- бразных знаков каунчинской культуры. Здесь же известны оттиски печатей на венчиках хумов [Грицина А.А., Алимов К., 1986, с. 36 -45 , рис. 2, 1, 5, 14-15].
Многие таразские погребальные хумы- оссуарии отмечены оттисками печаток [Сенигова Т.Н., 1968, с. 59, рис. 2].
Жизнь храмового комплекса на Си да ке прекращается тотальным пожаром, разрушением и длительным запустением. Однако пожар не был внезапным для обитателей цитадели. Они смогли предварительно вынести из помещений все вещи и инвентарь. И главное, костные останки своих предков. Об этом свидетельствуют пустые хумы в хранилищах; на полах в слое пожара практический нет оставленных в спеш
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
ке бытовых принадлежностей и пр. Произошло это, если опираться на находки монет, где-то ближе к середине VIII в. и, вероятно, было следствием завоевания края арабами [Смагулов, 2004а]. В таком специфичном письменном памятнике как «родословия южно-казахстанских ходжей» упоминаются 718 (или 767) гг. как годы прихода арабских войск под командованием потомков Ханафии в среднесыр- дариинский регион [Муминов, 2005, с. 119]. Вполне вероятно, что в этой части родословия опирались на некую письменную традицию, памятники которой пока не выявлены, или утрачены безвозвратно.
По мнению специалистов, с периодом арабского завоевания Чача связана самая трагическая страница его истории. «В результате ряда карательных походов в Чач с 71 3 г., его города и, в первую очередь, столица подверглись разрушению и опустошению. Урон был непоправим. Ат-Табари недаром лаконично отмечает: «Все селения Шаша были сожжены». Археологические раскопки в самом Ташкенте выявили наглядную трагическую картину разрушений и пожаров» [Филанович М., 2005, с. 180].
В историографии традиционно почему-то считается, что только оссуарии являются единственным и безусловным признаком (свидетельством) зороастрийской погребальной обрядности15, как бы забывая существование, например, древней еврейской погребальной традиции, так же связанной с оссуариями. В этой связи академик Э.В. Ртвеладзе отмечает, что специалистами
установлено, «что широко распространенная на раннесредневековых оссу- ариях Согда схема декора в виде двух или четырех многолепестковых розеток, помещенных между стилизованными колонками, совпадает с традиционным декором еврейских оссуариев.
На этом основании они считают, что оссуарии с таким декором могли принадлежать еврейским общинам в Со- где во время становления здесь оссу- арного обряда захоронения (IV-V вв.), но подчеркивают, тем не менее, что таких оссуариев единицы и что пока нет полной уверенности в их еврейской атрибутике. Между тем находки оссуариев с древнееврейскими надписями из Старого Мерва убедительно свидетельствуют о том, что евреи, по крайней мере в Маргиане, использовали оссуарии для захоронения» [Ртвеладзе Э.В., 2004, с. 11 ]. К тому же новые исследования показывают, что в отдельных областях доисламской Средней Азии не только «оссуарный обряд» погребения связан с зороастризмом. Об этом говорят, например, исследования раннесредневековой Бактрии. «Характерной чертой бактрийского зороастризма было массовое распространение захоронений иных видов, не предусматривавших предварительного выставления; при этом к числу зороастрийских могли относиться и трупоположения с подогнутыми ногами» [Литвинский Б.А., Седов А.В., 1984, с. 170]. К таким же выводам приходит и ГИ. Богомолов на основе авестийских текстов, в которых упоминается и ингумация, и кремация наряду с выставлением. В то же
1 ЧНапример, обычно символика изображений на оссуариях трактуется однозначно в контексте «зоро
астрийских представлений» [Минасянц B.C., 1990, с. 71-85].
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
время наличие оссуариев не обязательно связано с зороастризмом (Ток-кала) [Гудкова В.А., 1 964].
В этой связи интересно, что на некрополе города Джамуката (городище Костобе (VI- IX вв.) под Таразом, возникновение которого исследователи связывают с переселением в VI в. в д о лину Таласа части бухарцев под предводительством Джамука, в погребальных наземных постройках, названных наусами, нет следов оссуарных погребений [Байпаков К.М., 1998, с. 100]. Они, также как наусы Пянджикента, прямоугольной или квадратной в плане формы. На некрополе они стояли, как и на некрополе Краснореченского городища, рядами вплотную друг к другу. Погребальные камеры внутри не имели суф, пол просто был выложен кирпичом и покрыт обмазкой. Служили эти постройки для многократных захоронений/выставлений, при помещении в склеп следующего трупа, кости предыдущих покойников сдвигались в сторону. Выставляли в одежде, со всеми необходимыми атрибутами.
Религия основателей Джамуката исследователями называется «авестийской религией (митраизм)» (!) [Байпаков К.М., Терновая ГА., 2002, с. 237 ]16.С. Хмельницкий вслед за Б.Я. Ставис- ким, Б.Г Гафуровым, ГА. Кошеленко и др. называет доисламскую религию Средней Азии «маздеизмом», мест
ной версией зороастризма [Хмельницкий С., 2000, с. 1 99]. При этом в другом месте он признает, что о местных среднеазиатских религиях «мало или почти ничего не известно». То, что известно о среднеазиатским маздеизме, выглядит как конгломерат общих представлений о борьбе добра и зла, культов природ- ныхстихий, предков и пр. [ХмельницкийС., 2000, с. 254]. Из него вырос имперский зороастризм сасанидского Ирана, но в Средней Азии, похоже, строгой догматики выработано не было, как не было и общих канонизированных ритуалов, в том числе, и погребальных. Отчасти, наверное, и поэтому, в толковании местной домусульманской религии в историографии имеется множество противоречивых мнений. Б.Я. Стави- ский склонен считать, что даже термин/ понятие «маздеизм» не прижился в науке, и заменяет его, на наш взгляд, еще более бесперспективным термином/ понятием - религии «авестийского круга» [Ставиский Б.Я., Яценко С.А., 2002, с. 292]. Даже уникальные по объему и комплексности материалы раскопок Пенджикента, и уникальный по интеллектуальной мощи научный коллектив, работавший многие годы с этим материалом, не смогли окончательно и не двусмысленно охарактеризовать традиционную религию раннесредневекового доисламского Согда. И до сих пор, как и более полвека назад, эта рели-
16 Правда, при этом для «реконструкции» обрядовых действий применительно к определенным археологическим реалиям без каких-либо оговорок привлекаются сведения, относящиеся к зороастризму, а хронологически и этнокультурно они связываются с согдийцам, мигрировавшим в Семиречье под давлением арабов в пер. пол VIII в. В то время как под митраизмом принято понимать своеобразную религию, получившую широкое распространение в Римской империи. Особо ревнивыми последователями этой религии в последние века до н.э. в первые века н.э. по всему Средиземноморью были римские легионеры, чьи гарнизоны были размещены по окраинам Империи. Храмы митраизма - митреумы - имеют каноническое устройство и структура их хорошо изучена.
Вопросы археологии Казахстана. Выпуск 3.
гия характеризуется преимущественно как некий набор «культов» (огня, воды, предков, дерева и т.д.) «авестийского круга». Или же как «согдийский зороастризм», но отличный от сасанидско- го зороастризма (?). При этом верно отмечается, что при работе с археологическим материалом нельзя подменять его анализ толкованием теологических текстов, тем более созданных за тысячи километров и в иной среде, а из археологических материалов в нашем распоряжении лишь изображения богов и реконструируемый обряд погребения [Шкода В.Г, 2009, с. 10-24].
Очевидно, что в каждом отдельном оазисе, городе с тяготеющими к нему поселениями, общность социума обеспечивалась какой-то идеологией, которая по определению должна была на фоне неких всеобщих форм иметь и специфически местную составляющую. Вероятно, и на время вплоть до массового распространения ислама (?), применимо определение Б.А. Литвинским «сакской религии». Он писал: «Основу их религии составляли верования, близкородственные дозороастрийским верованиям оседлых иранских племен и народов Средней Азии. Саки проживали в обширном регионе, образуя несколько крупных группировок племен. По-видимому, не существовало единой «сакской религии», а имелись сходные в основном, но различающиеся в частностях религии отдельных конфедераций и даже племен. И погребальный ритуал, и комплексы ритуальных предметов подсказывают именно такое решение вопроса. На религию тех сакских племен, которые находились в тесном контакте с оседло-земледельческими
областями, оказала определенное воздействие религия Авесты, в том числе учение Заратуштры» [Литвинский Б.А., 1972, 154; Литвинский Б.А., 1991, с.69].
Полученные материалы из БМ и погребальных памятников присырдари- инского региона эпохи древности и раннего средневековья, на наш взгляд, достаточно наглядно демонстрируют общие дозороастрийские языческие по сути свойства и признаки. Нет никаких оснований говорить об участии в их формировании религии сасанидско- го Ирана, так же как подозревать древнее население Присырдарии в чтении Авесты. При этом, языческие дозороастрийские верования оставались традиционными верованиями местных среднеазиатских племен и народов, на которые могли оказывать то или иное влияние как зороастризм, так и буддизм, манихейство или несторианство.
Эти выводы базируются как на новых материалах, так и на ретроспективном анализе предшествующего опыта исследований. А этот бесценный опыт на БМ был получен Б. Нурмуханбетовым.
140
Смагулов Е.А. Н а з е м н ы е с к л е п ы Б о р и ж а р с к о г о м о г и л ь н и к а
ТУЙ1Н
Е.0. CMAFVAOB Б0Р1ЖАР КОРЫМЫНЫЦ ЖЕР YCTI
CAfAHAAAPbl
Мак,алада Арыс озеынщ соя жак, терасса- сында орналаск,ан, 13 шак,ырыг^а созылган Bepixap к,орымыныц зерттелу мэселер1 к,арастырылады.
Б.Нурмуханбетовтын, еткен facbipflbin 60- 70-ж. жумыстары барысында осы к,орымда 61рк,атар обалар к,азылды, oлapFa байла- нысты к,ызык,ты да тын, п1к1рлер айтылды. Сол кездеп шлымнын, дамуы децгейЫде Б.Нурмуханбетовтын, i3fleHicrepi мацызды болды, сонымен к,атар, оньй тюрлер! кейЫп кезендерде де езекллИн жойган жок,.
Автор макдпада XIX F. соцынан 6epi жиналган мэл1меттерд| жинак,тай келе, б1рнеше жана дерекнамалык, к,орытындыларын усынады. Жуантобе кдпасына K,apafaH те- рассасында орналаск,ан 700 - дей обалар осы кдланын, зиратына жататындыгы жен1нде к,орытынды жасайды. К,орымнын, осы бел1пнде тек к,ана жер ya i саганалары ашыл- ды. Олардыц жалпы саны жузден астам. Беткей жонында жэне терасса успнде Бер1жар обалы к,орымы орналаск,ан, обалар уй1ндтер1 астын- да катакомбалар жэне жерлеу шун,к,ырлары анык,талган. Осы оба астындага жерлеулер жер белне салынган caFaнaлapfa к,араганда ертерек мерз1мделед1, 6ipaK, жерлеу к,урылыстарынын аралык, турлер1 aнык,тaлмafaн. Бер1жар к,орымынык жерлеу к,урылыстарынын непзп турлер1н1к алмасу мерз1м1н анык,тау K,a3ipri кунде Сырдария аумагы археологиясындаш езект1 мэселелерд1н 6 ip i болып табылады.
SUMMARY
ERBULAT A. SMAGULOV GROUND-BASED SEPULCHERS FROM
BORIZHAR BARROW
The article is concerned with the scientific study of Borizhar necropolis, which is stretching for more than 13 km on the left side terrace of the Arys River starting from Karaultobe hill up to the mouth of the Badam River. The works carried out by Nurmukhanbetov B. at the end of the 60-s and in the 70-s of last century have made a great contribution into the studies of this cultural property site in respect of a number of exposed objects as well as the issues raised. He was the first to discover some new designs of burial structures at the necropolis and have them classified.
However, the author, having collected and integrated the data and observations made at the end of the XXth century, arrives at the new conclusions based on the source studies of 700 hills stretching over along one kilometer long terrace of the Arys River, where the site of an ancient city of Zhuantobe is located, providing a proof that they may be referred to the necropolis of this ancient city. Only surface sepulchers have been exposed at this site of the burial mound. Over one hundred sepulchers have already been excavated. An extended Borizhar burial mound, under which both catacombs and ordinary sepulchers were discovered, is located at the edge of the hills and on the surface of the river terrace. Chronologically these sepulchers found under the grave mound predate the above - ground sepulchers, but transitional forms of burial structures have not been discovered yet. The author gives sound principles for classification of various types of sepulchral structures. In archeological studies of Syr-Darya river basin problem number one at present is to give a more precise dating of the major types of Borizhar barrow sepulchral structures and their content.