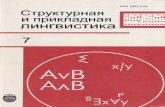Новгородская архитектура времени архиепископа Василия Калики: основные проблемы изучения // Вестник
Разрывы и инверсии социального времени как рамки...
Transcript of Разрывы и инверсии социального времени как рамки...
Опубликовано:Барандова Т. Л., Константинова М. Ю. Разрывы и инверсии социального временикак рамки анализа женского активизма «поколения нового протеста» (на примереантиклерикальной арт-акции Pussy Riot) / Материалы IV ОчередногоВсероссийского социологического конгресса «Социология и общество: глобальныевызовы и региональное развитие»; Круглый стол №2 «Социальное время:поколения, биографии, память...» - Уфа, 2012. – С. 7667-7679. // Электронныйдокумент: http :// www . isras . ru / files / File / congress 2012/ part 57. pdf (код доступа30.12.12.)
Объем: 1 п.л. (Барандова – 0.7 п.л.; Константинова 0.3 п.л.)
Круглый стол «КС 2. Социальное время: поколение, биография,память».
Барандова Т. Л., Константинова М. Ю., Санкт-Петербург
Разрывы и инверсии социального времени как рамкианализа женского активизма «поколения нового протеста» (на примере антиклерикальной арт-акцииPussy Riot)
Аннотация: В статье проанализированы рамки активизма «поколениянового протеста», с учетом междисциплинарного характерацерковно-государственных отношений и внимания кгендерному/феминистскому анализу современной политическойситуации в России. Конкретный случай проявления протестногоакционизма – «панк-молебен» группы Pussy Riot в Храме ХристаСпасителя – послужил к осмыслению категорий социального(политического) времени для реконструкции рамки анализа еёидейного наполнения (по условной линии регресс/прогресс).
Ключевые слова: социальное (политическое) время, поколениенового протеста, модернизационный (вестернизационный) проект,традиционализм, регресс/прогресс, «разрывы» исторической тканивремени, инверсия социального времени.
1.Обоснование исследовательской задачи иметодология
Современные тренды в политической сфере России в периодзавершившегося электорального этапа, на наш взгляд,можно обозначить в политологических терминахтрансфера/«перехода», а в социологических -пространства транзитивного социума1[1] иликультурологической метафорой «времени перемен».Проявились признаки социально-политического кризиса втом, что усилился интерес к проблеме выбора пути,альтернативы исторического развития страны. Какотмечает А.Г.Зарубин, проблема эта, «будучи сугубогипотетической и по преимуществу философско-исторической, все же позволяет в ряде случаев выходитьи на проведение довольно строгого анализа ситуации,давать масштабную (в историческом смысле) оценкурасстановки социальных сил, политических движений,партий и их лидеров» [2]. Выбор осуществляется не влюбом месте исторического процесса, а именно вкризисной ситуации, являющейся точкой отсчета. В началедвадцатого века Н. А. Бердяев определял Россию какобразование, которое никогда не было однородным.Столетие назад он отмечал, что единство страны,основанное на вере, периодически вытеснялось силойцентростремительных государственных действий. Онсформулировал в историософском понимании истокипротиворечивости российского существования в готовностибунтовать и покоряться, стремления к свободе и отказаот неё. Пытаясь связать воедино на основе логическихнитей протянутых в будущее, история, страна и человекобъединялись им в религиозном смысло-образе, гдечеловек силою духа создавал всемирность российскогоисторического бытия. Но, отходя от философии, на уровне1 теоретические подходы социальных наук подробно рассмотрены в: ЯрскаяВ.Н., Яковлев Л.С., Печенкин В.В. Ежов О.Н. Пространство и время социальныхизменений. Курс лекций в цикле социологических дисциплин для студентов,магистров, аспирантов и преподавателей. – Саратов: ООО Изд-во «Научнаякнига», 2004. – 280 с.
социально-политических практик бытие оказываетсяраздвоенным настолько, что волны «горячих и холодных»протестов против системы (от революции додиссидентства), на протяжении века сопровождалиполитический процесс. В качестве протестных акторов втекущий момент выступили представители условного«поколения нового протеста»2, призывающие ктрансформациям (изменениям, реформированию) сложившихсяотношений (в т.ч. структур власти и РПЦ).
Причины недовольства, формы их проявления ихарактеристики, артикулируемые в этой протестной волне,сразу в нескольких сегментах можно рассматривать спозиций либо «разрывов», либо инверсий социальноговремени. Под социальным временем тут мы используемопределение Б.С.Сивиринова: «Социальное время — этоизменения социального пространства в его динамике,ритмах, циклах, последовательностях состояний,фиксируемые нашим сознанием, памятью и измеряемые набазе выбранного эталона» [3, с. 22]. Определения П.Сорокина и Р. Мертона, тоже подразумевают «измененияили движения одних социальных явлений по отношению кдругим социальным явлениям, взятым в качестве точкиотсчета» [4]. Социальное время иногда отождествляется ссамими социальными изменениями, что подмечено Ж.Гурвичем «время совпадения и рассогласования движенийцелостных социальных явлений, которые могут бытьглобальными, групповыми и микросоциальными, независимоот того, выражены они в социальной структуре, или нет»[5]. «Социально-временная идентичность становитсярелевантной в межгрупповых конфликтах, ее изучениетребует измерения степени осознания историческогосвоеобразия своей группы, наличия общих для респондентаи его группы особенностей отношения к времени,толерантности к нарушению аутгруппой принятых вингруппе временных норм», отмечает Т.А. Нестик [5].
2 к которому мы относим разные возрастные когорты от 16 до 40 лет,представители которых вышли на массовые протесты прошедшей зимы-весны.
Д.Мид полагал, что общество возможно потому, чтолюди способны устанавливать между собой общностьвременных перспектив (понимая под перспективойвосприятие в одном событии всех остальных) [5].Полагаем, что случай (феминистского) акционизма в ХрамеХриста Спасителя (далее – ХХС), отражает перспективыпроявившихся в публичных дискуссиях 2012 годадебатов/действий по проблемам ценностного плана, такихкак общественного/гражданского (не)участия,переосмысления государственно-религиозных отношений,характеризующихся традиционалистской ориентациейсоциальных политик, в т.ч. в сфере регулированияприватного пространства и частной жизни, «уплотнившими»время в процессе реализации законодательных инициатив2011 года, касающихся контроля над женским телом ирепродуктивными правами, или отказывающих в правевыбора сексуальности меньшинствам (практически «урезав»гражданство ряда социальных групп на гендерной основе).
П.Сорокин отмечал, что плотность социальноговремени связана с характеристиками неоднородногосоциального пространства, а интенсивностьвзаимодействия на данном участке пространства, способнауплотнять и время [4]. Индивиды входят в разные поплотности потоки социального времени и в силу этогооказываются в социально неравных позициях, т.е.социальное время и без гендерных препятствий не течетодинаково в разных группах и обществах. Возрастнойкритерий тоже оказывается значимым, т.к. неопытность иотсутствие социального капитала юности являетсяследствием нахождения в различном по качествусоциальном поле в сравнении, например, со зрелымпрофессионалом.
Время календарно-физическое, «зажатое» втрехмесячный период между выборными кампаниями 2011-2012 годов, буквально впитало (и интериоризировало)представления о прошлом и будущем (как механизмыидентификации) ряда социальных групп, и актуализировалорамки времени политического, повлекшего
(пере)осмысления траекторий развития предшествующегополитического процесса и модернизационного(вестернизационного) проекта страны. «Носители» какпротестных, так и конформистских настроений,прогрессивных и консервативных смысловых риторик,перспективной или ретроградной символическойдеятельности, с равной интенсивностью апеллировалипрактически в формате «цивилизационного проекта» кразнообразным пластам как национальной, так иобщемировой культуры и науки. О том, что говоря овремени культуры, мы подразумеваем его в качестве всего«спектра значений в актуально-деятельностном аспектесуществования человека» пишет исследователь времени вэволюции культуры В.Н.Ярская [6, с. 70].Разнообразность, необратимость, многомерность характеравремени подтверждена в разных отраслях научного знания,как классического, так и интенсивно осмысливавшегокатегории времени и пространства периода научнойреволюции в ХХ веке (интересующими политологов являютсяразработки М.Фуко, П.Бурдье, Э.Гидденса, Т.Лукманна,У.Бека и т.п.).
С точки зрения структуралистско-конструктивистскойпарадигмы, человек лишь щепка в потоке времени, ноплывя в этом потоке, может корректировать свой маршрут,замедлять или ускорять бег социального времени вмасштабе личной биографии, истории семьи, города илидаже страны [7]. Такие структурные факторы, как место виерархии социума, предоставляют потенциал илиограничивают возможности индивида/группы контролироватьсоциальное время, что демонстрируют властители стран,задействовав ресурсы, но одновременно правитель снизким личностным потенциалом имеет пониженный ресурс,что меняет и структурные возможности контроля надсоциальным (политическим) временем.
Стоя на позициях конструктивизма, исследовательтоже затрудняется с операционализацией политическоговремени в каком-то одном качестве и направлении,поскольку сложно применять данную категорию в
измерениях общественно-политических процессов, динамикакоторых разворачивается в сиюминутном проживаниипроисходящих изменений, (само)рефлексия оказываетсязатруднена особенностями идентичности «очевидцаперемен» и «ангажированности» (как на уровне экспертно-профессиональной социализации, делающей очевидной рискипротеста для общественной (социальной) безопасности вперспективе, так и гендерной на уровне повседневностибытия представителем той половозрастной группы,принадлежность к которой подвергает опасностям, что уженесут те перемены, против которых и направлен протест),порождая искажения восприятия «веяний времени» иногдаповышенной тревожностью.
Тем не менее, попытаемся предложить объяснения того,как конструируется/артикулируется/характеризуетсясоциальное время в дискуссионном разрезе в полесовременной российской публичной политики вокругантиклерикальной (феминистской) протестной акции.Происходящие, на наш взгляд, регрессионные изменения всфере политического процесса и режима, мыидентифицируем в качестве символических «разрывов» илиинверсий социального времени, которые и привели к«вызовам» в публично-политической сфере,спровоцировавшим ответную протестную активность в рядесегментов общества, «маскирующуюся» под искусство, ноактивизирующую идеологический посыл необходимостиизменений в «несущих конструкциях» политических ирелигиозных структур. Осознание «поколением новогопротеста» того, что последние выполняют свои функции нев соответствии с реалиями глобализирующейсясовременности, побуждает (пере)определить иадекватность политического режима, и место РПЦ вобщественно-политической жизни, исходя из того, чтодействует она на практическом уровне как организация счастными и корпоративными интересами (т.е. каклоббистская «группа интересов»3). 3 Понятие «группа интересов» (или заинтересованная группа) ввел в научныйоборот А.Бентли в работе «Процесс управления» (1908), под чем он понимал
Антиклерикальные акции, проходящие не только вРоссии, артикулируют политические, общественные икультурные цели. Формы искусства, как признакпостмодерности, используются в политическом протесте,чтобы репрезентируемый проблемный вопрос в полуигровойи символической плоскости объяснял аудиториямнеобходимые «подвижки». Характерной чертой является«закрытость» темы в публичной сфере4, что вынуждаетиспользовать косвенные указатели её наличия со стороныактивистов.
Наш фокус был направлен на публичные дискуссии «погорячим следам» акции Pussy Riot, в которой выявляетсяих (само)позиционирование в духе социального временипостмодерна. Для одних «месседжи» группы выступаютобъектами компенсаторных проекций, для других –навязанным, чужим временем. Кроются ли эти различия вовременной ориентации на толковании анахроничности и/илисовременности между возрастными, классовыми, социально-политическими и религиозными группами российскогообщества? Каковы могут быть последствия: в достижениитой самой «точки отсчета» П.Сорокина, которая важна дляпреодоления общественной аномии; или мы вновь стоим уначала формирования единой идеологически тоталитарной(унификационной) системы ценностей и социальных норм,становящихся «социально ожидаемыми длительностями» впонимании Р.Мертона; может быть, последствия повлекутновый виток в последовательной связке насилия исоциального времени по выстраиванию «дисциплинарногопространства» по модели М. Фуко, одна из форм которого- контроль над субъективным и социальным временем?
В настоящий момент не вполне ясно, находится ли всёобщество или лишь конкретная половозрастная группа(женщин фертильного возраста) в стадии достижения«точки предела», или же причины акции коренятся внаращивании культуры протеста в целом (как
разнообразные организованные группы людей, имеющих определенные цели ивыдвигающих конкретные требования политической власти.4 понятие публичности использовано в понимании Хабермаса.
пространственно-временном контексте, хронотопе).Комплексный характер носит сам изучаемый социально-политический конфликт, явившийся поводом дляакционистской деятельности группы Pussy Riot,стимулировавшей масштабную дискуссию через феминистски-артикулированную аргументацию, фокусированную наотношения институтов государства и Церкви.
Инверсивные "вызовы" в политическом поле, мыпопытались реконструировать из анализа теоретическойлитературы, так же как "ответы" сконструированныегруппой, и из анализа аргументаций, отраженныхдискуссией (использование концепции «мироваргументации» Л.Болтански и Л.Тевено позволило включитьпредставителей различной идеологической/ценностнойриторики). Синтез использовался для обозначения«разрывов» социально-исторического времени, наосновании того, к каким аргументам прибегают стороны наоси конфликта, т.к. мнения имеют разнонаправленныевекторы (которые мы идентифицируем как социально-временной регресс/прогресс), эмпирические результатыопубликованы в Интернет-журнале «Гефтер»5, а в даннойстатье мы предлагаем анализ теоретических рамок.
Методологически обзор построен на анализеофициальных (вторичных) и неофициальных (первичных)открытых письменных источников, экспертных (групповых)фокусированных интервью/дискуссий6.
5 в статье «Казус Pussy Riot и миры аргументации», опубликованной вhttp://gefter.ru/archive/5368
6 Выборка включает рассмотрение групп: общественно-культурные круги(всего 32 публикации); представители РПЦ (всего 20 публикаций); эксперты –исследователи в сфере молодежных и гендерных вопросов (через групповуюдискуссию на базе Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в СПб, дискуссия 30марта 2012 года на тему «Чего хотели и чего добились Pussy Riot?», всего – 12экспертов + реплики 10 человек); представители общественных движений, в т.ч.молодежных (мероприятие Дискуссионной интеллектуально-исследовательскойплощадки DEEP «Роль РПЦ в жизни современной России», 17 мая 2012 года, всего– 12 участников); конференции «Изобретенные религии: десекуляризация впостсоветском контексте», проходившей 10-12 мая 2012 года в НОУ «Европейскийуниверситет в Санкт-Петербурге» на Факультете антропологии, в Центреантропологии религии.
2.Реконструкция векторов «традиций» как контекстныхрамок
Для реконструкции контекста мы прибегли к обзорулитературы по следующим направлениям: а) трансформацииполитического режима, взаимосвязанные с развитиемгражданского общества и политической культуры, вкл.тенденции в среде молодежных движений и субкультур; б)философско-культурологические подходы к объяснениювыбора арт-форм протеста/сопротивления обществаавторитарным режимам; в) основы феминистской теории,как генетической платформы гендерного подхода; г)основы политической теологии; на некоторых остановимсяподробней.
В качестве общей/изначальной рамки взят политическийрежим, определяемый как (электоральный) авторитаризм[8]. Формально РПЦ не имеет права участия в выборах, ноиспользует косвенные рычаги поддержки режима черезидеологические кампании и агитационные проповедническиемероприятия, «благословения» кандидатов доминирующейпартии, что есть (взаимо)влияние. Подобная ситуацияявляется рудиментом социальных практик «сакрализациивласти», отнесена к регрессивной части рамки.
Время электорального периода показало крен всторону репрессивного, не адекватного демократическим(прогрессивным) трансформациям, политического режима.«Рокировкой» осени 2011 были перечеркнуты надежды, вт.ч. на будущее детей, «поколения нового протеста».Понятие поколения позволяет синтезировать один из срезовсоциально-демографической структуры (возрастные слои) исоциальное время, чтобы определить часть среды«поколения нового протеста» как «восьмидесятников»,социализировавшихся в период «Перестройки» иЕльцинского либерального правления (назовем их«родительской» когортой, поскольку другая частьвышедших на массовые протесты, по возрастной когортеотносится к их детям, т.е. поколению «девяностых»).Казус заключается в том, что руководящие позиции в
структуре государства, контролирующей в т.ч. социальноевремя, на момент занимают представители поколения«семидесятнутых» [9] (по отношению к отмеченным выше –«отцов/дедов», патриархов). Д.Травин характеризует этопоколение, чья социализация происходила в Брежневскийкоррумпированный застой, на фоне разочарованияромантиков-«шестидесятников» реалиями событий 68-гогода в Праге. «Семидесятнутые» представляют носителейпрагматичного мировоззрения, с «деловитой духовностью»,«стремящиеся извлечь максимум возможного из того, чтоесть, поскольку бессмысленно откладывать жизнь напотом» [9, с. 7].
Известно, что календарная эпоха не совпадает сполитической, «новые протестующие» сформировали свой«запрос» на перемены в русле демократического(политически модернизационного) проекта, а реакциявласти последовала в духе реалий тридцатилетнейдавности, что породило одну из осей «разрыва» винтерпретациях социального (и – политического) времениу заметной части общества.
Анализа заслуживает деятельность КПРФ и«патриотических» партий-сателлитов, настойчивопропагандировавших/идеализировавших возврат в ленинизм-сталинизм (т.е. тоталитаризм), что при отсутствииадекватного публичного дебата по вопросам историческойпамяти, тоже «обернуло» вектор дискурса публичнойполитики вспять (актуализировав и активизировав левыесилы). Не станем подробно рассматривать«профессионально-потомственный революционный» срез,ограничившись указанием на то, что и в «мужской» частипротестного гендерного дисплея обнаружим инверсиюсоциального времени (в образе С.Удальцова«доморощенную» харизму революционной когорты егопрадеда; или имиджевый отсыл к 30-м в образе а-ля«истинного арийца» А.Навального, впоследствии слегкатрансформировавшемся, но позиционирующемся на
праворадикальном фланге7). Оба – представители(мужского) выражения нового протеста и борьбы срежимом. Интересен, с точки зрения «поколенческойпамяти», символический отсыл и к таким формам протеста,как диссидентские голодовки (под арестом). Полезнорассмотреть и ту форму современного протеста, к которойприбегли/примкнули и «новые несогласные» в либерально-демократическом крыле, где в мужском спектре к лидерам(условно) отнесем И.Яшина: коллективное действие«монстрации» и активизм «оккупай», арт-акционизм, каквиды гражданского неповиновения в контексте социального(политического) времени современности. Пожалуй, самоелюбопытное для исследователей, это «пересечение» всехотмеченных разнородных «дискурсов памяти» в одномпериоде и на одном социально-политическом пространствепротеста.
Произошедшие события заставили задуматься одейственности форм, позволяющих в короткие срокивоздействовать на различные срезы общества, порождаяименно публичные реакции, как цель, результат действия.Среди наиболее обсуждаемых, фигурируют понятия«карнавальная культура», символический интеракционизм,концепция общества спектакля. Возможно, естьзакономерность в том, что именно «карнавал» вроссийской культуре (представителя «Серебряного века»А.Ахматовой) явился осмысленной рефлексиейполитического времени террора, и что именно российскийученый (затронутый тем режимом М.Бахтин) сталпризнанным автором этой концепции! Мы усматриваемзаконы социального (политического) времени, посколькукарнавальная культура – термин, который в качествеопределения и системы координат, хоть и возник недавно,но берет начало из процессов и традиций средневековыхплощадных действ. М.Бахтин называет такую культуру
7 в целом усиление националистических тенденций в обществе, на наш взгляд, последствие в т.ч. властной про-милитаристской риторики и разжигания ксенофобных настроений их молодежными «бригадами» на протяжении длительного времени, предшествовавшего этой протестной волне.
«народной смеховой»/«народно-площадной», указывает нанедооценку важности явления, как феномена на протяжениивсей истории противостоявшего «официальной» церковнойили политической культуре [10] – строя по ту сторонуофициального второй мир. Игровой элемент сближаетучастников действия со «зрителями», объединяя в единуюсистему «свободных ценностей». Важной особенностьюявляется возможность временного освобождения отгосподствующей правды и существующего строя, отменыпривилегий, норм и запретов: «Это - подлинный праздниквремени (выделено нами), становления, смен и обновлений.Он был враждебен всякому увековечению, завершению иконцу. Он смотрел в незавершимое будущее» [10].
Полагаем, что выбор «карнавальных» форм дляреализации протеста, в т.ч. и группой Pussy Riot,означает желание «поколения нового протеста» буквально«освободить время» от закостенения, котороеконтролирующие социальное время политические элиты«дедов» пытаются «стабилизировать» посредствомостановки, поворота вспять или инверсии.
Символический интеракционизм Д.Мида и Г.Блумераутверждает, что коллективное действие возникает вусловиях нарушения устоявшихся значений, привычных формсуществования [11]. В событии важнейшую роль играет«символ», в качестве коего могут выступать моральныенормы, религиозные воззрения, устоявшиеся принципы, икоторый «предполагает определенную реакцию на него,выражающуюся в соответствующих социальных действиях…»[11]. Эта теория в чем-то пересекается и с концепциеймиров аргументации Л.Болтански и Л.Тевено, где «сцена»определяется, как поле конфликта [12]. Спецификойпонятия сцены занимался и Э.Ги Дебор, понимая под нейвсю площадь действия общественных отношений междулюдьми, опосредованных образами, а общественныеотношения интерпретируя как «спектакль», утверждая, чтообщество, основанное на современной промышленности,является зрелищным не случайно и не поверхностно, афундаментально подчинено спектаклю, т.к. спектакль -
основной продукт его производства [13]. Стоитрассматривать спектакль, как стадию, которую проходитлюбое государство на пути становления институтов, т.о.включена и временная перспектива.
В свете церковно-государственных отношений отметимфилософскую связь с явлением юродства, являющимсяэлементом традиции христианства и православия вчастности. Оно тоже представляло «спектакль»,относящийся к политическому и антиклерикальномупротесту, о чем пишет П.Пряников: «юродство икликушество, по сути, были для русского народаединственной легальной формой социального иполитического участия в жизни государства на всемпротяжении его существования… участие принимало такиеэкзотические формы – всякие другие попытки«достучаться» до верхов, донести до народа «правду»закономерно заканчивались каторгой или ссылкой, а вовремена «оттепелей» чуть более гуманнымивоспитательными мерами, например, психбольницами илидомашним арестом» [14]. Отмечается и гендерный аспект«если юродивые – это удел мужчин, то кликуши – типичноженское занятие. Положение женщин в тогдашнем русскомобществе было таково, что единственным шансом как-топоучаствовать в общественной жизни оказался переход встатус «безумных пророчиц» [14]. Следовательно,рассматривать формы общественно-политического и/илиантиклерикального протеста со стороны женщин можно врамках и культурологической, и религиоведческойфилософской традиции, но более приемлемой считаемподходы феминистской критической мысли.
Радикальный феминизм, анализирующий универсализммужской власти и первичность угнетенного положенияженщин вне зависимости от иных социальных критериев -направление феминизма, отмежевавшееся и от левогодвижения, и от либерального феминизма, в качествеосновного выделяет понятие «патриархат», как механизмподавления, влияющий на поведение и социальноевзаимодействие. А.Тёмкина отмечает, что радикальный
феминизм влияет на «процесс переосмысления гендерныхролей и затрагивает многие сферы, от сексуальной дополитической» [15]. На современном этапе рождаетсяпонятие «неопатриархат», который не напрямую закрепляет«подчиненное» положение женщины по отношению к мужчине,а видоизменяет её статус внутри общества под лозунгамивосстановления и возрождения традиционной культуры[16]. Сделаем оговорку, что в России под такойкультурой подразумевают традиции, закрепленныеправославием; а РПЦ на протяжении всей истории имелатесные связи с государственной властью, сохраняющейавторитарную направленность. Статусы полов закрепляются«по умолчанию», несовпадения с установленными нормамиподаются, как «чужеродные обществу». Женщине следует«самостоятельно»8 подойти к пониманию и принятию места виерархии общества. Проблема усугубляется тем, чтошаблонные стандарты, «жесткие», как и статусы полов,диктуются массовой культурой. Отличие от традиционногопатриархата в том, что на практическом уровне преодоленразрыв между полами, женщина формально недискриминируема, но «определяемые» масс-культурой путиявляются сдерживающим фактором, открывая дорогу вограниченный набор областей, являющийся сферойинтересов и действий женщин. В демократическом жепроекте наметился баланс между (феминистскими)стратегиями автономии (независимые женские проекты) илиберальной стратегией интеграции (институциональныегендерные политики равенства) [17, с. 111].Современность порождает принципиально новые подходы впубличной политике, как концепция «гендернойдемократии», в соответствии с которой сущностьдемократии определяется как «отношения между поламисвободные от зависимости и доминирования» [17, с. 116].
Э.Бер-Сижель считает, что вступление женщины в«общественную жизнь и политическую деятельность на всех
8 «самостоятельно» означает при помощи внешних механизмов давления,которые трансформируются во внутренние и создают ситуацию, когда женщинапринимает «навязанную норму», как свое убеждение.
уровнях, где они несут те же обязанности, что имужчины, характерно для западных или «вестернизируемых»обществ» [18, с. 56]. Предписания и исполнения,соответствующие мужественности и женственности, могутбыть различны и для разных поколений, этнокультурных ирелигиозных групп, слоев общества. С протестантскойточки зрения перемены «вестернизации» не несутспецифически религиозного, но немаловажно, что онипроисходят в обществах, отмеченных влияниемхристианства [19, с. 151]. С современной «реальностью»Церковь обязана считаться, но реально варианта два:либо идет на изменения, либо стоит на своих догмах, неприбегая к реформаторским решениям. В избранном РПЦварианте, придерживающемся разделений полов, чтострогими правилами отчерчивает женщину за черту, оравенстве речи нет.
Гендерная теория рассматривает религию в отношении кполо-ролевой дифференциации общества, где она выступаетодной из культурных практик, трансформирующихбиологический пол и культурные конструкты«мужественности» и «женственности» [20, с. 185].Предметом феминистской теологии являются гендерныестереотипы, идеалы, иерархия социальных ролей,представленные в дискурсе традиционных вероучений.Феминизм и атеизм, как впрочем и представителипрогрессивных религиозных течений, не принимаетпрактические роли и функции женщин, которые излишнестрого закреплены в фундаменталистской версии мировыхрелигий, в т.ч. в продуцируемом в настоящий момент вРоссии православии (как и в исламе), однако частьправославных женщин принимает свое положение в церквикак предназначение воли свыше [20, с. 190]. Такаяситуация демонстрирует неоднородность позиции общества,следовательно необходимо придерживаться толерантногосбалансированного подхода к вопросу женской роли вобществе и религиях, к выработке гибкой социальной,семейной и гендерной политик (на основе полноценного
обсуждения с привлечением разных мнений и как минимум –разносторонней общественной экспертизы законопроектов).
И, наконец, подходя к смысловому обращению молитвыБожией Матери, следует отметить, что женский образпочитается в канонах православия, поскольку женщинапринадлежит к роду Божией Матери, которую Бог«возвеличил надо всем творением», как отмечают дажетрадиционалисты, что в женщине «человечество достигловершины чистоты и святости» [21, с. 148]. Испоконвеков, в т.ч. в русском православии, женщины обращалисьза заступничеством именно к Богородице. В случае PussyRiot мы сталкиваемся с вполне традиционным обращениемза защитой к образу Божией Матери, но лишь внетрадиционной форме «панк»-молитвы, что символическипереводит в поколенческий, возрастной (молодежный) срезконфликта, который рассмотрим в отдельной статье.
Выводы
Для нас было важно ответить на вопрос, каким образомиспользование «женского начала» соотносится с понятиемполитического/социального протеста, чтобы подойти кответу на вопрос о том, почему феминистскиартикулированная акция/событие «на выходе» в условияхсоциального времени «нового протеста» приобретаетстатус не только политического и антиклерикальногопротеста, но (уголовного) преступления. Здесь необойтись без признания проблемы церковно-государственных отношений и результатов их влияния наобщество, в т.ч. в сфере молодежной и гендернойполитик, наложившихся одна на другую. Достигнув предела«сращения», они получили протестную огласку через акциюгруппы «Pussy Riot», которая приобрела колоссальнуюмедийную огласку в результате репрессивной ирегрессивной ответной реакции со стороны властей и РПЦ.
Трудности изучения конфессиональной политикизаключаются в закрытости функционирования аппарата РПЦ,исследователи сталкиваются с «мифологической»
конструкцией, формирующейся «под воздействием лоббистовЦеркви и транслируется как внутрь академическогосообщества, так и в смежные сферы: политологию,журналистику» [22, с.29]. Описывая российский случай,Степакова И.В. заметила, что особого вниманиязаслуживает феномен «церковный лоббизм», представляющийпроцесс продвижения РПЦ своих интересов в высшихорганах власти [23, с. 20].
И власть, и РПЦ в попытке осуществления «инверсии»социального времени, являясь носителями потенциалаконтроля над ним, держатся за традиционализм, пытаютсявыстроить общественные отношения на(ультра)консервативной платформе, что подразумевает«жесткую» структуру, не склонную к реформированию.Изменения, если и происходят, с трудом начинаются, апроцесс протекает медленно, не всегда результатысоответствуют тому, что требует современная ситуация.Власть усиливает патерналистскую составляющую контролянад обществом, одновременно способствуя укоренениюгендерной политики (нео)патриархатного толка, опираясьна мотивы конструирования «исторической памяти»православия. РПЦ же продолжает быть архаичной, и нетолько в «женском вопросе», публично объясняя это«универсальностью законов бытия», которые не требуютизменений и являются высшей точкой духовного развитиячеловечества (одновременно не гнушаясь пользоватьсяматериальными «подарками» современного капитализма).Таким образом, посыл в общество таков: социальное времяв лоне РПЦ формально репрезентируется как«остановленное/застывшее/ретроградное», да и в сферепубличной политики как«возвратное/стабилизированное/застойное». «Время,вперед в обратную сторону!», так выглядит общественно-политическая ситуация в символических и практическихрепрезентациях властей, если можно прибегнуть кметафоре для её краткой характеристики. Ориентированныена прогресс и развитие в русле полноценного вхождения вмировое (вестернизированное) правовое и ценностное
пространство социальные практики, в т.ч. молодыхженщин, не мешают иерархам обеих институтов допускатьуже не только теоретическую возможность, но ипрактическое применение регрессивных (насильственных)изменений жизни младших поколений, озвучиватьконсервативное отношение к проблемам современности исоздавать ретроградные правовые рамки в социальнойсфере и контроле над частной жизнью людей.
За период постсоветских реформ произошлатрансформация и кардинальная переформулировкаидеологического заказа и законодательных основ стотальной замещающей «атеистической пропаганды» черезполуанархическую «свободу вероисповеданий» кприобретающей не менее тотальный характер«православизации» общества. Причины, на наш взгляд,лежат не в духовной, а в светской плоскостидеятельности РПЦ, как социального института иучреждения: капитализация экономических отношений(вкупе с криминализацией отношений внутри власти иобщества) подталкивает одну из лоббистских групп-конфессий к максимальному занятию (созданию) ниш дляизвлечения доходов (своеобразной ренты) и,соответственно, обеспечения трудоустройства для штатарасширяющейся корпорации [24, с. 69]. При этом, вправовом светском государстве, которым согласноКонституции является Россия, религиозные институтыдолжны представлять из себя лишь один из элементовгражданского общества, равноправный, а не доминирующийпо отношению к другим общественным институтам, в т.ч. иактивистам, инициативным группам, женскому движению,молодежным субкультурам и т.п. В данном измерении мытак же усматриваем линию разрыва и причинностьантиклерикальных выступлений.
Полагаем, что предпосылки-причины антиклерикальной ипротестной акционистской женской активности скрыты втех процессах инверсии и/или «поворота времени вспять»(по отношению к предшествовавшему периоду свободыженщин на распоряжение своим телом, следовательно
жизнью, политика в отношении женщин резко повернулась квремени «домостроя» столетней давности), и хронотопсоциализированных прогрессивно женщин «поколения новогопротеста» оказался под угрозой, а будущий жизненныйпроект отклонен от их «нормативной темпоральной картинымира».
Библиографический список:1. Ярская В.Н., Яковлев Л.С., Печенкин В.В. Ежов О.Н.Пространство и время социальных изменений. Курс лекцийв цикле социологических дисциплин для студентов,магистров, аспирантов и преподавателей / Саратов: ОООИзд-во «Научная книга», 2004.2. Зарубин А.Г. Социальное время и особенности егосвойств в периоды общественно-политических кризисов //Сайт Института исследований природы времени. URL:http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/zarubin_social_vremya.htm (дата обращения: 26.05.2012).3. Сивиринов Б.С. Социальное время и перспектива:Феноменология, функции, модусы / Новосибирск: Наука,2000. 4. Сорокин П.А. Социальное время: опытметодологического и функционального анализа / СорокинП.А.Мертон Р.К. Перевод Н.В.Романовского //Социологические исследования. 2004. №.6 — С.112-119.5. Нестик Т.А. Социальное конструирование времени:теоретический анализ // Социс, 2003. № 8. 6. Ярская В.Н. Время в эволюции культуры // Саратов,1989.7. Ильин В.В. Политология. Учебник / Социальное времяи социальная иерархия -URL: http://socnet.narod.ru/library/authors/Ilyin/uchebnik/1.htm (дата обращения 12.05.12)8. Голосов Г.В. Электоральный авторитаризм в России //Pro et Contra, № 1, 2008. – с. 22-35.
9. Травин Д.Я. Семидесятнутые – анализ поколения /Препринт М-25/11. – СПб.: Издательство Европейскогоуниверситета в Санкт-Петербурге, 201. – с.36 – (Серияпрепринтов; Центр исследований модернизации)10. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народнаякультура Средневековья и Ренессанса. // URL:http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html(дата обращения 12.05.12)11. Фотев Г. Герберт Блумер: символическийинтеракционизм // URL:http://mr-kaev2009.narod.ru/sociology/amerikan/st010.htm (дата обращения 13.05.12)12. Болтански Л., Тевено Л. Социология критическойспособности. // Журнал социологии и социальнойантропологии. 2000, том III. №3. URL:www.jourssa.ru/2000/3/3aBoltansky_Teveno.pdf (датаобращения 03.03.12)13. Ги Эрнест Дебор. Общество спектакля // [Электронныйресурс]. URL:http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html (дата обращения 2.06.12)14. Пряников П. 500 лет русского юродства. [Электронныйресурс]. URL:http://svpressa.ru/blogs/article/29573 // СвободнаяПресса. 29.08.2010 (дата обращения 10.06.12)15. Темкина А. Женское движение второй волны //Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебноепособие // Под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ,2001; СПб.: Алетейя, 2001. 16. Чему угрожает "пропаганда мужеложества"? // СайтФонда Е. Гайдара. URL:http://gaidarfund.ru/projects.php?chapter=project_club_discuss&id=148 (дата обращения11.06.2012)17. Глобализация и гендерные отношения: вызовы дляпостсоветских стран: Сборник научных статей // Отв.Ред. Л.Н.Попкова. Самара, 2006.
18. Бер-Сижель Э. Служение женщины в Церкви // М.:Библейско-Богословский институт св. апостола Андрея,2006.19. Омельченко Е. К вопросу о гендернойнечувствительности конструктов молодежи. Анализзападных традиций // Глобализация и гендерныеотношения: вызовы для постсоветских стран: Сборникнаучных статей / Отв. Ред. Л.Н.Попкова.- Самара, 2006.20. Костикова И.В. Введение в гендерные исследования:Учеб. Пособие для студентов // М.: Аспект Пресс, 2005.21. Евдокимов П.Н. Женщина и спасение мира: Облагодатных дарах мужчины и женщины // Пер. с фр.- Мн.,2009.22. Смирнов М.Ю. Очерк истории российской социологиирелигии.- СПб., 2008.23. Степакова И.В. Взаимодействие государства иконфессий в условиях трансформации публичной сферы //Демократия и управление, 2010.- №1(9).24. Гендерные особенности в сфере религий (Глава2.11) // Направления для реализации гендерной политикина местном уровне в Санкт-Петербурге // Учебно-методическое пособие. Ред. и сост. Т.Л.Барандова. —СПб.: АКТИВ-Принт, 2012. (в электронном варианте, архивавтора)